Густав Эмар
― ЗОЛОТАЯ КАСТИЛИЯ ―
Глава I ЛОДКА
Двадцать пятого сентября 16.. года, в час, когда солнце обильно проливало свои лучи на землю, томившуюся от зноя, легкая лодка, в которой сидели три человека, обогнула мыс Какиба-Коа, проплыла вдоль западного берега Венесуэльского залива и остановилась на песке у самого устья реки, не имеющей названия, проложив себе путь сквозь засохшие деревья и кустарники всех видов, которые в этом месте почти совершенно загромождали русло этой мелкой реки.
В течение нескольких минут люди шепотом совещались, тревожно рассматривая оба берега реки, довольно близко отстоящих в этом месте друг от друга. Один из троих, более недоверчивый, а может быть, более благоразумный, чем его товарищи, вынул из кармана подзорную трубу — инструмент очень редкий в то время — и, направив ее на какую-то точку, стал рассматривать чащу леса, после чего сказал:
— Мы можем выйти на землю; на целую милю[1] вокруг нет ни единого человеческого существа.
Тогда все трое выпрыгнули на берег, крепко привязали лодку, нос которой уже прочно зарылся в песок, и сели в тени деревьев, чьи густые ветви представляли восхитительное убежище от палящих лучей солнца.
Мы сказали, что в лодке приплыли три человека. Испанский часовой, стоявший на башне Гуэт, возвышавшейся над входом в Венесуэльский залив, проводил презрительным взором легкую лодочку, прошедшую на расстоянии ружейного выстрела от его поста; сонный солдат, обманутый жалким видом лодки, принял ее за пирогу из тех, что индейцы используют для рыбной ловли, и больше ею не интересовался. Однако, рассмотри часовой ее повнимательнее, он задрожал бы от страха и немедленно поднял бы тревогу, узнав в двоих из мнимых индейцев ужасных Береговых братьев, и не просто Береговых братьев, а главных их вожаков: Монбара Губителя и Тихого Ветерка. Действительно, это они так смело вошли в Венесуэльский залив. Их третьим товарищем был человек лет тридцати пяти, огромного роста, геркулесовой внешности; гигант этот, как часто случается, имел открытое, свежее и румяное, как у молодой девушки, лицо, полные, красные и чувственные губы, великолепные белокурые волосы, ниспадавшие шелковистыми кудрями на его плечи — словом, внешность его носила печать очаровательного добродушия, вовсе не походившего на глупость, и располагала к себе с первого взгляда.
Костюм его состоял из фуражки с козырьком, двух рубах, надетых одна на другую, панталон и камзола из грубого полотна. Его сильные и мохнатые, как у медведя, ноги были голы; только сандалии из свиной кожи предохраняли подошвы от камней на дороге или укусов змей. На нем был пояс из бычьей кожи, на котором висели с одной стороны пороховница и мешочек с пулями, а с другой — футляр из крокодиловой кожи с четырьмя длинными и широкими ножами и штыком; свернутая палатка из тонкого полотна, переброшенная через плечо, дополняла его костюм. Он имел при себе также ружье.
Этот человек был слугой Монбара и носил прозвище Данник. Он был искренне предан своему господину, которому принадлежал уже два года. Монбар всегда отдавал ему предпочтение, отправляясь на опасную разведку, обычно предшествующую экспедиции флибустьеров.
Мы забыли упомянуть о великолепной испанской собаке, белой с рыжим, с длинными висячими ушами и живыми умными глазами. Она также выпрыгнула из лодки и по знаку слуги легла у его ног. Животное носило благозвучную кличку Монако.
По какому стечению обстоятельств эти трое, сопровождаемые собакой, очутились так далеко от земли, где жили, на берегу Венесуэльского залива, то есть на испанской территории и, следовательно, среди самых непримиримых своих врагов? Это мы, без сомнения, узнаем, прислушавшись к их разговору.
Тихий Ветерок, усевшись на берегу, начал сосредоточенно рыться у себя в карманах, выворачивая их один за другим и явно разыскивая что-то, чего не мог найти; наконец, отказавшись от дальнейших поисков, он хлопнул себя по боку и с досадой воскликнул:
— Ну вот, только этого еще недоставало! Монбар повернулся к нему.
— Что случилось? — поинтересовался он.
— Я потерял трубку и табак, — с досадой ответил флибустьер, — понимаешь ты это? Что я теперь буду делать?
— Обойдешься без них, — сказал Монбар, — до тех пор, пока не достанешь новые.
— Обойтись без табака! — вскричал Тихий Ветерок с глубочайшим отчаянием.
— Но я не вижу другого способа; ведь ты же знаешь — я не курю.
— Да, это правда, — произнес моряк с унынием. — Надо признаться, что с некоторых пор удача покинула нас.
— Ты находишь? — спросил Монбар с странной улыбкой. — А я с тобой не согласен.
— Может, я и не прав, — пробормотал Тихий Ветерок, потупив голову, — будем считать, что я ничего не говорил.
— У меня есть табак, — внезапно произнес слуга смиренным голосом, — немного, правда, но на первых порах вполне достаточно. Если вы желаете, можете им воспользоваться.
— Как! Если я желаю?! — вскричал флибустьер с радостью. — Давай же его сюда, любезный мой Данник, давай! Ты, сам того не подозревая, мой милый, в эту минуту спасаешь мне жизнь.
— Вот как! — заметил слуга тихим голосом. — Вы так думаете?
— Я не думаю, а знаю это наверняка; поэтому, прошу тебя, поторопись.
— Сейчас схожу в лодку: я оставил табак под скамейкой, чтобы он был посвежее.
— Какой драгоценный человек! Он обо всем подумал, — воскликнул, смеясь, Тихий Ветерок.
Данник поднялся и направился к лодке, но на полдороги внезапно остановился и поспешно склонился к земле, вскрикнув от удивления.
— Что ты там кричишь? — осведомился Тихий Ветерок. — Ты что, нечаянно наступил на змею?
— Нет, — ответил тот, — но я нашел вашу трубку и табак; посмотрите-ка сюда. — И он показал небольшой мешочек, сшитый из пузыря вепря, и трубку из красной глины с черешневым чубуком, которые поднял в траве.
— Действительно, — заметил флибустьер, — должно быть, я нечаянно выронил их дорогой. Ну, раз так, то беда, по милости Божьей, не так велика, как я думал.
Он тщательно набил трубку, которую принес ему Данник, и закурил ее с наслаждением, отличающим заправских курильщиков. Слуга снова улегся в тени.
— Итак, старина, — сказал Монбар, улыбаясь, — теперь ты уже не чувствуешь себя таким несчастным?
— Да, признаюсь; однако, не во гнев тебе будь сказано, до сих пор мы не можем похвастаться удачей.
— Ты слишком требователен, при первой же неудаче теряешь голову и считаешь себя погибшим.
— Я не считаю себя погибшим, Монбар, особенно когда я с тобой; но…
— Но, — перебил знаменитый флибустьер, — считаешь себя в опасности, не так ли?
— Почему же мне не сознаться, если это справедливо?
— Хорошо, у нас еще есть время, так как необходимо переждать жару, прежде чем опять пускаться в путь. Говори же, я слушаю тебя.
— Ты все еще не оставил намерения отправиться туда? — с удивлением спросил Тихий Ветерок.
— Ты отлично знаешь, — с живостью сказал Монбар, — что я никогда не меняю раз принятого решения.
— Это правда; я окончательно становлюсь идиотом.
— Я не стану спорить с тобой, ведь тебе виднее. Но в данный момент речь идет о другом.
— А о чем же?
— О неудачах, как ты говоришь.
— Да, и не нужно быть колдуном, чтобы видеть это.
— Объяснись.
— Если ты требуешь.
— Конечно, я не прочь узнать, что именно должен думать об этом; говори без опасения.
— О! То, что я скажу, не займет много времени… Мы покинули гавань Пор-Марго на отличном корабле, нас было сорок человек, отважных и готовых пуститься на любое предприятие, какое ты вздумаешь нам предложить. Две недели бороздили мы море, не встречая ни одной чайки. Наконец нам наскучило это уединение, и мы направились к берегу в надежде на хорошую поживу. И тут северо-западный ветер заставил нас убраться подобру-поздорову. Но этого мало: в ту минуту, когда мы меньше ожидаем беды, наша бедная шхуна налетает прямо на проклятую подводную скалу, которую мы не заметили, и раскалывается надвое, так что через час идет ко дну, и наши бедные товарищи вместе с ней; к счастью…
— Ага! — перебил его Монбар. — Ты все же говоришь: к счастью! Не замечаешь ли ты тут некоторое противоречие — значит, не одни беды преследовали нас.
— Говори, что хочешь, но наш корабль тем не менее пошел ко дну и увлек в пучину наших товарищей.
— Но что могли мы сделать? Разве была в том моя вина?
— Я не говорю этого; конечно, нет…
— Ну, отчего же ты не говоришь о том, что случилось дальше? Мы случайно взяли с собой пирогу, брошенную на берегу. По какому-то наитию я велел Даннику положить туда съестные припасы, порох, оружие. В минуту несчастья он перерезал канат, связывавший пирогу со шхуной, отплыл подальше, чтобы тонущая шхуна не опрокинула лодку, и подхватил нас в ту минуту, когда, истощенные усталостью, мы едва не шли ко дну. Через шесть часов после этого мы вошли в Венесуэльский залив, где нам теперь нечего опасаться бури, и, заметь, только мы одни остались живы из всего экипажа.
— Да, это правда, я с этим согласен. Но ведь мы находимся вдали от наших братьев, предоставленные самим себе в стране, где и звери, и люди — все нам враждебно. Согласись, что ничего не может быть неприятнее… А теперь, если ты хочешь, не будем больше об этом говорить.
— Послушай, Тихий Ветерок, — сказал Монбар, — пора тебе узнать мои мысли.
— Как тебе будет угодно, — равнодушно ответил Тихий Ветерок, — мне все равно, умереть здесь или в другом месте, только бы погребение мое было достойным.
— Будь спокоен, друг; если мы останемся здесь, то исчезнем не иначе, как среди грома и молнии.
— Ну и прекрасно! А теперь к черту печаль! От забот и кот издохнет, как говорит пословица; я не хочу ничего больше знать.
— Прекрасно; но я хочу сообщить тебе о своих намерениях, чтобы ты помог мне их исполнить.
— Хорошо. Говори, если хочешь.
— Слушай меня внимательно; дело стоит того. Шесть недель тому назад я получил на Тортуге, где находился в то время, чрезвычайно важное известие.
Тихий Ветерок несколько раз покачал головой.
— Хорошо, — прошептал он, — далее.
— Я снарядил шхуну именно для того, чтобы прибыть сюда; я имел намерение спрятать ее в какой-нибудь бухте, потом взять с собой в лодку пять-шесть самых решительных человек, пробраться сюда…
— Стало быть, все идет как надо, только вместо шестерых нас трое, но это все равно. Так и надо было говорить. Отлично! Теперь, когда я знаю, что мы должны были приехать сюда, я больше не тревожусь.
— Да, но мы должны остановиться не здесь, — сказал Монбар с улыбкой.
— Мы едем дальше?
— Да, немного, — ответил флибустьер, — мы направляемся в Маракайбо.
— Что?! — вскричал Тихий Ветерок с удивлением. — В Маракайбо?
— Да.
— Но ты же знаешь, что в этом городе по крайней мере двенадцать тысяч жителей.
— Что мне до этого?
— Но там стоит гарнизон численностью в шесть тысяч человек!
— Какое мне дело!
— Пушки…
— Еще что?
— Уж не имеешь ли ты намерения взять Маракайбо? — вскричал Тихий Ветерок не только с изумлением, но почти с испугом, до того странным казалось ему хладнокровие Монбара.
— Может быть, — ответил Монбар с насмешливым спокойствием, не покидавшим его с начала разговора.
— Я видел много твоих отважных экспедиций, но если эта удастся, она будет самой невероятной. Итак, ты, я, Данник и Монако будем атаковать Маракайбо, — прибавил Тихий Ветерок, смеясь. — Мысль оригинальная. Скорее всего, нас постигнет неудача, но это не важно; все-таки хорошо будет предпринять такое дело. Мысль достойна тебя, и, что бы ни случилось, я присоединяюсь к ней от всего сердца.
— Когда ты перестанешь насмехаться, — сухо сказал Монбар, — я продолжу.
— Я не насмехаюсь, друг мой, но эта мысль — прости за выражение — кажется мне до того шутовской…
— Что, по твоему мнению, я помешался, не так ли? — докончил его мысль Монбар. — Успокойся, я нахожусь в полном рассудке; я никогда не был так спокоен, как в эту минуту. Я вовсе не имел намерения атаковать Маракайбо, даже с помощью Монако. Что будет, мы увидим после. А теперь надо просто войти в город.
— Гм! Это просто кажется мне очень трудным делом… Я признаюсь в своем неумении, и если ты не придумаешь способа…
— Я придумаю, когда придет время.
— Но прежде чем вступить в город, необходимо до него добраться, а это, как мне кажется, не очень легко.
— Нам осталось только двенадцать лье[2], не больше.
— У меня случались такие минуты, когда и четверть лье трудно было пройти. Однако что же ты хочешь делать?
— Друг мой, в такой опасной экспедиции, как наша, когда все обстоятельства складываются против нас, составлять планы было бы глупостью; лучше полагаться на случай. Случай всегда был покровителем Береговых братьев. Он нам не изменит.
— Да-а, я вижу, что если так дальше продолжится, нам будет очень весело.
— Ты раскаиваешься, что поехал со мной?
— Черт побери! Только мне хотелось бы, чтобы Мигель Баск и Олоне тоже были с нами, а их нет.
— Что же делать, друг мой, надо постараться обойтись без них.
— Досадно будет, особенно Мигелю, когда они узнают, что мы без них сделали.
— Теперь, если ты немного отдохнул мы будем продолжать путь, так как жара уже немного спала.
— И долго нам придется грести, словно карибам?
— Нет, только до завтра.
— Ну и слава Богу! А все-таки мы поступаем очень оригинально. Стало быть, полученные тобой сведения были на этот раз очень серьезны?
— Да, — ответил Монбар, — кажется, я наконец-то напал на след; горе тем кто, попытается обмануть меня и сделать жертвой засады! Испанцы еще плохо знают Монбара Губителя, если считают меня настолько тупым, чтобы я позволил поймать себя в ловушку! Каким бы большим и прекрасно укрепленным Маракайбо ни был, я сожгу его дотла.
— Непременно хочет… — пробормотал Тихий Ветерок. — Но кто знает? Странно будет, если он найдет его после двадцати лет, — прибавил он.
В ту минуту, когда флибустьеры спустили лодку на воду, они услышали отдаленный крик и почти тотчас двойной выстрел.
— Здесь дерутся, — заметил Тихий Ветерок.
— Какое нам дело? — ответил Монбар, пожимая плечами. — Отправляемся!
Они взяли весла, и лодка начала пролагать себе путь сквозь сплетение лиан и ветвей и стволы деревьев, грозившие каждую минуту опрокинуть утлый челнок.
Глава II ТРИ ЧЕЛОВЕКА И ПЯТЬСОТ АЛЛИГАТОРОВ
Берега реки, мимо которых проплывали авантюристы, были очень живописны. К пяти часам пополудни их глазам представилось озеро средней величины.
На восточном берегу находились обширные болота, на западном — большие леса и померанцевые деревья.
Немного позже они миновали бухту, окаймленную кипарисами. Оба берега сближались тут таким образом, что составляли нечто вроде узкого канала, который вел к другой реке, называемой Тринидад.
Приближался вечер. Пора было подумать, как устроиться на ночлег. В тропических странах мрак без перехода сменяет свет; едва закатится солнце, как опускается густая темнота.
Флибустьеры в этих совершенно неведомых им местах не знали, где остановиться, как вдруг на повороте реки заметили небольшой мыс, почти полуостров, где земля была густо покрыта померанцевыми деревьями, молодыми дубами, магнолиями и пальмами.
— Направимся туда, — сказал Монбар, — лучшего места нам не найти.
— Хорошо, — согласился Тихий Ветерок.
Они обогнули мыс и пристали к выбранному ими месту, которое действительно было так удобно, как они только могли пожелать.
Перед ними лежала круглая ровная площадка, имевшая в этом месте около двенадцати футов[3] высоты. Дальше тянулось большое болото, окаймленное кипарисами, а за ним виднелись зеленые равнины с маленькими пригорками, усаженные магнолиями и пальмами. Эти пригорки были не чем иным, как грудами раковин, что накопились на берегах ручьев, извивающихся по этим огромным равнинам и орошающих их во время зимы.
Флибустьеры раскинули свой лагерь на открытой площадке в нескольких шагах от лодки, которую они крепко привязали у большого дуба, без сомнения одного из старейших в этих диких местах. Дуб этот одиноко рос на самой возвышенной части мыса, как будто хотел царить над грандиозным пейзажем, окружавшим его. Расположившись таким образом, флибустьеры могли видеть все, что происходит на реке.
Когда Данник собрал достаточное количество дров, чтобы развести огонь на ночь, он решил заняться ужином. Было уже поздно, день выдался утомительный, и все трое страшно проголодались. Однако, исследовав запасы провизии, слуга выяснил, что ее почти не осталось. Это было очень серьезно; флибустьеры принялись совещаться. Они уже давно привыкли к жизни американских равнин и сейчас без всякого беспокойства оглядели окрестности своего временного пристанища, чтобы выяснить, нельзя ли раздобыть поблизости чего-нибудь съестного.
В пятидесяти шагах от их лагеря начиналась бухта, очень узкая, но понемногу расширявшаяся и образовывавшая небольшое озеро, постепенно переходящее в болото. На берегах озера росли различные водолюбивые растения, близость которых любит форель; по всей вероятности, тут можно было наудить много этой рыбы. Следовательно, часть ужина была почти найдена. Кроме того, берега и островки лагуны усыпали растения и цветущие кустарники; стаи бакланов с распростертыми крыльями бегали и прятались, играя в высокой траве. На воде плавали молоденькие чирки; они спокойно следовали за своими матерями, и иногда какого-нибудь птенца захватывала огромная форель, делавшаяся в свою очередь добычей жадного крокодила. Таким образом, к ужину было все: и рыба, и дичь, и вкусные плоды. Оставалось немногое: наудить форели, убить бакланов и чирков и нарвать плодов.
Распределили обязанности. Монбар взял на себя охоту, Тихий Ветерок — рыбную ловлю, Данник отправился собирать плоды, а Монако, важно сидя на хвосте, караулил лагерь, с интересом следя за действиями своих хозяев.
Погода стояла тихая и довольно свежая. Все чаще окрестности оглашались ревом крокодилов, в большом количестве собиравшихся у берегов. Вдруг из-под листьев и тростника, среди которого до тех пор скрывался, выполз кайман. Страшное животное раздувало свое огромное тело, время от времени приподнимая шероховатый хвост. Вода лилась из его приоткрытой пасти, а из ноздрей вырывался пар. От его страшного рева задрожал берег.
Флибустьеры замерли на месте и, несмотря на свою храбрость, задрожали от ужаса. На крик каймана ответил другой такой же крик с противоположного берега, и показался другой крокодил. Два чудовища бросились друг на друга, вспенивая воду на своем пути.
Началась страшная битва, или, лучше сказать, поединок. Сцепившись друг с другом, противники сначала исчезли в воде, из глубины которой тотчас показалась густая тина, замутившая воду на большом пространстве вокруг. Вскоре они появились вновь, все еще сцепившись; наполняя воздух беспрестанным ревом и лязгом тяжелых челюстей, они снова погрузились в воду, и битва закончилась в глубине озера. Побежденный, пользуясь, вероятно, мутной водой, спрятался в отдаленном болоте. Победитель явился на поле битвы; он издавал радостный рев. Многочисленные кайманы, свидетели поединка, завыли, приветствуя его; эхо повторило эти жуткие крики, отозвавшиеся вдали в испуганных лесах.
Страшное зрелище, свидетелями которого так неожиданно стали флибустьеры, внушило им серьезную тревогу; они чувствовали, что с каждой минутой опасность, грозящая им, увеличивается. Солнце закатывалось; крокодилы все прибывали и собирались у пристани, близ которой флибустьеры раскинулись лагерем на ночлег. Соображения безопасности заставили их как можно скорее закончить ловлю рыбы и чирков. Монбар и Тихий Ветерок позвали Данника, сели в лодку и отчалили, оставив Монако сторожить лагерь. Они оставили свои ружья, сделавшиеся для них бесполезными, и вооружились тяжелыми копьями, более удобными для защиты от кайманов, если бы тем вздумалось на них напасть.
Когда флибустьеры добрались до первых кайманов, те расступились; однако самые крупные животные поплыли за ними, и флибустьерам пришлось изо всех сил налечь на весла, чтобы как можно скорее достичь входа в лагуну, в надежде, что там они будут в безопасности от нападающих. Когда авантюристы были уже на полпути, внезапно со всех сторон на них напали кайманы. Они набрасывались на лодку, стараясь опрокинуть ее, страшно ревели и изрыгали фонтаны пены. Положение становилось критическим; каждую секунду флибустьеры ожидали, что будут выброшены в реку и сожраны. Однако им удалось с чрезвычайными затруднениями пристать к берегу, вдоль которого они могли направить лодку, не подвергаясь такой большой опасности. Пока Монбар и Тихий Ветерок гребли, Данник, вооруженный огромным колом, держал кайманов на отдалении, не подпуская к лодке. Воспользовавшись этой отсрочкой, флибустьеры наловили форели и убили несколько чирков, после чего поспешили возвратиться в лагерь. Хотя кайманы сгрудились перед пристанью, однако отважным флибустьерам удалось добраться до своего лагеря целыми и невредимыми.
Первой их заботой было вытащить на берег лодку, чтобы чудовища не опрокинули ее и не потопили. Забрав из нее всю поклажу, флибустьеры расчистили землю вокруг лагеря на случай внезапного ночного нападения как с реки, так и с суши. Они заметили, что перешеек, выбранный ими из-за его уединенного положения и плодородия, посещается волками и ягуарами, следы которых были очень хорошо заметны.
Осмотрев окрестности лагеря, флибустьеры развели костер и занялись приготовлением ужина.
Было уже темно; крокодилы прекратили свой рев. Флибустьеры с аппетитом принялись за еду, когда страшный шум, вдруг поднявшийся с реки недалеко от лагеря, снова привлек их внимание. Они сделались свидетелями странного зрелища, наполнившего их удивлением и восторгом. Шум, который они услышали, исходил от бесчисленного множества кайманов, столпившихся у входа в залив. Вся водная поверхность от одного берега реки до другого была сплошь покрыта рыбой разного сорта, которая толпилась в этом узком канале, чтобы пройти из реки в озеро. Крокодилы, поджидавшие ее, были так многочисленны и находились так близко друг к другу, что реку можно было бы перейти по их головам.
Перо не в силах описать страшное истребление огромной стаи рыб, силящихся проложить себе путь сквозь полчища голодных чудовищ. Крокодилы захватывали из воды по нескольку штук сразу, подбрасывали их в воздухе и раздирали зубами; хвосты форелей свисали с их зубов, закрывали им глаза, пока они глотали головы; в воздухе стоял страшный лязг челюстей. Потоки крови и воды вырывались из их пастей, ноздри изрыгали струи пара. Страшное пиршество продолжалось всю ночь, пока не была истреблена вся рыба, стремившаяся пройти в озеро.
Как ни ужасно было это зрелище, оно, однако, неожиданно успокоило флибустьеров, открыв им, что причиной такого огромного скопления крокодилов было регулярное возвращение рыбы в озеро и что, следовательно, хищники были слишком заняты насыщением своей утробы, чтобы думать о нападении на лагерь.
Итак, флибустьеры вновь принялись за ужин, потом подбросили дров в костер, чтобы огонь не погас, и скоро заснули с беззаботностью, которую может дать одна лишь привычка к опасности.
Было около двух часов ночи, когда Данник вдруг проснулся. Его разбудил Монако, лизавший ему лицо и тихо ворчавший.
— Что с тобой, моя добрая собака? — спросил великан, протирая глаза и оглядываясь вокруг. Все было тихо и спокойно, в чем Даннику легко было удостовериться при ярком свете луны и мириадов звезд, усыпавших небо. Однако работник, убежденный в понятливости собаки и в том, что она неспроста разбудила его, схватил ружье и стал внимательно прислушиваться.
Через минуту послышался едва различимый шум со стороны бухты; собака все ворчала. Данник осторожно встал и снова прислушался. Скоро он ясно услышал шум, издаваемый каким-то животным, бредущим по воде. Слуга не счел нужным будить своих товарищей; однако он с нетерпением желал узнать причину шума, становившегося все сильнее, и поскольку этот шум мог извещать об опасности, он покинул лагерь и осторожно направился в сторону бухты.
Сделав шагов сто, Данник остановился и спрятался за померанцевым деревом. Монако не отставал от него ни на шаг, но, против своей привычки, вместо того, чтобы бежать впереди, он шел позади своего хозяина, поджав хвост. Это заставило слугу призадуматься. Неизвестный, чьи шаги он слышал, вероятно был страшен. Поэтому Данник приготовился оказать ему достойную встречу.
Ожидание было непродолжительным. Через несколько минут Данник заметил в пятидесяти шагах от себя двух больших черных медведей, которые, выйдя из воды, вошли в лес и медленно приближались к нему. Медведи, по-видимому, еще не заметили слугу, так как продолжали идти медленно, не обнаруживая никаких признаков беспокойства. Однако, остановившись в пятнадцати шагах от флибустьера, они внезапно учуяли его и взглянули в ту сторону, где он находился.
Данник, поняв, что обнаружен, выстрелил из ружья, и один из медведей, самый большой, повалился наземь; второй повернулся и бросился в сторону болота, где и исчез через минуту. Слуга вышел из-за дерева и быстро направился к медведю, чтобы прикончить его в случае, если он еще жив. Подойдя ближе, Данник увидел, что медведь убит наповал: пуля вошла ему прямо в глаз.
Монбар и Тихий Ветерок, пробудившись от ружейного выстрела и думая, что на них напали, прибежали на помощь к Даннику. В ту же минуту Монако, до сих пор предусмотрительно державшийся позади своего хозяина, бросился вперед и бешено залаял.
— Что там еще? — удивился слуга, поспешно перезаряжая свое ружье. — Ну и страна: ни секунды покоя!
— Поздравляю тебя с удачным выстрелом, — сказал Монбар. — У тебя сегодня счастливая охота!
— Она, как видно, еще не кончилась, — заметил великан. — Слышите, как лает Монако?
— Да, правда, — ответил Тихий Ветерок, — он что-то почуял; но мне кажется, что его лай скорее походит на радостный, чем на сердитый.
— В самом деле, это странно, — сказал Данник.
— Посмотрим, — произнес Монбар и, взведя курок ружья, решительно отправился за собакой.
Товарищи последовали за ним. Они осторожно прошли лес, скрываясь за деревьями, и через несколько минут добрались до опушки. Там, на расстоянии ружейного выстрела от того места, где находились, они увидели двух человек с ружьями на плечах, которые большими шагами направлялись к ним. Монако носился вокруг и прыгал с радостным лаем.
— Это становится все интереснее, — заметил Монбар. — Монако как будто узнал знакомых. Но как же это возможно, черт побери! Уж не завел ли он себе друзей среди испанцев, хотел бы я знать?
Говоря таким образом, флибустьер сделал несколько шагов вперед и крикнул громким голосом:
— Кто идет?
— Друзья! — тотчас ответил по-французски один из подходивших.
— Друзья, пусть так, — ответил Монбар, — хотя мне кажется, что ваш голос мне незнаком. Однако, друзья, прежде чем подойти, назовите ваши имена.
— С превеликим удовольствием, Монбар, — ответил тот, — я — Филипп.
— Филипп! — вскричали флибустьеры с удивлением. — Какая приятная встреча!
Выйдя из-за деревьев, они бросились навстречу к подходившим, которые в свою очередь ускорили шаг.
Это действительно были Филипп и Питриан.
Горячо приветствовав друг друга, флибустьеры весело возвратились в лагерь, куда не забыли перенести медведя, которого Данник так ловко убил и который явился невольной причиной встречи авантюристов.
Глава III ФЛИБУСТЬЕРЫ
Когда все уселись около огня, в который Данник подбросил охапку сухих дров, Монбар спросил Филиппа, по какому поводу находится он так далеко от мест, посещаемых флибустьерами. — Я мог бы задать вам тот же самый вопрос, любезный Монбар, — улыбаясь, ответил Филипп, — поскольку встреча эта странна и для вас и для меня.
— Это правда, друг мой, — согласился Монбар, — но меня привел сюда случай.
— Какой же случай?
— Буря, друг мой. Я лишился своей шхуны и пристал сюда, не зная, где именно нахожусь. Спешу прибавить, что как только я понял, что попал в Венесуэльский залив, то очень обрадовался, так как давно уже собирался его осмотреть.
— А ваша команда?
— Кроме этих двух товарищей, все погибли.
— Это очень печально! — сказал Филипп, покачав головой. — А я должен откровенно признаться вам, любезный Монбар, что покинул Черепаший остров с решительным намерением попасть именно сюда.
Не случилось ли и с вами несчастья, как со мной?
Нет, слава Богу! Мое судно спрятано в густой чаще деревьев, где испанцам уж никак его не заметить.
Браво, друг мой, это известие для меня тем приятнее, что, признаюсь, я не представлял, как мне выбраться из этой засады.
Я в вашем распоряжении, как вам известно.
— Благодарю. Когда вы прибыли?
— Вчера в восемь часов вечера. Сегодня утром, прежде чем сойти на берег, осматривая местность, я заметил вашу лодку, огибавшую маяк. Не зная наверняка, кто находится в пироге, я, однако, с первого взгляда понял, что это лодка Береговых братьев. Я немедленно высадился на берег и пошел вас разыскивать, чтобы, если нужно, предложить вам свои услуги.
— Благодарю еще раз, дружище, за меня и моих товарищей, потому что мы действительно находились в довольно затруднительном положении. Я вижу, что случай, о котором я говорил, ничего не значит во всем этом деле… Позвольте задать вам еще один вопрос.
— Я к вашим услугам.
— Каким образом, разыскивая нас с самого утра, вы нашли нас только ночью?
— Позвольте мне сказать, что вы сами в этом виноваты.
— Каким образом?
— Вы разве не слыхали наших сигналов?
— Постойте, — сказал Тихий Ветерок, — кажется, я слышал ружейный выстрел незадолго до заката солнца.
— Да, рискуя быть услышанным индейцами — ведь вы знаете, что мы здесь на индейской земле, — мы с Питрианом не переставали стрелять целый дань.
— Мы слышали выстрелы только один раз.
— Да, — прибавил Монбар, — и не стали отвечать, боясь нарваться на испанских охотников.
— Испанцы не смеют показываться сюда: здешние жители — людоеды и ведут с ними ожесточенную войну.
— Это важные сведения.
— Словом, мы отчаялись найти вас и уже готовились вернуться к нашему судну, когда ружейный выстрел, которым Данник уложил медведя, указал нам на то место, где вы находитесь. Как видите, любезный Монбар, все очень просто.
— Это правда, любезный друг, но вы мне не сказали, что за причина привела вас к этим берегам. Впрочем, если эта причина должна остаться тайной, то извините меня, будем говорить о другом.
— Нет никакой необходимости, друг мой, скрывать, особенно от вас, причины, которые привели меня на этот берег. Я прибыл сюда, чтобы тщательно осмотреть эту местность, так как собираюсь предпринять экспедицию против Маракайбо, в котором, если слухи не лгут, накоплены огромные богатства.
— Правду ли вы говорите, друг мой? — с живостью вскричал Монбар. — Неужели вы для этого приехали сюда?
— А для чего же другого?
— Правда, и платя откровенностью за откровенность, любезный Филипп, я скажу вам, что у мы с вами преследуем одну цель: я также хочу предпринять экспедицию против Маракайбо.
— Вот как! — радостно вскричал молодой человек. — Как это кстати! В таком случае я охотно уступаю вам право возглавить экспедицию, — на это вам дают неоспоримые права ваш опыт и ваша слава, — с условием, чтобы я был вашим помощником.
— Решено? — спросил Монбар, протягивая ему руку.
— Ей-Богу! — ответил молодой человек, энергично пожимая руку знаменитому флибустьеру. — Так решено, друг мой! Если вы желаете, с этой же минуты я отдаю себя в полное ваше распоряжение и предоставляю вам командование над своим судном.
— Принимаю ваше предложение так же чистосердечно, как вы сделали его мне. Что же касается экспедиции, вернее разведки, которую мы собираемся предпринять, вы сделаете мне одолжение, если сохраните командование над вашим судном; надеюсь в скором времени, когда мы вернемся сюда, поручить вам дело поважнее.
— Как вам угодно, любезный Монбар.
Данник не участвовал в этом разговоре, он деятельно занимался медведем. Сначала он отрубил ему четыре лапы, которые зарыл в золу, потом с необыкновенным проворством освежевал его, а мясо разрезал на куски, которые изжарил вместе с двумя великолепными форелями и чирком, насаженным на ружье, словно на вертел. Потом он нарвал апельсинов, лимонов и других плодов, положил листья вместо тарелок и, кончив все эти приготовления, приблизился к костру.
В эту минуту солнце во всем своем великолепии показалось на горизонте.
Завтрак готов, — сказал Данник. — Примемся же за еду, — откликнулся Тихий Ветерок. Мы поговорим за завтраком, — заметил Монбар.
— Тем более, что я умираю с голоду, — прибавил Питриан, до тех пор не раскрывавший рта.
Флибустьеры весело сели за стол, то есть каждый уселся на траве перед листом, который служил ему вместо блюда, и завтрак начался. Охотники никогда не едят долго, и завтрак авантюристов продолжался всего полчаса, да и то еще он длился слишком долго по причине количества, а особенно необыкновенного качества кушаний, которые подавал Данник.
Достойный великан не помнил себя от радости от похвал, которыми осыпал его Монбар за кулинарное искусство. Когда был окончен завтрак и раскурены трубки, Монбар серьезно произнес:
— Теперь поговорим.
— Да, пора, — откликнулся Филипп.
— Расскажите мне о ваших планах, любезный друг, и объясните, каким образом намерены вы провести разведку города Маракайбо и крепости Гибралтар, потому что для успеха наших планов необходимо знать объект, который мы хотим атаковать, чтобы не совершить ошибки.
— Я думаю, — заметил Тихий Ветерок, — что было бы правильно вести разведку по отдельности.
— Объяснись, — сказал Монбар.
— Я хочу сказать, что одному из нас надо поручить исследовать побережье, другому — внутренние земли, третьему — город, а четвертому — крепость.
— Не считая пятого, который должен промерить глубину залива, а это очень важно, по моему глубокому убеждению, потому что залив изобилует песчаными отмелями, — заявил Питриан, — и наши суда рискуют потерпеть на них крушение.
— Питриан говорит дело, — заметил Монбар. — Каковы ваши соображения, любезный Филипп?
— Я полностью согласен, Монбар, все эти сведения действительно нам необходимы, и мы должны во что бы то ни стало добыть их.
— Хорошо, надо только договориться и распределить роли.
— Это право принадлежит вам одному, Монбар.
— Хорошо; вот, по моему мнению, как мы будем действовать. Тихий Ветерок, как старый, опытный моряк, возьмет на себя осмотр берега.
— Хорошо, лучшего я и не желаю.
— Данник исследует бухту. Это поручение самое опасное, требующее большой ловкости; я надеюсь, что он справится.
— Справлюсь, — ответил великан, польщенный доверием Монбара и горя нетерпением оправдать его.
— Остается осмотреть внутренние земли, город и крепость. Питриан долго был таможенным, это по его части; он возьмет с собой двух товарищей для защиты от индейцев, а Данник отдаст ему Монако, который ему пока не нужен.
— Хорошо, — ответил Питриан, — я прошу только два дня, чтобы узнать всю местность как свои пять пальцев.
— Теперь, — сказал Монбар, — дело остаются только город и крепость. Мне кажется, здесь надо слегка изменить наш первоначальный план ввиду возможных препятствий, ожидающих нас. Вы говорите по-испански, как уроженец старой Кастилии, любезный Филипп; в свою очередь, я тоже хорошо говорю на этом языке. Вот как мы с вами поступим: мы вместе отправимся в Маракайбо; попав в город, мы будем действовать сообразно обстоятельствам. Что вы думаете об этом?
— Я полностью разделяю вашу точку зрения и готов смело следовать за вами повсюду, куда бы вы ни отправились.
— Так. Это решено. Теперь нам недостает только некоторых необходимых вещей, чтобы пробраться в город, не возбуждая подозрения. Однако я боюсь, что достать их невозможно.
Филипп лукаво улыбнулся.
— Что же это за необходимые вещи, любезный Монбар? — поинтересовался он.
— Во-первых и прежде всего, друг мой, одежда.
— У меня на судне три полных сундука.
— Прекрасно!.. Потом — золото, много золота. Признаюсь, я не спас ни одного пиастра во время кораблекрушения.
— Я могу предложить вам пятьдесят тысяч пиастров; этого достаточно?
— Конечно, друг мой, даже гораздо больше, чем требуется.
— Очень хорошо. Видите, до сих пор я отвечал на все ваши вопросы.
И отвечали превосходно, друг мой. Мне остается задать вам еще один вопрос; к несчастью, я боюсь, что на него вы не сможете дать столь же благоприятного ответа, как на другие.
— Как знать! Посмотрим, каков ваш вопрос, друг мой.
— Вы знаете, не правда ли, что испанцы крайне подозрительны и принимают самые разные меры предосторожности, чтобы не позволить чужестранцам проникнуть в их колонии на материке.
— Да, мне это известно. Но что дальше?
— Вот и все, друг мой. Я спрашиваю себя, каким образом нам удастся проникнуть в город.
— О, очень легко!
— Что-то я в этом сомневаюсь.
— Фома неверный! — молодой человек улыбнулся. — Я не только обеспечу вас золотом и необходимой одеждой, чтобы как следует разыграть роль идальго — или даже испанского графа, если вы пожелаете, — но сверх того постараюсь раздобыть бумаги, благодаря которым все городские власти предоставят вам полную свободу и даже всецело отдадут себя в ваше распоряжение.
— Если вам это удастся, любезный друг, я скажу, что вы просто маг и волшебник.
— Черт побери! — смеясь, заметил Филипп. — Пожалуйста, только не говорите этого в Маракайбо. Я ужасно боюсь инквизиции и не хочу быть сожженным на костре.
— Вы приводите меня в глубочайшее изумление, друг мой. Как вам удалось подготовить все это?
— Но я же вам сказал, что прибыл сюда неспроста.
— Действительно, вы это говорили.
— Ну так вот, друг мой, уже три месяца я готовлюсь к этому.
Монбар несколько раз покачал головой.
— Что же вы качаете головой? — спросил его Филипп.
— Дорогой Филипп, — ответил Монбар с задумчивым видом, — я самый старый и самый близкий друг д'Ожерона, вашего дяди. Я помню вас еще ребенком; я знаю ваш характер так, будто вы мой родной сын. Ваше сердце великодушно, ваша душа благородна. Во всех наших экспедициях вы ищете прежде всего славы. Я несколько раз видел, как вы отказывались от очень прибыльных предприятий, потому что, по вашему мнению, в них можно было приобрести только деньги, но не славу… Прав ли я, Филипп?
— Правы, любезный Монбар. Но какой вывод делаете вы из этого наблюдения?
— Никакого, друг мой, просто теперь я знаю все, что желал узнать.
— Я вас не понимаю, Монбар, объяснитесь, пожалуйста.
— К чему, друг мой?
— Пожалуйста!
— Если так, я скажу: вам никогда не убедить меня, любезный мой друг, в том, будто вы хотите предпринять эту опасную экспедицию в надежде разграбить город, как бы ни был он богат.
— Извините, друг мой. Монбар не ответил.
— Вы улыбаетесь и опять качаете головой, что же вы предполагаете?
— Я ничего не предполагаю, Филипп; сохрани меня Бог предполагать что-нибудь. Вы молоды, вот и все, а страсти молодости не похожи на страсти зрелого возраста; скупость — порок стариков.
Филипп слегка покраснел и в замешательстве потупил голову, но, тотчас совладав с собой, сказал:
— Ничто не мешает, любезный Монбар, обратить против вас ваши же собственные слова.
— Каким образом, друг мой?
— Вы любите деньги еще меньше меня: если бы вы захотели, то давно стали бы первым богачом среди флибустьеров.
— Вы правы, друг мой, я не люблю деньги.
— Хорошо; значит, и вам не удастся убедить меня, что вас толкает на эту экспедицию надежда на поживу.
— Я не стану уверять вас в этом.
— А! — воскликнул Филипп, смеясь. — Стало быть, вы преследуете иную цель?
— Не отрицаю.
— Какая же эта цель?
— Мщение! — сказал Монбар глухим голосом. Филипп с минуту молчал.
— Может быть, и мной движет желание мстить, — наконец сказал он.
— Нет, Филипп, вы не питаете ненависти к испанцам.
— Ах! Что вы…
Монбар перебил его, улыбаясь:
— Я вам скажу, какие мотивы движут вами, если вы не питаете ко мне доверия настолько, чтобы самому признаться в этом: вы отыскиваете женщину, вы влюблены.
— Я?! — вскричал Филипп, делая отрицательный жест рукой.
— Я не требую от вас признания в вашей тайне. Напротив, сохраните ее, закопайте в самую глубину вашего сердца. Помните только, что я ваш друг и что в тот день, когда вы будете нуждаться во мне, я с готовностью приду к вам на помощь, что бы ни случилось.
— О-о! — только и мог произнести растроганный Филипп.
— Ни слова больше, друг мой. В эту минуту мы должны заняться делами гораздо более серьезными, чем то, о котором вы, без сомнения, хотели бы поговорить со мной теперь, когда узнали, что я проник в тайники вашей души; всему свое время. Подумаем о самом важном, а теперь для нас важнее всего вернуться на наше судно кратчайшей дорогой.
— Вы правы, друг мой, не будем же медлить.
— Кажется, вы говорили, что судно не очень далеко?
— Моя шхуна всего в двух лье отсюда. Если мы отправимся к нему по воде, то весь путь займет у нас около часа.
— Я предпочитаю, если вам все равно, проделать более продолжительный путь берегом; наша лодка очень мала, к тому же вчера нам так досаждали кайманы, что мне не хотелось бы опять иметь дело с ними. Нет, я не страшусь смерти; но я убежден, что человек, поставивший перед собой важную задачу, не имеет права безрассудно рисковать жизнью, прежде чем ему удастся выполнить эту задачу.
Флибустьеры, старательно спрятав лодку в кустах, чтобы иметь возможность найти ее в любой момент, пошли за Филиппом и Питрианом по проложенной хищными зверями едва заметной тропинке, которая должна была привести их к месту, где стояла шхуна.
Глава IV ПЛАН КАМПАНИИ
Тропинка, по которой шли авантюристы, вилась вдоль берега. Из бесчисленного множества кайманов, загромождавших прошлой ночью выход в озеро, осталось только несколько хищников; многие заснули на берегу, греясь на солнце и валяясь в грязи, другие лениво плавали неподалеку от берега. Флибустьеры обратили внимание на огромного каймана, который плыл по течению и страшно выл и кричал; по крайней мере сотня молодых крокодилов следовала за этим чудовищем, которое, вероятно, было их матерью или покровительницей. Они плыли друг за другом, составляя длинную колонну, не уклоняясь ни направо, ни налево. Все молодые особи казались примерно одного возраста; они достигали примерно пятнадцати дюймов длины, были с черными полосами или желтыми пятнами и походили по цвету на гремучих змей. Заслышав угрожающие крики огромного каймана, молодые хищники, забавлявшиеся в реке, спешили освободить дорогу, по-видимому не желая вступать с ним в борьбу.
Следуя вдоль берега, флибустьеры заметили на повороте несметное количество холмиков или маленьких пирамид, похожих на стоги сена и раскинутых, как палатки, на берегу реки. Они находились на болотистой почве, возвышавшейся на четыре фута над уровнем воды. В окрестностях плавало множество взрослых кайманов.
Эти холмики были не чем иным, как гнездами хищников; многие были брошены, и рядом на земле валялась белая скорлупа от разбитых яиц.
Несмотря на то что флибустьеры спешили поскорее добраться до шхуны, любопытство их было так возбуждено, что они решили осмотреть эти гнезда, потому что хотя много слышали о них, однако до сих пор никто их не видел.
Вот что они обнаружили. Эти гнезда имеют форму усеченных конусов, четырех футов в высоту и пяти футов в диаметре. Они сложены из травы и тины. Крокодилы строят свои гнезда таким образом: сначала они кладут на землю слой травы и тины, а на него ряд яиц, который покрывают другим таким же слоем, дюймов в восемь толщины, потом другой ряд яиц и продолжают таким образом до вершины; в каждом гнезде заключается от ста до двухсот яиц. Вероятно, детенышам помогает вылупляться солнечное тепло. Может быть также, что растительные вещества, примешанные к земле в постройке этих мест, нагретые солнцем, подчиняются какому-нибудь брожению, которое увеличивает количество тепла в этих гнездах; я предоставляю людям ученее меня решить этот интересный вопрос.
Окружающая местность носила очевидные следы присутствия крокодилов: вся земля вокруг была взрыта, так что не оставалось почти ни одного растения, между тем как дальше трава была очень густой и достигала высоты в шесть футов.
Очевидно, самка старательно следит за своим гнездом до тех пор, пока из всех яиц не вылупятся детеныши, и, может быть, в то время как она караулит яйца, она берет под свое покровительство всех детенышей, появляющихся на свет в это же время из других гнезд, потому что детеныши никогда не бывают предоставлены самим себе. Здесь мы должны упомянуть, что любовь самки к своим детенышам удивительна и похожа во всех отношениях на отношение курицы к цыплятам; она так же внимательно и горячо защищает свой выводок, заботится о пище, и иногда можно услышать, как, лежа на солнце, она криками призывает детенышей к себе.
Лишь шестая часть всех детенышей, а часто и меньше, достигает зрелого возраста; взрослые крокодилы, нисколько не стесняясь, пожирают маленьких, пока те не в состоянии защищаться.
Американские кайманы ныне прекрасно известны, так что описывать их мы не станем; скажем только, что зрелая особь — это большое и страшное животное значительной силы, легкость и скорость которого в воде изумительны. Хотя в среднем его величина достигает двадцати футов, не более, некоторые особи достигают двадцати двух и даже двадцати трех футов. Рев их ужасен — этот страшный звук особенно по весне бывает похож на отдаленные раскаты грома.
Обычно какой-нибудь старый кайман становится хозяином небольшого озера или лагуны. Пятьдесят других, менее сильных, смеют реветь только в соседних бухтах. Иногда он показывается из зарослей тростника, служащего ему убежищем; он всплывает на поверхность воды и направляется к середине водоема. Скорость его, вначале весьма значительная, постепенно уменьшается. Достигнув середины озера, крокодил останавливается и сначала раздувается, глотая пастью воздух и воду, отчего его глотка издает громкий свист, длящийся около минуты. Но скоро вода начинает с шумом выходить из его пасти и ноздрей, образуя густой, как дым, пар. В то же время чудовище поднимает свой хвост и вертит им над водой. Иногда, раздувшись до такой степени, что готов лопнуть, он поднимает одновременно голову и хвост и начинает вертеться на воде.
В этих обстоятельствах кайман, царь лагуны, играет роль индейского вождя, устраивающего репетицию своих битв.
После этого он удаляется, тихо плывя и уступая место тем, кто осмелится показаться и сразиться друг с другом, чтобы привлечь внимание самки, которая им нравится и которая почти всегда присутствует при этих играх, внешне ничем не проявляя своей заинтересованности.
Вот главные черты нравов этих страшных земноводных.
Флибустьеры, удовлетворив любопытство относительно гнезд крокодилов, продолжили свой путь вдоль берега. Вскоре они дошли до великолепного леса лавровых и померанцевых деревьев, где остановились на час, чтобы немного отдохнуть и переждать самый жгучий зной. В этот час дня вокруг царила величественная тишина; в воздухе был слышен лишь монотонный писк комаров, роящихся над болотами.
Отдохнув и освежившись в восхитительной тени деревьев, флибустьеры по знаку Филиппа встали и продолжили путь. На этот раз они отошли от реки и углубились прямо в лес.
— Скоро мы придем? — спросил Монбар после часа ходьбы. — День уходит, и я боюсь, как бы мы не заблудились, друг мой.
— Этого нечего опасаться. Мы направляемся прямо к берегу; не пройдет и часа, как мы окажемся на шхуне.
— Не скрою, я буду этому очень рад. Я всегда был плохим пешеходом; этот путь по едва проложенным тропинкам меня страшно утомляет.
— Взгляните на Монако, — сказал Филипп, — он почуял наших часовых; очевидно, мы гораздо ближе к цели, чем я полагал.
Действительно, собака начала проявлять признаки беспокойства; она носилась взад и вперед, виляя хвостом и тихо и радостно повизгивая.
— Кто идет? — вдруг раздался громкий голос человека, еще невидимого за деревьями, скрывавшими его. Послышался звук взводимого курка.
— Друг, — поспешил ответить Филипп, — Береговые братья!
В ту же минуту ветви раздвинулись и показались несколько флибустьеров. Увидев Монбара, столь любимого и уважаемого всеми Береговыми братьями, они бросились к нему и окружили с радостными криками и приветствиями. По знаку Филиппа восстановилась тишина, и все направились к судну, которое скоро заметили в узкой и неглубокой бухте; густая завеса из корнепусков не давала увидеть шхуну с реки.
Это было изящное судно водоизмещением в триста тонн, легкое, гибкое, которое, когда ветер надувал его паруса, должно было лететь по воде с неимоверной быстротой. Монбар и Филипп бросились в лодку и отправились на шхуну.
Знаменитый флибустьер, взойдя на судно, с удовольствием отметил про себя, что оно равно было готово и сражаться и бежать, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства. Филипп соблюдал строгую дисциплину на своем судне. Все было в порядке, все опрятно, что было редкостью на флибустьерских судах. Оба флибустьера спустились в каюту и сели друг возле друга на складных стульях. По приказанию Филиппа прелестный маленький юнга лет десяти, с лукавыми чертами лица, с хитрой рожицей, поставил перед ними прохладительные напитки и вышел.
— Вы взяли с собой сына Марселя? — заметил Монбар, приготавливая оранжад.
— Да; после смерти отца бедняжка остался совсем один. Он почти умирал с голоду, и я взял его к себе.
— Это доброе дело. К тому же этот мальчик очень мил. Он кажется проворным и гибким, как шелковинка.
— Мы его так и прозвали, и это имя подходит к нему во всех отношениях.
— Я тоже так думаю, — ответил Монбар.
Он выпил, прищелкнул языком, со стуком опустил стакан на стол и взглянул своему собеседнику прямо в глаза.
— Конечно, все это очень трогательно, — сказал он, — но не поговорить ли нам о другом?
— Я очень этого желаю, но о чем?
— О том, каким образом мы проберемся в Маракайбо и как там будем себя держать; вы не находите, что этот предмет интересен для нас?
— Да, конечно, но я не смею приступить к нему без вашего согласия.
— Очень хорошо; говорите, друг мой, я вас слушаю.
— Должен вам признаться, любезный Монбар, что при моем необразованном уме и недостатке воображения я предпочел бы, чтобы именно вы потрудились составить план, который затем объяснили бы мне и который я был бы готов исполнить; это очень упростило бы мою задачу.
— Вы возводите на себя напраслину, друг мой, — ответил Монбар с тонкой улыбкой, — но если вы непременно этого желаете и дабы не терять драгоценного времени на ненужные комплименты, я охотно представлю вам выработанный мною план, который, разумеется, мы обдумаем вместе.
— Ваше здоровье!
Флибустьеры чокнулись стаканами, опорожнили их, и Монбар снова заговорил:
— Могу я говорить с вами откровенно и без всякой сдержанности? — осведомился он, вопросительно взглянув на Филиппа.
— Сделайте одолжение.
— Точно могу?
— Я клянусь вам, Монбар, — искренне ответил молодой человек и протянул ему руку, которую флибустьер тотчас пожал.
— Хорошо! — сказал он. — Надеюсь, мы поймем друг друга.
— Я убежден в этом.
— Сначала поговорим о фактах.
— Конечно.
— Какие бы причины ни заставляли действовать вас и меня, мы стремимся к одной цели — захватить Маракайбо.
— Так.
— Мы хотим достичь этой цели во что бы то ни стало.
— Во что бы то ни стало.
— Очень хорошо; таким образом, вопрос значительно упрощается. Я обещал вам говорить откровенно, слушайте же меня внимательно. Вы не рассказали мне ничего; следовательно, я не поверенный ваш и не сообщник, и сохраняю относительно вас свободу действия, — вы это признаете?
— Вполне.
— Единственное, что, по моему мнению, движет вами, — это желание отыскать женщину и похитить ее… Нет-нет, не прерывайте меня, — поспешно добавил флибустьер, протягивая к Филиппу руку. — Следовательно, причина эта — любовь, то есть страсть, а страсть не рассуждает, она увлекает и часто толкает на погибель тех, кем овладела. Вы видите, что я рассуждаю холодно и логично, потому что дело это слишком серьезно и требует всех усилий нашего ума и воображения.
— Продолжайте, продолжайте, друг мой; я не пропускаю ни слова из того, что вы говорите.
— Итак, отсюда я заключаю: командование экспедицией должно быть предоставлено одному мне; я должен иметь право действовать всегда и во всем по своему усмотрению. Вы поклянетесь вашей честью, что будете во всем повиноваться мне. Подумайте, можете ли вы дать мне такую клятву? Говорите, я слушаю вас.
— Монбар, — серьезно ответил Филипп, — я признаю справедливость всего сказанного вами. Клятву, которую вы требуете от меня, я дам вам не колеблясь… Клянусь честью повиноваться вам во всем, не требуя от вас отчета в ваших поступках!
— Я вижу, что не ошибся на ваш счет, Филипп, и что вы именно таков, каким я вас считал. Будьте спокойны, друг мой, я не употреблю во зло власть, которую вы мне даете, а напротив, использую ее к нашей взаимной выгоде, потому что, может быть, даже больше вас я желаю, чтобы наши усилия увенчались успехом. Итак, вот что мы сделаем. Вы говорите, что у вас есть необходимые бумаги?
— Есть.
— Поищите, не найдется ли среди этих бумаг такой, которая обеспечивала бы высокое положение.
Филипп встал, отпер ключом, висевшим у него на шее на стальной цепочке, сундук, стоявший в углу каюты, и вынул оттуда кучу бумаг, которые начал внимательно проглядывать.
— Кажется, я нашел именно то, что нам нужно, — сказал он через минуту, подавая Монбару несколько листков пожелтевшего пергамента, — вот фамильные бумаги какого-то графа л'Аталайя; этот граф две недели назад был захвачен в плен на испанском корабле невдалеке от берегов Ямайки.
— Откуда он плыл?
— Из Испании.
— Прекрасно; а что с ним сталось?
— Он умер от ран, полученных во время абордажа; он защищался как лев, по словам Пьера Леграна, командовавшего флибустьерским судном, которое завладело испанским кораблем.
— Тем лучше. Посмотрим эти бумаги. Он начал быстро пробегать их глазами.
— Очень хорошо, — наконец произнес он, — этот граф дон Пачеко де л'Аталайя был послан в Мексику испанским правительством с поручением проверить счета интендантов и был уполномочен в случае надобности арестовать виновных и отослать в Испанию. Вот его назначение. Кроме того, вот пачка писем, перевязанных лентой, с королевскими повелениями, адресованными ко всем вице-королям и интендантам. Вы не могли выбрать лучше, любезный друг; это именно то, как вы сказали, что нам нужно; бесполезно отыскивать что-нибудь другое. Слушайте же: я — граф дон Пачеко де л'Аталайя, посланный Его Католическим Величеством, королем Испании Филиппом Четвертым, вы — дон Карденио Фигера, его личный секретарь; эти имя и звание упомянуты в бумагах. Кстати, не знаете ли вы, что случилось с этим доном Карденио?
— Пьер Легран продал его Красивой Голове.
— Ну, тогда мы можем быть абсолютно спокойны: если он еще не умер, то наверняка чуть жив; мы с вами знаем, как наш приятель Красивая Голова обращается со своими слугами… Шелковинка говорит по-испански?
— Как кастилец.
— Хорошо. Он мой паж, и зовут его Лопес Карденас. Помимо этого нам нужны трое слуг; человек такой важный, как я, не может иметь меньше. Этими тремя слугами будут Данник, Питриан и Тихий Ветерок. Вы замените их людьми надежными и умными. Эти трое хорошо говорят по-испански, они решительны и могут оказаться нам очень полезны.
— Кроме того, нам не нужно будет нанимать посторонних слуг, и наша тайна останется между нами.
— Решено. Теперь осталось только переодеться в наши костюмы, взять золото и…
— Простите, — перебил Филипп, — а кто перевезет нашу поклажу?
Монбар расхохотался.
— Какое ребячество прерывать меня из-за такой безделицы! Прикажите сниматься с якоря. В десяти лье к востоку находится жалкое селение, колония, основанная когда-то Эрнандо Кортесом, ныне почти брошенная; там мы найдем все, чего нам недостает. Теперь вы меня понимаете?
— Еще бы!
— Как только мы высадимся на берег, ваша шхуна вернется сюда и встанет на якорь, для того чтобы в случае необходимости всегда быть у нас под рукой.
Глава V ШХУНА «МАДОННА»
На следующий день после разговора Монбара с Филиппом изящная испанская шхуна обогнула мыс Какиба-Коа и направилась к горловине, ведущей в озеро Маракайбо, обменявшись сигналами со Сторожевым островом и ответив выстрелами из шести бронзовых пушек, находившихся на ней, на салют форта Барра на Голубином острове.
Опытному взгляду моряка невозможно было ошибиться в достоинствах этого судна; по парусам, по окраске и по форме легко можно было узнать испанское военное судно. С Голубиного острова легкая лодка с двумя гребцами направилась к шхуне, которая остановилась, поджидая ее. В лодке сидел лоцман. Он закричал, спрашивая, не нужны ли шхуне его услуги. После утвердительного ответа командира он поднялся на судно по сброшенному для него трапу; лодку шхуна взяла на буксир и продолжала путь.
Прежде чем продолжить наш рассказ, мы опишем в нескольких словах страну, где будут происходить самые важные сцены этой истории. Между мысом Грасиас и рекой Ориноко простирается изрезанная линия побережья, протянувшаяся на огромное расстояние. Первооткрывателями этих берегов были дон Алонсо Охеда, Васко Нуньес де Бальбоа, открывший Тихий океан, Хуан Ла Коса и Америго Веспуччи. Земли в глубь материка вдоль этого побережья были названы испанцами из-за своих неисчислимых богатств Золотой Кастилией.
Мы обратимся только к части этих земель, расположенных между Магдаленой и Ориноко, где находится Венесуэльский залив. Испанцы дали ему такое название, потому что берег здесь очень низкий, защищенный от наводнений песчаными дюнами и оттого что первооткрыватели этих земель они нашли местных жителей, обитающих в хижинах, которые построены на вершинах деревьев, и сообщавшихся между собой только с помощью лодок, подобно жителям Венеции. Залив этот начинается у мыса Сан-Роман под двенадцатым градусом северной широты и кончается у мыса Какиба-Коа между двенадцатым и тринадцатым градусом той же широты. Флибустьеры прозвали его Маракайбским заливом. У выхода из этого залива в открытое море находятся острова Аруба и Лос-Монхес. Венесуэльский залив вдается в сушу на расстояние до сорока лье. В глубине залива, в узкой горловине, расположены два островка, каждый приблизительно по одному лье в окружности. В горловине, между этими островками, протекает вода большого озера Маракайбо и впадает в Венесуэльский залив. Через это препятствие могут проходить только легкие суда. Первый из островков, упомянутых нами, носил название Исла-де-Вихия — Сторожевой остров; на втором, называемом Исла-де-Паломас — Голубиным островом, возвышался форт Барра с шестнадцатью орудиями крупного калибра. Миновав горловину, попадаешь в большое озеро, получающее воду из шестидесяти шести рек.
Весь восточный берег озера низок и почти постоянно затоплен; с этой-то стороны в восьмидесяти километрах от устья озера, на магнолиях, словно в гнездах, жили индейцы, о которых мы говорили.
Город Маракайбо, цель флибустьеров, возвышается амфитеатром на берегу озера. Нарядные дома, украшенные балконами и резьбой, выходили на небольшую пристань, в любое время заполненную торговыми судами. Сам город, с прямыми и широкими улицами, насчитывал пять тысяч жителей. В нем было четыре монастыря, несколько церквей и богатая больница. Гарнизон, один из важнейших в этой стране, состоял из восьмисот отборных солдат.
Немного дальше, по другую сторону озера, возвышался очаровательный городок Гибралтар, близ которого торговцы из Маракайбо и Мериды, города, находившегося в двадцати пяти лье южнее Гибралтара, по другую сторону гор, построили для себя дачи.
В Мериде, одном из самых прекрасных городов Нового Света, находилась резиденция правительства и генерал-губернатора.
Командир шхуны очень любезно принял лоцмана и тотчас передал ему управление судном. Ветер, до сих пор довольно сильный, спал при входе в горловину; но шхуна, несмотря на это, довольно легко обошла песчаную отмель, препятствующую входу в озеро.
— Какое прекрасное у вас судно! — заметил капитану лоцман. — Я его не знаю; вероятно, оно в первый раз в этих краях?
— Действительно, в первый раз, — ответил капитан, — впрочем, оно построено в Ла-Корунье, верфи которой, как вам известно, славятся по всему свету.
— Да-да. Что ни говори, — продолжал лоцман с горделивым убеждением, — испанский флот — лучший в мире, и нигде вы не найдете таких искусных строителей судов. Вы не заходили ни в какую гавань, прежде чем прибыли сюда?
— Я пробыл две недели на Эспаньоле.
— А-а! Ваш путь был благополучен?
— Вполне. Мы встретили только два подозрительных судна, но легко ушли от них.
— Да, ваша шхуна может спокойно выдержать погоню. Эти суда, вероятно, принадлежали сент-кристоферским флибустьерам… Вы знаете, что они опять взяли Черепаший остров?
— Я этого не знал; как же это случилось?
— Никто не понимает. Эти воплощенные демоны неизвестно каким образом проникли на остров и захватили в плен гарнизон, прежде чем испанцы поняли, с каким врагом имеют дело.
— Да-а, жаль.
— Очень жаль! Вице-король Новой Испании взбешен. Он поклялся заставить флибустьеров дорого поплатиться за это новое злодеяние; кажется, он даже начал приводить угрозу в исполнение, и из Веракруса вышел мощный флот[4].
— Что ж, дай Бог, чтобы им удалось наказать этих демонов, как они того заслуживают.
— Теперь, капитан, если позволите, мы выйдем на открытое пространство, пройдем между островом Борика и твердой землей и войдем в гавань.
— В Маракайбо, должно быть, находится много судов?
— В это время года очень мало, только семь или восемь прибрежных судов. Но через месяц придут суда из Европы, и тогда гавань примет совершенно иной вид.
Все было исполнено, как говорил лоцман, и шхуна бросила якорь немного впереди торговых судов, на месте, предназначенном для стоянки военных кораблей.
Лоцману заплатили и отпустили его; шхуна подобрала паруса с быстротой и четкостью военного судна, после чего команда по приказанию боцмана стала спускать шлюпки на воду.
Командир прохаживался на штирборте, разговаривая с человеком уже пожилым, должно быть пассажиром, когда к вахтенному офицеру почтительно подошел юнга и доложил, что несколько человек в шлюпке отчалили от пристани и быстро приближаются к шхуне. Вахтенный тотчас доложил обо всем командиру. Тот остановился, некоторое время внимательно рассматривал шлюпку, потом наклонился к вахтенному офицеру, шепнул ему на ухо несколько слов и сделал знак пассажиру, с которым разговаривал, следовать за ним, после чего оба сошли в каюту.
В этой каюте два других человека курили сигары, попивая оранжад из бокалов богемского хрусталя.
— Ну что? — спросил по-французски один из них, как только командир показался на пороге.
— Ну, — ответил командир, весело потирая руки, — до сих пор все идет прекрасно. Лоцман убежден, что мы чистокровные испанцы. «Мадонна» делает чудеса; она обладает всеми признаками частной кастильской шхуны. Лоцман в восторге от нас; вероятно, в эту минуту он воспевает нам похвалы во всех городских кабаках.
— Надо признаться, Пьер Легран, — ответил первый собеседник, которым был не кто иной как Филипп, — что ты много сделал для нашего успеха. Ты прекрасно играешь свою роль. Тебя просто нельзя не принять за настоящего сеньора.
— Экая хитрость! — смеясь, возразил Пьер Легран. — Ведь я из Байонны. Но будьте внимательны, братья, шлюпка приближается; в ней, верно, находятся городские власти. Теперь надо не ударить лицом в грязь и не сплоховать.
— Не беспокойся, — сказал Филипп, смеясь, — твой успех подстегнул нас; мы будем достойны тебя. Кому из офицеров ты поручил принять гостей?
— Баску.
— Хорошо; стало быть, все к лучшему. Он по крайней мере такой же кастилец, как и мы.
Это мнимое испанское судно действительно было шхуной Филиппа. Флибустьеры с отличающей их безумной отвагой без колебаний решились на это сумасбродное предприятие в убеждении, что если все пройдет успешно, что, впрочем, было весьма возможно, то они легче и скорее добьются сведений, необходимых для смелой экспедиции, замышляемой ими. Они решили также, если это предприятие им не удастся и они будут узнаны, скорее взорвать себя на воздух, чем сдаться испанцам. Впрочем, мы должны сказать, что все меры, диктуемые благоразумием, были приняты со всей тщательностью.
Испанская шхуна, которую Пьер Легран и Филипп захватили некоторое время тому назад и сделали флибустьерским судном, опять приняла вид испанского судна, даже взяла свое прежнее название «Мадонна», которое Филипп сменил было на название «Кокетка»; оснащение было сделано заново, команда надела костюм матросов кастильского флота. Словом, никогда еще столь сумасбродная экспедиция не была задумана и исполнена с таким блеском.
Демоны-флибустьеры, нимало не заботясь об опасностях, сгущавшихся над их головами, хохотали, как сумасшедшие, над шуткой, которую они играли со своими неумолимыми врагами. Подобная шалость была совершенно в их характере и привычках и невыразимо забавляла их. Каждый всеми силами старался хорошо разыграть роль, назначенную ему в этой трагикомедии, которая могла с минуты на минуту вследствие непредвиденной случайности окончиться резней и убийством. Но это соображение не входило в расчет флибустьеров: они хотели как следует позабавиться и изо всех сил старались добиться успеха.
Между тем шлюпка с опытными гребцами быстро приближалась к шхуне. Мигель Баск, узнавший по мундиру старшего офицера в шлюпке, поставил нескольких матросов возле трапа, и когда испанский офицер взошел на шхуну, ему были отданы все почести, соответствующие его званию.
Как только этот офицер, которым был не кто иной, как дон Фернандо д'Авила, бывший губернатор Тортуги, ступил на палубу шхуны, перед ним предстал Мигель Баск. Оба церемонно поклонились друг другу.
— С кем имею честь говорить, кабальеро? — вежливо осведомился Мигель.
— Сеньор офицер, — ответил дон Фернандо с такой же вежливостью, — я — дон Фернандо д'Авила, губернатор города Маракайбо.
— Добро пожаловать, сеньор губернатор, — сказал Мигель с почтительным поклоном.
— Сеньор, — продолжал губернатор, — я узнал шхуну Его Католического Величества «Мадонна», которая вошла в гавань Санто-Доминго в тот самый день, когда я покидал этот город, чтобы отправиться сюда по приказанию Его Католического Величества.
— Вы не ошиблись, кабальеро, эта шхуна действительно называется «Мадонна».
— Об этом мне сказал лоцман, который вел вас и у которого я осведомлялся. Я поспешил приехать, потому что, если не ошибаюсь, у вас на шхуне должен находиться сеньор дон Пачеко де л'Аталайя, и я первый хочу его приветствовать с прибытием в наш город.
— Мы действительно имеем честь считать в числе наших пассажиров графа де л'Аталайя, кабальеро; он сел на нашу шхуну в Санто-Доминго.
— Да, мне сообщили, что он должен был воспользоваться вашим судном, чтобы добраться сюда. Угодно вам, сеньор, представить меня его сиятельству?
— Вот наш капитан, сеньор, — сказал Мигель, кланяясь Пьеру Леграну, который в эту минуту показался на палубе. — Он будет иметь честь сам представить вас сеньору графу.
Дон Фернандо д'Авила подошел к Пьеру Леграну, обменялся с ним поклонами и обратился к нему с той же просьбой, что и к Мигелю.
— Господин губернатор, — ответил Пьер Легран, — его сиятельство только что хотел отправляться на берег; я не сомневаюсь, что он будет очень рад увидеться с вами здесь и преисполнится благодарности к вам за ту поспешность, с какой вы явились сюда. Не угодно ли вам следовать за мной?
Пройдя вперед, чтобы показывать дону Фернандо дорогу, Пьер Легран спустился в каюту. Она была пуста. Указав губернатору на стул, Пьер Легран позвонил. Явился юнга.
— Доложите его сиятельству графу де л'Аталайя, — сказал Пьер Легран, — что сеньор губернатор ждет его приказаний.
Юнга поклонился и вышел. Через минуту он явился опять и доложил:
— Сеньор дон Пачеко граф де л'Аталайя!
Вошел Монбар. Дон Фернандо поспешно встал и поклонился ему.
— Кажется, вы — капитан дон Фернандо д'Авила, — произнес Монбар, с достоинством отвечая на его поклон. — Я слышал о вас много очень лестного и рад познакомиться с вами, сеньор.
— Ваше сиятельство приводите меня в смущение, — ответил губернатор, снова кланяясь, — я не заслуживаю…
— Извините, — с живостью перебил Монбар, — вы честный слуга Его Католического Величества, и в этом отношении вы имеете право на мое уважение. Позвольте мне поблагодарить вас за поспешность, с какой вы захотели представиться мне. Впрочем, я сам собирался нанести вам визит.
— Я должен был сделать первый шаг, ваше сиятельство; я был обязан явиться за вашими приказаниями и имею честь сообщить вам, что приготовил для вашего сиятельства и вашей свиты лучшие комнаты в занимаемом мною дворце.
— А вот этого я не допущу, любезный губернатор. Будучи искренне благодарным вам за ваше вежливое предложение, я решительно отказываюсь. Я не хочу быть вам в тягость; кроме того, скажу вам между нами, для надлежащего выполнения данного мне поручения я должен пользоваться полной свободой… Вы меня понимаете, не так ли?
— Ваше сиятельство…
— Это решено, — перебил Монбар. — Возвращайтесь на берег и наймите, мне все равно где, дом — очень простой и очень скромный.
— Однако…
— Молчите, — перебил Монбар, слегка дотронувшись до его руки, — я имею веские причины, которые скоро вам объясню, чтобы действовать таким образом.
— Если вы, ваше сиятельство, требуете, я буду повиноваться.
— Благодарю; поверьте, любезный губернатор, что я чрезвычайно ценю вашу любезность.
— В таком случае я прощаюсь с вашим сиятельством, чтобы как можно скорее исполнить ваши желания.
— И как только найдете нужный мне дом, сразу же сообщите.
— Если вы, ваше сиятельство, мне позволите, я сам доставлю вас туда.
— С величайшим удовольствием.
Они обменялись еще несколькими фразами, после чего дон Фернандо уехал, очарованный благосклонным приемом, которым удостоил его граф де л'Аталайя.
Глава VI В ДОМЕ
Когда дон Фернандо д'Авила уехал, предводители флибустьеров, оставшись одни на шхуне, предались безоглядной радости, которую внушил им столь неожиданный и полный успех их отчаянно смелого поступка. Задуманное ими отважное предприятие превосходило все, что значилось до сих пор в летописях Береговых братьев — летописях, безусловно наполненных достославными подвигами.
Действительно, авантюристы, несмотря на свою храбрость, вошедшую в поговорку, никогда еще не отваживались на такую опасную операцию, чтобы выведать тайные планы своих врагов. Ни Морган, ни Олоне — ни один из героев флибустьерства не осмеливался сыграть столь рискованную партию.
Однако когда прошла первая минута восторга, последовало отрезвление, и авантюристы стали опасаться такого полного и непредвиденного успеха. Им казалось невозможным продолжать долго разыгрывать свои роли, ломать эту комедию, не подвергаясь опасности быть со временем узнанными. Тревожно устремив глаза на город, белые дома которого амфитеатром поднимались от берега, они спрашивали себя, не лучше ли, пока еще есть время, воспользоваться наступающей ночью, поднять паруса и выбраться из ловушки, в которую они так безрассудно устремились. Испанцы достаточно часто имели дело с флибустьерами, и представлялось Довольно вероятным, что в городе с пятью тысячами жителей и с гарнизоном из восьмисот солдат найдется какой-нибудь человек, который узнает одного из командиров со шхуны.
Размышления эти, конечно несколько запоздалые, омрачили лица авантюристов; благоразумие вдруг одержало верх, и эти храбрые люди невольно почувствовали непреодолимый ужас при мысли о страшном возмездии, на которое решатся испанцы, открыв обман, жертвой которого они оказались. Скоро этот ужас усилился настолько, что шхуна чуть было не распустила паруса.
Только два человека остались тверды и непоколебимы в своем намерении отправиться на берег и довести до конца осуществление задуманного плана — Монбар и Филипп. Причины, подвигнувшие их на это, были настолько серьезны, что любые соображения должны были отступить перед желанием преуспеть в этом предприятии. Хладнокровно подвергнув опасности свои жизни и жизни своих товарищей, поставив перед собой цель во что бы то ни стало пробраться в Маракайбо и ожидая получить желанную награду за свои усилия, они не могли согласиться постыдно удалиться, поддавшись страху, недостойному их львиных сердец. Монбар энергично восстал против намерений своих товарищей; он доказывал им, что грозная слава, сопутствующая флибустьерам, поможет им устоять против испанцев даже в том невероятном случае, если они будут узнаны. Самое худшее, что могло с ними случиться, — это битва, а поскольку ни в бухте, ни в озере не было ни одного испанского судна, флибустьерам не грозила опасность с моря, и в случае необходимости они могли без особого риска ретироваться, что является разумной мерой, когда приходится бороться с силами, во сто крат превосходящими свои собственные; но в данную минуту ретирада оказалась бы делом постыдным, так как для нее не было никаких причин.
Эти возражения, горячо поддерживаемые Филиппом, достигли поставленной Монбаром цели; флибустьеры скоро позабыли о страхе, овладевшем ими, и поклялись Монбару оставаться ему верными и скорее умереть всем до единого, чем бросить его.
Как только Филипп увидел дона Фернандо д'Авила, он немедленно узнал в нем бывшего губернатора Тортуги и опекуна доньи Хуаны. Он тут же решил как можно скорее остаться одному в Маракайбо, тем более что именно с этой целью устроил он экспедицию и снарядил шхуну.
Когда волнение, вызванное соображениями, которые мы привели выше, утихло и все пришло в порядок, решили, что ночью шхуна приблизится к берегу, чтобы иметь возможность поддерживать постоянную связь с городом, а Пьер Легран и Мигель Баск станут измерять глубину залива и вести наблюдение за местностью, будучи наготове сняться с якоря при первом сигнале. Кроме того, условились, что ни один человек из экипажа, за исключением командира, не должен покидать борта корабля. Юнге Шелковинке было поручено осуществлять связь между Монбаром и командой на шхуне. На судне должна была поддерживаться самая строгая дисциплина, и так как малейшее неповиновение могло послужить причиной всеобщей гибели, ослушавшийся подвергался немедленному расстрелу; кроме того, для устранения всяких непредвиденных случайностей доступ к шхуне будет строго воспрещен городским жителям.
Меры эти обсуждались на общем совете и были приняты флибустьерами, торжественно поклявшимися в их неукоснительном исполнении.
Покончив с этим делом, занялись вопросом о поездке на берег. Сойти на берег собирались шестеро: Монбар под именем графа дона Пачеко де л'Аталайя, как чрезвычайный ревизор; Филипп под именем дона Карденио Фигера, его личный секретарь; Данник, Питриан и Тихий Ветерок под именами Хосе, Нардо и Нико, слуги графа; наконец, Шелковинка, или Лопес Карденас, его паж.
Монбар собрал пятерых товарищей в каюте и дал им последние инструкции. Роли, которые им предстояло играть, были тем труднее, что они не должны были забывать о них ни на одну минуту. Поэтому Монбар несколько раз повторил, как важно постоянно быть начеку. Когда он удостоверился, что все в совершенстве изучили его инструкции, то велел спустить на воду две шлюпки.
В первую сошли Филипп, юнга и сам Монбар, три других флибустьера сели во вторую шлюпку, захватив с собой поклажу. Потом Монбар, оглянувшись вокруг со странным выражением, приподнялся в шлюпке, снял шляпу, с улыбкой кивнул флибустьерам и громким голосом обратился к своим гребцам:
— Гребите, ребята, — сказал он, — и помните, что с этой минуты ни одного французского слова не должно сорваться с ваших губ.
Шлюпка быстро направилась к пристани, где уже собралась довольно значительная толпа, по-видимому с нетерпением поджидавшая появления знатной особы, прибывшей на шхуне «Мадонна».
Дойдя до этого места в нашем повествовании, мы смиренно признаемся, что не решались бы продолжать, если бы в наших руках не было подлинных доказательств событий почти фантастических, о которых мы взялись рассказать. Действительно, не превосходит ли игру самого смелого воображения храбрость этих людей, которым так легко удалось провести целый город! Поражает и то легковерие, с каким население этого города во главе с властями позволило себя обманывать, даже не подозревая, несмотря на многочисленные проделки флибустьеров, жертвой которых они уже не раз оказывались, что и на этот раз они сделались игрушкой в их руках? Правда, в то время сообщение было довольно затруднительным, суда приходили из Европы достаточно редко, и испанские колонии почти всегда находились в полном неведении не только относительно событий, происходящих в метрополии, но и относительно того, что происходило в соседних колониях. Такое неведение способствовало успеху планов флибустьеров, которые, постоянно крейсируя у важнейших гаваней на материке и островах, были прекрасно осведомлены обо всех интересующих их событиях, нападая на корабли испанцев, допрашивая пленников и перехватывая депеши, находившиеся на судах, прибывавших из Европы и возвращавшихся туда. Прибавим еще, что в важнейших пунктах авантюристы держали своих шпионов, которые оповещали их обо всех интересующих событиях с помощью специальных сигналов, посылаемых с берега.
Обе шлюпки подошли к пристани и остановились у лестницы. Дон Фернандо д'Авила в парадном мундире полковника испанской армии — чин, полученный им недавно, — ждал путешественников в окружении главного штаба гарнизона и виднейших представителей городских властей.
После первых приветствий и обычных представлений дон Фернандо велел привести лошадей для Монбара и Филиппа. Вся свита села на лошадей и среди громких криков толпы, пушечных выстрелов и звуков военного оркестра направилась шагом к главной площади.
Дом, который дон Фернандо велел приготовить для Монбара, находился на самой площади, недалеко от собора, как раз напротив губернаторского дворца. У дверей стояла почетная стража. Дон Фернандо сошел на землю, приглашая флибустьеров следовать за собой в дом, внутреннее расположение которого он любезно предложил показать им лично. Вскоре губернатор откланялся, предоставляя графу де л'Аталайя располагаться по своему усмотрению; однако, уходя, он взял с графа обещание в тот же вечер вместе с секретарем присутствовать на пиршестве, которое городские власти устраивали в его честь.
Как только за испанцами закрылись двери дома, флибустьеры перевели дух; постоянное напряжение, в котором они вынуждены были находиться, начинало их утомлять, они чувствовали настоятельную необходимость перевести дух и осмотреться.
Прежде всего они отправились осматривать дом. За короткое время губернатору удалось все прекрасно устроить. Дом оказался большим, с просторными комнатами и великолепным садом позади. Особенно флибустьеров восхитило то, что этот дом, настоящий дворец, имел три отдельных выхода: первый, главный, вел на площадь; второй, скрытый в тени сада, — на улицу Бодегон, а третий из помещения для слуг выводил на улицу Платерос. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало флибустьеров, ведь таким образом они могли входить в дом и покидать его незаметно и не подвергались опасности быть заключенными в этом доме, как в тюрьме. Кроме того, сад, наполненный очень редкими тропическими растениями, с тенистыми боскетами[5], с трудом пропускал солнечные лучи и давал возможность принимать посетителей и вести беседу, не опасаясь шпионов.
Поскольку процессия, состоявшая из прибывших гостей и сопровождавших их лиц, двигалась крайне медленно, поклажа авантюристов прибыла раньше их, так что все было приведено в порядок прежде, чем они вошли в дом. Монбар наконец ушел в свою комнату, чтобы на некоторое время предаться отдыху, предоставив Филиппу позаботиться о прислуге.
Филипп с честью выполнил это щекотливое поручение. Прежде всего он отправился к офицеру — командиру почетной стражи, поставленной у дверей, горячо поблагодарил его и отпустил вместе с солдатами, отдав от имени его сиятельства кошелек, полный золота, для раздела между солдатами, которые удалились с радостными криками. После этого Филипп нанял повара, дворецкого, шестерых лакеев, двух помощников повара и четырех конюхов. Эти люди не должны были входить в комнаты, где могли находиться только доверенные слуги графа: Данник, Тихий Ветерок и Питриан. Они поступали в распоряжение Нардо, или Питриана, названного управляющим его сиятельства. Разобравшись таким образом с прислугой, Филипп велел привести лошадей, выбрал двенадцать лучших, которых тотчас поставил в конюшню. Молодой человек, успевший подумать обо всем, рассудил, что в данную минуту хорошо иметь под рукой лошадей. Питриан, Тихий Ветерок, Данник и Шелковинка были помещены в комнатах, находящихся рядом с комнатами Монбара и Филиппа, так чтобы они и днем и ночью, ежечасно могли общаться со своими мнимыми господами и в случае надобности поспешить к ним на помощь. Питриан получил строгий наказ никогда не ложиться спать, не осмотрев предварительно каждый уголок и закоулок в доме и не заперев на ключ в людских всю испанскую прислугу.
Все это заняло довольно много времени, и было уже около пяти часов вечера, когда Филипп наконец освободился и отправился к Монбару, перед которым подробно отчитался о проделанной работе. Монбар одобрил его действия, и оба в сопровождении Данника, переодевшегося камердинером, отправились на званый обед, устраиваемый губернатором в их честь.
— Мы только покажемся на этом пиршестве, — сказал Монбар. — Если бы я не боялся рассердить губернатора, расположение которого для нас крайне важно, я отказался бы; но так как мы не можем не присутствовать, нам надо воспользоваться этим случаем, чтобы прямо войти в нашу роль.
— То есть? — с недоумением спросил Филипп.
— То есть с завтрашнего дня мы вступаем в нашу должность, — не будем забывать, что мы присланы рассматривать отчеты интендантов. Работа наша продолжительна, ведь мы должны объехать самые важные города каждой колонии; вы понимаете мою мысль, друг мой?
— Вполне. Итак, мы отправимся в Гибралтар и в Мериду?
— Нам надлежит побывать всюду, где необходимо провести строгий контроль, — перебил Монбар, улыбаясь.
— Бедные испанцы! — прошептал Филипп.
— Вы жалеете их?
— Да, признаюсь, они так хорошо принимают нас.
— Не забудьте, однако, припрятать под камзол ваш кинжал.
— Будьте спокойны. Черт побери! Никогда не знаешь, что с тобой может случиться в следующую минуту.
— Данник, вели оседлать лошадей. Ты поедешь с нами в губернаторский дворец; мне не нужно предписывать тебе не зевать, не так ли?
Работник лукаво улыбнулся, поклонился и вышел.
Через несколько минут граф де л'Аталайя со своим личным секретарем и в сопровождении лакея и пажа ехал верхом по главной площади, направляясь к губернаторскому дворцу, где караул, завидев его, торжественно отдал ему честь.
Глава VII ДУЭНЬЯ
Прошло несколько дней. Флибустьеры продолжали мастерски разыгрывать свои роли. Делая вид, будто строго контролирует отчеты интендантов, Монбар сумел приобрести их уважение, спустив кое-кому с рук некоторые мелкие просчеты. Отделавшись дешевле, чем предполагали сначала, интенданты превозносили до небес мудрость, честность, а в особенности выдающиеся способности ревизора.
Флибустьер под предлогом того, что хочет видеть все собственными глазами — такова действительно была его цель, хотя и не с тем намерением, которое в нем предполагали, — не давал себе ни минуты покоя и беспрестанно ездил из Маракайбо в Гибралтар, из Гибралтара в Маракайбо, осматривая берег и собирая необходимые ему сведения в разговорах с губернатором, делая при этом вид, будто все услышанное не интересует его ни в малейшей степени.
В свою очередь Мигель Баск усиленно занимался измерениями и гидрографическими расчетами, которые приводили испанцев в восторг, потому что они основывали на этих Работах самые лестные надежды для коммерческой будущности колонии.
Филипп, не признаваясь Монбару в причинах, удерживавших его в Маракайбо, попросил у него позволения остаться в городе, чтобы, как он говорил, наблюдать за властями и иметь возможность при первой опасности уведомить своих товарищей. Флибустьер улыбнулся про себя этой просьбе и, не требуя более подробных объяснений, предоставил молодому человеку свободу действовать по собственному усмотрению, посоветовав ему соблюдать чрезвычайную осторожность и заметив, что малейшего неверного шага с его стороны будет достаточно для того, чтобы безвозвратно погубить успех предприятия.
Надо сказать, что положение молодого человека было чрезвычайно трудным. Дон Фернандо д'Авила принимал его очень любезно всякий раз, когда тот наносил ему визит; но достойный губернатор, хоть и нисколько не подозревая, кем в действительности был личный секретарь графа де л'Аталайя, тем не менее чутьем, свойственным ревнивцам и опекунам, угадал в нем влюбленного. Обращаясь с ним с самой очаровательной непринужденностью, с самым полным доверием, губернатор тем не менее держал себя до того церемонно, ограничивался вниманием таким холодным и сохранял всегда такую надменную, чисто кастильскую спесь, что всякая попытка сойтись ближе становилась невозможной, наталкиваясь на непреодолимую преграду этикета.
Филипп был взбешен; каждый раз, возвращаясь домой после безуспешного визита к губернатору, он предавался припадкам страшного гнева, которые казались бы смешны, если бы молодой человек, действительно влюбленный, не страдал так ужасно.
Дон Фернандо не представил свою питомицу флибустьерам по их приезде в Маракайбо; он держал ее взаперти в комнатах, которые за все время она покидала только раз, выезжая в плотно закрытом паланкине, окруженном толпой слуг, которые заняли улицу во всю ширину и таким образом сделали всякое общение невозможным. Правда, она постоянно посещала церковь, но входила туда в специальную дверь и оставалась в галерее с решеткой, где была совершенно невидима. Напрасно молодой человек, прекрасно знавший испанские обычаи, отправлялся в церковь раньше всех и становился возле чаши со святой водой. Он предлагал святую воду очаровательным женщинам, из которых многие улыбались ему, кокетливо приоткрывая мантильи, но их улыбки и призывные взгляды ничего не значили для него; та, которую он ждал, не являлась, и он удалялся со смертельной тоской в сердце, в полном отчаянии и, как все влюбленные, обманувшиеся в ожиданиях, составлял в голове самые безумные и совершенно невыполнимые планы.
Ломая себе голову над тем, что же ему делать, молодой человек наконец убедил себя, что донья Хуана не приехала в Маракайбо с доном Фернандо, что он отвез ее в Санто-Доминго; эта мысль настолько завладела им, что он решился, каковы бы ни были последствия, расспросить обо всем губернатора в тот же вечер на прогулке по Аламеде[6], где он думал его встретить.
Было около четырех часов пополудни. На прогулку не имело смысла отправляться раньше семи часов вечера; следовательно, у Филиппа было три часа, чтобы подготовиться к разговору с доном Фернандо. Но чем ближе был этот час, тем труднее казалось ему привести в исполнение свой план. Действительно, каким способом мог он выведать у человека, с которым был знаком едва четыре дня, где находится девушка, о существовании которой ему ничего не должно бы быть известно? Как воспримет дон Фернандо странные вопросы Филиппа? Какое право имеет молодой человек задавать все эти вопросы? Дело было серьезным, настолько серьезным, что молодой человек с унынием опустился на стул, скрестил руки на груди и был вынужден признаться в своем полном бессилии. Пробило семь часов. Филипп вскочил, будто от электрического удара, схватил шляпу и лихорадочно надел ее на голову.
— Я все-таки пойду, — прошептал он, — кто знает, что может случиться!
В эту минуту в дверь комнаты, где находился молодой человек, дважды постучали.
— Кто там? — вздрогнув, спросил он.
— Я, — ответил хриплый голос Данника.
— Иди к черту! — с досадой воскликнул молодой человек. — Я ждал вовсе не тебя.
Разумеется, Филиппу было бы трудно ответить, кого именно он ждал; но Даннику не пришло в голову задать ему этот вопрос.
— Так-то вы меня принимаете! — засмеялся он. — Благодарю, вы очень любезны.
— Что тебе нужно от меня?
— Ничего.
— Зачем же ты меня беспокоишь?
— Вас спрашивают.
— Кто?
— Право, не знаю, но сквозь мантилью, в которую эта особа закутана, мне показалось, что это старуха.
— А ну ее к черту! — сказал Филипп.
— Должно быть, сегодня вы расположены всех посылать к черту, — заметил Данник.
— Ты мне надоел со своей старухой, я не хочу ее знать.
— Как вам угодно, — заметил Данник, качая головой, — но, быть может, напрасно. За старухой в Испании всегда появляется молодая особа, а ведь мы с вами находимся на самой что ни на есть кастильской земле. Не прогадайте!
Эти слова внезапно поразили Филиппа.
— А ведь, быть может, ты и прав, — произнес он. — Безобразна твоя старуха?
— Отвратительна! Настоящая ведьма, явившаяся с шабаша.
Молодой человек подумал с минуту. Данник рассматривал его украдкой с лукавым видом.
— Ну, — сказал Филипп наконец, — позови ее; надо узнать, что ей нужно, и отделаться от нее.
Говоря так, Филипп не совсем искренне выразил то, что чувствовал в данную минуту. Напротив, его любопытство было сильно возбуждено, и он с плохо скрытым нетерпением, устремив глаза на дверь, ждал старуху, о которой доложил ему Данник.
Наконец она вошла. Филипп вскрикнул от радости и удивления и бросился к ней.
— Нья[7] Чиала! — вскричал он.
Ничего не отвечая, дуэнья взглядом указала ему на Данника, неподвижно стоявшего в дверях.
— Уйди! — сказал Филипп Даннику.
Тот тотчас ушел, затворив за собой дверь. Дуэнья подошла к Филиппу и внимательно рассматривала его несколько минут.
— Итак, это точно вы? — промолвила она наконец.
— Я, — ответил он, — а вы в этом сомневались?
— Трудно поверить в то, что вы здесь и при этом занимаете такую должность у графа де л'Аталайя, когда он питает неумолимую ненависть к флибустьерам!
— Действительно, — согласился Филипп с невольной улыбкой, — однако вы можете убедиться, что, несмотря на эту ненависть, граф соизволил взять меня к себе личным секретарем. Но не это главное. Главным было суметь пробраться сюда — и я сумел; какими средствами я этого добился, касается только меня. Поговорим о донье Хуане.
— О донье Хуане! — прошептала дуэнья со вздохом.
— Уж не случилось ли с ней какого-нибудь несчастья? — взволнованно вскричал молодой человек.
— Несчастья? Да нет, — ответила она, крестясь. — Бедная сеньорита!
— Но раз так, что же вы пугаете меня, заставляя предполагать Бог знает какие беды!
Дуэнья с минуту молчала, с подозрением оглядываясь вокруг.
— Никто не может нас слышать, нья Чиала, — с нетерпением произнес молодой человек, заметив ее взгляды, — говорите без опасения. Садитесь, пожалуйста; так вам будет удобнее исполнить ваше поручение.
— Ах! — сказала Чиала, усаживаясь на стул, который подвинул к ней молодой человек. — Позвольте мне говорить с вами откровенно, сеньор дон Фелипе… Я не смею начать, так как боюсь рассердить вас.
— Милая моя, — ответил он, сгорая от нетерпения, — говорите же, заклинаю вас, и будьте откровенны. Я обещаю вам не сердиться. Что бы вы ни сообщили мне, я все готов выслушать и, уверяю вас, буду страдать меньше, чем в эту минуту. Ваша сдержанность терзает меня.
— Как нетерпеливы эти молодые люди, Святая Дева! — проворчала старуха.
— Прежде всего ответьте мне, пожалуйста, на два вопроса, а после говорите, что хотите.
— Что за два вопроса?
— Здорова ли донья Хуана?
— Слава Богу, она совершенно оправилась от усталости после путешествия, и теперь здоровье ее превосходно.
— Благодарю… По-прежнему ли она любит меня?
— Если нет, разве была бы я здесь? — опять заворчала старуха.
— Отлично! — вскричал Филипп весело. — Если здоровье ее превосходно и она по-прежнему любит меня, мне нечего больше желать. Говорите же, любезная нья Чиала, все, что придет вам в голову; вы дали мне противоядие, которое заставит меня терпеливо выслушать все, что вы мне скажете. Можете начинать, я слушаю вас.
С улыбкой на губах молодой человек откинулся на спинку кресла, расположившись как можно удобнее.
Дуэнья несколько раз печально покачала головой, устремив на молодого человека взгляд со странным выражением, и, глубоко вздохнув, как делают те, кто наконец принимает важное решение, вновь начала разговор:
— Сеньор кабальеро, вы найдете, без сомнения, очень странным, что я, будучи в ваших глазах не кем иным, как служанкой, осмеливаюсь вмешиваться в дела, касающиеся особ, которые по своему происхождению гораздо выше меня.
— Вы ошибаетесь, нья Чиала, — мягко заметил молодой человек, — я знаю глубокую дружбу доньи Хуаны к вам и нахожу, напротив, очень естественным, что вы интересуетесь ее делами.
— Я для доньи Хуаны не обыкновенная прислуга, сеньор! Она только что не родилась при мне; я кормила ее своим молоком, я никогда с ней не расставалась. Чтобы последовать за ней в Америку, я бросила мужа, детей, родных. Я люблю ее, как дочь, а может быть, и больше.
— Я уже знал все, что вы мне сказали, кроме одного — вашего путешествия в Америку. Разве донья Хуана родилась в Испании?
— Кто знает? — пробормотала Чиала, подняв глаза к небу.
— Как это, кто знает? Что вы хотите сказать, нья Чиала?
— Выслушайте меня, кабальеро, — продолжала она, — я сообщу вам то немногое, что знаю сама.
— Говорите же, говорите, нья Чиала! — с живостью вскричал молодой человек.
— Знайте, кабальеро, что я вверяюсь вашей дворянской чести и что об этой тайне вы не должны говорить никому.
— Даю вам честное слово, кормилица.
— Я была замужем три года… Прошел месяц, как родился мой второй ребенок. Я с мужем жила в хижине в нескольких лье от По.
— Как! — с удивлением воскликнул молодой человек. — Вы не испанка?!
— Нет, я беарнка.
— Продолжайте, продолжайте, кормилица! — вскричал Филипп с живостью.
— Мой муж охотился на медведей в горах, занимался контрабандой, а в свободное время служил проводником путешественникам, направлявшимся из Франции в Испанию или из Испании во Францию. Несмотря на свои разнообразные ремесла, а может быть, и по причине этого, мой муж был очень беден, так беден, что часто даже не было хлеба в нашей жалкой лачуге. Хуан приходил в отчаяние. Горе преследовало нас, однако мы были честны. Однажды после продолжительного отсутствия мой муж вернулся с каким-то господином. Возвращение мужа несказанно обрадовало меня; уже около пятидесяти часов у меня во рту не было ни крошки. Хуан принес еду.
— «Не теряй мужества, жена, — сказал он мне, — поешь и порадуйся: этот достойный господин сжалился над нами». Тогда я стала внимательно рассматривать незнакомца, на которого до сих пор не обращала внимания и который остался стоять возле двери, закутавшись в плащ. Этот незнакомец был уже пожилой; его красивые, но суровые черты лица имели надменное выражение, которое против моей воли заставило меня задрожать. Одет он был, как дворянин. Я почтительно поклонилась ему в благодарность за добро, которое он хотел нам сделать. Он раскрыл свой плащ и подал мне ребенка одного возраста с моим.
— «Не благодарите меня, добрая женщина, — произнес он, — это будет услуга за услугу. Вот слабое существо, которому я прошу вас заменить мать». Я тут же схватила ребенка и, не думая о еде, хотя и была очень голодна, тотчас дала ему грудь.
— Это была Хуана? — вскричал молодой человек.
— Да, кабальеро. Незнакомец как будто с удовольствием смотрел на мои заботы об этом бедном херувиме, потом подошел ко мне и поцеловал в лоб милую малютку, которая заснула, улыбаясь.
— «Вот и хорошо, — сказал он, — вы будете матерью Хуане — так ее зовут; она сирота. Возьмите этот кошелек. В нем шестьдесят унций золота[8]; через год вы получите столько же от банкиров Исагуирра и Самала из По, и это будет продолжаться все то время, пока ребенок останется на вашем попечении. Вам стоит только показать этот перстень, — сказал он, сняв с мизинца левой руки перстень с бледным рубином. — Вы поняли, чего я жду от вас? Будьте скромны, и у вас не будет причин жаловаться на меня. Теперь прощайте». Он закутался в плащ, надвинул шляпу на глаза, сделал знак моему мужу следовать за ним и вышел из хижины. Больше он не возвращался; однако, хотя я видела его не больше одного часа, я уверена, что если бы встретилась с ним, то узнала бы его — до того его лицо поразило меня, и черты его остались запечатлены в моей памяти.
— Кто бы мог быть этот человек? — прошептал Филипп. — Вероятно, ее отец.
— Не думаю… Прошло три года. Каждый год я ездила в По, показывала перстень, и, не задавая никаких вопросов, мне давали шестьдесят унций золота. Однажды утром в дверь нашей хижины постучали. Я вздрогнула; мы жили в таком уединении, что у нас никогда никто не бывал, кроме контрабандистов, приятелей моего мужа, которые открывали дверь без церемонии и входили, как к себе домой. Я отворила. На пороге стоял какой-то незнакомец. Это был один из служащих в банке Исагуирра; я видала его, когда ходила за деньгами. Поздоровавшись со мной, он спросил, дома ли мой муж. Я ответила, что его нет дома, но я жду его с минуты на минуту.
— «Хорошо, — ответил он, — у меня есть время». Он сел на скамью возле огня; это было весной, и в горах царил холод. Через час пришел мой муж. Незнакомец отвел его в сторону и довольно долго беседовал с ним; я не знаю, о чем они говорили, но вдруг Хуан обратился ко мне.
— «Жена, — сказал он мне, — одевайся. Этот господин приехал за Хуаной; ты поедешь с ней». Я хотела возразить.
— «Делайте, что вам говорит ваш муж, — строго произнес незнакомец, — вы останетесь довольны». Я повиновалась со слезами. Через час, сидя в карете подле незнакомца и держа Хуану на коленях, я проехала Пиренеи и направлялась к Испании. Мы останавливались только пообедать и переменить мулов. Через четыре дня карета остановилась у довольно красивого дома, выстроенного поодаль от селения, которое, как я впоследствии узнала, называлось Оканна. Незнакомец сделал мне знак выйти и следовать за ним. Он вошел в дом, дверь которого отворили, когда подъехала карета. Перед нами неподвижно стояла служанка. Незнакомец показал мне весь дом, комнаты которого были меблированы довольно хорошо, но не роскошно.
— «Здесь вы у себя дома, — сказал он мне, — оставайтесь тут до новых распоряжений. Недостатка у вас ни в чем не будет. Каждый месяц вы будете получать сумму, необходимую для ваших потребностей. Я исполнил данное мне поручение. Прощайте».
— «А мой муж?» — спросила я.
— «Вот, прочтите письмо, которое он передал к вам. Не забудьте, что вы не должны принимать никого, кроме человека, который покажет вам перстень точно такой же, как у вас. Прощайте». Он вышел. Я слышала, как уехала карета. Я осталась одна с Хуаной, которая, не тревожась ни о чем, бегала, смеясь, по всем комнатам.
— Да-а… Какое странное приключение, — сказал молодой человек. — Как же все это кончилось?
— Очень просто, сеньор. В письме, отданном мне, муж приказывал мне повиноваться, уверяя, что все к лучшему. Я покорилась и скоро стала почти счастлива в своем новом доме. Все оставалось в таком положении несколько месяцев. Наконец однажды перед домом остановилась карета, из которой вышел какой-то человек и подал мне перстень. Это был дон Фернандо д'Авила. Он сказал мне, что является опекуном Хуаны и приехал отвезти ее в Мадрид. Он спросил, согласна ли я ехать с ним? Я любила бедного ребенка, которому заменяла мать; сердце мое разрывалось при мысли расстаться с ней, и я согласилась. Нас поместили в Мадриде в великолепном доме. Каждый день в один и тот же час дон Фернандо приезжал за Хуаной, а после прогулки, которая иногда продолжалась до заката солнца, привозил ее обратно. Я не выходила из дома, мне это было запрещено. Я вооружилась терпением. Мой муж писал мне часто и во всех своих письмах приказывал мне беспрекословно повиноваться всему, чего потребуют от меня. Однажды дон Фернандо объявил мне, что уезжает из Испании в Америку, и опять предложил мне ехать с ним. Что мне оставалось делать? Я была одна, вдали от своих друзей, на чужой земле. Кто знает, какие последствия мог иметь для меня отказ? Я согласилась. Дон Фернандо привез нас на Эспаньолу; там он велел нам жить в маленьком городке, где случай, а может быть, и Провидение свело нас с вами. Ничто не нарушало однообразия нашей жизни. Дон Фернандо всегда был добр и почтителен к своей питомице, которую, кажется, очень любит и окружает самыми нежными заботами.
— А разве вы ничего не знали о рождении доньи Хуаны кроме того, что мне сказали? — с нетерпением перебил Филипп.
— Ничего. Кто мог бы мне сказать об этом?
— Это правда. Какая странная история!
— И очень печальная.
— Бедная девушка! — прошептал молодой человек. — Кстати, — вдруг спросил он, — вы сохранили перстень?
— Да, я его спрятала.
— Не откажетесь ли вы показать мне его?
— Когда хотите.
— Кто знает, быть может, он наведет нас на след! Кормилица только покачала головой.
Глава VIII ПРОГУЛКА ПО МОРЮ
Между собеседниками наступило молчание. Филипп заговорил первым:
— Нья Чиала, — сказал он, — благодарю вас за ваше доверие ко мне. Однако должен признаться, что я отчасти знал эту тайну; донья Хуана уже давно рассказала мне все, что знала. Теперь позвольте мне задать вам один вопрос.
— Спрашивайте, сеньор, — сказала дуэнья, — я постараюсь на него ответить, если смогу.
— Мой вопрос вас не затруднит. Вы, вероятно, преследовали какую-то цель, рассказывая мне эту печальную историю, не так ли? Эту-то цель я и желаю знать.
— Я сама собиралась сказать вам об этом, кабальеро.
— Раз так, говорите, пожалуйста.
— Донья Хуана вас увидела — каким образом, не могу вам сказать, не знаю, но она тотчас вас узнала. Я ни в чем не могу ей отказать; я так люблю ее, что не могу не исполнить ее просьбы. Она просила меня пойти к вам и сказать, что она будет вас ждать сегодня вечером в одном месте, куда я должна вас отвести. Вот я и пришла. Только дорогой от дома дона Фернандо до вашего я размышляла, и эти размышления я хочу вам пересказать.
— Хорошо, нья Чиала, скажите же мне, в чем состояли эти размышления. Я внимательно слушаю и постараюсь, чтобы мой ответ удовлетворил вас.
— Дай-то Бог, сеньор… Честь доньи Хуаны мне дороже своей; я надеялась, оставляя Эспаньолу, что никогда больше не увижусь с вами и что донья Хуана наконец забудет вас… Вы видите, что я откровенна с вами.
— Да, даже слишком, может быть.
— Нет, безнадежная любовь непременно пройдет; это закон природы. Итак, я рассчитывала на разлуку, чтобы излечить мое бедное дитя от любви к вам. К несчастью, ваш неожиданный приезд разрушил все мои планы, расстроил все расчеты. Вы молоды, дон Фелипе, вы хороши собой, богаты и хорошего происхождения, — так, по крайней мере, я предполагаю. Но заклинаю вас именем вашей матери, будьте так же откровенны, как была я, и отвечайте мне, как должен отвечать дворянин. Истинно ли вы любите донью Хуану? Словом, любители вы ее настолько, чтобы жениться на ней, несмотря на неизвестность и тайну, окружающую ее происхождение? Или вы чувствуете к ней только одну из тех мимолетных привязанностей, в которых гордость играет главную роль и которые исчезают, как только бывают удовлетворены? Видите, дон Фелипе, я прямо вас спрашиваю, отвечайте мне также не колеблясь, как подобает истинному дворянину.
— Я и буду так отвечать, нья Чиала! — вскричал Филипп с жаром. — Я люблю донью Хуану самой истинной и самой глубокой любовью, любовью, чистота которой заставила бы ангелов улыбнуться от радости. Мы поклялись быть супругами, принадлежать только друг другу; эту клятву я со своей стороны сдержу во что бы то ни стало. Мне все равно, благородного ли происхождения донья Хуана; она добра, хороша, благоразумна, этого для меня достаточно. Благородство женщины заключается в ее сердце, и в этом отношении донья Хуана щедро одарена. Я достаточно богат и достаточно благороден и за себя и за нее. Я уже давно считаю ее своей женой, а она со своей стороны видит во мне своего мужа. Препятствия к нашему союзу я преодолею, каковы бы они ни были. Я пренебрегал опасностями гораздо большими, чтобы увидеться с нею. Ничто не может остановить меня ни в настоящем, ни в будущем. Моя любовь достаточно сильна для того, чтобы победить врагов, которые вздумали бы похитить ее у меня. Словом, эта любовь — моя жизнь и кончится она только вместе с ней. Вот мой ответ, нья Чиала; я считаю его честным и достойным и меня, и женщины, которую я люблю! Теперь скажите мне, что вы собираетесь делать, я в вашем распоряжении.
— Хорошо, дон Фелипе, — ответила дуэнья, — теперь я знаю то, что хотела знать; я на вашей стороне, и как ни ничтожно мое влияние — ведь я всего лишь бедная служанка, — я отдаю его вам. Я всеми силами буду способствовать, чтобы вам удалось жениться на моей питомице и быть счастливым.
— Да услышит вас Господь, нья Чиала! У меня недостает слов, чтобы выразить вам свою признательность.
— Час свидания настал, дон Фелипе! Закутайтесь в плащ, надвиньте на глаза шляпу, возьмите вашу шпагу и следуйте за мной; донья Хуана ждет вас.
Молодой человек повиновался с послушанием ребенка; уже через минуту он был готов.
— Что делать теперь? — спросил он.
— Без разговоров следовать за мной и ничему не удивляться. Войти туда, куда войду я.
— Ступайте, я следую за вами.
Они вышли из дома. Настала ночь, но ночь американская, ясная, звездная, свежая, благоуханная, такая ночь, каких мы не знаем в нашем мрачном скверном климате. Улицы, почти пустые днем из-за удушливой жары, были наполнены гуляющими, которые ходили взад и вперед, весело разговаривая. Перед каждой дверью стояли группы людей, которые хохотали, плясали и играли на гитаре.
Филипп, внешне равнодушный, ловко пробирался между группами, следуя за дуэньей, которую не терял из вида. Таким образом они шли около получаса, все более углубляясь в труднопроходимый лабиринт узких улиц Нижнего города. Наконец они вышли к пристани. В этом месте толпа была не так велика, лишь немногие пришли подышать свежим морским воздухом. Молодой человек несколько замедлил шаг, боясь, как бы его не заметили. Дуэнья, напротив, продолжала идти, не смотря ни направо ни налево, как женщина, которая спешит домой. Дойдя до деревянной пристани, на которую выгружали товары, она смело пошла по ней. Дойдя до середины пристани, она вдруг остановилась, огляделась, потом, наклонившись вперед, дважды негромко кашлянула и спустилась по ступеням, ведущим к морю.
У подножия лестницы ждала лодка с одним гребцом; дуэнья села в эту лодку, Филипп — возле нее, лодочник отчалил, и лодка поплыла. Дуэнья села у руля и правила, а лодочник, наклонившись над веслами, заставлял легкую лодку лететь по волнам.
Не смея заговорить со своей спутницей, молодой человек с любопытством смотрел по сторонам. Скоро он заметил вдали черную точку, которая быстро увеличивалась и приближалась. Скоро она превратилась в лодку, также управляемую одним гребцом; на корме лодки сидела женщина.
Молодой человек вздрогнул. Сердце его забилось так, будто готово было выпрыгнуть из груди. Он узнал донью Хуану. Через несколько минут обе лодки стали рядом. По знаку дуэньи Филипп перешел во вторую лодку, гребец которой пересел в первую. Обе лодки разъехались, и молодой человек остался наедине с той, кого любил. Все произошло так быстро, события разворачивались так непредвиденно, что молодой человек от волнения не мог вымолвить ни слова.
— Так-то вы приветствуете меня, дон Филипп, после такого продолжительного отсутствия? — насмешливо шепнул ему на ухо очаровательный голос.
— О! Простите меня, Хуана! — вскричал молодой человек, задрожав от счастья. — Безграничная радость сводит меня с ума. Ах! Я почти отчаялся увидеться с вами!
— Я только сегодня утром узнала о вашем присутствии в Маракайбо, любезный дон Филипп; я узнала вас случайно в ту минуту, когда вы проходили мимо нашего дома.
— Я нахожусь здесь уже десять дней и никакими силами не мог добраться до вас!
— Ах, друг мой, я не так свободна, как в маленьком домике в Сан-Хуане, — ответила она со вздохом.
— Разве дон Фернандо уже не так добр к вам, как прежде?
— Напротив, друг мой, его расположение ко мне как будто еще увеличилось, однако вот уже несколько дней как он озабочен; иногда он смотрит на меня с необыкновенной грустью, причина которой мне неизвестна.
— Боже мой! Неужели вам угрожает несчастье?
— Не думаю, друг мой, однако меня невольно мучает какое-то необъяснимое предчувствие. Оно предупреждает меня, что скоро в моем положении свершатся какие-то перемены.
— Вы заставляете меня дрожать, Хуана! — вскричал Филипп, бледнея. — Скажите, ради Бога, что может внушать вам эту мысль?
— Не могу вам сказать, друг мой, так как сама этого не знаю. Вот что я заметила: перемена в расположении духа дона Фернандо произошла две недели назад; в это время он получил с кораблем, прибывшим с материка, письмо, содержание которого сильно его озаботило. Он тотчас отдал приказание приготовить великолепный дом в нескольких милях от города в восхитительном местечке.
— Близ Мериды, не так ли?
— Да, друг мой.
— Я его видел, даже осматривал; он действительно великолепен. Дон Фернандо сказал мне, что приготовил его для какого-то знатного человека, которого ждет.
— Он и мне сказал то же самое, только прибавил шепотом два слова, которые я скорее угадала, чем услышала: «Бедное дитя!» Несмотря на мои усилия узнать больше, дон Фернандо остался непроницаем, и я ничего не узнала. Вот и все… Но довольно заниматься мною, поговорим о вас. Как вам удалось пробраться сюда? Я дрожу при одной мысли об этом! Неужели вы не знаете, что всякий подозрительный иностранец, схваченный в испанских колониях, подвергается немедленной смерти? Закон однозначен на этот счет.
— Знаю, друг мой, но что мне за дело! Я хотел видеть вас, хотел еще раз сказать вам, что я вас люблю.
— А я, милый Филипп, разве я не люблю вас?
— О! Не так, как я.
— Может быть, но я умираю от страха за вас; что, если вас узнают?
— Успокойтесь, моя возлюбленная, здесь я испанец. Никто не подозревает о моей истинной национальности. Я служу у графа де л'Аталайя, очень знатного вельможи.
— Это несколько успокаивает меня; но малейшей неосторожности достаточно, чтобы погубить вас.
Филипп лукаво улыбнулся.
— Но каким образом удалось вам добиться покровительства графа де л'Аталайя?
— Слишком долго рассказывать, моя возлюбленная; скажите лучше, почему вы назначили мне свидание на море?
— За мной строго наблюдают, друг мой; вот уже несколько дней, я не понимаю почему, за каждым моим шагом следят, и я боялась, как бы нас не увидели в доме или на прогулке.
— Но люди, сопровождающие вас?..
— Они мне преданы.
— Гм! — произнес молодой человек, качая головой. — Впрочем, вы знаете их лучше меня, и я не стану спорить… Можем мы увидеться с вами опять?
— Это будет очень трудно.
Молодой человек вздохнул.
— Хуана, — сказал он кротким голосом, нежно пожимая руку молодой девушки, — вы мне доверяете?
— Да, друг мой, я доверяю вам, потому что люблю вас и убеждена, что вы также любите меня.
— Уверены ли вы в том, что я делаю все с единственной целью соединиться с вами и сделать вас счастливой?
— Я твердо этому верю, любезный Филипп.
— Хорошо, Хуана, благодарю вас! Вы хорошо понимаете меня. Хорошенько обратите внимание на мои слова, милая моя Хуана, дело идет о нашем счастье, о моей жизни.
— Говорите, друг мой; я сделаю все, чего вы потребуете от меня.
— Без колебания?
— Да.
— Может быть, через три дня я должен буду уехать отсюда.
— О, Филипп! — вскричала она с горестью.
— Но клянусь вам, что скоро вернусь.
— Ах! Мы опять будем разлучены.
— Это будет в последний раз! Мое отсутствие продлится месяц, может быть два, не более. Я возвращусь с тем, чтобы не расставаться с вами больше никогда.
— В самом деле?
— Честное слово! — вскричал он с жаром. — Только, Хуана, во время моего отсутствия будьте мужественны; пусть воспоминание обо мне служит вам охраной против всего, что будут пытаться предпринять против вас. Словом, сохраните для меня вашу любовь.
— Уезжайте спокойно, друг мой; что бы ни случилось, вы найдете меня достойной вас. Разве я не жена ваша перед Богом?.. Но как я узнаю о вашем возвращении?
— Постоянно устремляйте на море ваши нежные взоры, когда прибудут корабли; тот, на котором приплыву я, будет нести клетчатое знамя, черное с белым.
— Черное с белым… Я буду помнить это, друг мой.
— Теперь, милая Хуана, прошу вас, несмотря на все, что будут говорить вам обо мне и что будет происходить в городе, закройте глаза и уши и ждите, чтобы я приехал оправдаться.
— Вы меня пугаете, друг мой. Что вы намерены предпринять?
— Сам еще не знаю, моя возлюбленная, но будьте уверены, что мне все удастся. В особенности не выходите из ваших комнат; как бы ни уговаривали вас, сопротивляйтесь всеми возможными способами. Если роковая судьба удержит меня слишком долго вдали от вас, я пришлю к вам одного или нескольких моих послов; вы легко узнаете их: правая рука их будет обвязана таким же платком, как мое знамя. К ним вы можете иметь полное доверие и сделаете все, что они вам скажут. Хорошо ли вы поняли меня, милая Хуана?
— Да, друг мой, но вы пугаете меня; какие зловещие планы замышляете вы, ради всего святого?
— Я не замышляю никаких планов, кроме одного — навсегда соединиться с вами. От вас зависит, чтобы этот план привел нас к успеху.
— О! Если это зависит только от меня, то нас ждет удача.
— Но это еще не все. Поклянитесь во всем следовать инструкциям, которые я вам даю.
— Я буду им следовать, клянусь вам нашей любовью, друг мой.
— Вы ангел, моя возлюбленная, вы верите мне; а я клянусь вам, в свою очередь, что вы будете счастливы, или я умру.
— О! Не говорите о смерти, мой возлюбленный! Если вы умрете, неужели вы думаете, что я вас переживу?
— Вы мне сейчас сказали, что у вас есть предчувствие, Хуана; у меня также есть предчувствие, что скоро наши мучения кончатся.
— Да услышит вас небо, друг мой!
— Молитесь ему, чтобы оно защитило нас, Хуана, потому что, клянусь своей душой, ради обладания вами я сделаю то, на что никогда не решался ни один человек.
— Боже мой! Боже мой! Мне страшно…
— Дитя, лучше надейтесь!
В эту минуту неподалеку послышался шум весел, и из темноты появилась лодка, в которой сидела дуэнья.
— Надо нам расстаться, друг мой, — сказала молодая девушка.
— Уже?.. — прошептал он.
— Более продолжительное отсутствие может возбудить подозрения, и потом, надеюсь, мы скоро увидимся.
— Это правда, моя любимая, и тогда мы уже не расстанемся никогда. Помните все, о чем я вас просил.
— Я ничего не забуду.
Обе лодки соприкоснулись бортами.
— До свидания, Филипп! — шепнула девушка на ухо своему жениху.
— О да! — ответил он. — До свидания, моя обожаемая Хуана!
Запечатлев долгий поцелуй на руке, протянутой ему молодой девушкой, он сделал над собой усилие и спрыгнул в соседнюю лодку. Молодые люди в последний раз бросили друг на друга нежный взгляд, и лодки разошлись в разные стороны.
Сойдя на берег, молодой человек наклонился к дуэнье и сказал ей на ухо:
— Благодарю, нья Чиала, я не забуду того, что вы сделали для меня сегодня. А что же перстень?
— Вы получите его завтра. Прощайте, сеньор, — сказала она, улыбаясь.
Вернувшись домой, Филипп увидел Монбара, который ждал его, расхаживая большими шагами по его спальне.
— Откуда вы так поздно? — спросил Монбар.
— С прогулки по морю, — ответил Филипп с чистосердечным видом.
Монбар был до того поражен этим ответом, что молодой человек громко расхохотался.
Глава IX ОТЪЕЗД
Филипп бросил на стул шляпу и плащ, отстегнул портупею и придвинул к Монбару кресло.
— Вы меня ждали? — спросил он.
— Да, друг мой, — ответил Монбар, садясь. — Вот уже час как я хожу взад и вперед по вашей спальне.
— Разве Данник вам не сказал…
— Напротив, любезный Филипп, — перебил Монбар, — Данник все мне сообщил. Он сказал мне, что у вас была какая-то дуэнья и что вы вышли вместе с ней. Из этого я заключил, что вы, без сомнения, отправились на любовное свидание и, понятно, вернетесь не скоро. Но поскольку мне очень нужно с вами поговорить, то я остался. Вы этим недовольны?
— Вовсе нет, любезный Монбар; дела прежде всего, особенно в нашем положении, когда каждую минуту мы подвергаемся опасности быть узнанными и убитыми, как собаки. Временами мне кажется, будто на нас начинают как-то странно коситься.
— Именно.
— Стало быть, что-нибудь случилось?
— Нет еще, но может случиться с минуты на минуту; неплохо бы принять меры.
— Так что…
— Так что… но я боюсь вас огорчить, особенно после вашей прогулки по морю, — прибавил Монбар с дружеской усмешкой, — мне не хотелось бы нарушать удовольствия, которое, вероятно, возбуждают в вас некоторые дела.
— Все равно, друг мой, — весело сказал Филипп, — говорите.
— Вы хотите?
— Еще бы!
— Я думаю, что мы довольно долго оставались в этих местах и более продолжительное пребывание сделалось бы опасным.
— Я полностью разделяю ваше мнение, — с живостью откликнулся Филипп.
— Вы тоже так думаете? — удивленно спросил Монбар.
— Конечно.
— И если я отдам приказание сняться с якоря завтра?..
— То я всячески поддержу это намерение.
— Объясните мне, пожалуйста, — сказал Монбар, удивляясь все больше и больше, — я ничего не понимаю.
— Почему?
— Я думал, что вы влюблены.
— Вы не ошиблись, я действительно влюблен до безумия в очаровательную женщину.
— Так что же?
— Уедем отсюда как можно скорее.
— Хорошо, хорошо, кажется, я начинаю кое-что понимать, — проговорил Монбар с улыбкой.
— Напротив, вы ровным счетом ничего не понимаете, друг мой, — ответил Филипп лукаво. — Я чувствую пылкую, беспредельную любовь, которая кончится только с моей жизнью, к небесному созданию, которому я не успел расцеловать и пальчиков; вы видите, что я далек от пресыщения, как вы, вероятно, предположили.
— Как же вас понимать? — смеясь, спросил флибустьер. — Вы обожаете вашу красавицу и хотите от нее бежать?
— Нет, не бежать, а оставить ее.
— По-моему, это одно и то же.
— Не совсем; оставляешь с тем, чтобы вернуться, тогда как бежишь навсегда.
— Итак?
— Я готов ехать, когда вы хотите.
— Не стану дольше допытывать вас; эта поспешность, вероятно, скрывает какие-то планы, которые мне знать вовсе не обязательно, поэтому я не настаиваю.
— Благодарю вас за эту сдержанность, друг мой.
— Вернемся к нашим делам. Наши товарищи закончили все гидрографические работы. Тихий Ветерок теперь знает бухту так же хорошо, как самые лучшие лоцманы; планы Маракайбо, Мериды, Гибралтара составлены. Теперь мы знаем силы наших врагов и можем действовать, когда сочтем нужным, с уверенностью в успехе. Больше нам ничего не нужно, не правда ли?
— Я думаю, да.
— С другой стороны, дон Фернандо д'Авила с минуты на минуту ждет приезда какого-то знатного лица, с которым нам не следует встречаться; до сих пор случай так благоприятствовал нам, что мы не можем дольше употреблять во зло его благосклонность. Дела наши закончены, уедем.
— С тем, чтобы вскоре появиться?
— Конечно, именно такова моя мысль.
— Но чем мы мотивируем наш отъезд? Не можем же мы уехать просто так, ни с того ни с сего!
— Конечно, нет. А предлог очень простой: здесь проверка счетов интендантов окончена, и я продолжаю свою ревизию в других местах.
— Да, похоже, — со смехом согласился молодой человек, — губернатору покажется это в порядке вещей.
— Я уже намекнул ему на это сегодня и должен признаться, что он очень любезно принял мои слова к сведению. Между нами, друг мой, мне почему-то кажется, что дон Фернандо д'Авила будет рад нашему отъезду.
— Я и сам так думаю, — с насмешкой заметил Филипп.
— Что заставляет вас так думать? — спросил Монбар.
— Ничего, но я в этом уверен.
— Опять загадки, черт вас побери! Хорошо, не хочу удерживать вас дольше; вы, должно быть, нуждаетесь в отдыхе. Я ухожу. Спокойной ночи, любезный Филипп… Хотите я скажу вам кое-что?
— Говорите.
— Я убежден, что все мы таскали для вас каштаны из огня и что вы лучше всех нас устроили свои дела. Я угадал?
Филипп громко расхохотался, пожал руку своему товарищу, и они расстались.
— Что за беда, даже если он угадал? — прошептал Филипп, оставшись один. — Разве я не уверен в его дружбе и преданности?
Он лег в постель и предавался сладким грезам до утра.
В десять часов граф де л'Аталайя призвал к себе своего секретаря. Когда Данник вошел в комнату Филиппа, тот еще спал со счастливой беззаботностью молодости, для которой существует только настоящее и которая не заботится ни о прошедшем, ни о будущем. Данник с трудом разбудил молодого человека.
— Черт тебя побери! Надоел! — вскричал Филипп, приподнимаясь на постели и протирая заспанные глаза. — Мне снился такой хороший сон!
— Ба! — философски ответил работник. — Самый лучший сон не стоит действительности.
— Это ты, Данник? Чего ты от меня хочешь?
— Во-первых, отдать вот этот футляр, который сегодня утром к вам принесли.
— Давай сюда! — вскричал Филипп, вырывая из рук Данника футляр и пряча его под изголовье. — Что еще?
— Как вы нетерпеливы! Монбар ждет вас в гостиной; там собралось человек двадцать, и все болтают наперебой, кто кого перещеголяет. Кажется, вы там нужны.
— Кто же это?
— Наши товарищи, губернатор и с ним еще какие-то люди в мундирах.
— Ах, черт побери! Я не заставлю себя ждать.
— Поспешите же.
— Через пять минут я буду готов. Скажи, что я сейчас выйду.
— Хорошо.
Данник вышел. Молодой человек соскочил с постели и начал одеваться, но вдруг остановился и вынул из-под изголовья футляр, который он спрятал туда. Раскрыв его, Филипп увидел перстень — очень простой, но с бледным рубином дорогой цены.
— Странно! — прошептал он, внимательно рассматривая перстень, который вертел в руках.
Ему послышался шум; тогда он спрятал перстень с футляром на груди и опять начал одеваться.
Через десять минут он вошел в гостиную, где собралось многочисленное общество, как и сказал Данник.
Монбар в восемь часов утра отправился к губернатору с намерением сообщить ему о своем отъезде и проститься с ним. Дон Фернандо д'Авила прекрасно принял графа де л'Аталайя, любезно посетовал на то, что он так скоро оставляет колонию, и настаивал, правда слабо, чтобы граф продолжил свое пребывание в Маракайбо. Убедившись, что намерение графа непоколебимо, губернатор пожелал ему благополучного пути, и оба расстались, казалось бы, в полном восторге друг от друга.
Вернувшись домой, Монбар послал Данника к Мигелю с приказом быть готовым в скором времени сняться с якоря, а также сойти на берег со всеми офицерами, чтобы проститься с высшим руководством колонии.
Мигель и другие флибустьеры, постоянно остававшиеся на шхуне и подчиненные строгой дисциплине, с живейшей радостью приняли известие об отъезде. Продолжительное пребывание у этих берегов начинало сильно их тяготить, во-первых оттого, что они должны были примерно себя вести, а во-вторых, они боялись быть узнанными в любую минуту. Мигель, не теряя ни минуты, запасся водой, закупил свежую провизию и отозвал на шхуну шестерых матросов, которые под предлогом охоты разведывали окрестности города. Шхуна буквально за несколько минут была готова выйти в открытое море. Мигель надел парадный мундир и в сопровождении своих офицеров отправился на берег, где нанес ряд визитов и простился с начальством колонии.
Губернатора не было дома; он и еще несколько чиновников отправились к графу, чтобы проститься с ним и проводить до шлюпки, которая должна была доставить его на шхуну.
Свидание было самым дружеским. Уверенный, что граф не останется в Маракайбо, дон Фернандо снова стал любезно удерживать его; чиновники поддержали его. Но, разумеется, все было бесполезно. Монбар вежливо поблагодарил этих господ, но отказал, ссылаясь на вверенное ему поручение. В эту минуту в гостиной появился Филипп.
— Сеньор граф, — сказал губернатор, — если, несмотря на наше сильное желание удержать вас еще на несколько дней, вы не имеете возможности оказать нам эту честь, примите наши искренние сожаления; поверьте, мы надолго сохраним воспоминание о коротком посещении, которым вы нас удостоили.
— Эти сожаления, сеньор, наполняют меня радостью и гордостью; будьте уверены, что я их разделяю.
— Вы, вероятно, скоро вернетесь в Европу, сеньор; скорее всего, мы видимся с вами в последний раз.
— Кто знает? — ответил Монбар с чуть заметной насмешкой. — Случай так много значит в жизни человека, что, может быть, мы увидимся гораздо скорее, чем вы предполагаете.
— Дай-то Бог! Будьте уверены, что если это случится, мы будем очень рады; но мы не смеем ожидать такого большого счастья.
— Судьба решит, сеньор.
— Теперь, сеньор граф, позвольте мне задать вам вопрос.
— К вашим услугам, сеньор; буду счастлив услужить вам и таким образом отблагодарить за ваше незабываемое гостеприимство.
— Имеете ли вы намерение побывать в Чагресе, прежде чем отправитесь в Веракрус?
— Могу я узнать, почему вас так интересует этот вопрос, сеньор?
— О, конечно, кабальеро! У меня теперь в руках полтораста тысяч пиастров, которые я давно уже должен был отправить в Панаму. Но вы знаете, сеньор граф, мы живем, можно сказать, в захолустье, и до сих пор у меня не было случая отослать эти деньги.
— Стало быть… — сказал Монбар со странным выражением.
— Признаюсь вам откровенно, что если бы вы могли избавить меня от этой суммы и передать ее по назначению, вы оказали бы мне неоценимую услугу.
— Я в отчаянии, сеньор, — несколько сухо произнес Монбар, — что не могу исполнить вашего желания, но это невозможно.
— Почему же, сеньор граф?
— По очень простой причине, кабальеро: я не знаю наверняка, буду ли в Чагресе.
— Итак, вы отказываете мне?
— Против воли, поверьте, сеньор; но я думаю, что этим деньгам лучше остаться в ваших руках, тем более что через несколько дней к вам, вероятно, прибудут корабли из Европы, и тогда легко будет отослать эти деньги.
— Не будем больше говорить об этом, кабальеро, и простите мне эту нескромную просьбу.
— Напротив, я прошу вас принять мои извинения. Я был бы рад угодить вам, если бы мог, но теперь мы должны расстаться, сеньор.
Оседланные лошади ждали на дворе. Все вышли из комнат и сели на лошадей. Парадный конвой стоял под ружьем. Монбар поехал рядом с доном Фернандо; разговаривая, они направились к пристани. На улицах, несмотря на ранний час, были толпы любопытных, которые кричали «ура» и приветственно махали шляпами, шарфами, платками. Монбар любезно кланялся направо и налево.
Филипп напрасно старался разглядеть в толпе восхитительный профиль доньи Хуаны; так и не заметив ее, он подавил вздох и печально опустил голову.
Добравшись до пристани, где матросы перевозили на шхуну вещи на баржах, все спешились и начали прощаться. Испанцы расточительны на приветствия, но Монбар счел благоразумным прекратить потоки славословия и, как только увидел все вещи на барже, подал знак своим офицерам следовать за ним и сел в шлюпку.
— Черт побери! — не выдержал Мигель, как только шлюпка пристала к шхуне. — Что за странная мысль пришла вам в голову, командир!
— О какой мысли ты говоришь, дружище? — спросил Монбар, улыбаясь.
— Отказаться от денег, которые предлагал вам достойный губернатор.
— Ну и глуп же ты! — ответил Монбар, слегка ударив его по плечу. — Мы не воры, а храбрые флибустьеры.
— Это правда, но полтораста тысяч пиастров!
— Будь спокоен, Мигель, мы ничего не потеряем, если подождем, мы найдем те деньги, которые я не хотел взять; это я обещаю тебе. Кроме того, откуда ты знаешь, может быть, губернатор расставлял нам ловушку?
— Очень может быть, вы правы.
Через четверть часа шхуна скользила, как чайка, по волнам, сопровождаемая восторженными восклицаниями толпы, собравшейся на берегу.
Юнга Шелковинка исчез. Когда об этом сказали Монбару, он только тихо посмеивался, как это делал всегда, когда не хотел отвечать иначе.
Глава X РОДСТВЕННИКИ
В одно прекрасное утро в конце сентября, в ту минуту как солнце начало подниматься над горизонтом и посылать во все стороны свои блестящие знойные лучи, два человека выехали из густого леса мастиковых, гуявовых и померанцевых деревьев, опускавших свои ветви в прозрачную холодную воду Артибонита в трех лье от города Пор-де-Пе, одного из убежищ страшных хищных птиц, называемых флибустьерами, которые, насмехаясь над могуществом испанцев и как бы поддразнивая их, смело построили свои гнезда на берегах их самой богатой колонии, изнеженной и сладострастной Эспаньолы.
Эти два человека, внимательно оглядевшись вокруг и удостоверившись, что никто за ними не следит, спустились с крутого берега реки, отвязали легкую пирогу из древесной коры, спрятанную под тростником, и, вынув из нее весла, понесли на плечах до откоса, где поставили так, чтобы защитить себя от солнечных лучей и посторонних взглядов, укрепили ее кольями, потом легли в тень и принялись готовить завтрак.
Воспользуемся этой минутой, чтобы познакомиться с ними ближе.
На обоих были костюмы французских буканьеров: холщовые панталоны, стянутые поясом из крокодиловой кожи, пара рубашек, надетых одна на другую и запачканных кровью и грязью. Через плечо у них была перекинута свернутая палатка из тонкого полотна. Их оружие состояло из трех штыков, ножа в футляре из бычьей кожи за поясом возле пороховницы, мешочка с дробью и длинного ружья, какие делались в Дьеппе и назывались флибустьерскими ружьями. Вооруженные таким образом, эти люди могли легко сопротивляться тем, кто на свое несчастье вздумал бы поссориться с ними. Их резкие энергичные лица, загорелые и загрубевшие от солнца, ветра и дождя, их крепкие руки с мускулами, жесткими, как веревки, обнаруживали силу, способную заставить призадуматься самых смелых противников.
Эти люди были еще молоды, многие не достигли еще и сорока лет, но жизнь, полная бурь и страстей, успела оставить на их лицах свой суровый отпечаток.
Однако, несмотря на грозный вид этих людей, стоит нам прислушаться к их разговору, и мы, быть может, узнаем, что они совсем не те, кем хотят казаться, распознаем лисиц в львиных шкурах и будем вынуждены признать, что они только переодеты буканьерами; правда, переодеты так искусно, что самый проницательный человек был бы обманут даже после серьезного и тщательного осмотра.
Завтрак скоро был приготовлен, и наши два незнакомца, без сомнения страшно проголодавшихся после утомительного путешествия по стране с совершенно непроходимыми дорогами, принялись за еду с хорошим аппетитом, разговаривая между собой по-испански тихими и сдержанными голосами, как будто, несмотря на окружавшее их безлюдье, боялись, что их слова, уносимые на крыльях утреннего ветерка, могут достичь ушей каких-нибудь затаившихся шпионов.
— На каком расстоянии от Пор-де-Пе мы находимся? — спросил первый.
— Напрямик, — ответил второй, набив полный рот, — около одного лье, а по дороге — по крайней мере три лье.
— Мы, кажется, ушли далеко вперед?
— Слишком, может быть, но если бы мы не пришли сюда, мы не смогли бы увидеться с тем, кого хотели видеть.
— А ты не боишься какой-нибудь нежелательной встречи так близко от города?
— Это маловероятно, и вот почему: на равнине, где мы находимся, теперь совершенно нет дичи; вы не найдете быка за десять лье вокруг. Буканьеры это знают, поэтому они бросили здешние места, где за целый месяц им не пришлось бы сделать ни одного выстрела.
— Твои слова справедливы, Бирбомоно, — заметил первый незнакомец, — но флибустьеры — не единственные враги, которых нам следует опасаться.
— О каких еще врагах вы говорите? — спросил Бирбомоно (это действительно был мажордом). — Признаюсь вам откровенно, что я не понимаю.
— О ком же еще я могу говорить, как не о карибах, этих страшных мародерах, еще более свирепых, чем буканьеры, если только это возможно.
Бирбомоно громко расхохотался.
— Вы забыли, что за костюм на вас, — сказал он, — правда, карибы — непримиримые враги испанцев, но зато верные и преданные друзья Береговых братьев, и если, не ровен час, эти дикари нападут на наш след, то вместо того, чтобы навредить нам, они, напротив, будут готовы нам служить.
— Очень может быть, — ответил его собеседник с неубежденным видом, — однако, признаюсь, я уже сожалею, что зашел так далеко, хотя мы не одни и полтораста человек, оставленных мной в лесу, придут к нам на помощь по первому сигналу.
— Вы знаете мое мнение о ваших людях, — ответил Бирбомоно с презрением, — мы с вами видели их на деле; я больше полагаюсь на себя, чем на них.
— Однако время проходит, а его все нет, Бирбомоно!
— Придет, имейте терпение.
— Вы в этом уверены?
— Судите сами. Вы знаете, что моя госпожа оставила домик, в котором скрывалась столько лет, и решила поселиться в Пор-де-Пе. Там, следуя моему совету, чтобы не возбуждать лишних подозрений, она открыла гостиницу, где живут самые знаменитые предводители флибустьеров.
— Я знаю все это, но не понимаю, как Береговые братья, такие хитрецы, не узнали в ней испанку.
— Флибустьеры не так подозрительны, как вы думаете. Кроме того, мы прибыли на голландском судне, будто бы из Европы. Мы выдали себя за фламандцев. Все наши бумаги были в порядке; что еще от нас можно было требовать?
— Действительно, ничего, так как на кастильском наречии говорят во всей Фландрии, принадлежащей испанскому королю.
— Да и какое опасение может внушать женщина преклонного возраста, сопровождаемая только одним слугой, людям, не боящимся ничего на свете? Напротив, нас приняли очень дружелюбно и помогли нам открыть гостиницу.
— Да, флибустьеры любят, когда у них селятся иностранцы.
— Таким образом они получают оседлое население, честное и трудолюбивое, с помощью которого они надеются очистить свое общество.
— Продолжай, эти сведения драгоценны для меня.
— Мне нечего прибавить, кроме того, что Франкер, как зовется этот человек среди Береговых братьев, поселился в нашей гостинице, и я передал ему письмо, пересланное вами.
— Он ничего не сказал, получив его?
— Он смутился, побледнел, потом отрывисто бросил: «Хорошо, я приду».
— Он сдержит слово… Счастлива ли твоя госпожа?
— Насколько может быть счастлива бедная женщина. Вы ведь знаете, что я довольно наблюдателен.
— Ну, и что же ты заметил?
— Странное обстоятельство. Донна Клара, обычно такая грустная и молчаливая, по целым неделям не произносящая ни слова, выказывает к этому молодому человеку необыкновенную привязанность.
— Что ты такое говоришь, Бирбомоно?
— Правду, ваше сиятельство. Когда она видит этого молодого человека, лицо ее проясняется, глаза блестят; когда он заговаривает с ней, звук его голоса заставляет ее вздрагивать. Если иногда он садится в общей зале, она следует за ним взглядом, ловит каждое его движение, а когда он уходит, вздыхает и печально опускает голову. Она сама убирает его комнату, чинит белье, и никому не желает уступать эту обязанность. Ей нравится заботиться о том, чтобы этот молодой человек ни в чем не испытывал недостатка… Не находите ли вы, что все это очень странно?
— Ты не разговаривал с ней по этому поводу?
— Один только раз, но она прервала меня с первого слова, приложила палец к губам с ангельской улыбкой и сказала голосом таким кротким, что я готов был расплакаться: «Бирбомоно, мой верный друг, дай мне обманывать мою горесть; я люблю этого молодого человека, как мать. Вероятно, Господь свел меня с ним для того, чтобы утешить в моей потере». Что я мог сказать? Я замолчал.
— Да-да, тут виден перст Божий, — прошептал первый собеседник, проведя рукой по своему лбу, орошенному потом, — да будет на все Его воля… А что об этом думает молодой человек?
— Я полагаю, что он ничего не думает, по той причине, что он этого даже не замечает. Его характер не имеет ничего общего с характером его товарищей; он угрюм, сдержан, не играет, не пьет и, по-видимому, ни с кем не заводит романов. Я спрашиваю себя, что такой человек может делать среди флибустьеров.
— Но у него, по крайней мере, есть друзья?
— Только двое: Пьер Легран и Филипп д'Ожерон. Но они Давно в экспедиции, и он живет один.
— Монбар его знает?
— Не думаю; когда мы приехали в Пор-де-Пе, Монбара не было уже с месяц, и он пока что не вернулся.
— Все равно, Бирбомоно, продолжай, как я тебя просил, наблюдать за этим странным молодым человеком. У меня на это имеются серьезные причины, о которых ты узнаешь со временем.
— Для меня достаточно вашего приказания, остальное меня не касается… Но я слышу шум, — внезапно прибавил Бирбомоно, вставая, — это, должно быть, он.
— Узнай, друг мой, и если это он, приведи его сюда. Мажордом исчез в высокой траве. Не успел он сделать и ста шагов, как очутился лицом к лицу с человеком, который шел поспешными шагами. Это был флибустьер Франкер.
— Я опоздал, Бирбомоно? — спросил он, вытирая носовым платком пот, струившийся по его лицу.
— Нет, — ответил мажордом, — только восемь часов, а свидание назначено, кажется, на половину девятого.
— Это правда. Тем лучше, я не хотел бы заставлять себя ждать. Где тот человек, который пригласил меня сюда?
— Пожалуйте за мной. Он вас ждет недалеко отсюда.
— Показывай мне дорогу; мне хочется поскорее увидеть его.
Заметив буканьера, молодой человек сделал движение, выражавшее обманутое ожидание, и, остановившись, повернулся к Бирбомоно:
— Что это значит? Чего хочет от меня этот человек? Где же…
— Молчите, — быстро перебил его буканьер. — Оставь нас наедине, друг мой, — обратился он к мажордому, — и последи, чтобы никто нам не помешал; при первом подозрительном движении на равнине предупреди нас.
Бирбомоно поклонился, взял ружье и ушел, не произнеся ни слова. Буканьер следил за ним глазами, потом, когда мажордом совсем исчез из вида, обернулся к молодому человеку и сказал, протягивая ему руку:
— Добро пожаловать, я рад вас видеть.
— Как! — с удивлением вскричал Франкер. — Вы?..
— Дон Санчо Пеньяфлор к вашим услугам.
— Но этот костюм…
— Очень хорош в данных обстоятельствах, вы не находите? Мне кажется, он защитил бы самого губернатора Санто-Доминго лучше его генеральского мундира.
— Простите, но вы так искусно переоделись, что я с трудом узнаю вас даже теперь.
Оба обнялись и сели рядом.
— Теперь поговорим о делах, — начал дон Санчо, — ведь, если не ошибаюсь, мы встретились здесь именно для этого.
— Я к вашим услугам. Но как вы узнали, где я?
— Я осведомился. Неужели вы думаете, мой милый, что у нас нет шпионов? Коли так, прошу вас выйти из заблуждения: у нас много шпионов, и очень искусных, которым, кстати сказать, мы прекрасно платим. Но приступим к делу. Помните ли вы наш последний разговор в Веракрусе?
— Ни слова не забыл.
— И, конечно, исполнили то, что я вам говорил тогда?
— Извините, но я не понимаю, о чем вы.
— Я объясню. Надеюсь, вы воздержались, как я вас просил, от переписки с герцогом Пеньяфлором, моим отцом, и ожидали от меня обещанных объяснений.
— Любезный дон Санчо, буду с вами откровенен, — ответил молодой человек с некоторой нерешительностью в голосе, — потом, когда я все вам расскажу, вы сами рассудите.
— Хорошо, — сказал маркиз, слегка нахмурив брови, — говорите, я вас слушаю.
— С момента нашей разлуки и после того, как герцог Пеньяфлор дал мне опасное поручение, прошло несколько месяцев; с тех пор произошло много событий, а я о вас ничего не слышал. Несколько раз, но без всякого успеха, я старался увидеться с вами; я вынужден был предположить, что вы или забыли свое обещание, или передумали. С другой стороны, герцог Пеньяфлор, неутомимая деятельность которого вам известна, посылал ко мне письмо за письмом, призывая действовать решительно и без колебаний исполнить достославный подвиг, который должен освободить Испанию от самых страшных ее врагов на море. Что мне оставалось делать? Только повиноваться, тем более что, повинуясь полученным приказаниям, я трудился не только на пользу отечеству, но и во имя моего мщения. Кроме того, я дал слово, а вы знаете, дядя, что в нашей фамилии никто никогда не изменял данному слову.
— О! — вскричал дон Санчо, гневно сжав губы. — Узнаю адское могущество отца и его неумолимую ненависть! Как всегда, он все предвидел, все рассчитал!
— Что вы хотите сказать? Вы меня пугаете! Что значат эти слова?
— Продолжайте, продолжайте, дон Гусман; кто знает, быть может, уже слишком поздно, и зло нельзя поправить.
— О! Дон Санчо, вы объясните мне ваши слова, не правда ли? — вскричал молодой человек с горестным трепетом.
— Прежде закончите ваш рассказ, а потом, может быть, я исполню ваше желание.
— Мне остается добавить лишь несколько слов. Я в точности исполнил данное мне поручение. Герцог Пеньяфлор знал обо всех действиях флибустьеров. Еще вчера я послал к нему гонца с уведомлением, что готовится большая экспедиция против одной крепости на материке и что, по всей вероятности, этой экспедицией будут командовать Монбар, возвращения которого с минуты на минуту ждут на Тортуге, и некоторые другие предводители Береговых братьев… Теперь говорите вы, я слушаю вас.
Дон Санчо встал, взглянул на молодого человека с горестным выражением и, положив ему руку на плечо, тихо ответил:
— Теперь мне нечего вам говорить. Вы находитесь в руках человека, который разобьет ваше сердце так, что вам невозможно будет защититься. Вы не мстите за себя, а служите его ненависти! Вы, бедный юноша, всего лишь орудие в его руках.
— Но что же делать, ради всего святого?! Дон Санчо колебался с минуту.
— Дон Гусман, — сказал он наконец мрачным голосом, — я не могу ничего объяснить. Постарайтесь понять меня.
— Но как я могу? У меня голова не на месте! — прошептал молодой человек с судорожным трепетом.
— Я вам повторю слова святого Реми Кловиса: «Сожги то, что ты обожал; обожай то, что ты сжег».
— То есть? — с беспокойством спросил дон Гусман.
— То есть, — мрачно ответил маркиз, — герцог Пеньяфлор — мой отец, я обязан повиноваться ему и уважать его — словом, обязан молчать. Но, как ваш друг и родственник, я вас предупреждаю, — я не могу в данный момент объясниться подробнее, — остерегайтесь, дон Гусман, остерегайтесь!
Он сделал шаг, чтобы уйти.
— Прошу вас, одно слово, только одно, которое пролило бы свет на окружающий меня мрак!
— Больше я ничего не могу сказать.
— О, я проклят! — с горечью вскричал дон Гусман.
— Очень может быть, — ответил дон Санчо с состраданием, — однако надейтесь и старайтесь угадать ваших настоящих врагов. Прощайте!
— Увижусь я еще с вами?
— Да.
— Когда?
— Не знаю; вероятно, слишком поздно для того, чтобы предупредить ужасную катастрофу, если вы не поняли моих слов. Прощайте же еще раз и помните слова святого Реми.
Пожав молодому человеку руку, дон Санчо ушел.
— Ах, Боже мой! — с унынием произнес дон Гусман. — Кто поможет мне найти выход из этого непроходимого лабиринта?
Вдруг он услышал чьи-то шаги и живо поднял голову, надеясь, что, может быть, дон Санчо, тронутый его горестью, возвратился назад. Однако он тут же понял, что ошибся: к нему подходил Бирбомоно.
— Вернемся в Пор-де-Пе, сеньор, — сказал ему мажордом.
— Пойдемте! — ответил дон Гусман глухим голосом.
Не прибавив больше ни слова, он отправился в путь. Бирбомоно шел впереди, прокладывая дорогу.
Глава XI ПРИБЫТИЕ
Пока Марсиаль, Франкер или дон Гусман де Тудела, как читателю угодно его называть, спешил на свидание, назначенное ему доном Санчо Пеньяфлором, в Пор-де-Пе царило необыкновенное волнение. Среди местных жителей с быстротой молнии распространилось крайне важное известие, и все население, побросав свои дома, с радостными криками хлынуло к гавани, стараясь как можно быстрее добежать до берега.
Действительно, для Береговых братьев событие было чрезвычайно важным. Часовой, выставленный на мысе Мариго, дал знать о приближении шхуны, на которой находились знаменитые флибустьеры, — шхуны, отплывшей уже так давно, что ее считали погибшей или захваченной испанцами в плен и уже не надеялись на ее возвращение; поэтому, повторяем, радость была велика и восторг дошел до крайней степени.
Шхуна при свежем утреннем ветре вошла в гавань с распущенными парусами, и уже легко было узнать Береговых братьев, собравшихся на палубе и весело махавших шляпами в знак благополучного возвращения.
Наконец бросили якорь, подобрали паруса, и граф д'Ожерон, стоявший с своими офицерами на конце пристани и нетерпеливо ожидавший этой минуты, чувствуя, что не в силах сдержать нетерпение, сел в лодку и направился к шхуне.
Его встретил Монбар и протянул ему руку, чтобы помочь взойти на шхуну. Губернатор ухватился за фалрепы и, несмотря на свою тучность, проворно взобрался на палубу.
— Добро пожаловать, господин д'Ожерон, — сказал ему Монбар с дружелюбным поклоном.
— Вам добро пожаловать, — весело ответил губернатор. — Черт побери, если я и считал вас всех на дне моря, то только потому, что ни на минуту не мог предположить, будто вы находились в плену у испанцев; поэтому признаюсь вам, любезный Монбар, вы освобождаете меня от жестокого беспокойства.
— Искренне благодарю вас, милостивый государь. Я вдвойне счастлив видеть вас, так как мне крайне необходимо поговорить с вами, и если бы вы не пожаловали ко мне на шхуну, мой первый визит был бы к вам.
— Гм! гм! — весело заметил д'Ожерон. — Кажется, есть какие-то новости?
— Да.
— Стало быть, ваше путешествие прошло благополучно?
— Превосходно.
— Что же вы привезли?
— Ничего.
— И это вы называете благополучным путешествием?
— Да.
— Коли так, я ничего не понимаю. Надеюсь, вы мне все: объясните.
— И даже сейчас, если вы хотите.
— Еще бы не хотеть! Я приехал именно за тем, чтобы услышать от вас рассказ о вашей экспедиции.
— Стало быть, все к лучшему. Угодно вам спуститься в мою каюту?
— Зачем? Мне кажется, что нам и здесь очень хорошо.
— Да, для того чтобы разговаривать о посторонних предметах, но для того, что я хочу вам сказать, лучше нам быть одним.
— Черт побери! — воскликнул д'Ожерон, потирая руки. — Вы выражаетесь слишком таинственно; стоит ли дело того, по крайней мере?
— Можете судить сами, если согласитесь сойти в каюту.
— Ничего другого я не желаю, но скажите, пожалуйста, каким образом, отправившись на бриге, вы возвращаетесь на шхуне?
— А! Вы заметили, — засмеялся Монбар.
— Кажется, это не трудно.
— Мой бриг был стар, открылась течь, он пошел ко дну, и я был вынужден с некоторыми товарищами искать убежища на Материковой земле.
— Как! На Материковой земле, среди испанцев? Да вы просто бросились в волчью пасть!
— Это правда, но, как вы можете заметить, я оттуда выбрался.
— Трудно было бы представить себе иначе.
— Хорошо, — ответил Монбар с оттенком меланхолии, — но когда-нибудь я останусь там.
— Полноте, вы этого не думаете.
— Кто знает… Но пока что я вернулся цел и невредим. Теперь, если вы изволите, я отведу вас в мою каюту.
— Сделайте одолжение, если вы находите это необходимым.
Губернатор пошел за Монбаром, который отвел его в свою каюту, где посадил за стол, на котором находились ром, лимоны, вода, сахар и мускатные орехи.
Привыкнув к гостеприимству флибустьеров, д'Ожерон без всяких церемоний приготовил себе грог по-буканьерски, между тем как Монбар отвел Филиппа в сторону и коротко приказал ему никого не подпускать к каюте. Молодой человек поклонился дяде, обменялся с ним приветствиями и поспешил на палубу, где первой его заботой было выставить часового у спуска в каюту со строгим приказанием никого не пропускать.
Д'Ожерон и Монбар были уверены, что им никто не помешает и что их никто не подслушает, поэтому они могли говорить о своих делах без опаски.
Монбар первым начал разговор, слегка пригубив из стакана.
— Любезный граф, — сказал он, — вы по-прежнему питаете ко мне доверие?
— Самое неограниченное доверие, друг мой, — не колеблясь ответил губернатор. — Но для чего, позвольте спросить, вы задаете мне этот странный вопрос?
— Потому что, хотя я и был уверен в вашем ответе, но все же чувствовал необходимость услышать его лично от вас.
— Раз так, вы, должно быть, остались довольны?
— Совершенно.
— Ваше здоровье!
— Ваше здоровье!
Они чокнулись стаканами.
— У меня была еще одна причина, — продолжал Монбар.
— Неужели вы думаете, что я об этом не догадался? Какая же это причина?
— Я хочу предложить вам невозможное дело.
— Для вас нет ничего невозможного, Монбар.
— Вы думаете?
— Это мое убеждение.
— Благодарю. Тогда дело устроится само собою.
— Однако вы считаете его невозможным?
— Позвольте мне прежде напомнить вам о разговоре, состоявшемся у нас до взятия Тортуги.
— Напомните, время у нас есть.
— Я сказал вам тогда, если вы помните, что наше общество, основанное на прочном основании, могло заставить дрожать испанское правительство и что, если мы захотим, мы будем так сильны, что уменьшим, если не уничтожим совершенно испанскую торговлю в американских колониях.
— Вы действительно говорили это, и я так хорошо понял важность ваших слов, что настаивал как можно скорее овладеть Тортугой, превосходным стратегическим пунктом, чтобы держать неприятеля в страхе.
— Именно. Мы и взяли Тортугу.
— Да, и, клянусь вам, испанцы не отнимут ее у нас — по крайней мере пока я буду иметь честь быть вашим губернатором.
— Я в этом убежден. Но теперь, кажется, настала минута нанести сильный удар.
— Посмотрим, — сказал д'Ожерон, попивая грог. — Судя по вашим намекам, дело обещает быть серьезным.
Монбар расхохотался.
— От вас ничего не утаишь, — заметил он.
— Говорите же и не тревожьтесь.
— Говорить все откровенно?
— Разумеется!
— И вы не обвините меня в сумасшествии или в грезах наяву?
— Ни в том, ни в другом. Напротив, я считаю вас человеком очень серьезным, который, прежде чем решится на какую бы то ни было экспедицию, старательно рассчитает все последствия.
— Хорошо. Если так, слушайте меня.
— Я весь превратился в слух.
— Как я уже говорил вам, лишившись своего брига, я укрылся на Материковой земле. Знаете, в каком месте случай заставил меня высадиться?
— Нет, не знаю.
— В двух лье от Маракайбо.
— Я знаю эти берега; кроме испанцев, их посещают дикари. Вам, верно, пришлось преодолеть немало затруднений, любезный Монбар!
— Нет; как только я высадился на землю, я встретился с вашим племянником Филиппом, который спрятал свою шхуну где-то на берегу.
— Что он мог там делать?
— Не знаю, и, признаюсь, я даже не спрашивал его об этом.
— А я его спрошу.
— Это ваше дело… Тогда мне пришла в голову одна мысль.
— Не могу сказать, что это удивляет меня, — заметил губернатор, весело кланяясь Монбару. — Но что же это за мысль? Она должна быть крайне решительной — или я сильно ошибаюсь.
Монбар ответил поклоном на его поклон.
— О, Бог мой, — небрежно произнес он, — мысль очень простая: надо просто овладеть Маракайбо.
— Что?! — закричал д'Ожерон, вскочив с места. — Овладеть Маракайбо?
— Что вы думаете по этому поводу?
— Я ничего не думаю. Вы меня так удивили!
— Вас это удивляет?
— Мне нравится ваше хладнокровие! Стало быть, вы говорите серьезно?
— Еще бы! Вот уже целый месяц как я обдумываю этот план.
— Да вы просто сошли с ума! Овладеть Маракайбо!
— Почему бы и нет?
— Что за человек! Ни в чем не сомневается!
— Это великолепный способ преуспеть. Кроме того, дело зашло несколько дальше, чем вы можете предположить.
И Монбар подробно поведал обо всем, что ему удалось сделать за время своего пребывания на материке: как он проник в город, как его приняли и прочее и прочес.
Губернатор слушал его, разинув рот; он не мог поверить своим ушам. Однако д'Ожерон был человек смелый. Он сам был флибустьером в течение нескольких лет, и не раз приходилось ему давать доказательства своей храбрости — и какие доказательства! Но в его время никогда не предпринималось такой страшной экспедиции; по своей отважности она превосходила все самое невероятное, что могло нарисовать самое смелое воображение. Поэтому, как он признался Монбару, д'Ожерон был просто поставлен в тупик и готов был думать, что все происходит в каком-то страшном кошмаре.
Монбар улыбался и, прихлебывая грог маленькими глотками, невозмутимо продолжал объяснять ему свой план, а также какими средствами намерен он добиваться успешного осуществления этого плана.
Как это часто случается, когда два энергичных человека, давно знакомых и по достоинству ценящих друг друга, расходятся во взглядах на какую-либо важную проблему, более твердый в конце концов убеждает другого, и тот принимает предложенный ему план, с тем чтобы позднее внести в него необходимые поправки. Д'Ожерон мало-помалу проникся идеей Монбара и в целом одобрил ее.
— Идея грандиозна и достойна вас, — сказал он, — но исполнение ее крайне трудно.
— Меньше чем вы предполагаете. В сущности, о чем идет речь? О неожиданном нападении, и ни о чем больше, — ответил Монбар с жаром. — Заметьте, что этот край удален от всякой помощи и практически предоставлен самому себе. Жителей здесь немного, и они рассыпаны по деревням, гарнизоны слабы, укрепления ничтожны. Мы с быстротой молнии нападем на колонию, прежде чем испанцы узнают, кто мы, и прежде чем, опомнившись от ужаса, который внушит им наше присутствие, успеют собраться, так что мы успеем сделать свое дело и уехать, а они не будут знать, кто на них напал.
— Но что, если вы встретите испанскую эскадру?
— Мы с ней сразимся, черт побери! И потом, кто ничем не рискует, тот ничего не добьется, гласит пословица. Мы сумеем захватить богатую добычу; вы просто не можете себе представить, какие сокровища заключаются в том краю.
— Подозреваю, — сказал, смеясь, д'Ожерон. — Кажется, мы никогда там не бывали?
— Никогда. Поэтому Маракайбо служит, так сказать, кладовой других колоний. Жители считают себя в безопасности от нападения.
— Бедные испанцы, они даже не подозревают, что готовит им будущее!
— Ну вот, теперь вас беспокоит участь испанцев.
— Увы! Я предчувствую, что вы замышляете страшную резню.
— Никогда я не убью достаточно этих проклятых испанцев, — с плохо скрываемым гневом воскликнул Монбар.
— Стало быть, вы страшно ненавидите их?
— Мне хотелось бы иметь возможность, как Нерон, изобретать пытки для того, чтобы заставлять их страдать как можно сильнее!.. Но вернемся к нашему делу. Сколько у вас здесь кораблей?
— В Пор-де-Пе?
— В Пор-де-Пе, Пор-Марго, Леогане, на Тортуге — повсюду.
— Не очень много: кораблей тридцать, из которых не более двенадцати или четырнадцати в состоянии выйти в море.
— Больше нам и не надо, лишь бы они были скоры на ходу. Я покупаю их.
— Стало быть, вы богаты?
— Я владею казной Двенадцати, — ответил Монбар, улыбаясь.
— Вот уже несколько раз я слышу об обществе Двенадцати, — заметил д'Ожерон, нахмурив брови.
— Не тревожьтесь, я предводитель этого общества. Его единственная цель — слава и богатство флибустьерства.
— Хорошо, теперь я не беспокоюсь, но все же, если вы согласны, позже мы еще вернемся к этому предмету.
— Когда вам будет угодно. Итак, вы согласны продать корабли, которые мне нужны?
— С этой минуты они ваши.
— Благодарю. Теперь надо найти людей.
— О! В людях недостатка не будет.
— Простите, я знаю, о чем говорю; мне нужны люди решительные, которые без колебаний последуют за мной в ад, если я потребую.
— Думаю, что вы легко найдете таких людей.
— Браво! Остается только просить вас об одном.
— О чем же?
— Хранить тайну! Вы же знаете, что испанские шпионы так и кишат вокруг. Одно неосторожное слово погубит все.
— К несчастью, вы правы, любезный Монбар. Я хочу сказать вам кое о чем, а вы должны быть осторожны: с некоторых пор точно какой-то злой гений преследует нас. Ни одно наше решение не остается в тайне, испанцы тотчас о нем узнают, принимают необходимые меры предосторожности, и наши планы не удаются.
— Это крайне важно. Должно быть, среди нас изменник!
— Я так и предполагал.
— Что же вы сделали?
— То, что вы, без сомнения, сделали бы сами: я созвал самых знаменитых Береговых братьев — де Граммона, Дрейка, Франкера и еще нескольких других, сообщил им о своих подозрениях и попросил понаблюдать за их товарищами, обывателями и вербованными.
— И что же?
— Ничего не удалось узнать.
— Ей-Богу, я найду изменника, клянусь вам! — промолвил Монбар мрачным голосом. — И тогда горе ему, кто бы он ни был!
— Вот, например: вы ведь недавно приехали в Пор-де-Пе?
— Всего час тому назад, как вам известно.
— Да. Но слухи о вашем приезде ходят по городу уже три дня. Поговаривают даже, что вы приехали с тайным намерением готовить важную экспедицию. Кто мог это сказать, я вас спрашиваю?
— Конечно, это очень странно… крайне странно, тем более что только три человека осведомлены о моих планах; остальная команда шхуны, должно быть, кое о чем подозревает, но смутно, едва ли веря в то, что все это правда.
— Кто же эти трое?
— Ваш племянник Филипп, за скромность которого я ручаюсь головой, вы и я… Но будьте спокойны, я обязуюсь повести дело так, чтобы изменник, кто бы он ни был, не мог ничего узнать.
— Дай Бог! — сказал д'Ожерон, вставая. — Вы остаетесь на шхуне?
— Нет, я еду на берег с вами, если вы не против.
— Буду очень рад. Есть у вас дом, где вы намерены остановиться?
— Почему вы об этом спрашиваете?
— Потому что на случай, если вы не выбрали, где вам остановиться, я мог бы предложить комнату у меня.
— Благодарю, но не могу принять этого любезного предложения; я сегодня же хочу заняться делами, и мне нужна полная свобода действий. Кроме того, мне нужно переговорить с моими товарищами.
— Но вы, по крайней мере, отобедаете у меня сегодня?
— С удовольствием, если только вы не будете обедать слишком поздно, так как мне нужно освободиться достаточно рано.
— В пять часов, если это вам удобно.
— Прекрасно.
Они вышли на палубу, где д'Ожерон был встречен командой шхуны с самым искренним почтением.
Мы уже говорили о том, что флибустьеры обожали д'Ожерона, который в свою очередь знал большинство флибустьеров лично и умел потакать им, заставляя тем не менее уважать себя, а иногда и бояться.
Перед отъездом губернатор пожелал осмотреть судно, чем чрезвычайно польстил экипажу, после чего, пригласив на торжественный обед своего племянника и главных офицеров на шхуне, сел в сопровождении Монбара в шлюпку, приготовленную для него по приказанию Филиппа.
Сойдя на берег, д'Ожерон напомнил Монбару о своем приглашении, попросив не опаздывать, потом оба дружески Распрощались и разошлись в разные стороны. Монбару с большим трудом удалось уклонился от пышной встречи и оваций, приготовленных ему Береговыми братьями, которые непременно хотели с триумфом нести его на руках. Наконец ему удалось зайти в гостиницу, случайно попавшуюся по дороге, и толпа, прождав его довольно продолжительное время перед дверью и видя, что он не выходит, наконец разошлась.
Глава XII ГОСТИНИЦА
Гостиница, в которой Монбар укрылся, чтобы избавиться от бурного приема, устроенного Береговыми братьями в честь его прибытия, имела довольно скромный вид и находилась почти у самой пристани, на углу двух улиц. Как почти все дома в этом городе, здание гостиницы имело плоскую крышу в виде террасы, с полукруглым балконом на первом этаже и с перистилем[9] из древесных стволов, поддерживавших широкую галерею над дверью. Ветка лимонного дерева была привязана к железному треугольнику, на конце которого качалась большая доска, где красовалась надпись, сделанная огромными буквами желтого цвета: Хорошие квартиры для моряков.
Войдя внутрь, Монбар плотно затворил за собой дверь и с минуту находился почти в полной темноте; но мало-помалу его глаза привыкли к полумраку, так что он смог различать окружавшие его предметы. Зала, в которой он очутился, была не слишком большой. Вся мебель состояла из нескольких столов, скамей и стульев; в углу были составлены весла, мачты, снасти и сети. В глубине залы виднелся прилавок, на котором стояло несколько бутылок с различными напитками. Флибустьер осмотрелся вокруг. Он был один. Сев на скамью и ударив эфесом шпаги по столу, чтобы позвать прислугу, Монбар оперся локтями о стол, опустил голову на руки и предался размышлениям.
Через минуту легкий шум заставил его приподнять голову; перед ним спиной к свету неподвижно стояла женщина.
Черты ее лица в темноте, царившей в зале, терялись в неопределенных линиях. Она устремила на флибустьера взгляд с таким странным выражением, что он невольно вздрогнул.
— Вы звали, — сказала она тихим и дрожащим голосом. — Что вам угодно?
При первых звуках этого голоса флибустьер почувствовал волнение, в котором не мог дать себе отчета; он задрожал и холодный пот выступил на его висках.
— Да, я звал, — ответил он, сам не зная, что говорит. — Вы, без сомнения, хозяйка этой гостиницы?
— Да, — ответила она, потупив голову.
Монбар, все более и более озабоченный, напрасно старался рассмотреть лицо собеседницы: та, без сомнения не доверяясь темноте и желая остаться неизвестной, закрыла лицо толстой тканью своей мантильи.
— Я моряк, — продолжал авантюрист, — и…
— Я вас знаю, — мягко перебила она.
— А-а! — воскликнул он. — Вы знаете меня?
— Да. Вы — грозный и неумолимый предводитель флибустьеров, которого испанцы прозвали Губителем.
— Да, это правда, — произнес он с невыразимой ненавистью, — я никогда не даю пощады испанцам.
Она поклонилась и ничего не ответила.
— Можете вы предоставить мне комнаты в этой гостинице?
— Почему же нет, если вы желаете… Однако у вас есть собственный дом.
— Какое вам дело?
— Да, правда, — ответила она кротко, — это меня не касается.
— Проживают ли у вас другие флибустьеры?
— Да, трое.
— Кто они такие?
— Франкер, кавалер де Граммон и капитан Дрейк.
— Хорошо. Можете вы дать мне отдельные комнаты?
— Что значит «отдельные»? Я не совсем хорошо понимаю вас, извините меня; я испанка, и французский язык мало знаком мне.
— А! Так вы испанка? — сказал Монбар резко.
— То есть, — ответила она с живостью, — я родилась в Испанской Фландрии.
— А-а!.. — произнес Монбар, бросая на нее долгий взгляд. Потом, как бы не придавая никакой важности этому объяснению, он продолжал: — Под словами «отдельные комнаты» я подразумеваю помещение, не имеющее никакого сообщения с другими помещениями, где я мог бы свободно находиться, не опасаясь встречи с посторонними, а в случае надобности и не будучи никем видим.
— У меня есть такая квартира, которая вам нужна.
— Я беру ее. Вот задаток.
Он бросил на стол несколько монет.
— Я никогда не беру вперед, — ответила она, быстро отталкивая деньги.
— Тем хуже, потому что эти деньги пропадут: я никогда не беру назад то, что отдал.
Она колебалась с минуту, потом, подобрав золотые монеты, сказала:
— Но вам надо знать цену этой квартиры.
— Вы знаете, что я богат; цена для меня ничего не значит.
— Хотите посмотреть, по крайней мере?
— Зачем? Если квартира действительно такова, как вы говорите, я уверен, что она будет для меня удобна.
— Когда вы желаете переехать?
— Сегодня, сейчас же.
Он встал. Этот разговор тяготил его. Он чувствовал себя неловко с этой женщиной, хотя вряд ли мог отдать себе отчет, почему именно.
— Простите, — внезапно произнесла она, удерживая его, — еще одно слово.
— Говорите, — ответил он, садясь.
— Мне хотелось бы попросить вас об одном одолжении.
— Об одолжении? Меня?
— Да, — сказала она смиренно.
— Вы меня знаете, вы испанка, и просите меня об одолжении! — заметил он, пожимая плечами.
— Я знаю, что поступаю нехорошо, но я прошу вас об этом одолжении, потому что только вы один можете оказать мне его.
— Раз так, говорите, я слушаю вас, но будьте кратки.
— Я прошу у вас только пять минут.
— Хорошо, пусть будет пять минут.
В эту минуту дверь отворилась и в залу вошли два человека. Она отступила и, сделав флибустьеру знак, чтобы он следовал за ней, тихо произнесла:
— Идите за мной, я отведу вас в ваши комнаты.
— Но о чем же вы хотели меня просить?
— После, в другой раз, — ответила она голосом, прерывающимся от волнения.
— Как вам угодно. Однако этот господин мне знаком, и я желаю с ним поговорить.
— Вы знаете Франкера?! — вскричала она, вздрогнув.
— Почему бы мне его не знать, да и с какой стати это касается вас?
— Меня? Это меня нисколько не касается.
— Если так, то, пожалуйста, оставьте нас.
— Я ухожу. Человек, пришедший с господином Франкером, мой слуга. Он останется здесь, чтобы прислуживать вам.
— Хорошо, хорошо! — с нетерпением промолвил Монбар. — Странная женщина! — прошептал он, следя за ней взглядом, пока она выходила из залы. — Не могу понять, почему она так меня заинтересовала. Мне кажется, будто мы с ней уже встречались, но где и когда — этого я уже не могу сказать.
Он подошел к Франкеру, который опустился на стул и казался сильно озабочен. Однако услышав, что Монбар приближается к нему, он поднял голову и протянул ему руку.
— Добро пожаловать в Пор-де-Пе, — сказал он.
— Благодарю, — ответил Монбар, отвечая на его пожатие, — но что с вами? Вы бледны, расстроены… Не случилось ли с вами какого-нибудь несчастья?
— Нет, ничего, не обращайте на это внимания; мне и самому неловко. У меня, должно быть, приступ лихорадки и ничего больше. Должно быть, здешний воздух не для меня.
— Вы смеетесь! Местный климат — самый здоровый в целом свете.
— Тогда это, вероятно, следствие простуды, полученной мной в Леогане.
— Это может быть все, что вам угодно, друг мой, — ответил флибустьер, понимая, что молодой человек по какой-то причине не хотел открывать правды, — во всяком случае надеюсь, что эта болезнь, какова бы она ни была, не помешает вам участвовать в экспедиции, которую я готовлю.
— Конечно, я очень хотел бы сопровождать вас.
— Итак, это решено.
— Экспедиция будет серьезной на этот раз?
— Вы сами сможете судить об этом, — ответил Монбар с улыбкой.
Во время разговора флибустьеров человек, которого трактирщица назвала своим слугой и который был не кто иной как Бирбомоно, ходил взад и вперед по зале, переставляя с места на место столы и скамьи.
— Послушайте, милейший, — обратился к нему Монбар, — я только что снял в этом доме квартиру; пожалуйста, покажите мне ее.
— Я к вашим услугам.
— Вы уходите? — спросил Франкер, быстро вставая с места.
— Да, на некоторое время, мне необходимо отдохнуть.
— Жаль, — с волнением произнес молодой человек, — поскольку случай свел нас, я хотел объясниться с вами.
— Объясниться со мной? — переспросил Монбар с удивлением.
— Да, если, впрочем, вы согласны.
— Вы очень торопитесь?
— Очень, клянусь вам!
— Как странно! Стало быть, дело серьезное?
— Дело касается жизни и смерти, — сказал Франкер прерывающимся голосом.
Несколько секунд Монбар рассматривал его с величайшим изумлением.
— Вы чрезвычайно удивляете меня, — вымолвил он наконец, — мы очень мало знаем друг друга, никогда не жили вместе; что же такого важного можете вы мне сообщить?
— Но вы согласны, по крайней мере, меня выслушать?
— Конечно, когда вы хотите.
— Сейчас.
— Я слушаю вас.
— Не здесь. Вы один должны слышать то, что я вам скажу.
— Хорошо; пойдемте в мои комнаты. Или, может быть, вы предпочитаете говорить со мной у вас?
— Мне все равно, только бы мы были одни.
Монбар движением руки приказал Бирбомоно проводить их в его квартиру. Все трое вышли из залы.
— О, кабальеро! — шепнул мажордом на ухо молодому человеку. — Что вы хотите сделать?
— Хочу покончить с этим делом так или иначе, — ответил тот с расстроенным видом, — мое положение невыносимо.
Бирбомоно опустил голову и промолчал. Поднявшись на несколько ступеней, мажордом отворил дверь и ввел Монбара и Франкера в помещение, меблированное довольно неплохо.
— Вот ваши комнаты, — сказал он Монбару.
— Хорошо, теперь уйдите.
Мажордом вышел, затворив за собой дверь.
Комната, куда вошли флибустьеры, оказалась передней. Не задерживаясь, они прошли в гостиную. Монбар сел в кресло, знаком прося молодого человека последовать его примеру, но тот отрицательно покачал головой и остался стоять. Наступило довольно продолжительное молчание. Монбар первый прервал его.
— Я жду, — сказал он.
Молодой человек вздрогнул и, быстро приподняв голову, медленно произнес мрачным голосом:
— Милостивый государь, вы пользуетесь репутацией человека беспримерной храбрости и отваги.
— Что? — произнес Монбар, удивляясь такому неожиданному вступлению.
— Да, — продолжал Франкер, — вы слывете человеком неустрашимым, таким, которого не только ничто не может заставить трепетать, но даже удивить.
— Очень может быть, — ответил флибустьер, — но какое отношение может иметь моя храбрость к нашему с вами объяснению?
— Сейчас вы поймете… Вы часто, как сами говорили мне, дрались на дуэли, а дуэль между флибустьерами почти всегда имеет смертельный исход.
— Прошу вас приступить к делу, — перебил Монбар, чувствуя, что им овладевает гнев, и делая напрасные усилия преодолеть его.
— Случай всегда вам благоприятствовал, и вы целы и невредимы выходили из этих поединков. Это так?
— Уж не хотите ли вы оскорбить меня? — запальчиво вскричал Монбар.
— Нет, — ответил Франкер кротко, почти печально, — я прошу вас только отвечать мне.
— Ну да, Господь постоянно защищал меня, потому что я всегда поддерживал правое дело.
— Вы говорите о Боге? — вскричал Франкер вне себя от удивления.
— Почему же мне не говорить, молодой человек? — ответил Монбар. — Но оставим это и приступим прямо к делу.
— Хорошо… Я желаю драться с вами, и так как я также буду защищать дело святое и справедливое, я в свою очередь надеюсь, что Бог защитит меня и что я вас убью.
Монбар с ужасом отодвинулся.
— Что означает вся эта комедия? — медленно произнес он. — Вы что, помешались, милостивый государь?
— Я не помешался, и это не комедия, — спокойно ответил Франкер.
— Так вы действительно вызываете меня на дуэль?!
— Действительно.
— Вы хотите меня убить?
— Надеюсь.
— Это ни на что не похоже! — вскричал Монбар, вскочив с места и расхаживая большими шагами по комнате. — Вы меня не знаете. Я никогда не причинял вам ни зла, ни вреда.
— Вы так полагаете?
— Полагаю? Я в этом уверен!
— Вы ошибаетесь. Вы причинили мне много зла, вы нанесли мне несмываемое оскорбление.
— Я?
— Да, вы, сеньор!
— Вы в этом уверены?
— Я даю вам честное слово.
Монбар молчал несколько минут; он размышлял.
— Послушайте, — сказал он наконец, — как ни странно ваше предложение, я принимаю его.
— Благодарю вас.
— Подождите. Я сказал, что принимаю, но с одним условием.
— Какое же это условие?
— Сначала вы расскажете мне, кто вы, какие причины руководят вами и какие люди заставляют вас действовать подобным образом.
— Милостивый государь!
— Не настаивайте, мое решение неизменно.
— Однако…
— Это очень мило, честное слово! Вы ни с того ни с сего вызываете меня на дуэль, говорите, что хотите меня убить, и воображаете, будто я соглашусь. Да вы просто бредите, дорогой мой! Неужели вы предполагаете, что я просто так соглашусь на вызов первого встречного, которому вздумается оскорбить меня? Нет, сделайте одолжение, так не бывает. Не старайтесь заставить меня, бросив мне в лицо одно из тех оскорблений, которые требуют крови. Предупреждаю, что при первом слове, при первом движении я прострелю вам голову, как бешеной собаке. Теперь вы предупреждены, хотите говорите, хотите нет, я умываю руки.
— Хорошо. Если вы требуете, я буду говорить, но поверьте мне, для вас будет гораздо лучше, если я промолчу; по крайней мере, ваша честь не пострадает.
— Предоставьте мне самому судить, милостивый государь, о тех вопросах, где затронута моя честь. Говорите без опасения и без всякой сдержанности.
— Я так и сделаю. Но пеняйте на самого себя за последствия, которые могут иметь мои слова.
— Говорю вам в последний раз, что я требую откровенного и полного объяснения, и прибавляю, что вовсе не опасаюсь последствий.
— Я исполню ваше желание и надеюсь отнять у вас таким образом всякий предлог отказать мне в удовлетворении.
— Будьте спокойны на этот счет, я даю вам слово дворянина. Говорите без обиняков, прошу вас, потому что, признаюсь, это начинает мне надоедать.
Молодой человек поклонился и, поставив свой стул напротив кресла Монбара, приготовился говорить.
Глава XIII ОБЪЯСНЕНИЕ
Несмотря на предыдущую сцену, Монбар не испытывал никакого враждебного чувства к своему собеседнику; сам себе удивляясь, он был не рассержен и абсолютно спокоен. Облокотившись о ручку кресла и подперев подбородок рукой, с грустью и состраданием смотрел он на этого молодого человека с красивыми и благородными чертами лица и гордым взглядом, к которому с первой минуты, как увидел его, он почувствовал непреодолимую симпатию и которого, может быть, через несколько минут по странной и роковой судьбе он вынужден будет убить, если не хочет быть безжалостно убитым им. Невеселые мысли роились в его голове, он спрашивал себя, неужели действительно у него достанет печального мужества пресечь эту юную жизнь и не лучше ли ему самому пасть на дуэли.
Помолчав несколько минут, как бы собираясь с мыслями, молодой человек наконец заговорил чуть дрожащим голосом, который мало-помалу звучал все увереннее и скоро сделался твердым и слегка звенящим от волнения.
— Милостивый государь, — начал он, — судьба непременно хочет сделать нас врагами, между тем как мне, напротив, было бы так приятно быть любимым вами, потому что, должен вам признаться, несмотря на все мои усилия, чтобы возненавидеть вас, меня влечет к вам некая непреодолимая сила. Пускай кто хочет объясняет это чувство; я не стараюсь его анализировать, но оно существует во мне, преодолевает меня и до настоящей минуты заставляло откладывать объяснение, которое неминуемо должно закончиться смертью одного из нас.
— Я также чувствую, что мог бы полюбить вас, — мягко ответил Монбар, — даже в эту минуту я не могу вас ненавидеть.
— К несчастью, мы должны подавить в нашем сердце это благородное чувство, — продолжал молодой человек, — и слушаться только голоса долга, голоса неумолимого, который приказывает мне потребовать от вас страшного отчета Я не француз, милостивый государь, как вы, вероятно, пред полагали по той легкости, с какой я говорю на вашем языке я испанец или, по крайней мере, считаю себя испанцем.
— Вы испанец? — с горестью воскликнул Монбар.
— Да. Простите, но я вынужден рассказать вам о своей жизни, — это необходимо для того, чтобы вы поняли меня до конца. Я буду краток и расскажу только то, что вам необходимо знать… Я никогда не знал ни отца, ни матери.
— Бедный юноша! — прошептал Монбар.
— Я был воспитан дядей, братом моей матери, — продолжал молодой человек. — Этот родственник тщательно опекал меня; он внимательно наблюдал за моим воспитанием и отдал меня во флот.
— И вы сделались превосходным моряком, клянусь вам, несмотря на вашу молодость!
— Я имею честь служить офицером во флоте Его Католического Величества, короля Испании.
— Но каким же образом, позвольте вас спросить…
— Имейте терпение, — перебил Франкер, — ведь я вам сказал, что вы все узнаете.
— Это правда, продолжайте же и простите, что я перебил вас так некстати.
— Около шести месяцев тому назад я находился в Веракрусе, где отдыхал от продолжительного путешествия в Европу. Однажды дядя позвал меня, говоря, что хочет открыть мне нечто важное. Я явился по его приказанию. При разговоре присутствовал только его сын. Тут я услышал страшную историю моей фамилии.
Молодой человек остановился; рыдание вырвалось из его груди, он опустил голову на руки и заплакал. Монбар невольно проникся жалостью к этому юноше, горесть которого тронула его, быть может, несколько больше, чем он желал бы.
Наконец после нескольких минут, печальное безмолвие которых нарушалось только подавляемыми всхлипываниями Франкера, тот вдруг поднял голову и, устремив на флибустьера глаза, горевшие лихорадкой, с выражением смертельной ненависти и гнева сказал:
— К чему продолжать эту страшную историю? Разве вы не знаете ее так же хорошо, как и я? Вы обольститель моей матери, которая умерла от отчаяния, проклиная вас! Вы — низкий убийца моего отца!
При этом страшном, ужасном обвинении Монбар вдруг вскочил, как будто змея ужалила его в сердце, лицо его покрылось смертельной бледностью, кровавая пелена застелила глаза, рев хищного зверя сорвался с его яростно сжатых губ. Как тигр прыгнул он на молодого человека и с силой, удвоившейся от гнева, опрокинул его на пол. Став коленом на его грудь, он левой рукой сжал горло своего врага, а правой со свирепым хохотом занес кинжал над его головой.
— Ты умрешь, злодей! — вскричал он хриплым голосом.
Молодой человек, удивленный этим внезапным нападением, которого он вовсе не ожидал, не старался избавиться от сильной руки, державшей его. Он понял, что все его усилия будут бесполезны. С невыразимым презрением и насмешкой устремил он свой взгляд на врага, презрительная Улыбка скривила его губы, побледневшие от волнения; твердым голосом он трижды бросил Монбару в лицо одно только слово:
— Злодей! Злодей! Злодей!
Несчастный молодой человек должен был погибнуть. Зловещий блеск стали ослепил его глаза; ничто уже не могло бы его спасти. Вдруг тонкая и нежная рука, рука женщины, схватила Монбара за руку, и нежный голос вскричал с мольбой и горестью:
— Неужели Монбар убьет ребенка, беззащитно лежащего у его ног?!
Флибустьер обернулся, не снимая, однако, колена с груди врага. Возле него стояла хозяйка гостиницы, бледная, дрожащая, испуганная, как статуя Горести, прекрасная в своих слезах, как древняя Ниобея[10], и смотрела на него с таким выражением мольбы, нежности и покорности, которого не сумел бы передать ни один живописец. Флибустьер потупил глаза под полным магнетической силы взглядом этой женщины.
— О-о! — прошептал он тихим прерывистым голосом.
Как бы подчиняясь неведомой силе, он медленно приподнялся, заткнул кинжал за пояс, отступил на два шага, чтобы дать своему врагу возможность приподняться, и, скрестив на широкой груди руки, высоко подняв голову, нахмурив брови, с мрачным взором, с влажным от выступившего пота лбом, молча ждал — спокойно и с достоинством, как отдыхающий лев.
Почувствовав себя свободным, молодой человек вскочил и в одну секунду очутился на ногах; однако, подчиняясь величественному виду этой женщины, он остался неподвижен и лишь дрожал от гнева, но не делал ни малейшего движения, чтобы обнажить свою шпагу или выхватить кинжал.
Женщина, так кстати вмешавшаяся и предотвратившая готовое вот-вот свершиться убийство, с минуту рассматривала обоих с чрезвычайным вниманием, потом, сделав два шага вперед, стала между ними, как бы желая помешать новой схватке.
— Милостивый государь, — обратилась она к Монбару, — ваша безумная ярость чуть не заставила вас совершить ужасное преступление.
— Это правда, — ответил флибустьер с кротостью, которая изумила его врага, — и мне пришлось бы сожалеть об этом вечно, поэтому я благодарю вас за ваше вмешательство.
— После вы будете благодарить меня еще больше, — сказала женщина тихим, едва внятным голосом.
— Что вы хотите этим сказать?
— Пока ничего, — ответила она. — Милостивый государь, — обратилась она к молодому человеку, — оскорбления гораздо больше бесславят того, кто их произносит, чем того, к кому они обращены. Вместо того чтобы увлекаться гневом, который вы считаете справедливым, продолжайте спокойно, тоном, достойным вас и того, кто вас слушает, начатый вами рассказ, и тогда, быть может, эта таинственная история разъяснится и вы узнаете, что вы не жертва, а орудие чужой ненависти.
Слова эти, произнесенные очень сдержанно, заставили молодого человека призадуматься, тем более что в этот же день его родственник уже говорил ему то же самое. Однако он был страшно уязвлен полученным им уроком; он чувствовал жестокое унижение и старался удовлетворить свою гордость.
— Милостивая государыня, — ответил он с необыкновенной вежливостью, однако с чуть приметным оттенком насмешки, — по милости вашего великодушного вмешательства этот человек не убил меня; следовательно, я обязан вам жизнью. Смиренно благодарю вас — не потому, что я дорожу жизнью, но потому, что задача, возложенная на меня, мной не выполнена: моя мать и мой отец еще не отомщены. Однако услуга, за которую я буду вам признателен вечно, не дает вам права, я полагаю, вмешиваться в дела, которые, позвольте вам заметить, касаются меня одного.
Холодная, презрительная улыбка сжала губы трактирщицы.
— Откуда вы знаете? — сказала она. — Взгляните на этого человека, как вы его называете, — он меня узнал, я в этом убеждена, и право, которое вы у меня оспариваете, он признает и считает вполне законным.
— Это правда, хотя прошло немало долгих и печальных лет после нашей последней встречи, — ответил Монбар. — Я узнал вас и убежден, что ваше вмешательство правильно и необходимо.
— Пусть так, я не стану оспаривать этого, — холодно ответил молодой человек, — да и что мне за дело, сохранится или нет эта тайна. Конечно, по долгу вежливости, остатки которой я еще сохранил по отношению к этому человеку, мне не хотелось бы разглашать его бесчестье, но вы требуете — и я буду говорить.
— Да, говорите, и, как сказала сейчас сеньора, мы, может быть, узнаем, на кого должно пасть бесчестье, о котором вы заявляете так уверенно.
— Когда ваш мнимый дядя кончил свой страшный рассказ, — продолжала трактирщица, — что приказал он вам сделать?
— Мнимый, сеньора?! — запальчиво вскричал молодой человек.
— Да-да, мнимый, по крайней мере до окончательного установления обратного.
— Но каким образом можете вы знать эту историю, когда я ни разу ни словом не обмолвился о ней?
— Только что я подслушивала вас за дверью.
— О! Но это шпионство…
— Оно спасло вам жизнь.
Он опустил голову; в очередной раз он был побежден и признавал бесполезность дальнейшей борьбы.
— Как я вам уже сказал, я был офицером испанского флота, — продолжал Франкер свой рассказ. — По приказанию дяди я подал в отставку и в качестве матроса нанялся на флибустьерский корабль.
Монбар вздрогнул.
— С какой целью? — тихо спросил он.
— С целью узнать все о ваших силах, ваших средствах, вашей организации, оценить силу вашего могущества, для того, чтобы вас победить и навсегда разорить ваши разбойничьи гнезда, служащие оскорблением человечеству.
— Словом, — заметил Монбар с едкой насмешкой, — ваш дядя под благовидным предлогом некоего мщения сделал из вас шпиона. Нечего сказать, достойная роль для кастильского дворянина!
— Милостивый государь! — вскричал Франкер запальчиво, но, тотчас преодолев себя, продолжал: — Пусть так, шпион, но, по крайней мере, цель, которую я задал себе, облагораживала в моих глазах эту роль.
— Ваш софизм не ответ, — сухо произнес Монбар. — Но цель, о которой вы говорите, насколько я понял, была не единственной вашей целью.
— Нет, у меня была цель еще более священная — узнать обольстителя моей матери, убийцу моего отца, и отмстить ему.
— Без сомнения, убив его? — иронически поинтересовался Монбар.
— Нет, захватив его и заставив его повесить как вора и убийцу.
— Негодяй! — вскричал Монбар. — Итак, ты признаешься в вероломстве?
— Я признаюсь в том, что я сделал, и горжусь этим.
— Так это ты уже несколько месяцев передаешь планы наших экспедиций испанцам?
— Да, я.
— Да знаешь ли ты, несчастный, что ожидающие тебя наказания ужасны?
— Знаю, — просто ответил Франкер.
— И ты не дрожишь?
— Зачем мне дрожать? Приняв данное мне поручение, я знал, на что иду и чему подвергнусь, если меня узнают, я заранее рассчитал все шансы за и против. Я начал против вас страшную партию, поставив на кон свою голову. Я надеялся, что Господь будет со мной, потому что защищаемое мною дело справедливо. Господь оставил меня, я покоряюсь Его всемогущей воле без ропота и без слабости. Я в ваших руках; делайте со мной все что хотите. Я проиграл, я сумею достойно заплатить.
— Да, — сказал Монбар с холодным гневом, — сегодня же вы получите заслуженное вами наказание.
— Молчите! — внезапно произнесла трактирщица, протянув руку как бы для того, чтобы остановить Монбара. — Молчите и подождите еще несколько минут. Этот человек не все сказал.
— Как! Это еще не все?!
— Нет, он забыл назвать нам свое имя. Мы должны знать, Действительно ли он дворянин, как хвалится, или, напротив, ничтожный шпион, негодяй низкого сорта, состоящий на жалованье у наших врагов.
Произнося эти слова, трактирщица обменялась с Монбаром взглядом, имевшим странное выражение; флибустьер молча кивнул головой в знак согласия.
— Ага! — торжествующе воскликнул молодой человек. — Я ожидал этого. Однако ваше ожидание будет обмануто; я умру, но вы не узнаете, кого убили!
Монбар сделал движение, выражавшее досаду.
— Вы ошибаетесь, — возразила трактирщица. — Если мы и не знаем вашего имени, то ничего нет легче его узнать.
— Сомневаюсь, — насмешливо ответил Франкер.
— Дитя, — промолвила она с нежным состраданием, — ребенок, считающий себя сильным, потому что вы решительны и честны, а между тем вы только игрушка в руках окружающих.
— Милостивая государыня! — вскричал он.
— Как! — продолжала она, не обращая внимания на его слова. — Мой слуга Бирбомоно передал вам письмо, назначающее свидание. Сегодня утром вы отправляетесь на это свидание. На берегу Аргонито в трех лье отсюда человек в костюме буканьера больше часа беседует с вами, обнимает вас, называет родственником, а вы предполагаете, будто мы, имеющие такой сильный интерес узнать обо всем происходящем, не знаем этого человека!
— Нет, потому что если бы вы его знали, он был бы немедленно задержан или, по крайней мере, вы постарались бы его захватить.
— Вы ошибаетесь; мы очень хорошо знаем этого человека, однако он свободен, потому что этот человек, хоть и испанец, не желает нам зла, а иногда даже оказывает нам некоторые услуги.
— Скажите же, как его зовут!
— Как его зовут? Если вы непременно хотите, чтобы я назвала вам его имя, извольте: его зовут дон Санчо Пеньяфлор, он губернатор острова Эспаньола.
— Дон Санчо Пеньяфлор! — вскричал Монбар с изумлением. — О, теперь все понятно!
— Может быть, — сказала трактирщица, — начинает показываться свет; подождем, пока он засияет ярче, прежде чем будем радоваться.
Молодой человек смутился.
— Ах, Боже мой! — огорченно воскликнул он.
— Дон Санчо здесь… — сказал Монбар. — Вы это знали, донна Клара?
— Как же мне не знать? — ответила она просто.
— Это правда, — заметил Монбар. — Каковы бы ни были для меня последствия, я увижусь с ним.
Донна Клара приблизилась к молодому человеку.
— Вы любите дона Санчо, — сказала она ему, — он тоже любит вас; может быть, если бы вы последовали его советам, вы не оказались бы теперь в таком положении. Но что сделано, то сделано, и возвращаться к этому бесполезно. Выслушайте меня: герцог Пеньяфлор сказал вам, не правда ли, что Монбар обольстил вашу мать и убил вашего отца?
— Да, — прошептал Франкер, разбитый волнением.
— О, я узнаю этого неумолимого человека! — вскричал Монбар. — Как ваше имя, молодой человек? — повелительно спросил он.
— Дон Гусман де Тудела, — ответил Франкер, больше не сопротивляясь.
— Ну, дон Гусман де Тудела, дайте мне ваше честное слово, что вы не будете стараться бежать.
— Даю, — ответил Франкер откровенно.
— Хорошо. Бирбомоно поедет с вами в Санто-Доминго… У вас, должно быть, есть способы безопасно проникнуть в столицу испанской колонии?
— Есть.
— Хорошо. Расскажите дону Санчо о страшной сцене, что произошла между нами.
— Расскажу.
— Заклинайте дона Санчо именем всего святого ответить вам, действительно ли я виновен в преступлении, в котором его отец герцог Пеньяфлор обвинил меня перед вами. Если он ответит вам утвердительно, вы найдете меня здесь готовым дать вам любое удовлетворение, какое вы потребуете от меня.
— Вы сделаете это? — с радостным изумлением вскричал Франкер.
— Клянусь честью, — торжественно ответил Монбар. — Но если, напротив, он скажет вам, что я не только невиновен в этих преступлениях, но еще и более двадцати лет подвергаюсь преследованию неумолимой и несправедливой ненависти, что сделаете тогда вы? Отвечайте!
— Что я сделаю?
— Да, я спрашиваю вас.
— Я в свою очередь даю вам слово, если он скажет мне это, передать себя в ваши руки, чтобы вы располагали мною, как захотите.
— Я принимаю ваше слово. Ступайте, друг мой, — позвольте, мне назвать вас таким образом, — теперь только три часа; отправившись немедленно, на рассвете вы сможете быть в Санто-Доминго. Этого вы хотели? — обратился он к донне Кларе, и в голосе его послышалась невыразимая доброта.
— О, вы великодушны и благородны, как всегда! — вскричала она, падая на колени и заливаясь слезами.
Монбар приподнял ее с кроткой улыбкой.
— Надейтесь, бедная женщина, бедная мать, — сказал он с нежностью.
Через час дон Гусман в сопровождении Бирбомоно мчался галопом по дороге, ведущей в Санто-Доминго.
Глава XIV ОБЕД У Д'ОЖЕРОНА
После продолжительного разговора с донной Кларой — разговора, предмет которого остался тайной даже для Бирбомоно, давнего верного слуги своей госпожи, — Монбар вышел из гостиницы и отправился к д'Ожерону, у которого обещал быть на обеде.
Как мы уже говорили, все Береговые братья очень уважали губернатора; они любили его и немного побаивались. Его дом считался самым известным и популярным в колонии. Обеды у него были великолепны, и общество избранное.
Д'Ожерон, отпрыск старинного дворянского рода, умел принимать прекрасно, обладая способностью с необыкновенным тактом собирать за своим столом людей, любивших и уважавших друг друга, что было нелегко в краю, где общество состояло по большей части из отверженцев европейской цивилизации, мятежные натуры которых отказывались подчиняться даже самому легкому нажиму.
Надобно отметить странность положения д'Ожерона среди всех этих непокорных людей, не совсем охотно покорявшихся его званию королевского наместника и готовых каждую минуту возмутиться против самой простой его воли.
Требовались вся энергия этого человека и его глубокое знание нравов флибустьеров, с которыми он долго жил и ответственность за последствия дерзких экспедиций которых разделял с ними, чтобы удержаться в Пор-де-Пе и не компрометировать важное дело, вверенное ему королем.
Монбар с чрезвычайной вежливостью был принят д'Ожероном и нашел у него главных предводителей флибустьеров, которые, горя нетерпением увидеться с Монбаром, поспешили явиться на зов губернатора.
Несмотря на строго соблюдаемую тайну, старые соратники Монбара так хорошо знали его выдающиеся способности и закоренелую ненависть к испанцам, что не без оснований предполагали, будто его продолжительное отсутствие на Тортуге должно скрывать серьезные намерения и что экспедиция, какие умел устраивать один только этот знаменитый флибустьер, последует в самом скором времени, не заставив себя ждать.
Надо сказать, что уже довольно долгое время экспедиции флибустьеров не приносили удачи: все их планы расстраивались, хотя никто не знал причины. Враги, которых думали захватить врасплох, всегда были настороже, и каждый раз приходилось возвращаться с набегов с разбитыми судами и командой, уничтоженной испанской картечью.
Флибустьеры, привыкшие тратить деньги, добытые грабежом, не считая, начинали ощущать все больший недостаток в средствах; им было просто необходимо захватить какую-нибудь богатую добычу, поэтому они приняли Монбара с громкими радостными восклицаниями и распростертыми объятиями.
Обед прошел весьма достойно, в дружеских разговорах д'Ожерона с гостями, однако против обыкновения губернатор не заставлял флибустьеров пить. Монбар был очень сдержан, на вопросы отвечал уклончиво, казался озабочен, ел мало и забывал каждую минуту, что перед ним стоит полный стакан.
Береговые братья заметили странности в поведении Монбара и угадали по этим верным признакам, что мысли их товарища занимает какое-то важное дело. Они были рады этому, хотя сгорали от нетерпения услышать его объяснения.
Когда на стол поставили десерт, д'Ожерон сделал знак и слуги тихо вышли, плотно затворив за собой дверь. Гости остались одни. Их было девять человек, считая губернатора: Монбар, племянник губернатора Филипп д'Ожерон, Пьер Легран, кавалер де Граммон, Олоне, бывший работник Монбара, который, как тот и предсказывал, сделался одним из самых страшных флибустьеров Тортуги, капитан Дрейк, Польтэ и англичанин Морган, недавно приехавший с Ямайки, где он находился продолжительное время.
— Господа, — сказал д'Ожерон, — вот ликер, трубки, табак и сигары; прошу вас.
Все протянули руки и взяли трубки и сигары, кто что хотел. Губернатор встал, сделал два-три шага по зале, потом отворил двери, и все увидели в коридоре Тихого Ветерка, Данника, Мигеля Баска и Питриана, которые сидели на стульях и курили.
— Вы видите, что нас хорошо караулят, — заметил губернатор, опять усаживаясь за стол, — и, по крайней мере, на этот раз мы можем говорить о делах, не боясь, что наши слова дойдут до чужих ушей.
Флибустьеры одобрили эту меру предосторожности, которая, очевидно, предваряла серьезный и, следовательно, важный для них разговор.
— Однако, — продолжал губернатор, — я советую вам не слишком повышать голос; стены здесь не очень толстые, а кто знает, сколько шпионов подслушивают нас.
Монбар схватил бутылку, стоявшую перед ним, наполнил стакан до краев, не обращая внимания на пролитую жидкость, которая оказалась ромом, и, поднеся его к губам, сказал:
— Братья, я пью за самую достославную экспедицию, какую когда-либо предпринимали флибустьеры, экспедицию, которую мы совершим вместе с вами, если вы сочтете меня достойным командовать вами, — словом, я пью за нашу; месть испанцам. Отвечайте же на мой тост!
Поднеся стакан к губам, он опорожнил его до последней капли.
— За нашу месть испанцам! — закричали флибустьеры, по примеру Монбара залпом опорожняя свои стаканы.
— Ага! — весело произнес Пьер Легран. — Похоже, он что-то задумал.
— Монбар всегда полон идей! — воскликнул Олоне, потирая руки.
— Кажется, я хорошо сделал, что вернулся, — заметил Морган.
— Господа, — призвал присутствующих губернатор, — Монбар хочет говорить. Прошу вас, выслушайте его.
— Тем более, что, вероятно, дело стоит того, — весело прибавил Польтэ.
— Послушаем! Послушаем! — закричали флибустьеры. Монбар поднял руку. В зале как по волшебству воцарилось полное молчание.
— Братья, — начал Монбар, — прежде всего, позвольте мне от всей души поблагодарить вас за то сочувствие, с которым вы встретили мое возвращение, хотя я впервые возвращаюсь без добычи и без единого испанца, повешенного на мачте. Эта перемена должна была заставить вас призадуматься и предположить, что у меня есть большие планы. Если так, вы не ошиблись, друзья, у меня есть далеко идущие планы, настолько грандиозные, что я с трудом осмеливаюсь говорить о них, хотя обдумываю их уже более двух месяцев, взвешивая все за и против.
При этих словах внимание флибустьеров удвоилось; тончайший писк комара не остался бы незамеченным в этой зале, где, однако, собрались девять человек.
— Я хочу, — чеканил слова Монбар, — хочу, слышите ли вы, так блистательно отомстить испанцам, чтобы воспоминание об этом мучило их по прошествии целого столетия и чтобы внуки их дрожали от страха при одном только упоминании о Береговых братьях. Множество событий произошло за время моего отсутствия; многие наши братья, и среди них самые знаменитые, преданные шпионами, пробравшимися к нам и проникшими даже на самые тайные советы, попали в ловушки и нашли бесславную смерть, потому что испанцы считают нас разбойниками и обращаются с нами, как с разбойниками. Клянусь вам, все наши братья будут беспощадно отомщены! Каждая капля их крови будет искуплена бочкой крови наших врагов.
Несмотря на увещевания д'Ожерона, речь оратора была прервана неистовыми криками флибустьеров. Подстрекая их ненависть к испанцам, Монбар задел самые чувствительные их струны.
Когда волнение, вызванное словами грозного флибустьера, понемногу улеглось, Монбар продолжал:
— На этот раз я намерен не просто предпринять экспедицию, а развязать войну, самую настоящую беспощадную войну. Хотите следовать за мной?
— Да! Да! — вскричали все с восторгом.
— Хоть в ад, если будет нужно, ей-Богу! — прибавил Олоне.
Филипп, единственный, кто знал, к какой цели стремился Монбар, приложил руку к сердцу, чтобы сдержать его биение. Ему с трудом удавалось скрывать радость, переполнявшую его душу, ведь успех экспедиции значил для него соединение с доньей Хуаной, а до остального ему мало было дела.
— Итак, братья, мы отправимся все вместе, каждый из нас примет под свое командование судно.
— Но нас всего восемь человек, — не мог не заметить Пьер Легран.
— Ошибаешься, брат, нас будет четырнадцать.
— Тогда мы сумеем снарядить целый флот, — небрежно сказал Морган.
— Да, брат, — просто ответил Монбар, — целый флот, в котором, если пожелаете, вы будете вице-адмиралом.
— Еще бы! Разумеется, я желаю этого! — вскричал Морган.
— Итак, решено, — сказал Монбар, пожимая ему руку. — Только, братья, — продолжал он, — так как нас окружает измена и испанские шпионы не дремлют, я требую полного доверия с вашей стороны. Я прошу вашего позволения сохранять свои планы в тайне до тех пор, пока не настанет час открыть их вам, и тогда, будьте спокойны, вас ослепит величие задуманного мной предприятия. Вы согласны?
— Согласны, — ответили все в один голос.
Монбар был искренне рад услышать подобный ответ, ведь он еще раз доказывал ему, как велика была его власть над флибустьерами.
— Я прибавлю, — сказал тогда д'Ожерон, — что Монбар посвятил меня в свои планы и я одобряю их до такой степени, что если бы мое положение не вынуждало меня оставаться здесь, я счел бы за величайшую честь участвовать в них лично.
Флибустьерам не требовалось уверений губернатора. Они и так не сомневались в том, что дело, предлагаемое им Монбаром, являлось превосходным с двух точек зрения: мщения и выгоды. Тем не менее одобрение человека, которого все они уважали и которого знали в деле, еще увеличило, если только это возможно, их энтузиазм и утвердило их решимость без колебаний следовать за знаменитым флибустьером.
— Послушайте меня, братья, — произнес Монбар, — теперь приступим, так сказать, к материальной части нашей экспедиции.
Внимание удвоилось.
— Граф д'Ожерон, — продолжал Монбар, — отдал в мое распоряжение семь кораблей. Все корабли будут снаряжены здесь. Командовать ими будут Тихий Ветерок, Мигель Баск, Олоне, кавалер де Граммон, Дрейк, Польтэ и Питриан. Над другими семью судами, которые мы приобретем в Леогане и Пор-Марго, возьмут командование Пьер Легран, Филипп д'Ожерон, Давид, Пьер Пикар, Бартелеми и Рок Бразилец. Морган будет вице-адмиралом флота и поднимет свой флаг на самом сильном корабле. Чтобы не тревожить шпионов понапрасну, суда будут снаряжаться тайно или в Гонаиве, или в Леогане, или на острове Гонав. По мере того как корабль будет снаряжен, он выйдет в море и станет дожидаться других судов в том месте, которое я назову, — я думаю, что раз мысль об этой экспедиции принадлежит мне, то по справедливости и командование должно быть предоставлено мне.
— Это справедливо, — вставил д'Ожерон, который никогда не упускал случая лишний раз продемонстрировать свою власть, — и именем короля, вашего и моего повелителя, я утверждаю назначение, сделанное вами, Монбар. Я буду иметь честь раздать вашим офицерам и вам самому жалованные грамоты[11], которые мой повелитель дал мне право раздавать.
Флибустьеры горячо поблагодарили губернатора за эту милость, без которой им было бы так легко обойтись и которая нисколько не облегчила бы их задачи. Но в каком бы положении ни находились люди, они всегда будут одинаковы, и пергамент, выдаваемый от имени государя, имеет большую цену в их глазах.
Д'Ожерон, в душе довольный тем, как было принято его предложение, сделал знак Монбару продолжать.
— Особенно, — сказал тот, — избегайте неосторожности со стороны вашей команды. Для этого, мне кажется, будет благоразумнее производить вербовку на кораблях. Как только матрос будет нанят, его следует удержать на корабле и не пускать на берег.
— Сколько людей требуется вербовать на каждый корабль? — спросил Морган.
— От полутора до двух сотен.
— Черт побери! — воскликнул Пьер Легран. — Стало быть, у нас будет целая армия?
— Да. Вероятно, нам придется высадиться на берег; поэтому, как только мы распустим паруса и удалимся от глаз и ушей шпионов, каждый капитан организует отряд в восемьдесят отобранных человек для высадки десанта на берег.
— Э-э! — сказал Рок Бразилец. — Тысяча сто человек для высадки на берег! Стало быть, мы хотим возобновить подвиг Кортеса и завоевать Мексику?
— Может быть, — улыбаясь, сказал Монбар.
— Это мне очень даже нравится! А вам, братья? — спросил Рок.
— Отличное дело может выгореть, — ответил Польтэ.
— Премилый человек этот Монбар, — заметил кавалер де Граммон. — С ним приятно иметь дело; у него всегда в запасе какой-нибудь приятный сюрприз.
— Хочу напомнить вам, братья, еще вот о чем: не забудьте потребовать от ваших матросов, когда станете их вербовать, чтобы их оружие было в полном порядке и порох хорош.
— Это уж мое дело, — сказал Морган, — об этом я позабочусь.
— Ну что же, братья, теперь между нами все сказано; полагаюсь на ваше усердие и вашу ловкость. Чем скорее мы отправимся, тем будет лучше для нас.
— Сколько времени вы даете нам для необходимых приготовлений?
— Неделю, больше вам не нужно.
— Через неделю мы будем готовы.
— Мне остается только сказать вам, братья, что у людей, не посвященных в наши планы, должно создаться полное впечатление, будто я не принимаю никакого участия в подготовке этой экспедиции — это нужно для того, чтобы лучше обмануть шпионов; только Морган, Филипп и Тихий Ветерок будут время от времени видеться со мной и уведомлять о том, что вам удалось сделать. Теперь прощайте, братья, я ухожу, пора кончать заседание. Выйдем один за другим и разойдемся в разные стороны.
— Не забудьте о ваших жалованных грамотах, господа, — прибавил губернатор, — послезавтра вы сможете их получить.
Монбар вышел, его примеру последовали другие флибустьеры, и д'Ожерон остался один.
— Какие дела можно было бы свершить с этими людьми, если бы только суметь их укротить! — прошептал он. — Ей-Богу, как ни тяжела эта обязанность, я сделаю все и с Божьей помощью все же надеюсь преуспеть.
Глава XV МАРКИЗ ДОН САНЧО ПЕНЬЯФЛОР
Прошло несколько дней. Ни дон Гусман, ни Бирбомоно не показывались в Пор-де-Пе. Монбар решительно не знал, чему приписать столь продолжительное их отсутствие; его терзало смутное беспокойство. Когда он встречался со своей хозяйкой, то отворачивался, стараясь не замечать ее бледного лица и лихорадочно горевших глаз, которые устремлялись на него с выражением безропотной горести, невольно трогавшей его сердце. Мало-помалу он начинал чувствовать, как в сердце его ненависть сменялась состраданием. Он опасался, что не сможет дольше сдерживать страшной клятвы, произнесенной им. Несмотря на все усилия пробудить в своей душе справедливый гнев, он вынужден был сознаться, что тройная броня, которой было защищено его сердце, больше не могла поддерживать его в продолжительной борьбе против этой женщины, которую он любил так сильно, что эта любовь, разбив его жизнь, сделала несчастной и ее. Все говорило в ее пользу в сердце грозного флибустьера: ее продолжительное раскаяние, ее благородное самоотвержение, ее безмолвная покорность, даже ее смиренная и боязливая нежность, которая каждую минуту выказывалась в заботах, которыми она окружала его без его ведома, оставаясь почти невидимой.
Теперь, по прошествии стольких лет после проступка бедной женщины, Монбар спрашивал себя, имеет ли он право оставаться неумолимым и не должен ли пробить для него час прощения.
Но воспоминание о его ужасных страданиях, о недостойной измене, жертвой которой он оказался, вдруг пронзало его сердце, словно раскаленное железо, трепет гнева волновал его, и он шептал, удаляясь от донны Клары:
— Нет, искупление еще не кончено, виновный не получил наказания. Я не должен расслабляться прежде, чем свершится моя месть!
При этих словах его смягчившиеся было черты принимали мраморную неподвижность, брови хмурились, глаза сверкали зловещим блеском, глубокие морщины выступали на бледном лбу, и он становился опять тем неумолимым человеком, которым поклялся быть.
Но, повторяем, он сомневался; его суровость к бедной женщине была только маской, а ненависть, все еще сильная в отношении других врагов, мало-помалу отворачивалась от нее, чтобы смениться скорым прощением.
Несколько дней, которые он провел в Пор-де-Пе в одном доме с донной Кларой, намного подвинули дело прощения, которое могло довершить какое-нибудь непредвиденное событие.
Однажды вечером Монбар, удалившись в свою комнату, разговаривал с Морганом, кавалером де Граммоном и с Филиппом о приготовлениях к экспедиции, которая быстро приближалась. Уже несколько судов, прекрасно оснащенных, вышли в море, другие готовились отправиться вслед за ними на следующий день на восходе солнца; через два дня весь флот должен был стоять под парусами. Операция проводилась в таком секрете и так осторожно, что, несмотря на большое число отправившихся на судах флибустьеров, ничто не заставляло предполагать, чтобы испанцы могли узнать об этом.
Четыре флибустьера оговаривали между собой последние детали операции, когда в дверь комнаты, где они находились, осторожно постучали два раза. Монбар движением руки заставил своих друзей замолчать, после чего встал и отворил дверь.
Перед ним стоял Бирбомоно; еще два человека, закутанные в плащи, отступили немного дальше, в тень.
— Я приехал, — вполголоса сказал Бирбомоно, почтительно кланяясь Монбару.
— И с хорошими спутниками, как мне кажется, — ответил Монбар.
— Могу я говорить?
— О чем-нибудь важном?
— Да, и в особенности тайном.
— Хорошо, оставайтесь здесь, я сейчас вернусь. Монбар затворил дверь и вернулся к своим товарищам.
— Братья, — сказал он, — только что ко мне приехал один человек, который хочет сообщить мне какое-то важное известие; прошу вас, потрудитесь пройти на несколько минут в мою спальню.
— Не лучше ли нам предоставить вам полную свободу и совсем уйти, любезный Монбар? — осведомился Морган.
— Нет, так как не исключено, что после нашего с ним разговора, который вряд ли будет продолжителен, вы мне понадобитесь.
— Что ж, ступайте, если так, а мы останемся и будем глухи и немы.
— Благодарю, — сказал Монбар, улыбаясь.
Он провел их в спальню, закрыл за ними дверь, взял свечку и отворил дверь в соседнюю комнату, где поставил свечу на стол, после чего запер за собой дверь.
— Господа, — обратился он к ожидавшим его, — я к вашим услугам. Садитесь и рассказывайте о причине вашего визита.
— Мне нечего здесь делать, — сказал Бирбомоно. — Если вы позволите, кабальеро, я уйду и подожду на площадке.
— Хорошо, — просто ответил флибустьер.
Мажордом поклонился и вышел. Когда дверь за ним затворилась, один из незнакомцев сделал несколько шагов вперед, сбросил свой плащ и вежливо снял шляпу.
— Граф, — произнес он, — прежде всего позвольте мне засвидетельствовать вам свое почтение.
— Маркиз Пеньяфлор! — воскликнул Монбар вне себя от Удивления.
— Тише! — весело ответил дон Санчо. — Черт побери! Woe имя не пользуется здесь почетом, и незачем выкрикивать его так громко.
— Вы! Вы здесь!
— А почему бы, граф, мне не быть у вас? Чего я должен опасаться, позвольте вас спросить?
— С моей стороны вам опасаться нечего, и благодарю вас за то, что вы поняли это. Но если другие узнают о вашем присутствии в этом городе?
— Они не узнают — по крайней мере, я надеюсь, — пока я не выйду отсюда, а это случится тотчас по окончании нашего свидания.
— В таком случае позвольте мне повторить свой вопрос: чему обязан вашим посещением и кто приехал с вами?
— Это я, — ответил дон Гусман де Тудела, снимая шляпу.
— Хорошо, что вы вернулись по какой бы то ни было причине.
— Ведь вы взяли с меня слово.
— Это правда, и я полагался на него, поверьте.
— Благодарю, — ответил молодой человек, поклонившись. — Теперь говорите, — обратился он к дону Санчо.
— Граф, — сказал тогда маркиз с благородством, — как ни велика ненависть, разделяющая две наши фамилии, мне приятно осознавать, что, как вы соблаговолили заметить, я постоянно оставался нейтральным во вражде, разделяющей их.
— Сознаюсь, это правда, — ответил Монбар доброжелательно.
— Мало того, — продолжал дон Санчо, — не смея позволить себе прямо осуждать поведение своего отца относительно вас, я никогда не чувствовал в себе мужества одобрить его. По моему мнению, несогласия между дворянами решаются честно, лицом к лицу и с оружием в руках; всякий другой образ действия кажется мне недостойным их.
— Очень рад слышать это от вас.
— Я исполняю свой долг, говоря таким образом, граф, и исполняю с тем большим удовольствием, что между нами есть старый, еще не уплаченный счет; неудивительно, что вы забыли о нем, но я ваш должник и обязан был помнить. Сейчас представился случай расплатиться с вами, и я не колеблясь сделаю это, каковы бы ни были для меня последствия.
— Я не знаю, о чем вы говорите.
— Зато знаю я, граф, и этого достаточно… Три дня назад мой родственник приехал в Санто-Доминго и от вашего имени просил у меня объяснений; так ли это?
— Действительно, так.
— Я не отказал ему в этом. Но я считаю, что мои слова должны быть не только предельно ясными и точными, но и неопровержимыми, поэтому я решил рассказать обо всем в вашем присутствии, убежденный, что не подвергнусь никакой опасности, если приеду к вам. Должен вам признаться, что мой родственник старался, без сомнения беспокоясь за мою безопасность, отговорить меня от этой поездки, но я решился — и вот я здесь.
— Клянусь честью, вы дорогой гость для меня, — с жаром вскричал Монбар, — потому что вы благородный дворянин!
— Теперь выслушайте меня, господа, — продолжал дон Санчо, поклонившись. — Вот что я ответил бы на вопросы моего родственника, если бы не предпочел сделать этого при вас. Я беру Бога в свидетели и даю честное слово дворянина, что вы услышите истинную правду… Дон Гусман де Тудела — не сын сестры моего отца герцога Пеньяфлора. У моего отца была только одна сестра, умершая девятнадцати лет от чахотки в кармелитском монастыре в Севилье. У моего отца была дочь, моя сестра. Эта дочь исчезла вследствие странного и таинственного приключения, в котором был замешан французский дворянин по имени граф де Бармон. Очень может быть, что дон Гусман — сын моей сестры, но я не смею утверждать это наверняка.
— Кузен, — вскричал молодой человек в сильном волнении, — ради всего святого, что такое вы говорите?!
— Правду, дон Гусман.
— Как! Дочь герцога?..
— Была законно обвенчана с этим французским дворянином, повторяю вам. Мой отец велел похитить ребенка, прежде чем мать смогла запечатлеть на его лобике первый поцелуй. Граф де Бармон, преследуемый несправедливой ненавистью моего отца, видя, что честь его очернена, а карьера разрушена, также исчез.
— О, как все это ужасно! — вскричал молодой человек, в отчаянии ломая руки. — А я-то, кто же я?!
— Вы, — с достоинством ответил дон Санчо, — вы человек с благородным сердцем, с возвышенной душой и сумеете, несмотря ни на что, приобрести себе прекрасное место в свете.
— И я помогу ему! — с порывом вскричал флибустьер.
— Боже мой! Боже мой!.. Что же хотели сделать из меня?
— Я уже вам говорил: орудие ненависти и мщения против невинного человека, который имеет право на ваше уважение. Монбар не убийца и не обольститель, а если бы даже он и был виновен, повторяю вам, вы не имеете никакого права требовать у него отчета, дорогой мой племянник.
— Не называйте меня таким образом, дон Санчо; я даже не знаю, принадлежу ли к вашей семье.
— На это я не могу ответить вам ничего иного, кроме того что я вас люблю, знаю с детства и всегда считал своим родственником.
— О! — вскричал Монбар. — Неужели ненависть может быть доведена до такой степени?
— Вы сами видите, граф… Теперь я исполнил священную обязанность. Что бы ни думал отец о моем поведении, совесть моя спокойна: я облегчил ее от ужасной тяжести; пусть судит меня Господь.
— Вы поступили именно так, как я ожидал, и я искренне вас благодарю. Но, — прибавил Монбар тихим голосом, — не хотите ли вы сообщить мне еще о чем-либо?
— Другая особа сделает это, граф, — ответил дон Санчо тем же тоном.
— С этой минуты особа эта для меня священна, маркиз. Господь, могущество которого бесконечно, позволит, без сомнения, чтобы она сумела забыть все, как забуду я сам.
— В свою очередь благодарю вас, граф, — откликнулся маркиз, — этими словами вы вновь сделали меня вашим должником.
Два человека, наделенные столь благородным сердцем и возвышенным умом, горячо пожали друг другу руки.
— А он? — спросил маркиз, указывая на молодого человека, который стоял, уныло опустив голову на руки.
— Я сам позабочусь о нем.
— Бедный юноша! — прошептал дон Санчо и, подойдя к дону Гусману, мягко обратился к нему: — Великие горести делают людей сильными. Что же вы опускаете голову? Вы имеете право ходить с высоко поднятой головой, ведь и вы также не виновны.
— О! Если бы вы знали…
— Я все знаю, Гусман. Роковая судьба преследует вас; вы повиновались не своей воле, воле, от которой не смели избавиться. Не отчаивайтесь же так сильно.
— Но что же делать, Боже мой, куда деваться?
— Перед вами два пути: следовать за мной, и клянусь вам, что я буду для вас добрым родственником, или остаться здесь, среди ваших новых друзей; я даже думаю, что этот второй путь — самый лучший для вас.
— Могу ли я осмелиться после всего того, что случилось? Ведь я негодяй, изменник, словом — шпион!
Монбар подошел к нему и, положив руку на его плечо, сказал тихо, но властно:
— Поднимите вашу голову! Дон Гусман де Тудела умер, я знаю только Франкера, храброго Берегового брата.
— А? Вы меня прощаете, если говорите эти слова! — вскричал молодой человек с проблеском радости сквозь слезы.
— Прощают только преступников, а Франкер преступником быть не может.
— И никогда не будет! — воскликнул молодой человек с воодушевлением. — С этой минуты я принадлежу вам, делайте со мной что хотите.
— Хорошо, дитя мое, осушите ваши слезы, вы нашли отца.
И Монбар раскрыл ему объятия с волнением, необыкновенным для такого человека. Молодой человек бросился к нему на шею, и они долго стояли, обнявшись.
В это время послышался легкий шум, двери тихо отворились, и показалось бледное и смиренное лицо донны Клары. Монбар подошел к ней и, взяв за руку, ввел за собой в комнату; она покорно последовала за ним, и в лице ее читалась робость и чуть заметная радость.
— Франкер, — сказал он молодому человеку, — если вы нашли во мне отца, то вот праведная женщина, которая займет место вашей матери. Любите ее, как родную мать, потому что ее любовь к вам безгранична.
— Да! — вскричала донна Клара с неописуемым волнением. — Да, вы — мой сын!
— Молчите, Клара, — тихо сказал ей Монбар, — а если вы ошибаетесь?
— О-о! — ответила она, бросив на него один из тех взглядов, которые разъясняют все. — Разве можно обмануть сердце матери? — И она с восторгом прижала молодого человека к своей трепещущей груди.
— Такая великая радость после такой великой горести! Да будет благословен Господь! — вскричал молодой человек.
— О да! — подхватила донна Клара. — Да будет Он благословен, потому что Его правосудие неизменно.
Монбар, лучше других владевший собой во время этой сцены, рассудил, что пора вмешаться.
— Извините, дон Санчо, — сказал он, — мы совсем забыли о вас. Ведь именно вам мы обязаны этими минутами счастья, и мы наслаждаемся ими как последние эгоисты, совершенно не думая о том, что ваше положение ненадежно в этом городе, где, кроме нас, все вам враги.
— Право, любезный граф, — ответил маркиз с очаровательной веселостью, — я так счастлив вашим счастьем, что забываю обо всем на свете. Однако должен вам признаться, что мне, кажется, пора убираться отсюда; я чувствую здесь себя не совсем спокойно. Рискуя быть принятым за труса, я с удовольствием покину ваше приятное общество, и если мой старый знакомый Бирбомоно не прочь будет еще раз послужить мне проводником, то я охотно приму его помощь.
— Я к вашим услугам, сеньор маркиз, — ответил мажордом, который в эту минуту входил в комнату. — Мы отправимся когда вам будет угодно.
— Сейчас! Мне хочется поскорее убраться отсюда.
— Прощайте, дон Санчо, — сказал Монбар. — Мне жаль расставаться с вами, потому что я люблю вас; но мы оба находимся в несколько… щекотливом положении, и мне кажется, что лучшим пожеланием с моей стороны было бы никогда более не видеться с вами.
— Однажды мы уже расставались с этими словами, однако все-таки увиделись.
— Это правда, никто не знает, что может случиться с нами.
— Позвольте еще одно слово, граф.
— Говорите.
— Что мой отец?
— Я не стану его разыскивать — вот все, что я могу вам обещать. Дай Бог, чтобы наши дороги не пересеклись!
— Хорошо; прощайте. Я еду со спокойным сердцем после этого обещания… Мужайтесь, племянник, не забывайте меня! — И он ласково обнял молодого человека.
— Бирбомоно, поручаю вам маркиза.
— Я отвечаю за него, сеньор.
— Прощайте еще раз. Пойдемте, Франкер.
Молодой человек пошел за Монбаром. Они вышли из залы, оставив брата и сестру с мажордомом. Как только они оказались в гостиной, Монбар сказал:
— Отрите ваши глаза и будьте мужчиной, Франкер; я представлю вас людям, которые отныне будут вашими братьями.
Монбар отворил дверь, и они вошли в спальню. В комнате сидели три флибустьера и о чем-то тихо разговаривали между собой.
— Извините, что заставил ждать вас так долго, братья, — сказал Монбар.
— Да вот же Франкер! — воскликнул де Граммон. — А я ищу его целую неделю. Куда это ты запропастился, дружище?
Монбар поспешно ответил:
— Я давал ему тайное поручение. Братья, — продолжал Монбар, — Франкер будет у меня капитаном; прошу вас признать его в этом звании.
Флибустьеры, любившие молодого человека, поздравили его с новым назначением, которого многие желали, но не могли получить, и через несколько минут серьезный разговор, прерванный неожиданным приездом Бирбомоно, опять возобновился.
Глава XVI «ТИГР»
Вот уже два дня как флибустьерский флот стоял под парусами; лишь один корабль оставался на якоре в Пор-де-Пе, но и тот готов был выступить в открытое море по первому сигналу. Этот корабль был вооружен только четырьмя небольшими пушками и с виду был совсем не страшен. Его круглые и массивные формы выдавали в нем голландское судно. Однако именно этот корабль Монбар выбрал, чтобы поднять на нем адмиральский флаг. Невозможно было уговорить его выбрать другое судно, более крепкое, более прочное, лучше вооруженное, а в особенности более легкое на ходу; на все замечания он отвечал, что предпочитает хорошие корабли отдать своим друзьям, что он не заставит себя ждать в назначенном месте, и пусть о нем не тревожатся — у него есть свои причины поступать именно таким образом.
Наконец другие флибустьеры во главе с д'Ожероном предоставили ему действовать как он хочет, убежденные, что за видимым самоотречением знаменитого флибустьера скрывается какой-нибудь смелый план, тем более что даже если он был равнодушен к качеству своего судна, то не мог не отобрать самым тщательным образом команду, состоящую из двухсот человек, старательно выбранных между самыми храбрыми флибустьерами.
В тот день, о котором идет речь, в восьмом часу утра Монбар, отдав Франкеру свои последние приказания и отправив его в лодке с донной Кларой и Бирбомоно, которые пожелали участвовать в экспедиции, дабы ухаживать за ранеными, — что было им дозволено, несмотря на закон, запрещавший допускать женщин на флибустьерские суда, — Монбар, говорим мы, оставил гостиницу и направился к пристани.
Человек в костюме буканьера, с трубкой в зубах, заложив руки за спину, прохаживался взад и вперед по пристани, искоса поглядывая на легкую бригантину, которая покачивалась на воде недалеко от пристани и которую он рассматривал с невыразимым удовольствием.
И впрямь, эта изящная стройная бригантина казалась настоящей игрушечкой, во всех отношениях достойной привлечь взоры истинного ценителя. Человек, о котором мы говорим, до такой степени был погружен в созерцание, что даже не слышал, как к нему приблизился Монбар, и только когда тот ударил его по плечу, он заметил его присутствие.
— Эй! Вы спите, что ли? — спросил флибустьер.
— Нет, сеньор, — ответил незнакомец, с живостью обернувшись и поднеся руку к шляпе, чтобы поклониться, — я смотрел на свою бригантину.
— Подойдите-ка сюда, — продолжал Монбар, — нам надо покончить кое-какие счеты.
— О, к чему же так торопиться, кабальеро, — заметил его собеседник льстивым голосом.
— Извините, но, напротив, торопиться надо, потому что через полчаса вы должны отправляться.
— Я отправлюсь, когда вам будет угодно, сеньор.
— И чем скорее, тем лучше, не правда ли? — язвительно заметил Монбар. — Вам хочется поскорее уехать отсюда?
— Я ничего не боюсь, сеньор, если вы удостоили меня своим покровительством.
— Это правда, но с некоторыми условиями; вы, конечно, помните, о чем идет речь?
— Да, сеньор, и эти условия я готов выполнить честно.
— Гм! — сказал Монбар. — Мне кажется, что в эту минуту вы служите, так сказать, и нашим и вашим, сеньор Агуир.
— Сеньор! — прошептал тот, бледнея.
— Испанцы платят вам за то, что вы шпионите за нами, а я плачу вам за службу против испанцев, однако, как мне кажется, это слишком неудобно. Успокойтесь, сеньор Агуир, дело может обернуться для вас лучше, чем вы предполагаете. Отвечайте же на мой вопрос: какие сведения должны были вы сообщить Франкеру?
— Он вам все рассказал?! — вскричал Агуир с удивлением, смешанным с испугом.
— Все. Итак, поверьте мне, покоритесь добровольно и, повторяю вам, все будет хорошо.
— Дело серьезное, сеньор.
— Посмотрим.
— Испанский фрегат с тремя сотнями отборных человек и с сорока шестью пушками получил приказание неожиданно напасть на Тортугу.
— Хорошо. Где же теперь этот фрегат?
— В устье реки Эстера, на южном побережье Кубы.
— Очень хорошо, я знаю это место.
— Приказания губернатора Кубы очень строги. Четыре хорошо вооруженных бригантины должны присоединиться к фрегату, чтобы отнять у разбойников — извините, у флибустьеров, — всякую надежду на сопротивление.
— Это очень благоразумно. Где же теперь находятся эти бригантины?
— Дрейфуют у гавани Санта-Мария, недалеко от города Пуэрто-дель-Принсипе, на южном побережье Кубы; но они с минуты на минуту должны сняться с якоря, чтобы присоединиться к фрегату, ожидающему их.
— Это все, сеньор Агуир? Вы ничего не забыли?
— Только одно, сеньор… но не знаю, должен ли это вам говорить.
— Скажите; теперь это не может быть некстати.
— Заметьте, сеньор, — сказал Агуир с легким трепетом в голосе, — что вы сами заставляете меня говорить.
— Говорите!
— Испанцы до такой степени уверены, что флибустьерам не спастись, и так твердо решились не давать им пощады, что по приказанию губернатора на фрегате отправлен невольник-негр, чтобы после победы исполнить обязанности палача.
— Черт побери! Испанцы не забывают ничего, — с иронией сказал Монбар, — они люди предусмотрительные… На этот раз все?
— Клянусь спасением своей души!
— Хорошо; кроме того, если вы меня обманываете, я сумею вас найти, укройся вы в самом аду!
— Сохрани меня Бог, сеньор!
— Теперь слушайте меня. Мексиканский вице-король платит вам за то, чтобы вы шпионили за нами. Это очень хорошо. Отправляйтесь немедленно в Веракрус, слышите?
— Хорошо, сеньор, вице-король теперь там.
— Тем лучше. И вот что вы ему скажете, — а я предсказываю вам, что вы получите хорошую награду, дело стоит того. Сообщите ему, что значительный флот с двумя тысячами флибустьеров под командой Монбара Губителя крейсирует перед Золотой Кастилией, от Дарьена до Венесуэлы, с целью высадиться на берег и напасть врасплох на одну из прибрежных гаваней.
— Скажу, сеньор, если вы этого желаете.
— Я этого требую! Только помните, что вам не стоит обманывать меня, сеньор Агуир, потому что измена может стоить вам дорого. При этом известия, которые вы сообщите, будут справедливы, и вы окажете огромную услугу вашей стране и вице-королю; следовательно, вы должны быть довольны, что выполняете это задание. Кроме того, поскольку всякий труд заслуживает вознаграждения, возьмите это, а если я останусь доволен тем, как вы исполните ваше поручение, то это может оказаться всего лишь задатком.
И Монбар опустил тяжелый кошелек, наполненный золотом, в руку, тревожно протянутую ему Агуиром.
— За сим до свидания, — продолжал Монбар, — и да защитит вас дьявол!
При этом богохульстве испанец перекрестился. Монбар, смеясь, повернулся к нему спиной и, оставив его, направился к д'Ожерону, который шел к нему навстречу. С минуту Агуир оставался стоять, пораженный странным прощанием флибустьера, но скоро опомнился, сунул кошелек в карман, сел в лодку, ожидавшую его, и направился к своей бригантине, бормоча про себя:
— Конечно, я исполню твое поручение, проклятый разбойник, и желаю тебе наконец получить наказание за все твои преступления.
Через несколько минут бригантина, распустив все паруса, выходила в открытое море.
Д'Ожерон не хотел отпускать Монбара, не простившись с ним, не пожелав в последний раз успеха его опасному предприятию.
Поговорив несколько минут, оба горячо пожали друг другу руки и наконец расстались. Монбар сел в шлюпку, которая доставила его на корабль, а д'Ожерон остался неподвижно стоять на краю пристани, не желая удалиться., прежде, чем увидит судно под парусами.
Ожидание его было непродолжительным. Как только Монбар ступил на палубу, все паруса были мгновенно подняты, и судно быстро удалилось, уносимое сильным юго-западным ветром.
Несмотря на свой тяжелый и грубый внешний вид, «Тигр» — так назывался адмиральский корабль — имел серьезные достоинства и был довольно легок на ходу.
Берега Эспаньолы скоро исчезли вдали, слившись с линией горизонта, и «Тигр» очутился в открытом море. Монбар отдал необходимые распоряжения капитану и сошел в свою каюту, приказав, чтобы его предупредили, если что-то случится.
Первой заботой адмирала, после того как он бросил равнодушный взгляд на свое собственное помещение, было убедиться, насколько хорошо оснащен корабль. Франкер, которому было поручено лично заняться снаряжением судна, исполнил данное ему поручение как опытный офицер. Монбару не пришлось ничего менять, все было в порядке. Недалеко от адмиральской каюты и каюты Франксра были приготовлены помещения для донны Клары и ее верного Вирбомоно. Они уже заняли свои узкие каюты и чувствовали себя там превосходно.
На закате солнца Монбар приказал собрать весь экипаж на палубе. Матросы поспешно повиновались, убежденные, что их командир хочет сообщить им нечто важное.
Они не ошиблись: когда все выстроились на палубе чуть впереди грот-мачты, адмирал, бросив довольный взгляд на их энергичные лица, загрубевшие от дождя и солнца, заговорил резким голосом, без усилий заглушавшим шум волн, бившихся о борта корабля.
— Братья, — сказал Монбар, — я собрал вас для экспедиции, где нас ждут слава и выгода, потому что я намерен напасть врасплох на одну из самых богатых испанских колоний на Материковой земле. Эта экспедиция, требующая значительных сил, заставила меня снарядить несколько кораблей и созвать всех Береговых братьев из Леогана и с острова Гонав. В ту минуту, когда я отправлялся на корабль, мне стало известно, что испанцы хотят воспользоваться нашим уходом и внезапно напасть на наши колонии. В Пор-де-Пе и Пор-Марго остались только обыватели и несколько буканьеров. Как ни храбры эти люди, их слишком мало для того, чтобы сопротивляться нападению. Неужели мы позволим испанцам убить наших братьев?
— Нет! Нет! — закричали флибустьеры, размахивая оружием. — Надо идти на них! На них!
Монбар движением руки потребовал тишины. Флибустьеры замолчали.
— Я знаю, где скрываются испанцы в эту минуту: один фрегат стоит неподалеку отсюда. Они даже не подозревают о нашем присутствии в этих местах. Братья, если вы хотите, мы скоро сменим дрянное судно, на котором сейчас идем, на истинно адмиральский корабль.
Ропот восторга прервал речь флибустьера.
— Они так уверены в успехе, что даже взяли к себе на борт палача — специально для того, чтобы казнить наших братьев.[12]
— Смерть испанцам! — взревела команда.
— Нападем на них, отомстим за себя и спасем наших братьев, — продолжал Монбар. — Последуете вы за мной?
— Да, да! Да здравствует Монбар!
— Хорошо, братья, я полагаюсь на вас. Скоро у нас будет прекрасный праздник, обещаю вам.
Крики восторга удвоились. Монбар добился своей цели: он знал, что может располагать по своей воле этими людьми, которые дадут себя убить по первому его движению.
Еще два дня продолжали плыть, держась довольно далеко от берегов, чтобы не быть замеченными испанскими дозорными. На третий день, в два часа утра, дул небольшой ветер, море было спокойно; флибустьеры находились недалеко от реки Эстера. По приказанию Монбара на воду были тихо спущены два баркаса; в них разместились полторы сотни человек. Баркасы отчалили от корабля и направились к берегу. Весла были обернуты паклей; баркасы двигались вперед быстро и без шума, оставив корабль крейсировать под командой Франкера.
Через два часа баркасы достигли берега и тогда разделились: один направился к правому берегу, другой — к левому. Тихо проскользнули они под густые кусты, окаймлявшие оба берега, и поднимались вверх по течению около одного лье.
По сигналу Монбара флибустьеры без малейшего шума сошли на берег и залегли позади своих лодок, которые служили им укрытием. Положив палец на курок ружья, чтобы быть готовыми к малейшей неожиданности, они принялись ждать рассвета.
На восходе солнца они заметили неподалеку испанский фрегат, который готовился сняться с якоря. Это был великолепный корабль, какие в то время строились в испанском флоте; только полгода тому назад вышел он из кадисской верфи и совершал свое первое путешествие «Жемчужина». Монбар вздрогнул от радости, увидев его. Агуир не солгал. Адмирал так торопился, что четыре бригантины не успели присоединиться к нему; фрегат был один.
Флибустьеры с нетерпением наблюдали за кораблем. Наконец он распустил паруса и приготовился выйти из устья Реки в море. Испанцы, ни о чем не подозревая, сгрудились на палубе, любуясь зелеными берегами. Вдруг, в ту минуту, когда фрегат проходил между двумя рядами притаившихся в засаде авантюристов, Монбар громко вскрикнул. В ту же минуту раздался страшный залп, и каждый выстрел, сделанный флибустьерами почти в упор, нашел свою жертву.
На палубе несчастного фрегата поднялся неслыханный беспорядок. При первом залпе канониры подбежали к своим пушкам и начали осыпать картечью кусты. Но флибустьеры были спрятаны и невидимы, и артиллерия фрегата напрасно тратила свои снаряды.
Монбар с редким умением расположил своих людей вдоль берегов и постоянно отдавал приказания, заставляя их ложиться на землю в ту минуту, когда раздавались выстрелы испанцев, и безостановочно стрелять.
Таким образом битва продолжалась пять часов и благодаря воинскому искусству командира флибустьеры не потеряли ни одного человека.
К полудню Монбар заметил, что испанцы стали стрелять реже. На палубе находились всего несколько солдат; шпигаты[13] изрыгали потоки крови. Монбар понял, что наступила решительная минута.
— На абордаж, братья! — воскликнул он, первым бросаясь в баркас.
— На абордаж! — взревели флибустьеры, устремляясь вслед за ним.
Легкие суденышки вмиг причалили к фрегату, и авантюристы со всех сторон ринулись на палубу. Испанцы, несмотря на понесенные потери, героически сопротивлялись, но скоро, подавленные численно, испуганные видом страшных флибустьеров, которые слыли непобедимыми, они были вынуждены оставить палубу и бросились в трюм, где еще некоторое время пытались поддерживать борьбу, ставшую бессмысленной.
— Никакой пощады! — кричал Монбар.
— Никакой пощады! — вторили ему флибустьеры. Началась страшная резня. В эту минуту негр, полумертвый от страха, бросился к ногам адмирала.
— Ты кто? — спросил его Монбар.
— Палач! — отвечал негр, рыдая.
— А-а! — закричал Монбар громовым голосом. — Братья! Вот палач, которого губернатор Кубы послал казнить вас. Ведь это правда, негодяй?
— Увы, да, сеньор капитан.
— Ну, так ты исполнишь свою обязанность! Братья, приведите пленных.
На окровавленной палубе фрегата произошла ужасная сцена. Все испанские пленные были подведены к грот-мачте, где их заставили стать на колени. Флибустьеры окружили их.
— Эти люди осуждены на смерть, — сказал Монбар негру, подавая ему топор. — Начинай!
Убийство началось. Палач отрубил головы всем пленным.
— Постой! — вскричал Монбар, бесстрастным взором следивший за этой страшной резней.
В живых остался только один пленник.
— Я дарю тебе жизнь, — сказал ему Монбар, — но с условием, что ты убьешь человека, который отрубил голову твоим друзьям.
Пленник как пантера бросился на испуганного палача, вырвал у него топор и моментально отрубил ему голову. Негр повалился на трупы убитых им людей.
— Хорошо, — сказал Монбар, — ты свободен. Ступай…
Нет, постой.
Вынув из кармана какие-то бумаги, он вырвал листок, кровью написал несколько строк, описав случившиеся события, и, передав эту странную депешу пленнику, который был ни жив ни мертв от страха, сказал:
— Отдай эту бумагу губернатору Кубы и расскажи ему о том, как Монбар Губитель поступил с палачом, присланным им. Прощай!
Пленника бросили в лодку, которую флибустьеры отдали ему, и он добрался до берега вне себя от ужаса и отчаяния.
Однако на этом дело, предпринятое Монбаром, еще не окончилось. Трупы испанцев были брошены в море, палуба вымыта, паруса приведены в порядок, и фрегат наконец вышел в Наветренный пролив[14]. Но вместо того, чтобы выйти в открытое море, как предполагали флибустьеры, адмирал приказал держаться берега.
К четырем часам пополудни фрегат на всех парусах подошел к бухте Санта-Мария. Там на якоре стояли четыре бригантины.
Застигнутые врасплох, испанцы почти не сопротивлялись, и менее чем за полчаса все четыре бригантины попали во власть флибустьеров. Это были прекрасные суда, хорошо вооруженные и почти новые. К несчастью, у Монбара не было достаточно людей, чтобы увести их; кроме того, надо было торопиться: в Пуэрто-дель-Принсипе били в набат, народ хватал оружие и начинал собираться на берегу.
Монбар приказал забрать все наиболее ценное. Когда все перенесли на фрегат, бригантины были потоплены вместе с испанцами, лежавшими в связанном виде на палубе.
— А-а! — сказал тогда Монбар со зловещей улыбкой. — Теперь, когда мы спасли наших братьев, мы можем без опасения заняться нашими делами.
Флибустьеры осыпали картечью толпу, собравшуюся на берегу, и вышли в открытое море, преследуемые криками бессильной ярости, испускаемыми испуганными врагами.
К семи часам вечера фрегат подошел к «Тигру», крейсировавшему недалеко от берега.
Монбар, не желая показываться донне Кларе с руками еще дымившимися от крови ее несчастных соотечественников, так безжалостно убитых им, передал командование над «Тигром» Франкеру, приказав ему обращаться с пассажиркой с глубочайшим уважением. Он перевел на «Тигр» пятнадцать человек, чтобы увеличить его команду, а сам остался на фрегате, на котором и поднял адмиральский флаг. По окончании этих распоряжений оба корабля направились к острову Аруба, где Монбар назначил собраться всему флоту и куда другие суда, по всей вероятности, уже прибыли.
Подвиг отважного флибустьера вселил ужас в испанцев и привел к страшным последствиям в будущем.
Глава XVII СОВЕТ ФЛИБУСТЬЕРОВ
В одной из предыдущих глав, описывая окрестности Маракайбо, мы говорили, что недалеко от Венесуэльского залива находилось несколько островов, и среди прочих — Аруба и Лос-Монхес. Два этих острова, прежде покоренные испанцами, были населены индейцами, говорящими по-кастильски, но зависимыми от Нидерландов, которые, с тех пор как овладели Кюрасао, оставили губернаторов и гарнизон на этих островах, не потому что они были богаты или плодородны — они были почти бесплодны и доставляли только необходимый корм для коз и лошадей, которых разводят там в большом количестве — но потому что служили местом оживленной торговли невольниками, происходившей между испанцами и голландцами.
Через тридцать пять дней после отплытия флибустьеров из Пор-де-Пе все без исключения их корабли собрались у острова Аруба, где Монбар назначил им свидание.
Первой заботой Моргана по приезде было завладеть островом, потопить лодки жителей, чтобы они не смогли выйти в море, и выставить часовых на всех доступных пунктах берега. Благодаря этим предосторожностям, поскольку никто из жителей не мог покинуть остров, чтобы поднять тревогу, безопасность флибустьеров была временно обеспечена. Авантюристы могли быть уверены, что их присутствие в этих местах не будет открыто до тех пор, пока они сами не вздумают обнаружить его.
Монбар ждал капитанов, которых он созвал на свой фрегат. В глубокой задумчивости склонившись над бортом, он не сводил глаз с лодки, отделившейся от «Тигра» и направлявшейся к фрегату. В этой лодке сидели три человека и среди них одна женщина; заметив ее, Монбар чуть заметно нахмурил брови и с досадой покачал головой. Однако он сумел скрыть свои чувства и с улыбкой подошел к штирборту, чтобы принять пассажиров, подплывших к фрегату. После обычных приветствий Франкер почтительно сказал:
— Адмирал, сеньора просила меня доставить ее к вам на фрегат. Я счел своим долгом не сопротивляться ее пожеланию, тем более что она выразила намерение поговорить с вами.
— Вы хорошо сделали, капитан. Я очень рад видеть сеньору, я весь к ее услугам, хотя и сожалею, что она не выбрала Для разговора более удобной минуты; мои обязанности помешают мне наслаждаться ее разговором так долго, как я желал бы.
— Я могу подождать, — заметила гостья, — пока ваши занятия не позволят вам дать мне аудиенцию. С вашего позволения, я останусь здесь до тех пор, пока не окончится ваш совет, а потом вернусь на «Тигр» в лодке, которая доставила меня сюда. Это задержит отъезд капитана всего на несколько минут; я хочу сказать вам очень немногое.
— Ваши желания — приказ для меня, сеньора, — отвечал Монбар. — Впрочем, — прибавил он, протянув руку в сторону моря, где были видны лодки, направлявшиеся к фрегату, — вы видите, что, к моему величайшему сожалению, в данную минуту у меня нет никакой возможности говорить с вами; сюда по моему приказанию прибывают офицеры. Сделайте мне честь, располагайтесь пока что в моей собственной каюте. Как только я освобожусь, я тотчас поспешу к вам.
Донна Клара поклонилась в знак согласия на предложение Монбара, поблагодарила Франкера и пошла за юнгой, которому адмирал приказал отвести ее в свою каюту. Лодки начали подплывать к фрегату, и капитаны один за другим поднимались на палубу, где были приняты со всеми почестями, принятыми в военном флоте всех стран для приветствия высших офицеров.
Монбар стоял у трапа и пожимал руки своим товарищам, обмениваясь с ними дружескими словами по мере того, как они появлялись на палубе его фрегата.
Капитаны сошли в залу совета, приготовленную для их приема; два флибустьера с ружьями караулили дверь — совещание было тайное. Посреди залы был поставлен круглый стол, покрытый зеленым сукном, вокруг него расставили стулья.
Всего явилось пятнадцать капитанов; это были самые знаменитые предводители флибустьеров. Мы уже называли их имена. Монбар был председателем совета вместе с Морганом. Франкер, самый младший, исполнял должность секретаря; на столе перед ним положили бумагу, перья и чернила. По безмолвному приглашению адмирала капитаны сели.
По законам флибустьерства, когда какой-нибудь предводитель устраивал экспедицию и имел в своем распоряжении только один корабль, он не мог принять никакого решения без согласия своей команды, которая, так же как и он, имела выгоды в успехе экспедиции и, следовательно, имела право голоса в совете. Всякий план принимался единогласно или отвергался, и тот, кто предлагал его, не имел права обижаться на исход голосования. Когда речь шла о такой важной экспедиции, как та, которую на сей раз собирались предпринять флибустьеры, закон несколько изменялся, то есть команды передавали всю власть своим капитанам, которые заседали в совете вместо нее. Но результат всегда был один и тот же: лишь единогласие решало вопрос; одного голоса было достаточно, чтобы отвергнуть предлагаемый план.
Такой способ действия, в принципе очень хороший, так как соблюдал всеобщие интересы, грешил тем, что часто обсуждение длилось нескончаемо и не приводило ни к какому результату. Однако мы должны признаться, что в тех случаях, когда высшие офицеры были знаменитыми командирами, офицеры, пользовавшиеся не столь широкой известностью, очень редко противоречили им и подавали голос за вносимые предложения, что значительно упрощало решение вопроса.
До открытия совета Монбар дал отчет своим товарищам в том, каким образом удалось ему завладеть испанским фрегатом и четырьмя бригантинами, и принял поздравления с подвигом, доставившим ему прекрасный корабль, не только самый лучший во флибустьерском флоте и прекрасно вооруженный, но и поставивший испанцев, по крайней мере на время, в крайне сложное положение, отняв у них возможность предпринять что-либо серьезное против Береговых братьев.
Волнение, возбужденное рассказом Монбара, утихло. Его попросили открыть заседание, что он и сделал немедленно среди всеобщего волнения и любопытства.
— Братья и друзья, — сказал он, — с удовольствием отмечаю то, что наконец вы достигли того места, где я назначил вам свидание, и находитесь рядом с богатым берегом, который испанцы назвали Золотой Кастилией. Цель нашей экспедиции уже не является для вас тайной — или, по крайней мере, вы догадываетесь об этой цели. Но чтобы не оставалось никаких сомнений и поскольку час решительных действий пробил, я открою вам свой план: я хочу завладеть Маракайбо и соседними с ним городами. Что вы об этом думаете, друзья мои?
— Адмирал, — ответил Морган от имени всех, — мы думаем, что это намерение достойно вас, и с радостью присоединяемся к вам.
— Должен вам признаться, братья, — продолжал Монбар, — что это предприятие задумано не мной; воздадим каждому по заслугам. Идея принадлежит Филиппу д'Ожерону, который уже несколько дней осматривал этот берег, когда я и несколько моих товарищей внезапно встретили его на берегу. Мы оказались там случайно, когда буря потопила мое судно, слишком старое, чтобы выдержать в открытом море серьезный шторм. Обратитесь же с похвалами к нашему молодому и храброму товарищу, потому что именно в его голове зародилась эта дерзкая мысль, а я только развил ее и сделал возможной, старательно изучив окрестности Маракайбо и собрав необходимые сведения, чтобы с вашей помощью привести ее в исполнение.
У офицеров, восхищенных скромностью Монбара, вырвался вздох удовольствия: все они были прекрасными знатоками подвигов всякого рода, но лишь немногие из них чувствовали себя способными к подобному самоотвержению.
— Теперь, когда вы знаете цель, к которой мы стремимся, продолжал Монбар, обращаясь к Моргану, — соблаговолите, господин вице-адмирал, сообщить мне о ваших действиях после отъезда из Пор-де-Пе.
— Мое донесение будет коротким, адмирал, — сказал он. — Нам постоянно благоприятствовал попутный ветер. В четырех лье от острова мы соединились с другими судами и все вместе, как коршуны, налетели на Арубу. Вы не отдали мне приказаний на этот счет, но поскольку я подозревал, что место общего сбора, назначенное для встречи с вами, должно находиться недалеко от того места, которое вы намеревались атаковать, я стремился пресечь нежелательные слухи и поэтому завладел островом. Местные жители очень бедны и немногочисленны, они вовсе не ожидали подобного нападения с нашей стороны и дали себя обезоружить, даже не пытаясь оказать бесполезное сопротивление. Я велел потопить все суда на случай, если бы кто-нибудь вздумал бежать, выставил на берегу часовых, а для пущей предосторожности поставил опытных людей караулить в лодках, делая вид, будто они занимаются рыбной ловлей. После нашего прибытия десять каботажных[15] судов пристали к острову. Нет необходимости говорить, что ни одно из этих судов не ушло в море; мы взяли их в плен, что немало удивило их, — прибавил Морган, смеясь. — К этому мне нечего прибавить, адмирал.
— Примите мои искренние поздравления, любезный Морган, — ответил Монбар, — трудно было провести это дело с большим тактом и большей ловкостью. Впрочем, назначив вас вице-адмиралом флота, я знал, на что вы способны, и был спокоен. Теперь речь идет о том, каким образом мы можем высадиться на берег незаметно для неприятеля. Вопрос серьезный: город, который мы собираемся брать приступом, расположен на берегу озера. Он хорошо защищен, имеет многочисленный гарнизон под начальством опытного офицера, который будет храбро защищаться. Я в этом убежден, потому что прекрасно его знаю. Теперь пусть говорит Филипп д'Ожерон, который тщательно изучил положение неприятеля и которому, как я уже имел честь вам сообщить, пришла первая мысль об этом предприятии. Говорите же, брат, мы слушаем вас, — обратился он к молодому человеку. Филипп встал, краснея и смущаясь от похвал своего командира и в душе оскорбленный насмешливыми взглядами кавалера де Граммона; он понимал, что кавалер, чья наблюдательность еще усилилась из-за ревности, угадал его тайную мысль и причину, по которой ему захотелось овладеть именно Маракайбо, вместо всякого другого пункта, такого же богатого, где-нибудь на побережье. Однако он сделал над собой усилие, подавил волнение и решительно заговорил.
— Если вы желаете узнать мое мнение, братья, — сказал он, — хотя я самый младший среди вас и мой опыт почти ничтожен, однако я не стану отказываться от вашего приглашения и докажу свое повиновение, в нескольких словах сообщив вам все, что знаю. Как вам сказал адмирал, город хорошо защищен. Мне кажется, что было бы благоразумно, прежде чем предпринять что-либо против него, удостовериться, известно ли кому-нибудь о нашем присутствии на этом берегу. Здесь плавают множество каботажных судов, многие ходят только на веслах и, несмотря на нашу бдительность, могли пройти незаметно от нас ночью. Наши суда совсем не похожи ни на испанские, ни на голландские, так что, если это случилось, мы непременно будем узнаны и по всему побережью поднимут тревогу. Таким образом люди, на которых мы хотим напасть врасплох, завлекут нас самих в сети, которые мы хотим им расставить.
— Ваше замечание совершенно справедливо, — ответил Монбар, взглянув на других капитанов. — Какие меры вы предлагаете принять для того, чтобы удостовериться в истине?
— Мы видели здесь несколько испанских бригантин. Очень легко захватить одну из них. Мы заставим наших пленников сообщить нам сигналы, известные часовым на берегу. Бригантина войдет в озеро, дойдет до Маракайбо и вернется обратно с сообщением о том, что видела. Если мое предложение будет принято, я прошу назначить меня командиром бригантины.
— А я, брат, прошу позволения ехать с вами, — сказал де Граммон с иронией.
Филипп поклонился ему с насмешливой улыбкой и сел на свое место.
— Есть ли у вас, братья, какие-либо возражения против этого предложения? — спросил Монбар.
Никто не ответил.
— Раз так, буду говорить я, — сказал Монбар. — Замечания Филиппа д'Ожерона справедливы, более того, я считаю их обоснованными; действительно невозможно, чтобы флот из пятнадцати вооруженных кораблей мог незаметно приблизиться к берегу. Следовательно, о нашем присутствии здесь должно быть уже известно. Тревога наверняка поднята. Я абсолютно убежден, что в ту самую минуту, когда мы с вами совещаемся, во всех местечках люди хватают оружие и повсюду готовятся к решительному сопротивлению. Именно поэтому предложение нашего брата Филиппа, как мне кажется, не должно быть принято: во-первых, если мы его примем, то потеряем драгоценное время, чем наши враги с радостью воспользуются, чтобы укрепиться и скрыть богатства, которые мы ищем; во-вторых, каковы бы ни были известия, которые доставит нам бригантина по возвращении, даже если предположить, что испанцы не откроют хитрости и позволят бригантине беспрепятственно выполнить задание, эти известия будут совершенно бесполезны при высадке, которую мы собираемся предпринять, поскольку, я полагаю, Филиппу д'Ожерону, так же как и мне, хорошо известно расположение здешних мест и он прекрасно знает, что всякий другой путь для нас закрыт и что пытаться высадиться где-то в другом месте, чтобы потом пешком добираться до Маракайбо, значило бы рисковать лишиться всех наших людей. Ведь эти места изобилуют болотами, рытвинами, бесчисленным множеством рек, лесов с деревьями, острые листья которых режут, как сабли, и, помимо всего прочего, здесь обитают племена неукротимых дикарей и людоедов, от которых нам пришлось бы беспрестанно отбиваться.
— Было бы чистым безумием подвергаться подобным опасностям без всякого возможного результата, — заметил Морган.
— Каково ваше мнение? — спросил Пьер Легран.
— Я угадываю мысль адмирала! — вскричал Олоне, ударив кулаком по столу. — Он хочет храбро идти вперед и прямо атаковать город! Черт побери! Будь этих демонов-испанцев десять против одного, разве мы не сладим с ними? Нам не впервой!
— Говорите, адмирал, говорите! — вскричали капитаны.
— Да, говорите, Монбар, — продолжал Олоне. — Только вы способны возглавить это дело.
— Братья, — ответил Монбар, вставая, — Олоне угадал мое намерение: я считаю, что нельзя дать врагу времени опомниться, надо решиться на немедленный приступ города. Я жду вашего решения.
— Бычье сердце! — вскричал Олоне; это было его любимое выражение. — Никто не будет против, я ручаюсь за это, ведь совершенно ясно, что всякий другой план невозможен.
— Члены совета принимают план, предложенный адмиралом, — провозгласил Морган, посовещавшись с капитанами, — и просят как можно скорее привести его в исполнение.
— Братья, — сказал Монбар, — флот снимется с якоря через два часа. Прошу вас быть готовыми к высадке. Возвращайтесь на свои корабли, чтобы сделать последние приготовления. Совет окончен. Любезный Морган, вас я попрошу еще на несколько минут задержаться; нам нужно как следует обо всем договориться.
— Я к вашим услугам, брат, — ответил Морган. Капитаны поклонились и вернулись на свои шлюпки — все, кроме Моргана, который остался в каюте вместе с Монбаром, и Франкера, который, как и обещал, ждал, прохаживаясь по палубе, донну Клару, чтобы отвезти ее обратно на свой корабль.
Глава XVIII АГУИР
В то время как флибустьеры приближались к острову Аруба и останавливались там, чтобы оттуда, по их выражению, налететь, как коршуны, на Маракайбо, этот несчастный город, не зная ужасной опасности, нависшей над его головой, смеялся, плясал — словом, пировал напропалую.
В сезон прибытия судов из Европы испанский флот вошел в бухту и бросил якорь перед городом.
Колонисты, остающиеся одни восемь месяцев в году, слишком удаленные от таких больших центров, как Веракрус, с трудом могли доставать вещи первой необходимости, которых у них совершенно не было, и потому с живейшим нетерпением ждали появления кораблей, чтобы обменять табак, какао, строевой лес, золото, серебро, жемчуг на различные европейские товары: инструменты, муку, материи и многое другое.
На этот раз корабли прибыли прямо из Кадиса, не останавливаясь ни в какой гавани, так что они доверху были наполнены грузом.
В город беспрестанно входили мулы, тяжело навьюченные тюками из асиенд[16]; они проходили по улицам, весело бренча бубенчиками.
По приказанию губернатора на Пласа-Майор, Главной площади, были раскинуты шатры, выстроены навесы для временных магазинов. Одним словом, это была ярмарка, которая должна была продлиться месяц и во время которой, по милости прибытия чужестранцев, население города увеличилось почти вдвое.
По вечерам улицы освещались как бы по волшебству и на всех площадях танцевали с тем увлечением и с теми веселыми криками, которые составляют самую привлекательную сторону характера южных народов, столь веселых и беззаботных.
У дона Фернандо д'Авила было много дел. Он должен был поддерживать порядок в этой толпе и наблюдать, чтобы торги шли честно с обеих сторон, потому что европейские купцы, зная, как нужны их товары, и будучи очень жадны, без всякого зазрения совести запрашивали сто пиастров за вещь, стоившую десять. Из-за этого вспыхивали споры и ссоры, которые губернатор улаживал с большим трудом, так как и колонистов, и испанцев очень трудно было урезонить.
Поэтому дон Фернандо против своей воли вынужден был уделять очень мало времени своей питомице, которая почти всегда оставалась одна взаперти в своих комнатах. Но девушка не жаловалась на одиночество, напротив, она была ему очень рада, ведь таким образом она могла без всяких помех думать о том, кого любила. Большую часть дня девушка проводила, сидя на балконе, спрятавшись за шторой, пристально устремив глаза на озеро, погруженная в бесконечные мечтания. Иногда она приподнимала голову и, обращаясь к нье Чиале, сидящей возле нее и перебирающей четки, говорила своим нежным голоском:
— Не правда ли, кормилица, мой возлюбленный скоро вернется?
Старуха с досадой качала головой; она не отвечала или бормотала какие-то слова, которые девушка не могла расслышать. Правда, она вовсе и не слушала, что говорила кормилица, а предпочитала улыбаться своим мыслям и вновь возвращаться к своим сладостным грезам.
Два или три раза нья Чиала старалась дать ей понять, что гораздо лучше было бы, вместо того чтобы вести затворническую жизнь, выходить вместе с ней из дома, осмотреть город, посетить европейские лавки, наполненные восхитительными безделушками, которые так нравятся женщинам — и знатным дамам, и горничным — и за которые столь многие из них отдают свою душу в когти дьяволу.
Донья Хуана на каждую подобную просьбу своей кормилицы отвечала сухим «нет» или возражала, что ей не нужны ни кружева, ни вещицы, что ей хорошо дома, и тотчас погружалась в свои прерванные размышления.
Однажды утром при возобновлении настойчивых просьб ньи Чиалы девушка, печальная в этот день, сама не понимая отчего, так как вроде бы ничто не оправдывало такого расположения ее духа, с досадой оставила свое место на балконе и направилась к двери, без сомнения с намерением отвязаться от настойчивых просьб старухи, запершись в своей спальне или в будуаре, когда вдруг дверь отворилась и на пороге показался дон Фернандо д'Авила.
— Милая Хуана, — сказал он без всяких предисловий, — я пришел просить вас поехать со мной в гавань. Говорят, что у капитана корабля «Тринидад» есть чудесные кружева и великолепные материи. Он хочет показать их вам, поскольку уверен, что ваш вкус будет определять здешнюю моду и что товары, выбранные вами, будут иметь огромный сбыт. Он пригласил нас также позавтракать на его корабле. Я принял приглашение за себя и за вас. Этот капитан — прекраснейший человек, и мне не хотелось бы рассердить его. Приготовьтесь же, но поскорее, потому что капитан ждет нас на пристани и сам доставит на свой корабль.
Молодая девушка закусила губу, состроила гримаску и, поздоровавшись с своим опекуном, которого она еще не видала в это утро, медленно ответила:
— Я нездорова и не могу выезжать, сеньор, я буду очень вам благодарна, если вы избавите меня от этой поездки.
— Ну, ну! — ответил он с улыбкой. — Напротив, вы никогда не были так здоровы! Вы свежи и румяны, как роза. Будьте добры, Хуана, не отказывайте мне. Вы заставите меня не сдержать свое слово, что будет очень неприятно для меня и очень огорчит доброго капитана. Кроме того, я убежден, что свежий воздух пойдет вам на пользу.
— Я постоянно повторяю ей это, а она не желает меня слушать, — заметила старуха, обрадовавшись подоспевшей помощи.
— Молчите, кормилица, — сердито воскликнула девушка, — вы только и умеете, что мучить меня.
— Как дети неблагодарны, Господи Боже мой! — прошептала старуха, сложив руки и устремив взор к небу.
— Могу я надеяться, что вы поедете со мной, Хуана? — вновь спросил дон Фернандо.
— Если вы требуете, сеньор…
— Давайте же договоримся, милое дитя: я ничего не требую, я прошу. Если вам это неприятно, я беру назад свою просьбу, не будем больше говорить об этом; я извинюсь перед капитаном. Как вы сами понимаете, если вы останетесь дома, то и мне незачем отправляться к нему на корабль.
Он поклонился своей питомице и сделал несколько шагов по направлению к двери.
— О! Простите меня, сеньор, — воскликнула донья Хуана, поспешно подходя к нему и взяв его за руку, — простите, если я рассердила вас. Я сама не знаю, что со мной происходит. Это независимо от моей воли. Я никогда не чувствовала себя подобным образом.
— Неужели вы действительно больны? — спросил губернатор с отеческой заботливостью.
— Не могу вам сказать; мне хочется плакать, сердце мое стучит так, словно мне угрожает большое несчастье.
— Вы немножко сумасбродны, — заметил дон Фернандо, смеясь. — Ваше упорное уединение с некоторого времени — единственная причина всего этого.
— О! Не смейтесь, сеньор, умоляю вас! Смею вас уверить, что я очень страдаю, — сказала она со слезами на глазах.
— Если так, милое дитя, вам надо лечь в постель и позвать доктора.
— Нет, нет, я поеду с вами; кажется, вы правы и свежий воздух рассеет эту непонятную тоску.
— Вы действительно согласны ехать со мной, Хуана? Хочу заметить, что не намерен навязывать вам своей воли.
— Благодарю вас, сеньор, но я сама предпочитаю выехать. Я прошу у вас только несколько минут, чтобы взять шарф и накинуть мантилью на плечи.
— Я подожду сколько вам угодно.
— Только две минуты. Пойдемте, кормилица.
И донья Хуана, легкая, как птичка, бросилась из комнаты.
— Увы, почему она не моя дочь! — прошептал старый офицер, подавляя вздох.
Молодая девушка появилась почти тотчас.
— Не долго ли я отсутствовала? — спросила она, улыбаясь.
— Вы просто очаровательны, моя обожаемая дочь.
— Пойдемте, пойдемте, — ответила она с лукавым видом, — теперь, когда я исполнила вашу просьбу, вы опять сделались любезны.
Они вышли. На полпути к гавани они встретили капитана корабля «Тринидад», который, потеряв терпение дожидаться их на пристани, решил идти к ним навстречу.
Капитан был еще молод, с умным и решительным лицом. Прежде он служил офицером на военном испанском флоте и слыл моряком образованным и опытным.
Шлюпка для гостей была готова. По знаку капитана она подплыла к пристани.
За несколько минут они добрались до «Тринидада», великолепного трехмачтового судна с десятью бронзовыми пушками, похожего скорее на военный корабль, чем на мирное торговое судно.
На судне царил полный порядок. Губернатор и его питомица были приняты с должными почестями. Под навесом был приготовлен стол с пышным завтраком для четырех персон.
Представив губернатору своих офицеров, капитан пригласил лейтенанта, старого моряка, с которым плавал уже давно, сесть за стол вместе с ним, предварительно испросив позволения у дона Фернандо д'Авила, которое тот поспешил дать. После этого капитан велел подавать завтрак.
Кушанья были превосходные, вина — отборные. Донья Хуана, как бы желая забыть свое дурное расположение духа, а также невольно увлеченная новизной впечатлений, оживленным видом рейда и красотой пейзажа, как будто совершенно забыла о своей тоске, была очаровательна, весела, смеялась и поддразнивала старого лейтенанта, который не понимал ее шалостей и представлял из себя пресмешную фигуру, что еще больше веселило сумасбродную девушку.
— Ну, Хуана, — спросил ее опекун, — жалеете вы теперь, что поехали со мной?
— Не напоминайте мне об этом, дон Фернандо, я была глупа, теперь я поумнела. Сеньор капитан, покажите мне ваши прекрасные вещи.
— Об этих вещах судить вам, сеньорита, их никто еще не видел; прежде чем их распаковать, я ждал вас, зная ваш несравненный вкус, чтобы посоветоваться.
— Предупреждаю вас, что я буду очень строга.
— Я этого желаю, сеньорита, ведь вещи, которые понравятся вам, непременно произведут фурор среди других дам.
— Смотрите, не ошибитесь, сеньор капитан, наши дамы кичатся своим вкусом.
— Иначе и быть не может, сеньорита, только я убежден, что ваш вкус превосходит их.
— А вы льстец, сеньор капитан, — заметила донья Хуана, смеясь. — Когда же вы намерены разложить передо мной эти ослепительные вещи?
— Тотчас после завтрака.
— А вы, сеньор лейтенант, — обратилась она к старому морскому волку, который, чтобы не конфузиться, ел и пил без меры, — вы ничего не привезли?
— Я, сеньорита? — переспросил он, чуть не подавившись, так торопился ответить, и бросая вокруг себя испуганные взгляды. — Что я мог привезти, сеньорита?
— Ну, я не знаю; вещицы какие-нибудь, кружева или, может быть, золотые гребни, которые носят знатные севильянки.
— Нет… Кажется, нет.
— Как, кажется? Разве вы этого не знаете наверняка?
— Извините, сеньорита, я знаю наверняка, что у меня есть только кисея для пологов.
— О-о, это очень хорошо! — вскричала донья Хуана, всплеснув руками. — А ничего другого у вас нет?
— У меня есть только серебряные шпоры.
— Для дам?
— О нет! Для мужчин. Однако если вы соблаговолите их принять, сеньорита, я буду очень рад вам предложить.
— Шпоры или кисею?
— И то и другое, сеньорита, — ответил он, почтительно поклонившись ей.
Молодая девушка рассмеялась так громко и заливисто, что старый офицер был буквально поражен. В эту минуту к капитану подошел юнга и, поклонившись ему, шепнул на ухо несколько слов.
— Сеньор губернатор, — сказал капитан, поворачиваясь к дону Фернандо, — с вами желает говорить какой-то человек.
— Пусть подождет, — ответил дон Фернандо, — у меня не так часто выпадает свободная минута, чтобы половину этого драгоценного времени тратить на дела.
— Извините, сеньор, но этот человек сказал, что он пришел по очень важному делу и что когда вы узнаете его имя, вы тотчас примите его.
— А-а! Какое странное требование у этого человека! Кто это такой?
— Кажется, моряк, — почтительно ответил юнга.
— И он сказал вам свое имя, которое должно так безотказно подействовать на меня?
— Сказал, сеньор губернатор.
— Что же это за имя?
— Агуир.
— Как! — вскричал губернатор, вскочив и побледнев как смерть. — Вы говорите, Агуир?!
— Да, Агуир, сеньор губернатор.
— Как странно! Есть у вас, любезный капитан, какое-нибудь место, где я мог бы без свидетелей поговорить с этим человеком несколько минут?
— В моей каюте, сеньор губернатор.
— Хорошо. Покажите мне, как туда пройти, и проводите туда этого человека. Любезная Хуана, во время моего отсутствия, которое не может быть продолжительным, эти господа покажут вам все свои чудеса.
— Ступайте, ступайте, — ответила донья Хуана, — надеюсь, что эти известия не надолго лишат нас вашего общества.
Губернатор поспешно направился за капитаном, который отвел его в свою каюту и оставил там, попросив с неотразимой испанской вежливостью чувствовать себя здесь как дома и действовать сообразно с этим. Через минуту на лестнице раздались тяжелые шаги и в каюту в сопровождении юнги вошел Агуир. Дон Фернандо движением руки отпустил мальчика и обратился к шпиону, который почтительно остановился возле двери:
— Какими судьбами попали вы в эти края, Агуир? Какой добрый ветер занес вас сюда?
— Ветер недобрый, сеньор, — ответил тот двусмысленно, — я, напротив, считаю его дурным.
— Но вот уже целый месяц как погода великолепна.
— Страшные бури не всегда приходят с небес.
— Иногда их приносят люди, не так ли? Шпион молча поклонился.
— Откуда вы?
— Прямо из Веракруса, на бригантине самого вице-короля.
— Герцога Пеньяфлора?
— Да, сеньор.
— Гм! Стало быть, дело серьезное?
— Мало того, дело крайне важное, сеньор.
— Хорошо, я слушаю вас.
— Я привез с собой письмо от вице-короля, которое уведомит вас обо всем лучше, чем я, сеньор, — сказал Агуир, вынимая большой запечатанный конверт из своей шляпы и подавая его губернатору.
Дон Фернандо живо схватил его и распечатал дрожащей рукой. В нем заключалось всего несколько строк, но известия были так важны, что, несмотря на свое мужество, губернатор побледнел.
— Итак, — сказал он через минуту, подняв голову, — это верные известия?
— Самые верные, сеньор, я сообщил их вице-королю.
— От кого вы их узнали?
— Я сам все видел и слышал.
— Флибустьеры готовят экспедицию?
— Ужасную.
— Но, может быть, эта экспедиция направлена не против нас?
Шпион улыбнулся с иронией.
— Проезжая сюда, я прошел мимо двенадцати кораблей, направлявшихся к Арубе.
— Кто командует флотом?
— Сам Монбар Губитель.
Дон Фернандо задрожал при этом страшном имени.
— Вам известно, присоединился ли уже Монбар к своему дьявольскому флоту?
— Нет еще, так как он ненадолго свернул с дороги, чтобы захватить фрегат «Жемчужина» и четыре бригантины, что были снаряжены губернатором для уничтожения флибустьерских поселений на Тортуге.
— И что же? — с беспокойством спросил дон Фернандо.
— Монбар взял фрегат на абордаж на реке Эстера, потом вошел в гавань Санта-Мария, недалеко от Пуэрто-дель-Принсипе, захватил бригантины и потопил их, безжалостно умертвив команду. Через двое суток Монбар будет на Арубе, где флот только и ждет его, чтобы начать свои действия.
— Да сжалится над нами Всемогущий Господь! — вскричал дон Фернандо, падая на стул. — Если не свершится чудо, мы погибли!..
Глава XIX КАБИЛЬДО
Наступило минутное молчание. Дон Фернандо, пораженный ужасным известием, которое он узнал так неожиданно, крайне взволнованный, вынужденный признать слабость оборонительных средств, которыми он располагал, казался не способен связать и двух мыслей.
Шпион неподвижно и мрачно стоял перед ним, ожидая, чтобы опять начать разговор, так неожиданно прерванный.
Но дон Фернандо д'Авила был старый солдат неукротимой энергии, смелый до безрассудства. Когда прошел первый шок от страшного известия, он выпрямился во весь рост, все следы волнения исчезли с его лица, и он сделался холоден и спокоен.
В самом деле, что за дело было до смерти тому, кто видел ее и пренебрегал ею в двадцати сражениях? Если он дрожал, если его сердце было разбито, когда он узнал о готовившемся нападении флибустьеров на колонию, над которой он начальствовал, то вовсе не из-за страшной опасности, грозившей ему. Однако он знал флибустьеров, с которыми уже давно вел ожесточенную борьбу. Он знал, что их свирепость после победы превосходила даже их отвагу в сражении, что ни старики, ни малые дети не находили пощады перед этими свирепыми противниками и что особенно женщины должны были опасаться худшего с их стороны.
Как ни слабы были средства, которыми он располагал, он решился употребить их все — не для того, чтобы отвратить удар, нависший над его головой, но чтобы смягчить его силу, и если он не мог спасти города, то, по крайней мере, хотел попытаться избавить жителей от бедствий, коим суждено последовать за взятием города приступом.
— Могу я положиться на вас? — спросил он, пристально глядя на шпиона.
— Вице-король полностью доверяет мне, — ответил Агуир.
— Велика ваша бригантина?
— Она может перевезти человек сто на небольшое расстояние.
— Хорошо, вы понимаете меня. Возвращайтесь на свое судно, готовьтесь сняться с якоря и ждите моих приказаний.
Шпион сделал движение, чтобы уйти.
— Подождите, — остановил его дон Фернандо, — под страхом лишиться головы, никому об этом ни слова!
— Клянусь!
— Ступайте.
Агуир вышел. Через минуту после него губернатор поднялся на палубу.
— Ну что? — спросила его донья Хуана. — Важное известие получили вы?
— Довольно важное, милое дитя; я даже попрошу вас немедленно отправиться со мной на берег, а капитан пусть извинит меня, что мне приходится так скоро оставить корабль, где нас встретили так гостеприимно.
Капитан поклонился.
— Предвидя, что всякое может случиться, — сказал он, — я велел приготовить шлюпку; она ждет вас, сеньор губернатор.
— Благодарю вас, кабальеро, но осмотр ваших товаров только отложен; надеюсь, что скоро мы его произведем. Вы едете с нами?
— Если вы позволите.
— Вы доставите мне удовольствие. Поехали, Хуана, моя милая, мы и так уже слишком задержались.
— Но разве эти известия так важны? — спросила девушка с беспокойством.
— Довольно важны. Я вас жду.
Они сели в лодку и через несколько минут очутились на набережной среди шумной и веселой толпы.
Дон Фернандо нахмурил брови, эта веселость была ему неприятна. Он заметил офицера, курившего сигару на набережной, сделал ему знак подойти, наклонился к его уху и шепотом отдал ему приказание. Офицер удалился почти бегом. Дон Фернандо взял за руку свою питомицу и в сопровождении капитана корабля «Тринидад» направился к своему дому такими быстрыми шагами, что опасения молодой девушки возросли еще больше. Губернатор простился с доньей Хуаной, поцеловал ее в лоб и, проводив до ее половины, повернулся к капитану и сказал ему:
— Пойдемте.
— Куда мы идем?
— В кабильдо.
Капитан жестом выразил удивление.
— Что случилось? — спросил он.
— Ужасное известие, — ответил губернатор вполголоса, — но пойдемте, скоро вы все узнаете.
В Испании и во всех испанских колониях словом кабильдо называют ратушу.
Когда дон Фернандо пришел туда с капитаном, офицеры гарнизона и городские власти уже собрались в зале совета. Они вполголоса разговаривали между собой и с любопытством расспрашивали друг друга о причинах этого неожиданного совещания.
Губернатор вошел важной поступью и сел в кресло, приготовленное для него на возвышении в глубине залы.
— Senores caballeros, — сказал он, — попрошу вашего самого серьезного внимания. Час тому назад я получил известие, которое обязан вам сообщить немедленно.
Офицеры поспешили занять места, предназначенные им этикетом. Когда все сели и водворилась тишина, губернатор встал и, развернув письмо, отданное ему Агуиром на «Тринидаде», произнес:
— Послушайте, сеньоры, это известие должно быть интересно для всех вас.
Тишина и внимание удвоились. Губернатор обвел глазами собравшихся и начал читать депешу:
«Сеньору полковнику дону Фернандо д 'Авила, губернатору Маракайбо, Гибралтара и других мест.
Сеньор полковник! Из достоверных источников нам стало известно, что французские и английские разбойники, называющиеся флибустьерами, вопреки мирному договору, существующему между тремя королевствами, вооружают в эту минуту грозный флот из двенадцати или четырнадцати кораблей с тремя тысячами разбойников на борту, с целью, о которой они заявляют во всеуслышание: напасть и разграбить города в провинции, находящейся под вашим ведомством…»
Услышав эти известия, присутствующие вскрикнули от гнева и испуга, так что губернатор был вынужден прервать на минуту чтение депеши.
— Подождите, сеньоры, — сказал он спокойным и твердым голосом, — я еще не кончил.
Он продолжал среди тишины и глухого волнения:
«…Мне не нужно напоминать вам, сеньор полковник, о том, что надлежит сделать все необходимое для пользы короля; я слишком ценю ваше мужество и вашу опытность для того, чтобы предписывать вам, как вы должны поступать в подобных обстоятельствах. Если вы сумеете в течение нескольких дней сопротивляться разбойникам, к вам подоспеет сильная помощь из Веракруса и, я уверен, поможет вам уничтожить орды грабителей. Не отчаивайтесь, сеньор полковник, и, как вы делали уже не раз, храбро защищайте кастильскую честь. Да здравствует король!
Молю Бога, сеньор полковник, чтобы Он хранил вас под Его святым покровом.
Вице-король Новой Испании герцог Пеньяфлор, испанский гранд первого ранга и т. д. и т. п.»
В этой депеше находился еще постскриптум, но дон Фернандо счел благоразумным не читать его. Вот что заключалось в этом постскриптуме:
«Я должен вас предупредить, сеньор полковник, что разбойниками командуют самые отъявленные злодеи; главные предводители — Монбар Губитель и англичанин Морган, разбойники, известные тем, что никогда не дают пощады побежденным. Это должно вас побудить скорее пасть в сражении, чем сдаться.»
Дон Фернандо не зачел этого постскриптума, который мог бы окончательно уничтожить уже и без этого поколебленное мужество присутствующих, до того имя Монбара наполняло их ужасом.
После чтения депеши от вице-короля в течение нескольких минут раздавались крики и проклятия, так что губернатору невозможно было заставить себя слушать. Наконец шум мало-помалу утих, и дон Фернандо поспешил этим воспользоваться, чтобы заговорить.
— Теперь не время горевать, надо действовать, — сказал он резко. — Время не терпит. Не приходите в уныние, следуйте моим советам, не теряя ни минуты, и я ручаюсь если не спасти город, то по крайней мере избавить ваши семейства и ваши богатства от разграбления разбойников.
— Говорите! Говорите! — вскричали все в один голос.
— Помолчите же, вместо того чтобы кричать, не слушая Друг друга, — продолжал губернатор, с гневом топнув ногой.
Все замолчали.
— К счастью для нас, испанский флот стоит в нашей гавани, и она наполнена судами всех возможных величин. Поспешите разместить всех женщин и детей и все драгоценности на этих кораблях. Они доставят их в Гибралтар. Маракайбо не сможет выдержать осады, лучше бросить его, пусть разбойники спокойно в него войдут. Пока они потеряют время, грабя то немногое, что здесь останется, мы займемся усилением укреплений Гибралтара, которые уже и без того достаточно мощны. Если разбойники осмелятся преследовать нас там, я надеюсь так наказать их, что у них пропадет охота предпринимать новую экспедицию к этим берегам. Кроме того, вице-король обещает нам скорую помощь, и, вероятно, разбойники не успеют даже атаковать наше убежище. Поспешите же предупредить ваших сограждан и подготовиться к отъезду. Тот, кто завтра на рассвете будет еще в Маракайбо, так и останется здесь. Вы все слышали, ступайте. А вы, сеньоры офицеры, пока задержитесь. Горожане с шумом бросились к дверям и в одно мгновение очистили залу. Почти тотчас на улицах послышались их крики, к которым скоро присоединились зловещие звуки набата во всех церквах.
— Senores caballeros, — сказал губернатор, когда увидел, что все горожане вышли, а остались одни офицеры, — мы солдаты и робеть не станем, мы исполним наш долг! Следовательно, мне нечего уговаривать вас сражаться храбро во имя короля. Полковник дон Сантьяго Тельес!
— Что прикажете, ваше превосходительство? — отозвался полковник, подходя к губернатору.
— Возьмите пятьдесят решительных человек и ступайте на пристань; там вы найдете моряка по имени Агуир. Отправляйтесь с вашими людьми на его бригантине на Голубиный остров, в форт Барра, гарнизон которого состоит из сорока пяти человек. Постарайтесь продержаться один день против разбойников, это необходимо.
— Ваше превосходительство, я продержусь два дня, — ответил полковник, — я ручаюсь вам за это.
— Благодарю вас. Прощайте, полковник.
— Прощайте, ваше превосходительство. Скоро вы услышите о моей смерти, но будьте спокойны, я заставлю разбойников дорого заплатить за нее.
Он поклонился и вышел, столь же спокойный с виду, как если бы отправлялся на прогулку.
— Капитан Ортега, — сказал губернатор, подавляя вздох, — отправьте пятьдесят солдат верхом во все стороны дать знать по деревням о приближении разбойников. Ступайте.
Капитан Ортега тотчас ушел.
— А вы, полковник дон Хосе Ортес, — продолжал губернатор, — примите начальство над гарнизоном; удалитесь с ним в Гибралтар, оставив здесь только пятьдесят человек добровольцев. Вы меня понимаете?
— Абсолютно понимаю, ваше превосходительство.
— Особенно прошу вас увезти все оружие и боеприпасы: ни к чему дарить разбойникам наши пушки.
— Решительно ни к чему. Где должны остаться эти солдаты?
— Здесь, в кабильдо.
— Очень хорошо. А когда мне отправляться?
— С последней партией жителей. Прощайте, полковник.
— Нет, ваше превосходительство, до свидания.
— Кто знает… — прошептал дон Фернандо. Полковник в свою очередь вышел. С губернатором остался только один человек — капитан «Тринидада».
— Как! — сказал он, заметив его. — Вы все еще здесь, капитан?
— Да, ваше превосходительство, я предпочел остаться с вами.
— Но позвольте заметить вам, капитан, что вы поступаете вопреки вашим интересам, коли не торопитесь.
— Я тут кое о чем поразмыслил, ваше превосходительство, — сказал капитан, не отвечая на замечание губернатора.
— О чем же, капитан?
— С тех пор как мы здесь, вы занимались другими и вовсе не думали о себе.
— Не в этом ли заключается моя обязанность?
— Я вас не осуждаю, наоборот…
— Ну так что же?
— Мне кажется, что теперь настал ваш черед, для этого я и остался. Вы приказали ретироваться к Гибралтару, а это значит, что у вас имеются весьма серьезные причины.
— Действительно, очень серьезные, капитан.
— Но вы же не можете позволить врагам бесславно убить себя здесь вместе с горсткой людей; кроме того, у вас есть питомица, о которой вы обязаны позаботиться.
— Моя питомица поплывет в Гибралтар на вашем корабле.
— Одна?
— С вами.
Капитан покачал головою.
— Нет, — сказал он.
— Как! Вы мне отказываете?! — вскричал губернатор с удивлением.
— Не я, а она откажется, ваше превосходительство.
— О-о! Что это вы мне говорите, капитан!
— Спросите ее об этом сами — и вы увидите; только помните, что все корабли уйдут нынче ночью в Гибралтар, останется один мой; я поклялся не оставлять вас здесь.
Губернатор с минуту размышлял, потом протянул капитану руку, говоря с некоторым волнением в голосе:
— Хорошо, капитан, я согласен, но предупреждаю вас, что я оставлю свой пост последним, да и то лишь тогда, когда мне ничего больше не останется делать.
— Именно это я и имел в виду.
— Пойдемте к моей питомице.
Они вышли из кабильдо и быстрым шагом направились к дому губернатора.
Вид города за два часа совершенно изменился: улицы наводняли толпы обывателей, но уже не слышно было ни смеха, ни пения, не было видно веселых лиц. В воздухе раздавались горестные восклицания, сдавленные рыдания, вокруг виднелись бледные и испуганные лица — словом, повсюду царили ужас и отчаяние.
По приказанию губернатора началась эвакуация. Жители бросали дома, прихватывая все самое ценное из своего имущества; за ними следовали испуганные жены и дети. Это зрелище леденило сердце.
Дурные известия распространяются с непостижимой быстротой; донья Хуана уже знала обо всем. Когда дон Фернандо вошел к ней в комнату, он нашел ее лежащей на подушках, бледную, но холодную и решительную. Нья Чиала, сидя в углу комнаты, плакала, закрыв лицо руками. Дон Фернандо с одного взгляда понял, в чем дело.
— Хуана, милое мое дитя, я вижу, что вы уже знаете об опасности, угрожающей нам.
— Знаю, — ответила она печально.
— Вы знаете, что мы вынуждены отступить перед силами, гораздо значительнее наших, и очистить город?
— Знаю.
— Я пришел за вами, уложите же все наиболее дорогие ваши вещи.
— Мы едем! — вскричала донья Хуана, с живостью вставая.
— Да, милое дитя, вы едете, а я должен остаться здесь еще на некоторое время; ведь мне нужно позаботиться о спасении несчастных жителей нашего города. Она упала на подушки.
— Хорошо, — сказала она, — я подожду.
— Подождете?
— Неужели вы можете оскорбить меня предположением, будто я соглашусь уехать, бросив вас здесь?
— Будьте рассудительны, Хуана, дитя мое, опасность ужасна. Вы знаете, как я вас люблю; я буду спокоен только когда узнаю, что вы в безопасности. Капитан ждет вас, пойдемте.
— Я благодарна капитану, но уеду только вместе с вами. О! Не качайте головой, я так решила! Если вы меня любите, то и я вас люблю. Для меня, бедного брошенного ребенка, без родных и без друзей, вы один составляете всю мою семью. Не настаивайте же, умоляю вас, это бесполезно, я умру или спасусь вместе с вами.
— Прошу вас, Хуана, перемените это намерение, которое приводит меня в отчаяние, согласитесь уехать.
— С вами — да, без вас — нет. Я ваша дочь, если не по крови, то по сердцу; обязанность дочери оставаться, что бы ни случилось, возле своего отца, и я останусь.
Напрасно дон Фернандо настаивал, донья Хуана оставалась тверда и непоколебима. В конце концов он был вынужден уступить ее желанию. Тогда молодая девушка с радостью вскочила и бросилась к нему на шею, заливаясь слезами и от души благодаря его.
— Вы помните мои утренние предчувствия, — сказала она с печальной и кроткой улыбкой. — Вы все еще думаете, что я сумасбродна?
— Нет, — ответил он, — это я был слеп; вас предостерегал сам Господь.
На другой день на рассвете город был пуст. По улицам и площадям бродили только люди, которые сочли бесполезным выезжать из города: они были слишком бедны для того, чтобы опасаться флибустьеров.
Дон Фернандо оставался в доме, перед которым поставил Пятьдесят солдат, взятых им из восьмисот, составлявших гарнизон.
Донья Хуана и нья Чиала поместились на «Тринидаде». Капитан поклялся девушке, что не отчалит без дона Фернандо. Для спасения жителей города были приняты все меры предосторожности. Губернатор, успокоившись на их счет, спокойно ожидал появления авантюристов.
Глава XX ГОЛУБИНЫЙ ОСТРОВ
Монбар, согласовав с Морганом последние детали предстоящей операции, простился с ним и проводил его до шлюпки. Обернувшись, он очутился лицом к лицу с Франкером. — Ах! — сказал он. — Я забыл о донне Кларе. — Простите, адмирал, — почтительно ответил молодой человек, — я хотел бы обратиться к вам с просьбой.
— Говорите, друг мой, — тотчас откликнулся Монбар, — и если это зависит от меня…
— Это зависит только от вас, адмирал.
— Если так, все будет исполнено, только скажите мне, чего вы желаете.
— Адмирал, вы меня назначили вашим капитаном, так?
— Да, но я сделал это на время, пока у меня есть возможность поручить вам командование над кораблем.
— Извините меня, адмирал, но я предпочитаю остаться у вас.
Монбар бросил на него проницательный взгляд.
— У вас есть для этого причины? — спросил он.
— Причина одна — оставаться возле вас, пока нам грозит опасность, адмирал, и надежда быть вам полезным во время сражения.
Лицо молодого человека дышало такой честностью, пока он произносил эти простые слова, что Монбар растрогался.
— Хорошо, — сказал Монбар, протянув ему руку, — отправляйтесь на «Тигр», скажите вашему лейтенанту, что вы уступаете ему командование над кораблем, и возвращайтесь сюда; ваше место еще не занято.
— О, благодарю, адмирал! — вскричал Франкер в порыве благодарности.
— Кстати, — продолжал Монбар, — захватите с собой чемоданы и сундуки донны Клары; она также останется на фрегате. Наши товарищи не всегда бывают любезны, и я не настолько доверяю Александру Железной Руке, который заменит вас, чтобы оставить ее на его корабле.
Он дружески кивнул напоследок молодому человеку и вошел в свою каюту, где его ожидала донна Клара.
— Извините меня, пожалуйста, — сказал он, — если я заставил вас долго ждать; клянусь вам, это зависело не от меня.
Взяв стул, он сел напротив нее.
— Я знаю, да и спешить мне некуда.
— Тем более, — продолжал Монбар, — что вы больше не вернетесь на «Тигр». Франкер оставил начальство над «Тигром» и опять занял пост, который прежде занимал на моем судне. Мне казалось, что вам будет удобнее остаться со мной, чем вернуться на корабль, где, никого не зная, вы были бы совершенно одиноки.
— Благодарю вас за ваши слова, — ответила она с волнением.
— Это совершенная безделица и не стоит благодарности. Теперь, если каюта для вас удобна, прошу вас с этой минуты считать ее своей; ваш доверенный слуга Бирбомоно поместится в двух шагах от вас, так что он будет под рукой, когда вам понадобится.
— Вы осыпаете меня милостями…
— Нет, я просто исполняю свою обязанность. Но оставим это. Будьте так добры, сообщите мне, что у вас за дело ко мне и чем я могу быть вам полезен.
— Я испанка, вы это знаете, — ответила она дрожащим голосом, — вы ведете войну с моими соотечественниками. Я хотела вас просить не быть к ним безжалостным.
Монбар слегка нахмурил брови.
— Я в отчаянии, — сказал он, — но вы просите у меня невозможного.
— О! Неужели вам не надоело страшное имя Монбара Губителя, которое вам дали ваши враги?
— К несчастью, дело здесь не во мне. Законы нашего братства непреложны, и я должен подчиняться им наравне с Другими братьями. Нам запрещено щадить испанцев.
— Но почти все ваши друзья берут пленных.
— Они могут нарушать законы, если хотят, а я этого не могу, по самой простой причине: законы эти составил я и, следовательно, я должен повиноваться им больше, чем всякий другой.
— Хорошо, — прошептала она, подавив вздох, — я не настаиваю. Да исполнится воля Всевышнего. Забудьте, что я вам сказала и простите, что осмелилась говорить с вами таким образом.
Монбар встал, почтительно ей поклонился и вышел из каюты на палубу.
— Боже мой! — прошептала донна Клара, закрыв лицо руками и в отчаянии опускаясь на стул. — Боже мой! Не достаточно ли я наказана за преступление, в котором неповинна? Боже мой, какие горести хранишь Ты для меня среди этих неумолимых людей?
Она опустилась на колени перед распятием, висевшим на стене, и стала молиться. Таким образом прошел для нее целый день. К вечеру Бирбомоно, войдя к донне Кларе со свечой, нашел ее без чувств у подножия креста. Он поднял ее, перенес на койку и оказал необходимую помощь.
Донна Клара раскрыла глаза, но лежала молча и без сил; отчаяние разбило ее.
— Бедная женщина! — прошептал мажордом и сел в тени у изголовья, чтобы при необходимости услужить ей.
Всю ночь донна Клара молча плакала, и только к утру, побежденная усталостью, она поддалась сну. Тогда Бирбомоно встал со своего места, на котором просидел несколько часов, и на цыпочках, чтобы не разбудить свою госпожу, вышел из каюты.
Скоро должен был забрезжить рассвет. Приближались важные события, потому что, если читатели помнят, Монбар решился на рассвете атаковать Голубиный остров.
Накануне вечером, на закате солнца, Монбар на легкой шлюпке с десятью гребцами приблизился к берегу настолько, чтобы, оставаясь невидимым в зыби волн, рассмотреть в подзорную трубу, что происходит на суше.
Он заметил несколько больших судов с людьми, направлявшихся к Голубиному острову. Эти суда подплыли к берегу и высаживали своих пассажиров. Монбар, несмотря на риск, которому подвергался, подобравшись еще ближе, крайне встревоженный этой высадкой, приказал своим матросам править к острову.
К счастью для него, солнце закатилось и царил глубокий мрак. Он мог продвинуться вперед так далеко, как только желал. Тогда с помощью подзорной трубы ему удалось выяснить, что это прибыли солдаты. Они старательно копали землю. Из этого Монбар не без основания заключил, что они возводили земляные укрытия для защиты острова.
Действительно, это были солдаты, посланные доном Фернандо д'Авила под начальством полковника дона Сантьяго Тельеса, чтобы подкрепить гарнизон.
Флибустьер, удовлетворенный увиденным и считая бесполезным свое дальнейшее пребывание здесь, поспешил повернуть шлюпку и вернуться на свой корабль, до которого добрался в полночь. Он тотчас отправил Франкера к командирам других кораблей с приказанием распустить паруса на восходе солнца и продвигаться к острову полукругом, предоставив его фрегату указывать путь флоту. Адмирал, понимая, что испанцы оповещены о его прибытии, не хотел дать им время укрепить позиции и решил немедленно атаковать и во что бы то ни стало захватить Голубиный остров, потому что от взятия этого пункта, возвышавшегося над входом в озеро, зависел успех всего предприятия.
Грандиозное и грозное зрелище представлял для испанцев этот флот в пятнадцать кораблей, направлявшийся к озеру Маракайбо и появившийся, так сказать, из недр волн при первых лучах восходящего солнца. Но люди, посланные для подкрепления в форт Барра, были отборные солдаты под начальством опытных офицеров; они знали, на что идут. С чувством радости, смешанной с гневом и гордостью, наблюдали они за приближением ненавистного неприятеля, который заставил их вытерпеть столько поражений и которому они горели нетерпением блистательно отомстить.
Приблизившись к берегу, по сигналу адмиральского корабля все суда остановились. Ракета, пущенная из сторожевой башни, уведомила испанский гарнизон, что флибустьерский флот готовится войти в озеро. Канониры стояли с зажженными фитилями, готовые стрелять по горловине, над которой возвышался форт.
Прошло довольно продолжительное время, в течение которого флибустьеры не совершали никаких видимых маневров и стояли совершенно неподвижно. Испанцы не могли понять такого бездействия, не знали, чему приписать его. Внезапно от фрегата отделилась лодка, на носу которой развевался парламентерский флаг. Лодка на веслах направлялась к берегу.
— Что это значит? — спросил комендант форта у полковника.
— Это значит, — ответил тот, — что эти люди, вероятно, хотят сделать нам предложение.
— Договариваться с подобными негодяями! — вскричал комендант с гневом. — Это же стыдно! Я прикажу потопить эту проклятую лодку.
Он сделал движение, собираясь подойти к ближайшей батарее.
— Сохрани вас Бог! — с живостью остановил его полковник. — Мне приказано держаться как можно дольше, чтобы выиграть время; это пойдет нам только на пользу.
— Раз так, принимайте командование на себя, полковник, — с досадой ответил комендант, — а я, ей-Богу, не вступлю в переговоры с этими разбойниками.
— Хорошо, — сказал полковник, — я возьму на себя эту ответственность. Речь сейчас идет не о гордости или щепетильности, надо спасать город. Предоставьте мне действовать.
— Действуйте, полковник. К тому же вы выше меня по званию и я обязан повиноваться вам.
Полковник велел тотчас выкинуть парламентерский флаг над фортом и спустил на воду лодку. Когда флибустьеры подплыли на ружейный выстрел к форту, они остановились. Полковник сошел в лодку и, как только заметил, что флибустьеры остановились, велел грести к ним. Обе лодки скоро очутились на расстоянии пистолетного выстрела друг от друга. В флибустьерской лодке сидел сам Монбар. Он встал и, сняв шляпу, сказал:
— Подходите ближе, сеньор, клянусь честью, вам нечего опасаться обмана или измены с нашей стороны.
— Кто мне за это ручается? — спросил полковник. — Я — комендант форта.
— А я адмирал флота, — сказал Монбар, — кроме того, со мной в лодке находятся четыре безоружных человека, а с вами — двадцать прекрасно вооруженных человек. Стало быть, опасаться должны мы.
— Это правда, — сказал полковник. — Причаливай, — обратился он к рулевому.
Обе лодки тотчас сошлись борт о борт. Монбар ухватился за край лодки, чтобы она не опрокинулась, и одним прыжком очутился возле полковника. У него действительно не было оружия.
— Вы видите, сеньор полковник, — сказал он, — что я подаю вам пример доверия.
— Вы находитесь под охраной кастильской чести, сеньор кабальеро, — благородно отвечал полковник.
Монбар вежливо поклонился.
— Вы хотели переговоров, сеньор, — продолжал полковник. — Я жду, говорите.
— Разговор будет коротким, кабальеро. Я прошу вас сдать мне форт.
Полковник засмеялся.
— Действительно, коротко и ясно, — заметил он, — вы приступаете прямо к делу.
— Такая уж у меня привычка, кабальеро. Прошу вас отвечать мне.
— Я последую вашему примеру, сеньор, и отвечу вам одним словом — нет.
— Прекрасно, я только хотел вам заметить, что лачуга, над которой вы начальствуете, не может сопротивляться силам, нападающим на нее.
— Это мое дело, сеньор. Эта лачуга, как вы ее называете, поручена мне. Если я не могу спасти ее, по крайней мере я могу умереть, защищая ее от вас.
— Это будет смерть достойная, конечно, но бесполезная.
— Может быть, сеньор; вы не знаете состояния наших сил.
— Ошибаетесь, я знаю о них так же хорошо, как и вы. Вспомните графа де л'Аталайя и посмотрите на меня хорошенько, — прибавил Монбар, снимая шляпу и отбрасывая волосы со лба.
— Возможно ли! — вскричал полковник с изумлением.
— Это был я. Ну как, не изменяет ли ваших намерений это открытие?
— Нисколько, сеньор, моя решимость непоколебима.
— Послушайте, — продолжал Монбар примирительным тоном, — вы человек храбрый. Зачем же ради пустой славы вы хотите погубить целый гарнизон, находящийся под вашим командованием? Честное слово дворянина, я предложу вам хорошие условия.
— Я уже сказал вам, что моя решимость непоколебима.
— Это ваше последнее слово?
— Последнее, — холодно ответил полковник.
Да свершится ваша судьба, коли так, и пусть пролитая кровь падет на вашу голову.
— Господь будет меня судить, я верю в Его всемогущую доброту.
— Это единственное покровительство, остающееся вам. Прощайте, сеньор полковник, через час я начну штурм.
— Мы постараемся хорошенько ответить вам, сеньор кабальеро.
Оба церемонно поклонились друг другу. Монбар пересел в свою шлюпку, которая немедленно удалилась по направлению к фрегату, между тем как полковник поспешно возвратился в форт Барра.
— Ну что? — спросил бывший комендант, когда полковник прибыл на остров.
— Приготовьтесь сражаться, господа, — сказал полковник, обнажая шпагу, — и помните, что вы имеете дело с людьми, которые не дают пощады.
Все разошлись по местам, готовые выполнить свой долг до конца.
Мы должны сказать, что поступок, на который пошел Монбар, вовсе не согласовался с привычками знаменитого флибустьера. Он был совершен по милости просьб донны Клары. Правда, согласившись это сделать, Монбар, может быть, предчувствовал, что этот шаг не принесет никакого результата.
Как только адмирал вернулся на фрегат, флоту было дано несколько сигналов и почти тотчас показались лодки с вооруженными людьми, медленно направлявшиеся к берегу. Эта флотилия, составленная из двадцати пяти лодок и насчитывавшая около пятисот человек, собиралась предпринять высадку.
Лодками командовали Монбар, Морган и другие известные флибустьеры.
Испанцы подпустили их на ружейный выстрел. Внезапно артиллеристы склонились над пушками и флотилия была осыпана картечью. Флибустьеры не отвечали, они продолжали двигаться вперед, распевая, по своему обыкновению, гимны и не занимаясь своими товарищами, в которых попала картечь.
Раздался второй залп, за ним — третий.
— Вперед! — закричал Монбар, взмахнув шпагой и бросаясь из лодки в воду.
— Вперед! Вперед! — повторили флибустьеры, выпрыгивая из лодок и устремляясь за Монбаром, совершенно не заботясь о том, близко ли берег.
Испанцы усилили огонь. Флибустьеры выскочили на берег и побежали к палисадам, покрытым землей, которые служили неприятелю аванпостами. Порыв их был непреодолим; палисады в один миг были разрушены, испанцы сбиты с ног и убиты. Беглецов преследовали по пятам, и авантюристы ворвались в испанские укрепления на плечах убегающего противника. Флибустьеры тотчас бросились на артиллеристов, убили их у пушек, не дав времени сделать последний залп, развернули жерла пушек против бежавших солдат и осыпали их картечью в упор.
Так флибустьеры овладели Голубиным островом. Флот, оповещенный о победе, тотчас распустил паруса и вошел в озеро, чтобы приблизиться к городу.
За исключением нескольких солдат, успевших убежать, весь гарнизон был безжалостно перебит.
Флибустьеры нашли в форту шестнадцать пушек большого калибра, оружие, порох и значительное количество провианта.
Взятие форта Барра обеспечивало успех экспедиции. Отныне падение городов, расположенных на берегах озера, было неизбежно. Это был только вопрос времени.
Полковник, как и обещал губернатору Маракайбо, храбро пал во главе своего гарнизона. Но эта смерть, как ни была она достославна, оказалась совершенно бесполезной, потому что форт был взят менее чем за час.
Глава XXI МАРАКАЙБО
После взятия Голубиного острова дорога до Маракайбо перед флибустьерами была открыта. Они оказались властелинами озера и имели возможность беспрепятственно штурмовать все прибрежные города. Успех экспедиции был почти обеспечен. Только море оставалось открытым. У испанцев была единственная возможность победить: напасть на флибустьеров со стороны Венесуэльского залива, отрезать отступление и запереть их, как в мышеловке. Необходимо было устранить, насколько возможно, эту угрозу с тыла, которая в случае осуществления могла превратить торжество флибустьеров в их гибель. Монбар созвал военный совет, на котором прямо изложил положение дел.
Береговые братья, упоенные своей победой, предоставили ему полную свободу принять меры, которые он сочтет необходимыми для общей безопасности.
Знаменитый флибустьер, опираясь на их согласие и руководимый осторожностью, а может быть, под тайным влиянием планов, которые он составил уже давно и осуществление которых было ближе его сердцу, чем богатства, прельщавшие его товарищей, оказался в этом случае достойным вверенного ему поручения.
Боясь излишней поспешностью свести на нет благоприятные шансы предприятия, он прежде всего занялся обеспечением отступления на случай поражения. Исходя из этого, прежде чем двигаться дальше, он велел срыть до основания укрепления на Голубином острове и заклепать пушки, поскольку не имел ни средств, ни времени захватить их с собой. Как ни быстро были проведены эти работы, они потребовали довольно значительного времени, так что только через три дня после взятия форта Барра флот мог направиться к Маракайбо.
Велико было удивление флибустьеров, когда они напил этот город совершенно пустым. Монбар и его товарищи тотчас высадились и заняли лучшие дома. Но все же адмирал, опасаясь засады, выставил посты у Главной площади, в соборе и даже на улицах, выходивших за город. По принятии необходимых мер предосторожности флибустьерам была предоставлена полная свобода беспрепятственно предаваться грабежам и веселью.
Адмирал поселился в доме, который он занимал прежде, во время своего первого путешествия, а для донны Клары были приготовлены комнаты в этом же самом доме.
С тех пор как флибустьеры овладели Маракайбо, донна Клара ухаживала за ранеными. Ее стараниями кабильдо был превращен в лазарет, и туда перенесли людей, раненных при взятии Голубиного острова. Благодаря неустанным заботам донны Клары многие вскоре выздоровели. Донне Кларе помогали бедные женщины, оставшиеся в городе после бегства жителей; таким образом она в какой-то мере обеспечила их безопасность.
Большую часть дней, а зачастую и ночей донна Клара оставалась в лазарете, ухаживая за больными, стараясь утешить их кроткими словами, которые знают одни только женщины, потому что они черпают их из сердца.
Флибустьеры, первое время неприязненно смотревшие на донну Клару, переносившие ее присутствие с глухим ропотом, мало-помалу изменили свое мнение на ее счет. Как все крайние натуры, они резко перешли от ненависти и отвращения к самой глубокой любви, к самому величайшему уважению и к самой неограниченной преданности к своей благодетельнице. Хищные звери превратились в ягнят. Один знак, один взгляд донны Клары совершал чудеса. Эти люди обожали ее, как святую; горе тому, кто осмелился бы нанести ей оскорбление — такая мысль не пришла бы в голову никому.
Сам Монбар все больше ощущал на себе влияние этой кроткой и изящной маленькой женщины и вместо того, чтобы противиться, с тайным удовольствием подчинялся очарованию донны Клары.
В одном он оставался непоколебим: ни слезы, ни просьбы не помогали донне Кларе проникнуть в это сердце, глубокое как бездна, чтобы выведать его планы мщения. Во всех других случаях улыбка донны Клары тотчас заставляла его идти на требуемые уступки, и часто он предупреждал желания донны Клары по собственному побуждению, смягчая строгости, жертвой которых стали несчастные испанские пленные.
Что касается Франкера, положение его среди флибустьеров было странным: он был воспитан на ненависти к ним и, несмотря на свои усилия, не мог считать их своими товарищами. Часто он спрашивал себя, законно ли мщение, замышляемое им против испанцев, и следует ли ему считать всех своих соотечественников виновными в зле, которое причинил ему один человек.
Монбар внимательно следил за душевными переживаниями молодого человека, отражавшимися на его лице, как в зеркале, но сам оставался безмолвен, не подстегивая его, не останавливая. Монбар не знал, как определить чувство, которое влекло его к Франкеру, не знал, несмотря на намеки Дона Санчо и донны Клары, должен ли он видеть в нем сына, так давно потерянного. Поэтому, несмотря на свое притворное равнодушие, он с беспокойством ждал, чтобы события открыли ему истину, которую он так стремился узнать.
Лишь один человек знал тайну, от которой зависели в будущем счастье или несчастье Монбара, и этим человеком был герцог Пеньяфлор. Но как заставить этого неумолимого человека открыть тайну? Однако флибустьер не отчаивался; он ждал результата неких соображений, успех которых казался ему неминуем.
Но несчастнее всех был Филипп д'Ожерон. В то время как его товарищи предавались радости торжества и забывали прошлые усталости и опасности в самых неистовых оргиях, он один был погружен в мрачное отчаяние.
Первая мысль об этой экспедиции, так быстро организованной, так искусно проводимой, принадлежала ему. Это смелое предприятие, поначалу заставившее отступить самых храбрых, пришло ему в голову с единственной целью, для которой он пожертвовал всем — соединиться с той, которую любил, и эта цель, так долго преследуемая, эта надежда, лелеянная с такой страстью, ускользнула от него в ту самую минуту, как он думал, что достиг ее. Напрасно, подплывая к городу, подавал он свой сигнал и с трепещущим сердцем искал в окнах домов, окаймлявших гавань, ответный знак. Все оставалось холодно, безмолвно и мрачно.
Высадившись на берег, он побежал, обезумев от тревоги и горя, к дому доньи Хуаны; дом был пуст. Девушка исчезла, не оставив никаких следов. Тогда с упорством и непоколебимой верой влюбленного он принялся осматривать весь город, входил во все дома, отворял все двери, не желая верить своему несчастью и каждую минуту ожидая увидеть внезапное появление той, которую любил, хотя он знал, что город оставлен всеми жителями, и должен был понимать, что донья Хуана должна была уехать вместе со всеми.
Потом, когда он наконец вынужден был поверить очевидному, когда он окончательно убедился, что той, которую он любил, в городе нет, он заперся у себя дома и несколько часов оставался в таком полном унынии, что даже кавалер де Граммон, хоть и был его соперником, сжалился над его горестью и старался утешить.
Филипп вышел из этого уныния только затем, чтобы впасть в страшную ярость. Он явился к Монбару и принялся доказывать ему, что за оставлением испанцами города наверняка кроется засада, после чего предложил обыскать окрестные леса.
— Обыщите, друг мой, — сказал ему Монбар с тонкой улыбкой. — Совет ваш хорош, сделайте это сегодня же, и если среди людей, которых вы, без сомнения, отыщете, находятся женщины, которыми вы интересуетесь, я постараюсь причислить их к вашей доле.
— Благодарю, — ответил Филипп, — я запомню ваше обещание и напомню его вам при необходимости.
— В этом нет нужды, друг мой, ступайте.
Филипп ушел без дальнейших разговоров. Он вознамерился начать настоящую охоту. Собрав шестьдесят флибустьеров, молодой человек удалился вместе с ними.
Вечером он вернулся в Маракайбо и привел с собой восемьдесят пленных, более пятидесяти мулов с добычей и деньгами на сумму в сто тысяч франков.
— Браво! — воскликнул Монбар, когда Филипп отчитался ему в своей экспедиции. — Прекрасное начало, теперь надо продолжать в том же духе.
— Завтра, — ответил молодой человек.
На другой день он снова отправился на поиски. Флибустьеры, привлеченные первым успехом, с большой охотой следовали за ним, тем более что грабеж домов и церквей не оправдал их ожиданий, да оно и понятно, ведь жители успели вывезти с собой все более или менее ценные вещи.
Таким образом охота продолжалась несколько дней с большим или меньшим успехом, но почти всегда удачно. Флибустьеры были в восторге, один Филипп предавался отчаянию. Товарищи не понимали его странного поведения, они готовы были считать его сумасшедшим.
— Вы не с того конца беретесь за дело, друг мой, — сказал ему Монбар однажды вечером, когда Филипп, чуть не плача, привел к нему сто мулов с добычей на двести тысяч франков. — Предоставьте это дело мне. Есть у вас пленные?
— Человек сто, — ответил Филипп с горестным вздохом.
— Хорошо. Что это за люди?
— Я на них не смотрел.
— Напрасно; пойдемте к ним.
— Зачем?
— Вы сами увидите. Пойдемте же, черт побери! Где вы их заперли?
— Кажется, в церкви Сан-Франциско.
— Хорошо, пошли.
Они вышли. По дороге Монбар захватил с собой несколько флибустьеров, ничем не занятых и не совсем пьяных.
Пленных действительно бросили в церковь Сан-Франциско, вторую по величине в городе. Двери караулили флибустьеры, которые пили и играли в карты. Монбар велел отпереть двери и вошел в церковь вместе с Филиппом и со своей свитой.
Картина, представшая перед их глазами, представляла собой душераздирающее зрелище. Три сотни несчастных — мужчин, женщин и детей — были свалены в кучу; некоторые раненые хрипели на земле, другие жалобно стонали, так как им была прекрасно известна жестокость флибустьеров и они понимали, что единственным благодеянием, которого они могли ожидать от них, была быстрая и немучительная смерть.
Монбар холодно обвел глазами толпу несчастных людей, которые невольно задрожали при виде этого человека с мрачным и неумолимым лицом, которого, по-видимому, радовали их страдания.
— Питриан, — сказал Монбар, — у тебя тонкое чутье, выбери несколько человек из тех, кто по твоему мнению в состоянии заплатить хороший выкуп, и приведи ко мне.
Питриан стал прокладывать себе дорогу в толпе, с циничным равнодушием рассматривая пленников, иногда останавливаясь, чтобы вытолкнуть кого-то из рядов, после чего опять принимался за осмотр, насвистывая и посмеиваясь с лукавым видом.
Через десять минут он отобрал таким образом человек пятнадцать и привел их, дрожащих, к Монбару, заставив стать в одну линию.
— Хорошо, мой милый, этого довольно, — сказал Монбар. — Послушай-ка.
Питриан подошел.
— Приготовься, — сказал Монбар, сделав ему знак.
— Ага! — сказал Питриан. — Кажется, мы сейчас посмеемся.
— Как сумасшедшие; кроме того, это тебя касается.
— Отлично, положитесь на меня.
Пленные не знали, зачем их отделили от товарищей и чего от их потребуют, но тайное предчувствие подсказывало, что им угрожает ужасная опасность, и несчастные дрожали, как листья во время бури.
Монбар сделал шаг вперед и холодно обратился к пленным:
— Поговорим немножко, senores caballeros. Все вы — люди в городе известные, зачем же вы забились в норы, подобно кроликам и лисицам, вместо того чтобы продолжать спокойно жить в своих домах, что было бы гораздо приятнее и полезнее для всех? Сумасшедшие, неужели вы думаете, что мы не узнаем, куда скрылись ваши товарищи и где они спрятали свои сокровища?
Пленные с ужасом переглянулись; наконец один из них решился заговорить от имени всех.
— Наши сокровища, — сказал он, — в ваших руках, вы их захватили.
— Вы лжете, сеньор, но я знаю способ заставить вас говорить… Питриан, дружище, принимайся за дело.
Питриан подошел, держа в руке веревку толщиной с мизинец. Обернув ее пару раз вокруг головы пленника, который вел переговоры, он сделал петлю и посмотрел на Монбара.
— Я требую ответа на два вопроса, — произнес тот. — Где ваши товарищи? Где золото?
— Не знаю, — сухо ответил пленный.
— Начинай, Питриан.
Питриан вынул из-за пояса пистолет, обернул дуло веревкой и начал вращать пистолет. Веревка натянулась до того, что буквально впилась в голову несчастного.
Боль, которую чувствовал пленный, была ужасна. Глаза его как будто хотели выскочить из орбит, лицо посинело, кровавая пена показалась на губах. Он страшно вскрикнул.
— Отвечайте, — холодно приказал Монбар. Пленный сделал страшное усилие, глаза его налились кровью, нервная дрожь пробежала по всему телу.
— Я не знаю, — прошептал он глухим голосом. — Господи Боже мой! Сжалься надо мной!
— Жми, Питриан, — сказал Монбар, пожимая плечами.
— Что за смысл давать мучить себя подобным образом? — философски произнес Питриан, вновь принимаясь вертеть своим пистолетом.
— Я не знаю! Убейте меня, злодеи! — взревел пленный, лицо которого обагрилось кровью.
Как ни велика была твердость пленника, боль была столь сильна, что он признал себя побежденным. Монбар сделал знак, Питриан развязал веревку.
— Вот дурак-то, дать так себя отделать! — прошептал он.
Веревка настолько глубоко врезалась в голову, что Питриан был вынужден вытащить ее рукой. На пленнике от боли лица не было.
— Ну что же, говорите теперь, если вы наконец стали рассудительны, — сказал Монбар с насмешкой.
— Что вы хотите знать? — прошептал пленник, почти без чувств падая на плиты.
Но достойный Питриан спрыснул его водой, говоря:
— Бедняга! Ему трудно! Экая баба!
Оживленный этим своеобразным лекарством, пленник приподнялся на коленях.
— Куда девались губернатор и его питомица? — спросил Монбар бесстрастно.
— Они в Гибралтаре.
— Вы это знаете наверняка?
— Да.
— А жители?
— Большая часть в лесу с гарнизонными солдатами… Попробуйте догнать их: они заставят вас дорого поплатиться за ваше гнусное нападение…
— Итак, они решили сопротивляться?
— Они будут сражаться до последней капли крови.
— Тем лучше. Если эти люди хотят драться, это значит, что у них есть что защищать, — сказал Монбар, потирая руки. — Где они спрятали свои сокровища?
— В Гибралтаре, в Мериде и в лесу.
— Ну и прекрасно! Вот, по крайней мере, положительные сведения. Прощайте!
— Будьте вы прокляты! — воскликнул пленник и рухнул на землю.
— Что с ним, с бедняжкой, делать? — насмешливо спросил Питриан.
— Ба-а! — ответил Монбар, пожимая плечами. — Что ты хочешь? Он больше ни на что не годится.
Он повернулся спиной к несчастному и вышел из церкви в сопровождении Филиппа.
— Теперь ты знаешь то, что хотел? — спросил Монбар молодого человека.
— Почти, — ответил тот.
— Чего же еще ты хочешь?
— Хочу спросить вас, кто вам сказал, что я люблю донью Хуану.
— Ты сущее дитя, — сказал Монбар, улыбаясь, — разве трудно было догадаться?
Дойдя до площади, они услышали пистолетный выстрел и быстро обернулись. Это Питриан прострелил голову пленнику, чтобы избавить его от нестерпимых мук. Как видно, у Питриана было нежное сердце, исполненное сострадания к ближнему.
Глава XXII ГИБРАЛТАР
Выйдя из церкви, Монбар отпустил сопровождавших его флибустьеров и, взяв под руку молодого человека, направился к своему дому. Оба Береговых брата шли молча, не обмениваясь ни единым словом; каждый размышлял про себя. Вдруг Монбар остановился и, взглянув прямо в лицо своему спутнику, спросил:
— О чем вы думаете, Филипп?
— Я? — ответил молодой человек, поднимая голову. — Я думаю, что Гибралтар просто-таки набит богатством.
Монбар расхохотался.
— Вы этого совсем не думаете, друг мой, — сказал он.
— Я?! — вскричал Филипп.
— Конечно! Хотите, я вам скажу, о чем или, лучше сказать, о ком вы думаете?
— О! Вот уж об этом я с вами поспорю.
— Посмотрим, — насмешливо ответил Монбар. — Вот буквально о чем вы думаете.
— Буквально! Это уж слишком.
— Нет. Вы говорите себе, идя рядом со мной и держа меня под руку: «Какой странный этот Монбар, честное слово. Он теряет время в Маракайбо, из которого жители все вывезли, между тем как прямо напротив него, по другую сторону озера, находится Гибралтар, город тем более богатый, что жители Маракайбо перевезли туда все свои драгоценности. Ему стоит только, так сказать, протянуть руку, чтобы захватить все это, а он этого не делает. Я не говорю уже о том, что, пользуясь этой экспедицией, я могу похитить женщину, которую люблю, сокровище гораздо более драгоценное для меня, чем все бочки с золотом, находящиеся в Гибралтаре. Почему же он теряет время вместо того, чтобы действовать против врагов, заранее побежденных и деморализованных нашими успехами?» Что, брат, угадал я вашу мысль?
— А если действительно такова моя мысль, — сказал Филипп с плохо скрытым раздражением, — что вы можете мне ответить?
— Многое, друг мой. Во-первых, наши враги остерегаются; если они укрылись в Гибралтаре, значит, они решились защищаться.
— Ну и пусть!
— Для вас это так, я знаю, но для меня это совсем другое дело. Я не хочу безрассудно бросаться в такое опасное предприятие, где мы будем иметь дело с людьми, укрывшимися в последнем убежище, которые дадут убить себя, защищаясь до последнего, но не отступят ни на шаг.
— Ну, так мы их убьем.
— Я знаю, что мы их убьем, но какой ценой — вот в чем вопрос! Кроме того, с минуты на минуту я жду важных известий; я не хочу ничего предпринимать, не узнав прежде о планах испанцев.
— Но кто доставит вам эти сведения?
— Тот, кого вы хорошо знаете, — ваш бывший юнга Шелковинка, которого я позаботился оставить здесь, когда мы уезжали отсюда, чтобы он мог сообщить нам все необходимые сведения.
— Да, но Шелковинка исчез. Мы здесь уже две недели, а никаких известий о нем не имеем.
— Он найдется, не беспокойтесь. Шелковинка слишком ловок, чтобы потеряться.
— Бедняжка! Его, верно, узнали, и он убит.
— Не так он глуп… и доказательством служит то, что он уже здесь.
— Шелковинка? — вскричал Филипп.
— А то кто же? Разве вы не видите, что он стоит у дверей вашего дома?
— И правда! — радостно вскричал молодой человек. — Эй юнга! — обратился он к мальчику, неподвижно стоявшему у дверей.
Мальчик осмотрелся вокруг и, узнав приближающихся к нему флибустьеров, вскрикнул от радости и бегом бросился к ним.
— Откуда ты явился? — спросил Монбар, дружески похлопывая его по плечу. — Я думал, что ты умер.
— Умер! — вскричал юнга, смеясь. — С какой стати, адмирал?
— Не знаю, — пожал плечами Монбар, — но так как по приезде сюда мы ничего о тебе не слышали, мы решили, что ты убит или, по крайней мере, взят испанцами в плен.
— Откуда ты? — спросил Филипп.
— Из Гибралтара, на жалкой лодчонке, которую мне удалось украсть.
— Я узнаю тебя, ты по-прежнему ловок. У тебя есть что сообщить нам?
— Много чего, но не здесь, если вам все равно.
— Ты прав; следуй за мной. Честное слово, это преумный мальчик!
— Благодарю, капитан. Каким комплементом могу я вам отплатить? — откликнулся Шелковинка, смеясь.
— Не стоит. Пойдем с нами и поговорим.
Они вошли в дом Филиппа в сопровождении юнги, который щелкал пальцами и строил гримасы, как обезьяна, грызущая орехи.
— Теперь говори, — сказал Монбар, когда они вошли в самую дальнюю комнату, — и особенно не распространяйся.
— О! Я буду говорить кратко, — ответил юнга. — Что вы хотите знать?
— Куда делись местные жители и что намерен делать губернатор дон Фернандо д'Авила. Насколько я могу судить, это храбрый воин; я удивляюсь, как это он еще не дал о себе знать после нашего захода в озеро.
— Все очень просто, он вас ждет.
— Как! Он нас ждет?!
— Сейчас я все расскажу.
Юнга начал рассказывать о том, что произошло, каким образом губернатор узнал о прибытии флибустьеров на остров Аруба, как, рассудив, что Маракайбо не может сопротивляться нападению, он отдал приказание очистить город и как губернатор уехал последний, удостоверившись, что все жители в полной безопасности на кораблях отправились в Гибралтар, а многие потом, на мулах, — дальше, в Мериду.
— Очень хорошо, — заметил Монбар, — я очень рад узнать, что обязан этим приятным сюрпризом Агуиру, я сведу с ним счеты после.
— Неужели вы думаете, что он остался вас ждать? Как бы не так! Когда он высадил войска, которые ему поручили перевезти на Голубиный остров, он не вернулся на озеро, а, напротив, вышел в открытое море.
— Тем лучше! — воскликнул Монбар, радостно потирая руки. — Таким образом я непременно его встречу… Но вернемся к губернатору. Что же он сделал?
— Он не терял времени даром; вы напрасно так долго оставались здесь.
— Что я слышу! Господин Шелковинка дает советы, — засмеялся Филипп.
— Я повторяю только то, что слышал, капитан, вот и все.
— К делу, юнга, к делу! — с нетерпением вскричал Монбар.
— Вот вам и дело: как я уже вам говорил, — начал мальчик с серьезностью офицера, отдающего рапорт, — жители Маракайбо укрылись в Гибралтаре и Мериде; должен прибавить, что они были приняты самым дружелюбным образом и им был оказан прием, которого заслуживало их бедственное положение. Когда все жители разместились, дон Фернандо д'Авила, старый воин, чье имя прославилось в фландрских войнах…
— Сократи похвалы, — перебил Монбар, топнув ногой. — По-моему, этот негодяй насмехается надо мной.
Шелковинка искоса взглянул на Монбара и, увидев, что выбрал не самое удачное время для шуток, продолжил свой рапорт более серьезным тоном.
— Дон Фернандо д'Авила, — сказал он, — взял с собой четыреста солдат, к которым присоединились четыреста хорошо вооруженных жителей Гибралтара. Этот отборный отряд наскоро построил укрепления на берегу моря и сделал непроходимой дорогу к городу, а в лесу проложил другую дорогу — на случай отступления.
— Вот это дельный рассказ, мой милый, — весело произнес Монбар. — А можешь ты рассказать, как выстроены укрепления?
— Это очень легко.
— Рассказывай.
— Сначала вырыли ров глубиной в десять футов и шириной в пятнадцать футов, насыпав земли откосом со стороны города, потом за этим откосом воткнули колья, чтобы поддерживать его, и сделали амбразуры для пушек.
— А пушки поставили?
— Целых двадцать пять штук.
— Гм! — сказал Монбар, качая головой. — Трудновато будет овладеть этими укреплениями.
— Ба-а! — весело воскликнул Филипп. — Разве мы не взяли Голубиный остров?
— Это правда, но он не был так хорошо защищен. Что делают испанцы, малыш?
— Ждут вас; они уверены, что потопят нас всех.
— Ну, это мы еще посмотрим.
— Да, — прибавил Филипп, смеясь, — тем более что мы неплохо плаваем. Что вы решили, адмирал?
— Отправляйтесь на свой корабль, любезный Филипп, скоро вы получите мои распоряжения.
— Итак, мы идем туда?
— Сегодня же, друг мой; вы довольны?
— Я в восторге!
— До скорого свидания. Возьмите с собой этого молодого человека.
Филипп вышел вместе с Шелковинкой.
— Теперь мы с вами остались вдвоем, — обратился юнга к Филиппу.
— Что значит вдвоем?
— Это значит, — сказал мальчик со добродушной улыбкой, — что у меня есть к вам письмо.
— Письмо ко мне? — вскричал молодой человек, вздрогнув. — Правда?
— Вот оно.
Мальчик подал ему запечатанное письмо. Филипп схватил его и прочел с безумной радостью.
— Добрая, милая Хуана! — прошептал он, покрывая письмо поцелуями. — Итак, ты видел ее, Шелковинка?
— Кого? — спросил мальчик с лукавым видом.
— Ту даму, которая мне пишет.
— Разумеется. Уж как она вас любит, капитан, да какая она прекрасная и добрая! Это она меня прислала.
— Она ничего тебе не сказала?
— Извините, она все говорила о вас. Я никогда не закончу, если стану повторять.
— Но ты знаешь, по крайней мере, где она живет?
— Еще бы, ведь я жил у нее в доме! Я без труда отыщу ее.
— Ты останешься со мной. Мы будем говорить о ней; ты мне все расскажешь, не правда ли?
— Буду очень рад, если это доставит вам удовольствие, капитан.
— Я позабочусь о тебе, ты славный мальчик.
В тот же день пушечный выстрел с адмиральского фрегата призвал все экипажи на корабли. Флибустьеры запаслись провизией, взяли с собой пленных, и флот снялся с якоря, оставив перед Маракайбо только один корабль, чтобы не допустить возвращения испанцев и обеспечить владение городом.
Донна Клара на бригантине, которой командовал Данник, в сопровождении своего верного Бирбомоно хотела следовать за экспедицией. Флибустьеры приняли это намерение с криками радости и признательности.
Переезд продолжался три дня. Наконец вдали показался город с многочисленными пригородными домами, опоясывавшими его. Монбар умолчал о сведениях, которые сообщил ему Шелковинка, и строго наказал Филиппу никому ничего не говорить, что тот позаботился исполнить. Он прекрасно понимал, как важно хранить молчание в такой серьезной экспедиции, где малейшее затруднение могло привести в уныние его товарищей, как бы храбры они ни были.
При виде мер, принятых испанцами для обороны, — затопленных водой полей, испорченных дорог, палисадов и батарей, установленных на берегу, — Береговые братья на несколько минут испытали неизвестное им доколе ощущение просто-таки панического страха, такого сильного, что Монбар понял, что все может погибнуть, если не поправить дела самым скорым образом.
Флаг, поднятый на адмиральском фрегате, тотчас созвал на военный совет всех капитанов флота и самых храбрых флибустьеров, участвовавших в экспедиции.
Когда все собрались в зале совета, Монбар встал и, прежде чем кто-нибудь успел произнести хоть слово, решительно заговорил.
— Братья, — произнес он своим звучным голосом, — я созвал вас на свой корабль, потому что с такими людьми, как вы, надо приступать прямо к делу и говорить все как есть. Я не хочу от вас скрывать, что успеху нашей экспедиции угрожают многочисленные затруднения. Испанцы, узнав о взятии Маракайбо, успели подготовиться к встрече с нами; они удалились сюда, чтобы блистательно отомстить за прошлые поражения. Их солдаты многочисленны и привыкли к войне, начальники опытны и поклялись умереть, но не сдаться. У них много пушек большого калибра и, конечно, полно снарядов. Вы видите, что я не скрываю от вас правды. Но Береговых братьев напугать нельзя, они не робеют перед препятствиями. Если испанцы так решительны, то это потому, что все их богатства спрятаны в Гибралтаре. Надо взять Гибралтар и захватить сокровища, которые нас там ждут, или потерять их вместе с жизнью. Если мы выйдем победителями — а так и будет, — посмотрите, какая драгоценная добыча нас ожидает! Почему же фортуна должна отвернуться от нас после стольких милостей? Разве я уже не командир ваш, не человек, которому дали страшное имя — Губитель? Следуйте моему примеру. Вспомните то время, когда, менее сильные, чем ныне, мы считали своих врагов только тогда, когда повергали их к нашим ногам. Так не будем же хуже, чем о нас говорят! Да, опасность велика, но и добыча достаточно богата, чтобы вознаградить наши усилия.
Эти слова, произнесенные твердо и решительно человеком, которому они доверяли больше всех, произвели на флибустьеров необыкновенное действие: в них вновь пробудились те сильные страсти, увлечение которыми в конечном счете решало их успех. Трепет гнева пробежал по рядам флибустьеров, пыл сражения, надежда на поживу засверкали в их глазах. Монбар понял, что выиграл дело и что власть его над умами товарищей по-прежнему велика.
Не желая дать остыть этой восторженности, которой польза дела требовала воспользоваться как можно скорее, он отдал приказ немедленно браться за оружие.
— Вперед, братья! — закричал он громовым голосом. — Если я паду во время этой битвы, отомстите за мою кровь кровью испанцев. Но тот из вас, кто поколеблется или отступит, пусть знает, что он трус, недостойный жить среди нас, и будет умерщвлен моей рукой. К оружию, братья, к оружию!
— К оружию! К оружию! — закричали флибустьеры, размахивая кинжалами.
Эти крики, подхваченные всем флотом, довели до неистовства пыл и восторженность флибустьеров.
На восходе солнца пятьсот человек, каждый вооруженный только короткой саблей, парой пистолетов и тридцатью патронами, высадились на берег. Это были люди, тщательно отобранные среди экипажа флота. Ступив на берег, они обнялись как люди, которым не суждено больше увидеться, после чего решительно пустились в путь.
Вел их бедный испанец, захваченный в Гибралтаре, которого надежда на богатую награду привлекла на сторону флибустьеров. К несчастью, этот человек не знал распоряжений, отданных губернатором, а сведения, доставленные Шелковинкой, были недостаточны. Монбар скоро убедился в этом.
Проводник привел флибустьеров к дороге, проложенной в овраге, но они увидали, что идти по ней невозможно. Дорога эта там и здесь была покрыта широкими ямами с острыми кольями. Они вынуждены были возвратиться и попытаться пройти в обход через лес; но их остановили другие препятствия, воздвигнутые самой природой. Тем не менее им все же удалось приблизиться на ружейный выстрел к окопам испанцев. Внезапно земля начала уходить у них из-под ног и они увязли по колено в вонючей тине; в ту же минуту шесть пушек принялись осыпать их картечью.
Однако ничто не могло остановить их; они продолжали продвигаться вперед с решимостью, способной испугать самых храбрых солдат.
— Проходите через нас, победа за нами! — кричали флибустьеры, которые падали, изувеченные, на грязную землю. — Вперед, братья, вперед!
Наконец флибустьерам удалось пройти это страшное болото, ноги их стали на твердую почву, мужество удвоилось. Они уже думали, что преодолели самое главное препятствие, когда вдруг из глубины чащи, окружавшей их, раздался страшный залп. Батарея в двадцать пять пушек загремела сбоку от них.
Самые храбрые были мгновенно убиты, другие колебались и не смели идти вперед; ужас сообщился всей колонне. Батарея усилила огонь, ветер смерти пронесся над головами флибустьеров, ряды их смешались, и масса нападавших в беспорядке отхлынула к болоту.
Если быстрая помощь не подоспеет к флибустьерам, они погибнут, и победа останется за испанцами.
Но Монбар уже здесь. Он видел все. В сопровождении Филиппа, Мигеля Баска, Тихого Ветерка, Пьера Леграна, Питриана, Олоне и еще сорока своих товарищей, решивших победить или умереть, он сумел пробиться сквозь огонь батареи, не будучи ранен. Прежде чем его успел накрыть залп картечи, он бросился в сторону и добрался до редута.
Но как идти на приступ без лестниц? Он заплатит жизнью за свою смелость. Филипп что-то шепчет ему на ухо, Монбар улыбается. Флибустьеры поворачиваются и бегут назад с громкими криками. Испанцы, уверенные, что имеют дело с испуганными остатками расстроенного отряда, теряют благоразумие, увлеченные азартом битвы, выбегают из своих окопов и со шпагами в руках устремляются на своих ненавистных врагов.
Внезапно картина резко меняется; именно этого и ждал Монбар. Флибустьеры оборачиваются, и начинается ужасная схватка.
Испанцы, столь же храбрые, но не столь искусные, как их противники, в рукопашной битве, где сабля и кинжал — единственное оружие, хотели вернуться в свои укрытия, тем более что артиллерия не могла бить по этой смешанной массе иначе, как убивая и друзей и врагов.
Никто не ждал пощады; кровь лилась потоками, сражение перешло в бойню.
Франкер заметил, что артиллерийский огонь редута утих. Он собрал вокруг себя Береговых братьев, короткой, но пламенной речью воскресил их мужество и привел на помощь Монбару. С этого момента победа окончательно перешла на сторону флибустьеров, и они ворвались во вражеские укрепления по груде мертвых тел.
Шестьсот солдат и жителей Гибралтара нашли смерть в этой битве, остальные сдались и были безжалостно убиты победителями.[17]
Монбар, которому покровительствовала непостижимая удача, не получил ни единой царапины. Но более шестидесяти флибустьеров заплатили жизнью за эту победу; еще сто двадцать человек, получив ужасные раны, также скоро скончались.
Гибралтар был вынужден сдаться.
Глава XXIII МОНАКО
Дон Фернандо д'Авила по прибытии в Гибралтар снял очаровательный загородный домик на расстоянии нескольких ружейных выстрелов от города, но до такой степени скрытый в лесу, что нельзя было найти его, не зная, где он находится. Он запасся всевозможной провизией, роскошно меблировал дом, так как хотел, чтобы в случае нападения флибустьеров у его питомицы было надежное убежище.
Как только показался флибустьерский флот, губернатор поспешил под конвоем преданных слуг отвезти донью Хуану и ее кормилицу в этот дом, где они могли на время быть в безопасности, после чего возвратился на место сражения, на пост, выбранный им для себя, который, разумеется, был самым опасным, приказав, однако, своим доверенным слугам держать наготове оседланных лошадей — для того, чтобы в случае поражения обе женщины могли бежать в Мериду, куда он хотел отвезти их сам, если ему посчастливиться выйти из сражения целым и невредимым.
Итак, обе женщины остались одни в страшном беспокойстве, которое увеличивалось от пушечных и ружейных выстрелов, звук которых отчетливо долетал до них.
Донья Хуана со страхом, смешанным с надеждой, слушала этот шум битвы, не смея желать успеха ни той ни другой стороне, потому что в одном из враждующих станов находился ее опекун, а в другом — человек, которого она любила. Не будучи в состоянии оставаться на месте, она беспрестанно переходила из одной комнаты в другую, выходила в сад, во двор, стараясь таким образом обмануть свое беспокойство. Наконец, не имея возможности справиться с ужасным волнением, не раздумывая о последствиях своего поступка или, лучше сказать, просчитав их с тем коварством любви, которая оправдывает все, она решила выставить на крыше дома знак, о котором просил ее Филипп.
«Если испанцы победят, — говорила она себе, — это не будет иметь никаких последствий и у меня сыщется масса предлогов, чтобы объяснить этот сигнал; если же сюда явятся флибустьеры и увидят это знамя, оно будет мне защитой, потому что это знамя одного из их главных предводителей».
Успокоенная этим рассуждением, донья Хуана взяла шарф, который всегда носила с собой в шкатулке, схватила копье, которое нашла вместе с другими копьями у стены в передней, и решительно отправилась на крышу дома.
В испанских колониях по причине прекрасного климата крыши всегда сделаны в виде террас; по вечерам они служат местом отдохновения. Во многих американских городах крыши делают в виде висячих садов и убирают цветами и растениями.
Крыша дома, в котором поселилась донья Хуана, была сделана именно таким образом. Кроме того, на крыше имелся даже боскет из померанцевых и лимонных деревьев, в котором молодая девушка иногда уединялась, чтобы без помех предаваться своим мыслям, устремив глаза на море, которое было прекрасно видно с этого высокого места.
Когда девушка дошла до террасы, она отчетливо услышала шум ожесточенной битвы, происходившей недалеко в глубине леса. Легко было различить место битвы, увенчанное облаком дыма, сгущавшимся над деревьями.
— Боже мой! — прошептала она, набожно сложив руки и падая на колени. — Боже мой! Спаси дона Фернандо! Боже мой! Спаси моего возлюбленного Филиппа!
В эту минуту грохот орудий усилился; девушка приподнялась, перекрестилась и решительно направилась к боскету, на вершине которого прикрепила шарф над копьем, которое служило древком знамени.
Потом, боязливо оглянувшись вокруг, чтобы удостовериться, что ее никто не видел, она тихо сошла вниз и уединилась в своих комнатах.
Шум битвы мало-помалу затихал и наконец совсем прекратился.
В полной тишине прошло несколько часов, в течение которых донья Хуана и ее кормилица, ничего не зная о случившемся, находились в ужасном беспокойстве.
Наконец солнце опустилось за горизонт, темнота сменила свет, наступила ночь, а сон не смыкал век доньи Хуаны. Беспокойство девушки становилось все сильнее особенно из-за того, что она пребывала в полном неведении о том, что случилось в прошлое утро. Дон Фернандо, оставляя ее, обещал, если не может приехать сам, прислать к ней гонца, который сообщит ей о результате атаки флибустьеров. Прошли почти сутки, а гонец все не являлся.
К восьми часам утра беспокойство доньи Хуаны сделалось таким сильным, что она не могла устоять и решила во что бы то ни стало узнать, в чем дело. Не слушая возражений кормилицы и почтительных просьб слуг, со слезами на глазах заклинавших ее подождать еще немного, она оделась в мужское платье, заткнула за пояс кинжал и пару пистолетов и приказала приготовить лошадь. Донья Хуана не знала о том, что у дома стояло несколько готовых оседланных лошадей: дон Фернандо отдал это приказание в ее отсутствие. Слуги не хотели говорить этого девушке и, чтобы выиграть время, пошли за лошадью в конюшню.
Прошло несколько минут, во время которых донья Хуана ходила быстрыми шагами по двору, прислушиваясь к малейшему шуму и чувствуя, что ее беспокойство увеличивается с каждой секундой.
Вдруг она услышала со стороны леса довольно громкий шум, и увидела, что к дому приближаются человек десять, среди которых узнала дона Фернандо д'Авила.
Донья Хуана бросилась к калитке и поспешно отворила ее. Беглецы — в них легко было узнать беглецов по разорванной и окровавленной одежде, по их бледным лицам — устремились на двор, быстро затворив за собой калитку. Дон Фернандо д'Авила был ранен; он шел с трудом, поддерживаемый одним из спутников. Увидев донью Хуану, он радостно вскрикнул:
— Я поспел вовремя! Благодарю тебя, Господи Боже мой! Лошадей, ради Бога! Немедленно лошадей!
Но произнеся эти слова, он без чувств упал на землю. Силы изменили дону Фернандо. Донья Хуана бросилась к нему на помощь.
Кровь хлестала из двух страшных ран дона Фернандо; о побеге в эту минуту не могло быть и речи. Девушка приказала перенести своего опекуна в дом и принялась оказывать ему срочную помощь, поручив его спутников нье Чиале.
Эти бедные люди страдали не меньше своего командира; все они были ранены более или менее тяжело, каждый их шаг оставлял на земле кровавый след. Было чудом, что они сумели добраться до дома, так были они слабы и изнурены.
Сомневаться больше не приходилось, один вид этих людей говорил красноречивее самого подробного рассказа. Это были беглецы, спасшиеся от смерти. Победу флибустьеров можно было прочесть по их лицам, искаженным испугом, по их диким взорам.
По распоряжению ньи Чиалы их уложили под навесом на соломе и перевязали их раны.
Обморок дона Фернандо был связан со слабостью вследствие сильной потери крови и усталости от поспешного бегства по непроходимому лесу. Вскоре он пришел в себя. Поблагодарив донью Хуану, он попытался было встать, но девушка удержала его.
— Вы слишком слабы, — сказала она кротко, — подождите несколько часов.
— Ни одного часа, ни одной секунды! — горячо вскричал дон Фернандо. — Нас преследуют, я в этом уверен. Надо бежать, бежать сейчас же. Если я слишком ослаб, чтобы держаться в седле, пусть меня привяжут, но повторяю вам, дитя мое, надо бежать немедленно; считайте, что каждая минута, потерянная вами, вычеркнута из вашей жизни.
— Хорошо. Если вы требуете, я повинуюсь.
— Да, да, повинуйтесь. Где мои спутники?
— Лежат под навесом.
— Хорошо. Велите слугам взять оружие… Спешите, спешите!
Вдруг он приподнялся на диване, на котором лежал, прислушался и вскричал с выражением неописуемого отчаяния:
— Слишком поздно, Боже мой! Слишком поздно! Вот они! Вот они! Заприте двери! Загородите все — или вы погибли!
Несмотря на все усилия доньи Хуаны удержать его, он бросился к двери, призывая слуг к оружию. Отрывистый лай слышался под листвой и быстро приближался к дому.
Скоро из-за деревьев показалась огромная собака с взъерошенной шерстью и высунутым языком; уткнув нос в землю, она как будто отыскивала след, и несколько раз слышался голос еще невидимого человека, который кричал по-французски:
— Ищи, Монако! Ищи, моя верная собака!
Добежав до калитки, собака остановилась и залаяла еще сильнее.
— Проклятый зверь! — вскричал дон Фернандо с бешенством. — Он напал на наш след и выдает нас врагам!
Он выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в собаку, но выстрел, направленный неверной рукой, не попал в нее.
— Что вы сделали? — воскликнула донья Хуана. — Вы погубили нас!
Дон Фернандо с отчаянием опустил голову на грудь.
— Подожди, Монако, — продолжал голос, — держись, собачка, держись!
Нападение на дом было неизбежно. Испанцы думали только о том, как бы храбро умереть, защищаясь. Мысль о сдаче даже не приходила им в голову. Они слишком хорошо знали нрав своих свирепых врагов.
Первой заботой Филиппа по прибытии в Гибралтар было, как и в Маракайбо, бегом отправиться с Шелковинкой, служившим ему проводником, в тот дом, где жила донья Хуана. Но и здесь его ожидало разочарование: дом был пуст.
Напрасно молодой человек ходил из комнаты в комнату. Очевидные следы поспешного отъезда виднелись на каждом шагу; девушки не было. Филипп нашел платок, забытый на стуле, еще влажный от слез, без сомнения пролитых доньей Хуаной перед ее отъездом. Молодой человек несколько раз поцеловал этот платок и вышел в полном отчаянии, не зная, в какую сторону направить шаги.
— Я знаю, — сказал Шелковинка, — что у дона Фернандо есть дом недалеко от города, но где он находится, мне не известно, так как никогда там не был.
— Что же делать? — прошептал Филипп, прижимая платок к губам, как будто надеясь, что эта легкая ткань откроет ему убежище его возлюбленной.
— Подождите, еще не все погибло! — внезапно вскричал Шелковинка.
— Что ты хочешь сказать? — с беспокойством спросил Филипп.
— Предоставьте это дело мне; может быть, еще есть надежда.
Юнга заметил Данника, который в сопровождении своей собаки Монако гнался за испанцами.
— Эй, Данник! — крикнул юнга. Работник повернул голову.
— Что тебе? — спросил он.
— Мне ничего, — ответил Шелковинка, — а воткапитан д’Ожерон хочет тебе кое-что сказать.
— Я здесь, — ответил слуга. — Сюда, Монако!
Он подбежал к Филиппу, к которому был дружески расположен, особенно после одной услуги, которую тот ему оказал.
— Что вы хотели, капитан?
— Я? — с удивлением переспросил молодой человек.
— Капитан хочет знать, — поспешно сказал Шелковинка, — так ли хорошо отыскивает Монако следы, как ты уверяешь?
— Стоит только испытать, — ответил работник, ласково поглаживая свою собаку. — Пусть ему покажут любой след — человека или зверя, — и он найдет его.
— Сейчас мы увидим, старичок; пойдем с нами. Если он найдет след, который ему покажут, ты получишь тысячу франков; хочешь?
— Еще бы! Можешь считать, что они уже у меня в кармане.
— Ба-а! По-моему, ты льстишь своей собачке.
— Монако хорошая собака, — серьезно ответил слуга, — я ей не льщу.
— Хорошо, пошли… Эта собака откроет нам то, что мы ищем, — тихо сказал Шелковинка Филиппу.
— О! — вскричал молодой человек. — Но это невозможно!
— Что нам мешает попробовать?
— Ты прав, — поспешно согласился Филипп, — попробуем.
— Ступайте за мной, — продолжал юнга.
Они отправились за город. По дороге Филипп собрал еще человек тридцать флибустьеров, которые были очень рады следовать за ними.
Выйдя за город, они остановились.
— В какую сторону поворачивать? — спросил Данник.
— Это зависит от твоей собаки, — сказал Филипп Даннику, передавая ему платок.
— Смотри, старичок, — прибавил юнга, — речь идет о тысяче франков.
— Не беспокойся, — заметил слуга, — я же сказал тебе, что они у меня уже в кармане.
Он взял собаку за ошейник и дал ей как следует понюхать платок.
— Ищи, Монако, — приказал он, — ищи, моя добрая собака, ищи!
Монако несколько раз обнюхал платок, уткнув нос в складки, потом поднял голову и устремил на своего хозяина глаза, в которых светился почти человеческий разум. Данник пустил Монако. Собака тотчас уткнула нос в землю и начала бегать, описывая все более сужающиеся круги.
Вдруг она остановилась, подняла голову, отрывисто залаяла и, взглянув на своего хозяина, помчалась вперед с быстротой стрелы.
— След найден, — сказал Данник.
— В погоню! В погоню! — вскричал Филипп. Флибустьеры бросились вслед за собакой.
Было около семи часов вечера, когда юнга увидел Данника и когда ему пришла в голову мысль использовать в своих интересах понятливость Монако. Солнце закатывалось. Несмотря на поздний час, флибустьеры решительно бросились вперед.
К двум часам утра собака, которую, из опасения потерять ее из виду ночью, вели на длинной веревке, проявила беспокойство и несколько раз возвращалась назад.
— Здесь следы пересекаются, — сказал Данник, — было бы лучше остаться здесь до восхода солнца.
Никто не возражал; этот безумный бег в продолжение нескольких часов по почти непроходимым дорогам ослабил если не мужество, то, по крайней мере, их силы; сам Филипп был изнурен усталостью.
На том и порешив, остановились. Разместились на ночлег кто как мог, и скоро все заснули.
На рассвете флибустьеры проснулись; им достаточно было нескольких часов сна, чтобы полностью восстановить свои силы. Собаку снова пустили по следу, дав ей понюхать носовой платок. Через две минуты она нашла след и пустились бегом, как и накануне, в сопровождении флибустьеров, во главе которых мчался Данник, беспрестанно крича:
— Ищи, Монако! Ищи, моя добрая собака!
Так они бежали довольно долго. К восьми часам утра собака, которую флибустьеры на некоторое время потеряли из виду, начала бешено лаять.
— Что-то есть, — проговорил Данник, — Монако остановился.
— Поспешим! — вскричал Филипп, задыхаясь. Данник вновь принялся подгонять собаку. Вдруг раздался пистолетный выстрел.
— Черт побери! — закричал Данник, прыгнув как тигр. — Мою собаку убивают! Держись, Монако, мы здесь, мы здесь!
Собака продолжала бешено лаять. Вдруг флибустьеры очутились прямо перед домом, у которого остановился Монако.
— Кажется, мы нашли то, что искали, — сказал Данник.
— Славная собака! — вскричал Шелковинка. — И какая счастливая мысль пришла мне в голову!
— Остановитесь, — произнес Филипп.
Он подошел ближе и осмотрел дом. Скоро лицо его просияло: он увидел знамя над боскетом.
— Наконец-то, — вскричал он с восторгом, — я нашел ее! Не размышляя о неблагоразумии своего поступка, он направился прямо к дому.
— Кто идет? — закричал грубый голос.
— Друг, — ответил он тотчас.
— У меня нет друзей среди разбойников. Прочь — или я выстрелю!
Флибустьеры, предвидя битву, приготовили оружие. Но, против всеобщего ожидания, после этих резких слов наступило довольно продолжительное молчание, потом вдруг калитка распахнулась и в дверях показались два человека: дон Фернандо д'Авила и донья Хуана в мужском костюме. Филипп хотел броситься к ней, но молодая девушка удержала его движением руки.
— Что вам нужно? — спросил дон Фернандо мрачным голосом.
— Чтобы вы сдали этот дом, которого не можете защищать, — ответил Филипп.
— Сдаться вам? — произнес губернатор с горькой улыбкой. — Лучше умереть с оружием в руках!
— Ваша жизнь и ваше имущество будут сохранены.
— Да, как вы сохранили жизнь и имущество жителей Маракайбо и Гибралтара. Чем вы можете поручиться в этом?
— Моим словом, сеньор кабальеро, словом Филиппа д'Ожерона.
Наступило минутное молчание. Дон Фернандо с трудом сделал несколько шагов вперед, опираясь на свою шпагу.
— Выслушайте меня, — сказал он. Молодой человек подошел.
— Я опекун этой девушки, — с трудом продолжал дон Фернандо. — Только что она призналась мне в своей любви к вам… Я не буду сейчас расспрашивать, как родилась эта любовь… Она говорит, что вы честный человек и настоящий дворянин. Клянетесь ли вы мне уважать ее и защищать?
— Клянусь.
— Я принимаю ваше слово… Умирающим не лгут, а я умру.
— Сеньор! — вскричала девушка.
— Молчите, донья Хуана, время не ждет, дайте мне кончить… Эта девушка была мне поручена в детстве герцогом Пеньяфлором. В этом бумажнике находятся доказательства моих слов, возьмите его.
Он вынул из кармана бумажник и подал его молодому человеку.
— Вы клянетесь, что честно сдержите ваше слово?
— Не только относительно доньи Хуаны, но и относительно вас и ваших товарищей, клянусь вам.
— О! Я сам сумею позаботиться о себе, — произнес дон Фернандо со зловещей улыбкой. — Бог свидетель, при своей жизни я старался исполнять обязанности христианина и солдата как честный человек. Я умру, не упрекая себя ни в чем… Донья Хуана, отворите дверь.
Молодая девушка поспешила повиноваться.
— Выходите все, — сказал дон Фернандо твердым голосом. — Бросайте оружие: вы пленники.
— Нет, — с живостью обратился Филипп к солдатам, которые стали за спиной своего командира, — оставьте себе ваше оружие, храбрецы. Вы свободны, ступайте.
— Ступайте, ребята, — сказал губернатор, делая им рукой прощальный знак, — пользуйтесь дозволением, так любезно дарованным вам, и поскорее укройтесь в безопасное место.
Видя, что солдаты колеблются из привязанности к своему командиру, дон Фернандо прибавил тоном, не допускавшим возражения:
— Уходите. Я так хочу.
Бедняги бросились в чащу деревьев, среди которых немедленно исчезли; флибустьеры даже не повернули головы.
— Благодарю вас за ваш благородный поступок, — обратился губернатор к Филиппу. — Донья Хуана, будьте счастливы и сохраните воспоминание обо мне в вашем сердце; я любил вас, как отец.
— О, мы не расстанемся! — вскричала молодая девушка, бросаясь к нему на шею.
Он печально улыбнулся.
— Мы расстанемся скорее, чем вы думаете, бедное мое дитя, — прошептал он, целуя ее, — я благословляю вас!
Он отстранил ее рукой и обернулся к Филиппу, который неподвижно и внимательно стоял перед ним.
— Такой старый солдат, как я, пощады не принимает и не отдает своей шпаги никому, даже такому храброму дворянину, как вы, — сказал он. — Прощай все, что я любил! Да здравствует Испания!
Прежде чем можно было догадаться о его намерении, он выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил себе в голову.
Донья Хуана отчаянно вскрикнула и бросилась к нему. Филипп подхватил бесчувственную девушку на руки.
— Ни слова обо всем, что здесь произошло, братья, — сказал молодой человек флибустьерам.
— Клянемся! — ответили они, невольно взволнованные этой трагической и неожиданной сценой.
— Ей-Богу, жаль, что он убил себя! — воскликнул Данник. — Храбрый был солдат, клянусь своей душой!
Глава XXIV ДОБЫЧА
Прошел месяц после взятия Гибралтара. Флибустьеры вернулись в Маракайбо, но возвращение их походило скорее на побег, чем на торжество. Флибустьеры бежали не от людей, а от врага гораздо более страшного и неумолимого: чумы. Мы расскажем в двух словах о причинах появления чумы, заставившей победителей так поспешно ретироваться.
Испанские пленные были навалены как попало в церквах; женщины и дети, старики и даже невольники — все находились вместе. Их заперли и о них забыли. Они умирали с голоду, но их страшные крики ни на минуту не отвлекали флибустьеров от грабежей, которым они по своему обыкновению методично предавались, принося с честностью, замечательной в подобных людях, все вещи в общую кучу, в ожидании раздела.
Первое время трупы испанцев сваливали на негодные лодки и топили в озере, но скоро флибустьерам надоела эта отвратительная работа, так что пленные, умиравшие от голода в церквах, и флибустьеры, погибавшие каждый день от ран в своих домах, не были прикрыты землей и становились добычей хищных птиц и насекомых.
Эта непростительная небрежность скоро принесла свои плоды: вспыхнула чума, что было неизбежно в таком жарком климате. Многие флибустьеры скоропостижно скончались, у других открылись прежние раны и началась гангрена.
Наконец смертность приняла такие устрашающие размеры, что флибустьеры поняли: если они дольше останутся в Гибралтаре, то ни один из них не вернется на Тортугу.
Монбар отдал приказ готовиться к отъезду, однако прежде послал двух флибустьеров к беглецам, спрятавшимся в лесу, сказать, что если в два дня они не заплатят десять тысяч пиастров, то город будет сожжен.
Срок прошел, деньги не являлись. Монбар, неумолимый, как всегда, велел поджечь город. Немногие жители, оставшиеся в городе, бросились к ногам свирепого флибустьера, обещая двойной выкуп, если он пощадит остатки их опустошенных домов. Монбар согласился на новую отсрочку; двадцать тысяч пиастров были отсчитаны. К несчастью, половина города была уже уничтожена пламенем.
Так распрощались флибустьеры с несчастным Гибралтаром, оставив после себя только трупы и руины.[18]
К тому времени жители Маракайбо уже успели вернуться в свой город; возвращение флибустьеров снова повергло их в отчаяние. Монбар наложил контрибуцию в тридцать тысяч пиастров, если жители не желают подвергнуться новому грабежу. Сопротивление было невозможно, жители согласились.
Тогда флибустьеры вошли в город, и пока жители Маракайбо собирали обещанный выкуп, они, под предлогом того, что монастыри и церкви не включены в договор, с беспримерным рвением принялись за разграбление украшений с алтарей, распятий, священных сосудов и даже колоколов, отвечая на робкие замечания жителей, что хотели употребить эти вещи на сооружение капеллы Божьей Матери на острове Тортуга.
Наконец флибустьерам было уплачено тридцать тысяч пиастров, и жители, желая, чтобы они поскорее удалились, дали им сверх того пятьсот быков на прокорм участников экспедиции.
В первый раз верные своему обещанию, флибустьеры уже готовились оставить страну, так страшно опустошенную ими, когда Монбар вдруг узнал от Франкера, которого он посылал на разведку на бригантине, что многочисленная испанская эскадра крейсирует неподалеку от берегов. Это известие, которого Монбар, без сомнения, ожидал, доставило ему сильную радость и изменило его намерения относительно отъезда.
Знаменитый флибустьер знал, что люди, которыми он командовал, мало заботились о славе без барыша и что если он не примет мер предосторожности, они постараются уклониться от битвы, если по выходе из озера ему придется принять сражение, которое, по всей вероятности, предложит ему испанский адмирал. А Монбар задумал всю экспедицию, столь смело проведенную, результаты которой были такими блестящими, только в надежде на это сражение.
Он велел приостановить приготовления к отъезду и объявил, что в ожидании предстоящих событий, вместо того чтобы делить добычу на острове Ваку — Коровьем острове, как было условлено заранее, раздел будет произведен в Маракайбо, чтобы каждый, вступив в обладание своими богатствами, защищал их с большим жаром, если придется вступить в бой с испанцами.
Это решение пришлось по душе флибустьерам, которые, несмотря на неограниченное доверие к своим командирам, страстно желали как можно быстрее самим вступить во владение своей долей добычи.
Было решено сойтись на другой день, в восемь часов утра, в главной церкви Маракайбо, которая была приготовлена для их приема.
В назначенный час флибустьеры вошли в церковь с оружием в руках и молча встали справа и слева от входа. Для предводителей были поставлены скамьи, и они садились по мере прибытия со своими командами. Посреди церкви лежала огромная груда награбленных вещей, двойная добыча из Маракайбо и Гибралтара.
Флибустьеры слушали обедню с глубоким благоговением, усердно молились и оставались на коленах во все время службы.
По окончании обедни адмирал поднялся со своего места и, положив руку на Евангелие, поклялся, что ничего не скрыл из общей добычи и имеет притязание только на законную долю, положенную ему по договору.
По окончании этой церемонии подсчитали добычу, которая составила, считая вещи и сплющенную серебряную посуду[19], оцененную в десять экю за фунт[20], огромную сумму в шестьсот тысяч пиастров, то есть три миллиона франков на наши деньги, не считая пятидесяти тысяч пиастров — или двухсот пятидесяти тысяч франков — наличными деньгами, награбленных матросами, которые, по обычаю, у них не стали изымать.
Отделив долю короля, каждому флибустьеру отдали его часть добычи, сделав, однако, вычет в пользу раненых и хирургов эскадры, а также отделив долю умерших, которую должны были получить их родные и друзья, после того как представят подлинные доказательства своего родства с погибшими.
Следует сказать, что раздел прошел без ссоры и к полному удовольствию каждого.
Когда все флибустьеры разошлись и в церкви остались только командиры, кавалер де Граммон остановил их в ту минуту, когда они собрались выйти из церкви.
— Извините, братья, — сказал он, — у меня есть к совету важное замечание.
— Говорите, — ответил адмирал от имени всех, — мы вас слушаем.
— В нашем договоре сказано, что всякая добыча, считая и невольников, должна быть разделена между нами поровну.
— Это действительно написано в договоре, — согласился Монбар.
Флибустьеры остановились и с вниманием прислушивались. Де Граммон бросил вызывающий взгляд на Филиппа и продолжал со зловещей улыбкой:
— Каким же образом один из нас, старших офицеров флота, человек, который по своему званию и имени обязан подавать пример не только бескорыстия, но и честности, сам взял себе невольницу и скрыл ее от раздела?
— Если кто-нибудь из нас совершил этот недостойный поступок, — строго сказал Монбар, — он виновен вдвойне: во-первых, в том, что обманул своих братьев, а во-вторых, что изменил договору и клятве, произнесенной над Евангелием при всех. Назовите нам имя этого человека, и он будет наказан.
— Этот человек… — начал де Граммон насмешливым тоном.
Но Филипп, положив ему руку на плечо, перебил его.
— На это должен отвечать я, кавалер де Граммон, — сказал он, — потому что вы обвиняете именно меня. Позвольте же мне помешать вам совершить низость.
— Низость?! — взревел, как тигр, де Граммон.
— Я произнес это слово и настаиваю на нем; я согласен дать вам удовлетворение, когда вам будет угодно.
— Сейчас.
— Сперва покончим с первым делом, так некстати начатым вами; другим займемся в свою очередь, будьте спокойны.
— Успокойтесь, де Граммон, а вы, Филипп, говорите. Что вы можете сказать в свою защиту? — произнес Монбар с холодным спокойствием.
— Женщина или, лучше сказать, девушка, о которой идет речь, действительно была взята мною в плен; правда и то, что я не поместил ее с невольниками в общую долю. Я могу сослаться на слова самого Монбара, который в награду за то, что я придумал эту экспедицию, дал мне право сохранить для себя невольника или невольницу, каких я захочу. Я уверен, что Монбар не станет отказываться от своего слова.
— Конечно нет! — вскричал адмирал. — Капитан Филипп говорит правду. Я думал, что власть, предоставленная мне братьями, дает мне право предложить это скромное вознаграждение человеку, которому мы обязаны такой богатой добычей.
— Вы имели на это право, брат, — сказал Пьер Легран, — мне кажется, что я передаю чувства всех наших братьев.
— Да, да! — в один голос ответили командиры.
— Де Граммон не прав, — заметил Тихий Ветерок. Кавалер до крови закусил губы, чтобы не отвечать.
— Стало быть, я совершенно оправдался в ваших глазах, братья, — сказал Филипп.
— Да, да! — закричали они.
— Благодарю вас, но я не буду оправдан в собственных глазах, если не скажу вам всего.
— Говорите, брат, говорите!
Филипп обернулся к исповедальне, находившейся с правой стороны церкви, в боковой капелле.
— Пожалуйте, сеньора, — сказал он. Исповедальня отворилась, и оттуда вышла донна Клара.
Все почтительно поклонились ей; поклонился ей и де Граммон с краской стыда на лице, так как он начинал понимать всю гнусность своего поступка.
— Господа, — сказала донна Клара, — на другой день после взятия Гибралтара в шесть часов вечера капитан Филипп привел ко мне в дом молодую женщину и ее старую служанку. Молодая женщина страдала ужасными нервными припадками. Я предложила капитану оставить ее у себя и позаботиться о ней. Именно этого капитан и желал, для того и привел ее ко мне. Эта молодая женщина заинтересовала меня; мне удалось привести ее в чувство. Я просила капитана отдать ее мне, и он ответил, что услуги, оказанные мною экспедиции, оправдывают это требование с моей стороны и что с этой минуты я могу принимать участие в судьбе этой несчастной. Вот как все было. С тех пор бедная пленница оставалась у меня.
— Сеньора, — ответил Монбар со сдержанным волнением, — мы все обязаны благодарить капитана Филиппа за его благородное поведение в этих обстоятельствах; эта молодая девушка принадлежит вам.
Де Граммон преклонил колена перед донной Кларой.
— Сеньора, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — я поступил как негодяй, но вы ангел и простите меня.
— Встаньте, — сказала женщина кротким и печальным голосом, — я вас прощаю и не осуждаю.
Донна Клара поклонилась флибустьерам, которые почтительно склонились перед ней, и медленными шагами вышла из церкви.
— Теперь, капитан, — обратился де Граммон к Филиппу, — я загладил относительно этой дамы совершенную мной ошибку, но вы…
— Остановитесь, — вмешался Монбар, — вы хорошо знаете наши законы; разве вы забыли, что дуэли между Береговыми братьями во время экспедиции запрещены и вы подвергнетесь смертной казни, предложив дуэль одному из братьев? Возвращайтесь на свой корабль, капитан, и ни слова больше вашему сопернику; вы можете драться только тогда, когда прибудете на Тортугу, а до тех пор никаких угроз, никаких вызовов.
— Я подожду до Тортуги, — вскричал де Граммон с бешенством, — но тогда!..
— Тогда действуйте как пожелаете… Братья, — прибавил Монбар, — через час мы будем под парусами; приготовьтесь хорошенько принять испанцев, если они намерены воспрепятствовать выходу нашего флота из озера.
— Пусть только попробуют! — вскричал Тихий Ветерок. Они вышли из церкви и направились к гавани, где их ждали шлюпки.
Несмотря на меры предосторожности, принятые Монбаром, не желавшим, чтобы его товарищи, догадываясь о присутствии испанской эскадры в Венесуэльском заливе, узнали, из скольких кораблей она состоит и сколько на ней людей, в ту минуту, когда флот снимался с якоря, радостные крики жителей Маракайбо открыли флибустьерам всю истину.
Двенадцать боевых кораблей, четыре тысячи шестьсот человек и четыреста пушек большого калибра ждали у входа в озеро и полностью преграждали путь. Кроме того, форт Голубиного острова, разрушенный флибустьерами, был восстановлен, снабжен многочисленной артиллерией крупного калибра и гарнизоном в пятьсот человек. Вице-король лично находился на эскадре.
Это неожиданное известие, прозвучавшее как гром среди ясного неба, охладило пыл самых неустрашимых авантюристов; они впали в глубокое уныние, не находя в себе мужества, чтобы пробиться сквозь строй испанцев.
Действительно, положение флибустьеров было самым что ни на есть критическим: их корабли, плохо вооруженные, не были в состоянии помериться силой с испанцами; кроме того, чума унесла в могилу около трети их товарищей, и таким образом число сражающихся, еще уменьшенное ранеными, не способными принимать участие в сражении, значительно убавилось. Словом, флибустьеры насчитывали не более полутора тысяч человек, которые были в состоянии сражаться.
Между тем в Маракайбо прибыла бригантина под парламентерским флагом. Эта бригантина привезла предводителям экспедиции письмо от вице-короля, в котором им предлагали сдаться. Письмо это заканчивалось страшными словами, заставившими самых храбрых похолодеть от ужаса:
…Если завтра на восходе солнца я не получу двадцать заложников, в числе которых непременно должны находиться Монбар Губитель, Франкер, Филипп д’Ожерон, Пьер Легран, Олоне, де Граммон, Морган, Пьер Пикар и Рок Бразилец, я сам войду в озеро, возьму вас в Маракайбо, и, даже преврати вы этот город в горнило, я сумею вас захватить и поступить с вами, как вы того заслуживаете.
Это письмо, надменное и грозное, возымело эффект, обратный тому, которого добивался вице-король; отняв у флибустьеров всякую надежду на спасение, оно возвратило им их свирепость и неукротимую отвагу. Они пришли в негодование, увидев, что с ними обращаются с таким презрением.
Монбар решил, что это письмо должно быть зачитано перед всеми Береговыми братьями.
— Я не узнаю вас, друзья! — вскричал он. — Как, вы позволяете оскорблять себя подобным образом человеку, который ни разу не мерялся с нами силой в сражении? Или вы решили подвергнуться постыдному наказанию, которым дерзкий враг хочет заклеймить ваше мужество? Хорошо же! Покоряйтесь, но я не стану разделять вашего малодушия. Я считал себя предводителем неустрашимых корсаров! Если я ошибся и вы уподобились бабам, дрожащим при звуке голоса испанца, я не хочу вас знать! Вы свободны, ступайте, протягивайте ваши руки навстречу цепям и целуйте руку палача!
Эта пылкая речь была принята с глухим ропотом, краска стыда выступила на лицах флибустьеров, гнев возвратил им мужество.
— Веди нас на неприятеля! — закричали они. — Пока в наших жилах остается хотя бы одна капля крови, иди вперед, Монбар! Даже раненые последуют за тобой ползком.
— Вы твердо решили повиноваться мне? — спросил он.
— Да, да, приказывай, мы твои!
— Ну, — продолжал Монбар, снимая шляпу и приложив руку к сердцу, — клянусь вам, друзья, что этот дерзкий испанец заплатит жизнью за свое бахвальство и что мы выберемся целы и невредимы из засады, в которую он слишком рано льстит себя мыслью завлечь нас!
— Да здравствует Монбар! — с восторгом взревели флибустьеры.
При этих словах все сомнения исчезли, флибустьеры были уверены в победе.
— А теперь, — продолжал Монбар, — поклянитесь, братья, что вы будете драться до последнего вздоха, не требуя пощады.
— Клянемся! — закричали флибустьеры в один голос, размахивая над головой оружием.
Монбар повернулся к испанскому офицеру, который присутствовал при этой сцене.
— Возвращайтесь к вашему командиру, сеньор кабальеро, — презрительно сказал он офицеру, — и перескажите ему все, что вы видели и слышали; пусть он узнает, что Береговые братья всегда сами диктуют условия, но никогда не принимают их. Отправляйтесь, сеньор, вы исполнили ваше поручение, вам нечего больше здесь делать. Прощайте!
Офицер поклонился и вышел в сопровождении Моргана. Тот довел испанца до бригантины, чтобы защитить от оскорблений флибустьеров, многочисленные толпы которых ходили по улицам и которые, будь парламентер один, зарезали бы его без всякого зазрения совести — так велика была их ненависть к испанцам, особенно в эту минуту.
Морган вежливо простился с парламентером и вернулся к своим товарищам, собравшимся на совет в ту церковь, где утром происходил раздел добычи.
Очутившись в безопасности на своем корабле, испанский офицер вздохнул с облегчением: он не надеялся так дешево отделаться от этих людей. Не теряя времени даром, он снялся с якоря, и через десять минут бригантина на всех парусах устремилась к фрегату вице-короля. Но офицер счел себя в полной безопасности только тогда, когда флибустьерский флот окончательно исчез за его спиной и перед ним замаячили высокие мачты испанских кораблей.
Глава XXV СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА
Ненависть — плохая советчица; герцог Пеньяфлор, ослепленный своей ненавистью к Монбару, допустил важную ошибку.
Если бы он внезапно вошел в озеро и напал на флибустьеров, испуганных его внезапным нападением во главе сил, в несколько раз превосходящих их собственные, то, без всякого сомнения, он победил бы их и заставил если не сложить оружие, то, по крайней мере, возвратить добычу и невольников и отказаться, может быть надолго, от дерзких набегов на испанские колонии.
Но герцог Пеньяфлор, презрев свой долг в угоду ненависти и оставив флибустьерам сомнительный выбор между бесславием и смертью, возвратил им всю их былую энергию. Береговые братья решили вступить в смертельную схватку, надеясь спастись благодаря своей отваге.
У Александра Оливье Эксмелина, флибустьера и хирурга флота, оставившего подробный отчет об этой экспедиции, непосредственным участником коей он стал[21], заимствуем мы сведения о мерах, принятых Монбаром, чтобы с честью выйти из затруднительного положения, в котором очутились Береговые братья. Никогда еще знаменитый авантюрист не проявлял такой необычайной находчивости, как в этих обстоятельствах. Мы должны сознаться, что и им также руководила ненависть. Но эта ненависть не ослепляла его до такой степени, чтобы заставить позабыть об обязанностях командующего флотом. Да, он стремился отомстить человеку, неумолимо преследовавшему его столько лет, но хотел прежде всего спасти людей, вверивших свои жизни командиру. Он действовал, сообразуясь с этим, убеждениями возвращая мужество своим товарищам. Монбар сам подавал пример решительности и силы воли, пренебрегающей всеми препятствиями. Хитрость должна была сделаться самым могущественным его оружием для того, чтобы восторжествовать над испанцами, — хитрость он и употребил.
Первым его распоряжением было обезопасить себя против вероятного возмущения пленных, которое поставило бы его в почти отчаянное положение. Пленные испанцы, заложники, привезенные из Гибралтара, были по его приказанию крепко связаны и отданы под самый строгий караул.
После этого он выбрал среди крупных кораблей самый старый, наименее способный держаться в море, и решил сделать из него брандер, корабль-факел. Он велел перенести на этот корабль смолу, серу и то количество пороха, без которого мог обойтись, потом сделал бомбы из смолы и серы, которые можно было бросать, как гранаты, и принял все меры, чтобы обеспечить успех этой ужасной разрушительной машине. Борт брандера был сделан тоньше, чтобы легче мог разорваться, когда наступит минута действовать. По его приказанию на палубу положили чурбаны, грубо обтесанные и обернутые в матросскую одежду, на них надели шляпы с широкими полями, рядом поставили оружие и знамена, так что издали эти фигуры можно было принять за солдат, неподвижно ожидавших приказания стрелять в упор по неприятелю.
В бортах были сделаны амбразуры, в которые поставили бревна, выкрашенные, как пушки, подняли флибустьерский флаг; словом, находчивый гений Монбара не забыл ни малейшей хитрости, чтобы придать брандеру вид хорошо вооруженного французского боевого судна.
Эта адская машина была помещена в авангарде. Другие корабли сгруппировались на небольшом расстоянии позади. В середине флота на одном корабле поместили всех пленных мужчин; женщины и дети, золото и драгоценности, словом, вся добыча была помещена на корабле, которым командовал Тихий Ветерок. Ему был отдан приказ скорее взорвать корабль, чем сдаться.
Окончив эти приготовления, флибустьеры вновь сошли на берег и отправились в церковь; потом, стараясь не нарушать порядка в городе, опять отправились на корабли.
Жители невольно были поражены мрачными и решительными лицами флибустьеров. Они поняли, что эти люди поставили на карту свои жизни, и внутренне дрожали при мысли о последствиях той страшной борьбы, которая развернется между ними и испанской эскадрой.
Было около четырех часов вечера, когда все флибустьеры вернулись на свои корабли. Монбар не хотел сниматься с якоря до наступления ночи; он рассчитывал на кромешную темноту, чтобы незаметно приблизиться к выходу из озера.
Все приготовления заняли у Монбара шесть дней. Несмотря на свой дерзкий вызов, испанцы сами не входили в озеро; ничто не указывало на то, что они собираются привести в исполнение свою угрозу и прийти за флибустьерами в Маракайбо.
Удостоверившись в подзорную трубу, что флот полностью готов и что капитаны ждут только его сигнала, чтобы сняться с якоря, Монбар удалился в свою каюту. Через некоторое время дверь его каюты отворилась и вошли донна Клара и Франкер. Монбар приветственно махнул им рукой и пригласил садиться.
— Извините меня, — сказал он, — что я просил вас прийти сюда, а особенно прийти вместе. Я должен немедленно переговорить с вами обоими.
— Я к вашим услугам, адмирал, — ответил молодой человек, поклонившись.
— Я жду ваших объяснений, — кротко сказала донна Клара.
Монбар молчал несколько минут, потупив голову и нахмурив брови. Однако мало-помалу лицо его прояснилось; он поднял голову и заговорил тихим голосом, в котором слышалось едва сдерживаемое волнение.
— Я хочу кое-что сказать вам, — произнес он, — особенно вам, дон Гусман.
— Адмирал, я уже не называюсь таким образом, — быстро перебил его молодой человек.
Донна Клара положила ему руку на плечо.
— Не прерывайте адмирала, — сказала она.
Молодой человек взглянул на нее с удивлением, но увидел на ее чертах такое выражение доброты и мольбы, что поклонился в знак согласия.
— Великий час, которого я ждал столько лет, наконец настал, — продолжал Монбар. — Завтра на восходе солнца я лицом к лицу встречусь, надеюсь в последний раз, со своим неумолимым врагом, ненависть которого преследовала меня всю мою жизнь. Господь, суд которого непогрешим, будет судьей между герцогом Пеньяфлором и мною.
— Герцогом Пеньяфлором! — вскричала донна Клара, с испугом сложив руки.
— Герцогом Пеньяфлором! — изумленно прошептал молодой человек.
— Да, разве вы этого не знали? — продолжал Монбар с горечью. — Герцог Пеньяфлор, вице-король Новой Испании, находится на флагманском корабле неприятельской эскадры; увлекаемый ненавистью, он захотел лично присутствовать при гибели своего врага. Но оставим это и перейдем к вам, дон Гусман. Я не хотел бы против вашей воли вовлекать вас в смертельную битву с человеком, который заботился о вас в дни вашей юности и которого, до получения доказательств в противном, вы обязаны считать вашим благодетелем. Я не хочу насиловать вашу совесть, — сказал Монбар с выражением жестокой иронии, которое заставило задрожать его собеседников, — вы будете свободны оставаться нейтральным в битве, если ваши чувства побуждают вас к этому.
— Ах, милостивый государь!.. — вскричал Франкер.
— Подождите! — быстро перебил его Монбар. — Я еще не кончил.
— Боже мой! — прошептала донна Клара. — Что вы хотите сказать?
— Все, — ответил Монбар хриплым голосом, — потому что час открытий пробил, истина должна наконец обнаружиться; этот молодой человек должен быть судьей в своем собственном деле и сделать выбор между своим отцом и своим благодетелем!
— Моим отцом? — вскричал молодой человек. — Вы произнесли эти два слова: моим отцом!
— Да, дон Гусман. Все доказывает мне, что вы мой сын; бумаги, отданные умирающим доном Фернандо д'Авила Филиппу д'Ожерону, почти не оставляют сомнений на этот счет.
— Простите меня, я схожу с ума, я не понимаю; вы мой отец?
— Выслушайте меня. У герцога была дочь. Я случайно спас жизнь этой дочери; в то время я был блистательным дворянином, исполненным веры, пылкости и надежды и служил офицером во флоте французского короля. Герцог поощрял мою любовь к его дочери, он, так сказать, толкнул ее в мои объятия, а так как Франция и Испания находились тогда в состоянии войны, он тайно обвенчал нас в Кадисе. Но через несколько дней после этого брака герцог вдруг увез от меня свою дочь, отправив ее неизвестно куда. Когда я пришел к нему в дом с требованием возвратить мою жену, то выяснил, что он уехал, поручив слуге передать мне эту записку.
Монбар вынул бумажник из кармана, а из бумажника — письмо, пожелтевшее от времени.
— Вот что заключалось в этом письме, — сказал он, — слушайте.
Он прочел голосом, дрожащим от гнева, а может быть и от горести:
«Граф, вы не женились на моей дочери; я обманул вас ложным браком. Вы никогда ее не увидите, она умерла для вас. Уже много лет неумолимая ненависть существует между вашей фамилией и моей. Я вас не отыскивал, нассвел сам Господь. Я понял, что Он предписывает мне мщение. Я повиновался Ему. Кажется, мне навсегда удалось разбить ваше сердце. Любовь, которую вы питаете к моей дочери, искренна и глубока. Тем лучше, вы будете больше страдать. Прощайте, граф. Послушайтесь меня, не старайтесь со мной увидеться; на этот раз мое мщение будет еще ужаснее. Моя дочь выходит через месяц за того, кого она любит и кого одного она любила всегда.
Дон Эстеван Сильва, герцог Пеньяфлор».
— О, все это ужасно! — вскричал молодой человек, закрыв лицо обеими руками.
— Это еще не все, — продолжал Монбар, хладнокровно складывая письмо и убирая его в бумажник, — я гнался за герцогом по Испании и Италии, я поехал вслед за ним во Францию, где нагнал его наконец в жалком местечке в нескольких лье от Парижа. Я потребовал от него возвращения своей жены, потому что его дочь принадлежала мне; наша взаимная любовь обманула соображения ненависти: его дочь месяц тому назад родила сына, которого герцог отнял у нее прежде, чем она успела подарить первый поцелуй этому невинному созданию.
— Пощадите, пощадите, ради Бога! Разве я не достаточно наказана?! — вскричала донна Клара, в слезах падая к ногам Монбара.
Он смотрел на нее с минуту со странным выражением, потом наклонился к ней, нежно поцеловал ее в лоб и бережно приподнял:
— Горесть освящает; вы очень страдали, бедная женщина, — сказал он с волнением. — Будьте прощены.
— Моя мать! Это моя мать! О, сердце говорило мне это! — вскричал молодой человек, бросаясь в раскрытые объятия донны Клары. — У меня есть мать! Боже мой! Боже мой! У меня есть мать!
— Сын мой! Ах, наконец-то! — вскричала в то же время донна Клара, прижимая его к груди.
Они смешали свои слезы и поцелуи.
— Увы! Вот после многих лет первая секунда радости, дарованная мне небом, — прошептал Монбар, опуская голову на грудь. — Могу ли я возвратить счастье этим двум обожаемым существам?
Донна Клара вдруг отстранилась от своего сына и, указывая на Монбара, который смотрел на них, улыбаясь, прошептала:
— А он?
— Отец мой! Да, да! Мой отец! О, я его люблю!
Все трое соединились в одном объятии. На несколько минут все было забыто; счастье от неожиданного соединения переполняло их сердца.
Монбар первым взял себя в руки и вернул свое обычное хладнокровие.
— Теперь… — сказал он.
— О, ни слова больше об этом, отец! — с жаром вскричал молодой человек. — Я нашел обожаемую мать, отца, которого я люблю и уважаю; чего более могу я желать? Что еще могу я узнать? Ничего. А герцог Пеньяфлор, палач моего отца, тиран моей матери, развратитель моей юности? Это чудовище, и я не желаю ничего о нем знать!
— Хорошо, сын мой! — радостно вскричал Монбар.
— Сын мой, — сказала донна Клара, положив обе руки на его плечи и смотря на него с мольбой, — это чудовище — мой отец! Если Господь иногда позволяет отцам проклинать своих детей, он приказывает детям благословлять отцов.
— Матушка, — ответил молодой человек дрожащим голосом, между тем как Монбар устремил на него взгляд со странным выражением, — Господь отвергает чудовищ человечества; вы ангел прощения, а мой отец и я…
— Молчи! Молчи! — вскричала она, закрывая ему рот рукой. — Не богохульствуй…
— Я повинуюсь вам, матушка. Адмирал, — продолжал он торжественным тоном, поклонившись Монбару, — я ваш, адмирал; мое место в сражении возле вас. Я требую этого места как принадлежащего мне по праву.
— Вы займете его, — ответил Монбар.
— О! — прошептала с горестью донна Клара. — Как неумолимы они оба!
В эту минуту дверь каюты отворилась и в дверях появился Филипп д'Ожерон.
— Простите, что я вошел так неожиданно, адмирал, — сказал он, поклонившись.
— Вы всегда для меня дорогой гость, любезный Филипп, — ответил Монбар. — Что вы хотите?
— Адмирал, выслушайте меня, прошу вас… Дело в том, что кормилица доньи Хуаны в первый раз, когда мы были в Маракайбо, отдала мне довольно дорогой перстень. До сих пор я не решался расстаться с ним, но так как через несколько часов у нас будет жаркая битва, в которой я, возможно, погибну, а по этому перстню, быть может, удастся узнать родителей несчастной девушки, то я подумал, что обязан отдать этот перстень вам, чтобы вы могли присоединить его к бумагам дона Фернандо д'Авила, относящимся к донье Хуане.
— Где же этот перстень?
— Вот он, — сказал Филипп, снимая его с пальца и подавая Монбару с едва слышным вздохом.
— Ваше желание будет исполнено, друг мой, — ответил Монбар, взяв перстень, — и если, сохрани Бог, вы будете убиты в сражении, я клянусь вам заботиться, как отец, об участи любимой вами женщины.
— Благодарю вас, адмирал…
Боясь, что не может дольше сдерживать своего волнения, молодой человек поспешно поклонился и выбежал из каюты.
— Узнаете вы этот перстень? — спросил Монбар донну Клару. — Единственный подарок, который я сделал вам и который отнял у вас ваш отец во время вашего обморока.
— Что все это значит? — спросила она с беспокойством.
— Герцог, поручив донью Хуану дону Фернандо, сказал ему, что она дочь ваша и дона Стенио де Безара.
— О, он лгал! — воскликнула она.
— Знаю, но эта ложь казалась ему необходимой, чтобы отвлечь подозрения, между тем как ваш единственный сын был воспитан возле него с целью сделать из него палача и убийцу своего отца.
— Ах! — вскричала она с ужасом.
— Это правда, — холодно сказал молодой человек.
— Этот перстень, отданный впоследствии кормилице доньи Хуаны, должен был, по мнению герцога, еще сильнее запутать ситуацию. Понимаете ли вы теперь все коварство этого адского замысла?
— О, это ужасно! — прошептала она горестно. — Но эта молодая особа?..
— Я решительно не знаю, кто она; вероятно, также похищена для гнусных планов мщения против вас и против меня… Вы и теперь все еще готовы простить вашего отца?
— Повторяю вам, он мой отец, а Господь в своем неисчерпаемом милосердии сделал из прощения самую сладостную и самую великую добродетель.
Монбар устремил на нее взгляд, исполненный глубокой нежности, поцеловал ее в лоб и вышел из каюты, оставив донну Клару наедине с сыном.
Разговор матери с сыном продолжался несколько часов, пролетевших для них как одно мгновение; только когда солнце исчезло за горизонтом и темнота окутала землю, Монбар опять пришел в каюту.
— Вы счастливы? — спросил он донну Клару, улыбаясь.
— Так счастлива, — ответила она, — что опасаюсь за будущее.
— Будущее принадлежит Богу.
— Это правда, — сказала донна Клара, опуская голову; внезапно встрепенувшись и указывая Монбару на сына, она сказала твердо: — Поручаю его вам.
— Вооружитесь мужеством; я ручаюсь вам за него, — ответил он спокойно. — Капитан, — обратился он к молодому человеку, — велите поднять три зажженных фонаря на фок-мачте, пора сниматься с якоря.
Франкер тотчас вышел исполнить полученное им приказание.
— Вам надо немного отдохнуть, — заметил Монбар, — эти волнения убивают вас.
— Нет, — ответила донна Клара, указывая на распятие, висевшее на стене, — я буду молиться Тому, Кто держит нашу участь в своих руках, сжалиться над нами.
Монбар поклонился и вышел, ничего не ответив.
Приказание, отданное адмиралом, было тотчас исполнено. При появлении трех фонарей на фок-мачте все корабли начали выстраиваться по предписанному порядку и прошли мимо Маракайбо.
Шли всю ночь. К трем часам утра легли в дрейф на два часа. На восходе солнца все увидели испанскую эскадру, расположившуюся на якоре перед Голубиным островом, укрепления которого, полностью восстановленные, казалось, грозно ощетинились пушками.
Вице-король, корабль которого находился в центре узкой горловины, отделяющей Сторожевой остров от Голубиного, грозно принял неприятеля, дерзость которого казалась ему безумной.
Брандер шел во главе флибустьерского флота. Командующий испанским соединением, приняв его за адмиральский корабль, позволил ему приблизиться, удивляясь, что с такой многочисленной командой и на таком коротком расстоянии он не начинает битвы. Он предположил, что флибустьеры, по своему обыкновению, хотят идти на абордаж. Убежденный в этом, он велел приостановить пальбу с намерением разгромить флибустьеров, когда они подойдут борт о борт. Эта ошибка испанцев принесла огромную пользу Монбару; действительно, нескольких выстрелов, хорошо направленных, было достаточно, чтобы потопить этот корабль.
К несчастью для себя, испанцы поняли свою ошибку, только когда брандер подплыл к ним вплотную. Все их усилия остановить его или изменить направление его хода были бесполезны.
Флибустьеры под командой Франкера отцепили брандер от буксирного судна, бросили энтер-дреки[22] в снасти корабля вице-короля и, бросившись в лодку, отплыли как можно); дальше от места взрыва.
Операция была проведена так искусно, что когда вице-король хотел оттолкнуть брандер, было уже слишком поздно; однако он не потерял хладнокровия и велел матросам с топорами немедленно вскочить на брандер, чтобы обрубить его мачты и прорубить отверстие на дне. Но брандер уже загорелся внутри; первые удары топором проложили путь огню, который вырвался наружу с клубами дыма.
Пожар, раздуваемый северо-восточным ветром, за не-, сколько минут приобрел такую силу, что корабль вице-короля уже ничто не могло спасти; как ни велики были усилия матросов потушить пожар, это была верная гибель. Менее чем через полчаса корабль пошел ко дну, большая часть команды погибла в волнах; только несколько человек, в числе которых находился вице-король, полумертвые от испуга, добрались до Голубиного острова.
Флибустьеры завязали отчаянную битву.
Глава XXVI ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Между тем Монбар внимательно следил за ходом, событий. Он тотчас воспользовался смятением в рядах испанцев и направил своих смелых товарищей в атаку на второй корабль, который был взят на абордаж в ту самую минуту, когда корабль вице-короля погрузился в пучину волн.
Корабль де Граммона сцепился с третьим судном и вел ожесточенную схватку с доведенными до отчаяния испанцами.
Битва развернулась не на жизнь, а на смерть; встретив ожесточенное сопротивление, флибустьеры шли в атаку с еще большим упорством. Они уже готовы были восторжествовать, когда внезапно де Граммон упал с головой, раздробленной топором. Флибустьеры, испуганные смертью своего командира, заколебались; испанцы удвоили усилия, и битва возобновилась.
Но на испанскую эскадру шел весь флибустьерский флот, каждый корабль бросал энтер-дреки и вступал с неприятелем в битву грудь с грудью.
Битва была жестокая и беспощадная и с той и с другой стороны. Четыре испанских корабля взорвались, но не сдались; другие, испуганные неудачей, думая только о том, как бы избежать грозящей гибели, поспешно обрубили якоря и поплыли к Голубиному острову, защищаемому рвами, наскоро сооруженными из развалин прежнего форта. Высадившись на берег, они потопили свои суда, чтобы не оставлять их во власти флибустьеров. Великолепная испанская эскадра, такая гордая и грозная, была полностью уничтожена.
Битва продолжалась менее часа. Случившееся казалось чудом. Флибустьеры и сам Монбар не понимали, как за такое короткое время, потеряв не более пяти-шести человек, они сумели выйти из почти безнадежного положения и одержать такую блестящую победу. Радость их была безмерна; они обнимались, поздравляли друг друга, и с криками «ура» возносили до небес имя Монбара, своего спасителя.
Но этого торжества адмиралу было не достаточно; заклятый враг ускользнул от него, а он хотел поразить одного его. Он решил немедленно идти на приступ укреплений Голубиного острова.
Флибустьеры с неслыханным бешенством бросились на эти укрепления; они жаждали испанской крови и хотели уничтожить до последнего матроса всю эскадру.
Вице-король, предвидя нападение, поспешил принять меры к серьезному сопротивлению.
Между флибустьерами и испанцами произошла страшная схватка. Вице-король сумел так разумно расставить солдат на самых опасных пунктах, а те, зная, что им нечего ждать пощады, сражались так решительно, что, несмотря на свое ожесточение, флибустьерам не удалось переступить за линию вражеских укреплений.
Монбар, признав невозможность овладеть позициями, которые неприятель защищал с мужеством отчаяния, вынужден был отступить и вернуться на суда, понеся серьезный урон; этот приступ стоил ему ста двадцати человек убитых и раненых.
Несмотря на одержанную ранее победу и уничтожение испанской эскадры, положение флибустьеров не улучшилось: они все еще находились у выхода в открытое море. Испанцы, укрывшись на Голубином острове, могли безнаказанно, благодаря своей многочисленной артиллерии, топить их корабли по мере того, как они станут входить в горловину. Следовательно, их спасение заключалось в овладении фортом Барра; но все их попытки захватить его окончились неудачей.
Серьезные потери, понесенные ими при нападении на испанцев, когда те еще не совсем укрепились на своих позициях, привели флибустьеров в уныние, с новой силой пробудили их опасения и заставили сомневаться в успехе предприятия.
Один Монбар не отчаивался; несмотря на просьбы своих товарищей, которые уговаривали его вступить в переговоры с вице-королем, даже отдать ему добычу, награбленную в Маракайбо и Гибралтаре, он оставался непоколебим в своем намерении овладеть фортом и насильно пробиться в открытое море. Он напомнил флибустьерам клятву повиноваться ему во всем и сражаться до последней капли крови, насмехался над их малодушием и отвечал на все их возражения, что если они вверили ему свое спасение, то должны исполнять его распоряжения, не тревожась о последствиях, которые касались одного его.
Тут мы опять уступим место Александру Оливье Эксмелину, этому очевидцу, к свидетельствам которого мы обращались уже не раз.
Будучи вынужден отказаться от возможности проложить себе путь силой, Монбар решил пойти на хитрость. Вот что он придумал.
На следующий день после приступа, на рассвете, он велел доставить в лодках сотню флибустьеров на берег вне досягаемости выстрелов с форта, к месту, покрытому высокой травой и густым хворостом.
По его приказанию эти флибустьеры, просидев в течение нескольких часов на хворосте, один за другим, по-индейски, ползком, вернулись в свои лодки, чтобы их не заметил гарнизон форта Барра. Добравшись таким образом до лодок, они легли на дно, и лодки, казалось бы пустые, были доставлены гребцами на корабли.
Этот странный маневр повторялся в течение целого дня на виду у испанцев, чтобы убедить их, что команда со всех кораблей высадилась на берег.
Монбару удалось достичь желаемого результата: обманутые этой хитростью, испанцы, убежденные, что на следующую ночь флибустьеры непременно атакуют форт с берега, поставили все свои пушки у этого пункта, так что со стороны моря остались почти без защиты.
На это-то и рассчитывал Монбар, который воспользовался заблуждением испанцев со своей обычной ловкостью. К десяти часам лодки с вооруженными людьми высадились на берегу Голубиного острова, флибустьеры бросились к укреплениям, в то время как корабли беспрепятственно прошли в горловину и начали обстреливать форт.
Испанцы, поняв наконец хитрость неприятеля, спешили вернуть свои пушки обратно и воспрепятствовать нападению на форт, но было слишком поздно: флибустьеры уже находились среди них, грозно крича и гневно размахивая оружием.
Между врагами завязалась битва врукопашную, битва страшная, где благодаря ловкости и физической силе, превосходившей силу испанцев, победа окончательно должна была перейти на сторону флибустьеров.
Однако испанцы, движимые отчаянием и решившись пожертвовать своей жизнью, сопротивлялись чрезвычайно храбро и стойко, отступая шаг за шагом и падая только мертвыми. Каждая пядь земли, завоеванная флибустьерами, стоила им потоков крови. Ожесточение было одинаковым с обеих сторон; каждый понимал, что суждено или победить, или умереть.
Призрачный свет луны, освещая битву, делал ее еще ужаснее.
Вице-король, несмотря на свой преклонный возраст, демонстрировал чудеса храбрости; он поспевал повсюду, поощряя своих солдат и голосом, и личным примером.
Около двух часов продолжалась эта битва — горячая, лихорадочная, ожесточенная; ни одна из сторон не желала уступать. Нельзя было предвидеть исход этой ужасной резни. Вдруг послышалось «вперед!», произнесенное громким голосом Монбара. Знаменитый флибустьер в сопровождении самых храбрых своих товарищей ринулся в место наибольшего скопления испанцев, опрокидывая, уничтожая или разгоняя всех, находившихся на его пути.
Флибустьеры удвоили усилия. Испанцы почувствовали, что погибли; их поддерживало только отчаяние. Они сражались уже не затем, чтобы победить, а чтобы пасть с оружием в руках, предпочитая смерть стыду и мукам рабства.
Монбар, вне себя от гнева, размахивает саблей в самой гуще неприятельских рядов и хриплым голосом призывает герцога Пеньяфлора, ищет в толпе лишь его одного.
Вице-король отвечает на крик своего врага; он с отчаянием бросается ему навстречу, хочет поразить его, как вдруг его хватают сзади, опрокидывают и обезоруживают. Когда Монбар наконец подбегает к герцогу, он останавливается с ревом бешенства и отчаяния: его враг в плену у Франкера и Филиппа д'Ожерона. Молодые люди бросились на вице-короля и вместе схватили его.
— О-о! — вскричал Монбар тоном невыразимого упрека. — Вы отняли у меня мое мщение! Вы, мои верные друзья!
— Нет, — ответил Филипп, — напротив, мы способствовали ему.
Франкер опустил голову.
— Этот человек не должен умереть в сражении, — сказал он.
— Это правда, — продолжал Монбар, — это правда, ей-Богу! Умереть таким образом было бы для него слишком большой честью! Благодарю вас, дети мои!
Оба переглянулись, между тем как Монбар опять бросился в битву.
Взятие в плен вице-короля, скоро сделавшееся известным повсюду, было сигналом к окончательному поражению испанцев; их сопротивление было скорее безотчетным и машинальным, и через некоторое время немногие оставшиеся в живых из этих храбрых солдат были вынуждены сложить оружие.
Через два часа флибустьерский флот окончательно покинул эти уединенные берега, оставив за собой лишь трупы и руины.
В Пор-де-Пе царил праздник. Флибустьерский флот с торжеством вернулся из своей достославной маракайбской экспедиции и привел корабли, доверху нагруженные золотом.
Береговые братья, как всегда не заботясь о завтрашнем дне, спешили как можно быстрее растратить в страшных оргиях богатства, стоившие им столько крови, опасностей и усталости.
Испанские невольники, за исключением вице-короля, были временно размещены по тюрьмам, чтобы в дальнейшем быть проданными местным жителям и буканьерам. Герцог Пеньяфлор и некоторые офицеры, на свою беду оставшиеся в живых после последней битвы, содержались в доме губернатора в ожидании выкупа.
Состоялся большой флибустьерский совет под председательством д'Ожерона. На этом совете Монбар, получив всяческие поздравления, потребовал, чтобы ему был выдан вице-король. Д'Ожерон противился этой просьбе, но, так как Монбар ссылался на права Берегового братства и поскольку большая часть флибустьеров приняла сторону адмирала, губернатор был вынужден уступить. Он согласился выдать герцога Монбару, но потребовал отсрочки на неделю; в свою очередь Монбару пришлось принять это условие, и он удалился, взбешенный этой проволочкой.
За эту неделю д'Ожерон несколько раз призывал к себе своего племянника и его друга Франкера и о чем-то беседовал с ними в обстановке строгой секретности. В конце концов губернатор дал Франкеру тайное поручение; уже шесть дней никто не видел молодого человека в Пор-де-Пе.
Монбар также скрылся ото всех. Он заперся в своем доме, и двери его покоев были безжалостно закрыты даже для самых близких друзей. Исключение составили только два человека: Тихий Ветерок и Мигель Баск. Исключение это никого не удивило, поскольку все знали, что эти два человека — самые старые его товарищи, питающие к нему неограниченную преданность.
Наконец неделя, которую потребовал д'Ожерон, истекла. Утром на восьмой день губернатор послал за Монбаром, передав, что он готов отдать пленника. Флибустьер нахмурил брови, получив это известие. Под видимой сговорчивостью губернатора он подозревал подвох. Однако, не обнаруживая волновавших его чувств, он тотчас вышел из дома и в сопровождении Тихого Ветерка и Мигеля Баска отправился к губернатору.
Губернатор ждал Монбара в гостиной. Он принял его чрезвычайно вежливо и самым непосредственным тоном пригласил следовать за ним в комнату пленника.
Монбар с минуту рассматривал чистосердечную и открытую физиономию губернатора.
— Одно слово, — сказал он.
— Хоть два, если хотите, друг мой, — ответил д'Ожерон.
— Вы называете меня своим другом? — спросил Монбар с некоторым недоверием.
— Конечно, разве вы мне не друг?
— Это правда. Вам известно, что герцог Пеньяфлор мой смертельный враг?
— Я это знаю.
— Вы знаете также, что я намерен ему отомстить?
— Я в этом убежден; но я знаю также, что месть будет достойной вас.
— Вы сможете судить сами. Итак, мы играем в открытую игру.
— Да, в открытую, друг мой. Вы можете взять пленника, если хотите. Вы, кажется, только этого и желаете?
— Только этого. Пойдемте же.
— Пойдемте.
Монбар, все так же в сопровождении двух флибустьеров, пошел за губернатором.
Пройдя несколько комнат, д'Ожерон отпер последнюю дверь, и Монбар вошел в комнату, в которой содержался герцог Пеньяфлор. Герцог был не один, с ним находились несколько лиц.
Это были маркиз дон Санчо, его сын, донна Клара, донья Хуана, Франкер, Филипп д'Ожерон, а немного дальше — мажордом Бирбомоно.
Увидев Монбара, герцог встал, сделал два шага ему навстречу и церемонно поклонился.
— Я ждал вас с нетерпением, — сказал он, не давая ему времени заговорить первому.
— А-а! — произнес Монбар задыхающимся голосом, бросая сверкающий гневом взор на окружавших его особ. — Благодарю за добросовестность, с какой вы исполняете ваши обязанности, — обратился он к д'Ожерону с выражением горького презрения.
— Подождите, — хладнокровно ответил губернатор.
— Граф, — сказал герцог, — я знаю, что я ваш пленник, и готов следовать за вами; но прежде чем ваша месть свершится, я прошу вас дать мне несколько минут. Мне уже больше восьмидесяти лет, жизнь моя на исходе, — сказал он с горестной иронией, — я знаю, что час искупления для меня пробил.
— Я не желаю слушать вас, — возразил Монбар мрачным голосом. — Человек, который в неумолимой ненависти всю жизнь преследовал меня без всяких причин, человек, погрузивший меня в бездну горести, из которой ничто не может меня извлечь, наконец, человек, побежденный мной и находящийся в моей власти, не может малодушным и поздним раскаянием растрогать мое сердце и склонить его к состраданию.
Лихорадочная краска покрыла лицо герцога. Он печально переглянулся с сыном, но продолжал кротким голосом:
— Не малодушие и не позднее раскаяние предписывает мне мое поведение, — сказал он, — моя ненависть к вам теперь, когда я нахожусь в вашей власти, так же сильна, как и двадцать пять лет тому назад; я вас ненавижу и буду ненавидеть до последнего своего вздоха.
— А-а! Теперь я узнаю вас! — вскричал Монбар.
— Только, — продолжал герцог, не обращая внимания на это восклицание, — прежде чем отдать себя в ваши руки, я хочу объясниться с вами в присутствии этих людей.
— Я не знаю, — с достоинством возразил Монбар, — есть ли у этих людей право присутствовать при объяснениях, касающихся лично нас.
— Мой отец не совсем правильно выразился, — вмешался маркиз, — и чтобы отбросить все сомнения относительно моего присутствия здесь, позвольте сказать вам, что это присутствие не несет ничего неприятного для вас и что я не только чувствую себя обязанным вам, но и имею глубокое уважение к вашему характеру.
— Но как же вы оправдаете это присутствие?
— Разве я не сын герцога Пеньяфлора?.. Какого другого оправдания требуете вы от меня?
— И я также вам скажу: это мой отец, — сказала донна Клара, с мольбой сложив руки.
— Он заботился о моем детстве, — прошептал Франкер, на которого Монбар бросил вопросительный взгляд.
Флибустьер не отвечал; брови его нахмурились, голова опустилась на грудь. Присутствующие ждали с беспокойством. В комнате царило печальное молчание.
— Итак, — сказал Монбар через минуту, — женщины, дети, друзья — все объединились, чтобы вырвать добычу у льва, лишить его возможности мстить, хотя именно надежда на месть столько лет придавала мне мужество жить и бороться с горестью, раздиравшей мне грудь! О, горе мне, что я не нашел мужества вырвать из своей груди сердце, когда давал страшную клятву отомстить! Презренный я человек, позволивший себе растрогаться от слез и просьб!
— Милостивый государь, — надменно произнес герцог, — я не умоляю и не прошу вас.
— О, молчите! — вскричал Монбар. — Разве вы не видите, что мне вас жаль и что я вас прощаю?
— Прощаете меня?! — вскрикнул герцог.
— Молчите, говорю я вам. Я вас прощаю, потому что окружающие вас добры и я не хочу возлагать на них ответственность за ваши гнусности; потому что я простил вашей дочери ее слабость; потому что, наконец, несмотря на все ваши усилия, вам не удалось сделать негодяя из моего сына. Ступайте, вы свободны. Я даже не возьму с вас выкупа. Маркиз, я возвращаю вам вашего отца.
— О, какие оскорбления! — с бешенством вскричал герцог. — Берегитесь, между нами еще не все кончено; я могу заставить вас дорого поплатиться за ваше презрение.
Монбар с пренебрежением пожал плечами.
— Теперь вы ничего не сможете сделать, слабый старик, — с иронией сказал он, — поскольку обнаружены и пресечены все ваши темные проделки, даже относительно этой несчастной девушки, которую вы хотели выдать за ребенка вашей дочери, между тем как она дочь одного из ваших доверенных слуг. Доказательства ее происхождения находятся в моих руках. Вы побеждены, потому что вы остаетесь в одиночестве, окруженный презрением всех, кто вас знает. Какую более горестную муку, какое более ужасное наказание могу я наложить на вас, сохраняя вам эту презренную жизнь, за которую вы еще цепляетесь? Вы будете жить, потому что я этого хочу, слышите вы? Потому что я считаю ниже своего достоинства мстить вам — слабому и бессильному.
— О, ты умрешь, негодяй! — вскричал герцог, бросаясь на Монбара с кинжалом в руке.
Монбар вырвал у него кинжал, отбросил его далеко в сторону и презрительно оттолкнул герцога.
— Прочь, убийца! — сказал он.
— О, побежден, опять побежден! — вскричал герцог с яростью.
— Да, побежден, — ответил Монбар, — потому что, несмотря на мои поступки и преступления, Господь защищает меня от твоего гнева!
Но герцог не слышал его: он изгибался в страшных конвульсиях на руках сына и дочери. Странная перемена произошла в нем, синеватая бледность покрыла его лицо, холодный пот выступил на висках; он только поводил глазами, налитыми кровью, и все его тело судорожно подергивалось.
— Бог! — прошептал он глухим голосом. — Бог! Он все призывает Бога!.. О-о, злодей! Злодей!..
Вдруг герцог выпрямился, вырвался из рук, удерживавших его, посмотрел на своего врага, бесстрастного и холодного, с выражением безумной ярости, сделал к нему шаг, поднял руку, как бы затем, чтобы ударить его по лицу, и закричал хриплым голосом:
— Проклят! Проклят! Проклят!..
Но рука его бессильно опустилась, все тело вздрогнуло от последних судорог, и он, словно дуб, сраженный громом, покатился к ногам Монбара, который не сделал ни малейшего движения, чтобы уклониться, и ждал с высоко поднятой головой и с улыбкой на губах.
К герцогу бросились и попытались поднять его. Но все было кончено; он умер. Его черты, искривленные предсмертной судорогой, широко раскрытые неподвижные глаза даже после смерти все еще сохраняли выражение неумолимой ненависти, которое обезобразило до неузнаваемости посиневшее лицо покойника…
Через два месяца после рассказанных нами событий люгер «Чайка» на всех парусах входил в дьеппскую гавань.
На палубе этого люгера восемь человек со сладостным волнением приветствовали любимые берега отчизны. Это были Бертран д'Ожерон, возвращавшийся во Францию по призыву короля Людовика XIV, Монбар, донна Клара, Филипп д'Ожерон, донья Хуана, дон Гусман де Тудела, нья Чиала и Бирбомоно.
Филипп и донья Хуана, обвенчанные шесть недель тому назад, собирались провести медовый месяц в старом фамильном замке де Бармонов, у Монбара и донны Клары, сердца которых, так давно остывшие из-за перенесенных страданий, начали пробуждаться при виде чистого и безоблачного счастья молодых людей.
Д'Ожерон повез дона Гусмана ко двору, чтобы представить тому, кого уже начинали называть великим королем.
Может быть, когда-нибудь, несмотря на планы уединенной жизни и счастья, мы опять найдем наших действующих лиц среди страшных флибустьеров на Тортуге, вновь ведущих неумолимую войну с испанцами, поскольку будущее принадлежит Богу, который в своем высоком могуществе по своей воле располагает человеческой судьбой.
― МЕДВЕЖОНОК ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА ―
БЕСЕДА В ВИДЕ ВСТУПЛЕНИЯ, В КОТОРОЙ АВТОР СООБЩАЕТ ЧИТАТЕЛЮ, КАК НЕЖДАННО-НЕГАДАННО ОКАЗАЛСЯ РАССКАЗЧИКОМ СЛЕДУЮЩЕГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
Во время моего последнего путешествия в Америку, которое, скажу мимоходом, хотя даты и не обозначу, относится к далеко не столь давней эпохе, как полагают — или делают вид, будто полагают — многие из моих добрых друзей по печати, судно, на котором я отплыл из Гавра, из-за шквалов, бушевавших у Малых Антильских островов, направилось, пользуясь попутным ветром, к острову Сент-Кристофер, в гавани которого поспешило укрыться, чтобы заделать серьезную течь, грозившую ему потоплением, несмотря на все усилия откачать воду.
В одном из моих предыдущих произведений, посвященных истории Береговых братьев, говорится об острове Сент-Кристофер, этой колыбели флибустьерства. Именно оттуда вышли эти великие отверженцы XVII века, чтобы напасть, как стая хищников, на острова Санто-Доминго и Тортугу.
Остров Сент-Кристофер, называемый прежде карибами Лиамнига, ныне входит в состав группы Малых Антильских островов, ныне принадлежащих Англии под названием Подветренных; он лежит в 90 километрах к северо-востоку от острова Антигуа и 125 километрах от Гваделупы, совсем рядом с островом Невис, на 18° северной широты и 63° восточной долготы. Не более 24 километров в длину, Сент-Кристофер, подобно большей части Антильских островов, имеет вулканическое происхождение, горист и пересечен горным кряжем, высшая точка которого, гора Мизери — это потухший вулкан высотой в три тысячи пятьсот футов.
Остров в настоящее время находится в цветущем состоянии, густо населен и ведет обширную торговлю ромом, сахаром, кофе, хлопком и прочими колониальными товарами.
В XVIII веке французы называли его Кротким островом. Поговорка, некогда очень распространенная на Антильских островах, гласила: дворянство на Сент-Кристофере, мещанство на Гваделупе, воинство на Мартинике, а мужичье на Гренаде.
Несмотря на бедствия и невзгоды, обрушивавшиеся на этот остров в течение целого века, пока он по Версальскому договору не был окончательно уступлен Англии, несколько французских семейств продолжали там жить и пользовались заслуженной славой из-за своего благородства и высокого ума. Семейства эти, хотя и находящиеся под покровительством Англии, в душе остались, однако, верны своему отечеству и, несмотря на то что могли быть названы коренными сент-кристоферцами, поскольку вели свое происхождение от первых колонистов, обосновавшихся на острове, тем не менее считают себя чужеземцами, не признавая иной власти, кроме французского консула в Бастере, главном городе Сент-Кристофера.
Когда мы бросили якорь у Песчаного мыса, капитан предупредил меня, что мы простоим тут довольно долго — по крайней мере, недели три.
В первую минуту я был раздосадован, но любовь к путешествиям и постоянное общение с людьми приучили меня, благодарение Богу, философски относиться к возникающим неожиданностям, и я быстро примирился с этим не очень приятным известием и стал искать возможность провести предстоящие мне три недели с наименьшей скукой.
Признаться, задача оказывалась нелегкой. Англичане мало доступны у себя на родине и не славятся особенной вежливостью к чужестранцам, в колониях же своих они просто недосягаемы. Впрочем, если говорить правду, я никогда не питал большого сочувствия к этим себялюбивым островитянам, чопорно холодным и надменным, которые изъявляют глубокое презрение ко всем иноземцам и, что бы ни говорили, французов просто ненавидят, да и те в долгу у них не остаются, в особенности в Азии, Африке и Америке, словом, везде, где эти карфагеняне новейших времен имеют свои торговые конторы.
Итак, я ни минуты не колебался и не подумал представиться местным властям или искать доступа в какое-нибудь английское семейство. Чай расслабляет мои нервы, от британского же высокомерия меня попросту коробит.
Перерыв все свои бумаги, я наконец отыскал рекомендательное письмо, на всякий случай данное мне накануне отъезда из Парижа приятелем, креолом с Гваделупы, который был в то время редактором одной из влиятельных политических газет.
— Как знать, что может случиться? — сказал он, вручая мне письмо. — Встречаются обстоятельства, предвидеть которые никак нельзя. Ваши скитания по белу свету, пожалуй, могут занести вас на остров Сент-Кристофер. Ваша англофобия мне известна, и я черкнул пару строк своему родственнику, живущему, кажется, в окрестностях Бас-Тера, но где именно, — не знаю. Я лично никогда не знавал его, так как не бывал на Сент-Кристофере. Но вас не должно смущать это обстоятельство; вы можете смело явиться с моим письмом, и будьте уверены, вам окажут самый радушный прием.
Письмо это, вместе с другими, я положил на дно чемодана и забыл о нем.
Слова капитана о трехнедельной стоянке заставили меня вспомнить о позабытом было рекомендательном письме, и я почувствовал искреннюю радость, наконец отыскав его под кипой разнообразных бумаг.
Послание было адресовано графу Анри де Шатограну, сент-кристоферскому землевладельцу.
Этот драгоценный талисман я положил в бумажник и съехал на берег.
Первой моей заботой по высадке было нанять лошадь и проводника, что обошлось мне в два ливра — довольно высокая цена за едва ли двухчасовое путешествие, — и направиться к Бас-Теру, куда мы прибыли в три часа пополудни.
За время пути я не перекинулся ни одним словом со моим проводником и тем внушил ему высокое мнение о своей особе; я довольствовался созерцанием природы, так как местность была до крайности гористая и необычайно живописная.
Надо отдать англичанам справедливость: где бы они ни поселились, этот край тотчас обретает отпечаток, свойственный всем их владениям, они приносят с собой жизнь, движение и ту лихорадочную деятельность, которые составляют тайну их коммерческого преуспевания. Даже в Европе мне редко доводилось видеть поля, возделанные лучше, дороги, поддерживаемые тщательнее, и коттеджи — прелестнее.
Эта очаровательная картина приводила меня в восторг. Крошечный островок, затерявшийся в бескрайнем Атлантическом океане, дышал довольством и благоденствием. Я почти стыдился в душе за нас, французов, неучей в деле колонизации, достигших благодаря бездарной палочной системе, так глубоко и вместе с тем так неудачно укоренившейся в наших колониях, разрешения безусловно трудной задачи преобразить за несколько лет владения любой, даже самый плодородный и населенный край в широко раскинувшуюся бесплодную пустыню.
При въезде в Бас-Тер проводник почтительно спросил меня, желаю ли я остановиться в гостинице «Виктория».
Во всех английских колониях есть гостиницы с названиями «Виктория» и «Альбион».
Я попросил его вести меня прямо к дому французского консула.
Это был прелестнейший коттедж между двором и садом на самой набережной.
Радостно дрогнуло мое сердце при виде широко развеваемого порывистым морским ветром милого нам трехцветного флага. За границей я — шовен и, сознаюсь со всем смирением, вполне разделяю мнение храброго генерала Лаллемана, который говорил, что каждый француз на чужеземной почве должен быть достойным представителем Франции и заставлять уважать ее одним своим видом.
Звание вице-консула на Сент-Кристофере — приятнейшая на свете должность, не хлопотная, но с приличным окладом. В гавань не заходит и трех французских кораблей в год; вице-консулу пришлось бы сидеть с утра до вечера, скрестив руки, подобно генеральному консулу короля Сиамского в Париже, если бы наш представитель на крошечном антильском острове, человек в высшей степени образованный и фанатик-естествоиспытатель, не сумел создать себе собственных занятий, не оставляющих ему и минуты свободного времени.
Господину Дюкрею — под этим псевдонимом я скрою настоящее имя превосходного человека, которому обязан тем, что не умер от сплина на Сент-Кристофере — было около сорока пяти лет. Высокого роста, изящно сложенный, он отличался изысканным обращением; от его открытого лица с тонким и умным выражением веяло невыразимой симпатией; он принадлежал к одному из тех французских семейств, о которых упомянуто выше, и пользовался большим уважением даже со стороны английских властей.
Вице-консул принял меня радушно и тотчас заставил отослать проводника с лошадью, объявив, что я принадлежу ему на все время моего пребывания на Сент-Кристофере. Чернокожий слуга взял мой чемодан, а господин Дюкрей провел меня в прелестную комнатку с окнами, выходящими на гавань.
— Здесь вы у себя, — сказал улыбаясь радушный хозяин, — это ваша комната на все время, пока вы останетесь на острове.
Я хотел было протестовать, заметив, что вторжение чужого человека в дом сопряжено для его обитателей с неудобствами и если и не в тягость, то во всяком случае стеснительно.
— Во-первых, вы не чужой, — возразил он, — вы соотечественник, а следовательно, друг; во-вторых, вы совершенно вольны уходить, приходить, делать что угодно. И, наконец, я живу теперь один, холостяком: жена и дочь гостят у близких родственников на Антигуа и не вернутся раньше чем через два месяца. Так что вы не только не стесните меня, но, напротив, окажете истинную услугу, если попросту примете мое гостеприимство.
Возразить на это было нечем; я пожал господину Дюкрею руку, и вопрос был решен.
Он оставил меня приводить в порядок мой костюм, и спустя всего несколько минут я опять отыскал его.
О нашем прибытии его известили с утра. Он ждал капитана к обеду.
Я пожалел, что, спеша сойти на берег, не предупредил капитана о замышляемой мною поездке; но сделанного вернуть было нельзя.
— Еще я забыл сказать вам, — с улыбкой обратился ко мне хозяин, — что у нас в доме звонят четыре раза в день: к завтраку, полднику, обеду и к ужину, который подается в восемь часов.
— Стало быть, вы целый день едите? — это сообщение рассмешило меня.
— Почти что, — ответил он, также смеясь, — в этом мы заимствовали английские обычаи, а вам, без сомнения, известно, что англичане много едят и в особенности пьют. Однако не пугайтесь: у меня в доме едят и пьют только когда голодны и чувствуют жажду. Итак, вы предупреждены… впрочем, после звонка никого не ждут, чтобы садиться за стол. Так что у вас не будет ни малейшего повода стесняться с нами. Как хотите, мой любезный гость, а я решительно и безвозвратно завладел вами в свою пользу. А как прикажете иначе? Не часто заглянет француз в этот дальний уголок, как же выпустить из рук того, кто случайно залетел в наши края? Не желаете ли вы взглянуть на мои коллекции? Они довольно хороши и содержат много любопытнейших экспонатов.
Я тотчас последовал за ним.
Дюкрей скромно именовал «своими коллекциями» настоящий музей, занимавший пять больших комнат. С редким терпением и замечательным искусством он собрал здесь образцы богатой и разнообразной флоры Антильских островов, как Больших, так и Малых. Фауна также была представлена многочисленными образчиками обоих видов, маммалиологического и энтомологического[23]; далее шли минералы всякого рода и свойства, карибские древности, собранные Бог ведает как, и все здесь было расставлено в порядке, снабжено ярлыками и классифицировано с такой тщательностью, что один взгляд на коллекцию вызвал бы зависть у директора нашего парижского музея.
Гумбольдт, д'Орбиньи и еще двое-трое знаменитейших ученых посетили эту экспозицию, или собрание — не важно, как будет угодно читателю называть ее, — и остались пораженными виденным.
И было от чего. Что касается меня, то никогда в жизни не доводилось мне видеть ничего более любопытного и занимательного.
Три часа пролетели с необычайной быстротой среди этих чудес, на которые я никак не мог налюбоваться досыта; я мог бы пробыть тут до вечера, сам того не подозревая, если бы черный слуга не пришел доложить о прибытии капитана Дюмона.
Капитан ожидал вице-консула в гостиной и совсем оторопел, увидев меня, так как пребывал в полной уверенности, что я нахожусь на Песчаном мысе; впрочем, вскоре все объяснилось.
Через пять минут мы сидели за столом.
Сперва речь шла о Франции и событиях, произошедших в ней за последние месяцы; капитан привез с собой пачку газет, которые подарил господину Дюкрею, и тот, не имея понятия о положении дел в Европе, был очень рад случаю ознакомиться с политикой своего отечества; потом приступили к обсуждению условий займа, в котором нуждался капитан для починки своего судна, и когда условия эти были оговорены, разговор круто свернул на другие темы и естественным образом перешел на остров Сент-Кристофер.
Тут уже вице-консул был в своей стихии и с милой снисходительностью ознакомил нас с правами креолов, живших на острове, с немногими удовольствиями и чрезвычайно ограниченным числом развлечений, представляемых краем для приезжих.
— Здесь проживают несколько французских семейств, — вставил капитан. — Они богаты и пользуются почетом.
— Можно сказать, что все богаты и очень уважаемы английскими властями, хотя у них с англичанами нет ничего общего и контакты между ними весьма редки, — ответил Дюкрей. — Все эти семейства остались верны своему отечеству; никакие убеждения, никакая лесть не смогли заставить их принять английское подданство. Они упорно остаются французами. Дети их по большей части воспитываются во Франции и служат там или в армии, или на дипломатическом поприще, или в судах и, заплатив отечеству свой долг, эти воины, судьи или дипломаты возвращаются сюда доживать дни свои в мире и спокойствии.
— Поистине это чудо! — вскричал я в восторге.
— В этом нет ничего особенного, — добродушно заметил Дюкрей. — Политика предъявляет свои требования, которым частные люди покорятся не обязаны; то же явление вы встретите почти во всех прежних французских владениях. Но я должен сознаться, что эти предрассудки, как англичане называют нашу любовь к отечеству, здесь упорнее, чем где-либо в другом месте.
— Чему вы приписываете это? — осведомился я с любопытством.
— Остров Сент-Кристофер с самого начала принадлежал и французам, и англичанам в одно и то же время. По странной случайности, когда французские авантюристы высаживались на одном берегу, англичане ступали на противоположный берег. Эти искатели приключений сперва жили в полном согласии, но потом французы вытеснили англичан и завладели всем островом. Англичане не раз тщетно пытались вновь поселиться на нем; когда они чего-то захотят, то, как вам известно, упорно добиваются своей цели; упорство — самое драгоценное их качество. Версальский договор окончательно решил вопрос в их пользу, но для французских семейств, которые пожелают остаться на Сент-Кристофере, было выговорено право сохранять свою национальность; все эти семейства происходили от первых поселенцев, занявших остров, и каждое в числе своих предков имело по крайней мере одного из знаменитых флибустьеров, целое столетие бывших грозой и ужасом Испании, могуществу которой они нанесли первые и самые чувствительные удары.
— Значит, нынешние представители Франции — потомки…
— Тех флибустьеров, которые позднее завладели Тортугой, — перебил Дюкрей, — и половиной острова Санто-Доминго. Сам я — правнук небезызвестного Дюкрея, который во главе всего лишь сотни людей овладел Гренадой и взял с ее обитателей огромный выкуп; маркиз де Ла Монтгербю — близкий родственник д'Ожерона; барон Дюкас — потомок знаменитого флибустьера, назначенного Людовиком XIV командующим эскадрой; кавалер дю Плесси, барон дю Росей, граф де Шатогран и кавалер Левассер — все они потомки авантюристов, заслуживших громкую славу. Вы понимаете, что эти люди, предки которых закладывали основу владычества Франции в Америке, гордятся своей национальностью и не желают переселяться из края, откуда их деды и прадеды, предводительствуемые Монбаром, отправились совершать великие подвиги.
— Разумеется, я понимаю это. Франция должна гордиться этой неизменной верностью нашему общему отечеству! Однако позвольте, кажется, вы упомянули в числе прочих имя графа де Шатограна?
— Действительно, упомянул, — ответил вице-консул со своей пленительной улыбкой, — и могу прибавить, что оно едва ли не самое чтимое и дорогое нам во многих отношениях. Разве вы знаете графа де Шатограна?
— Как же это возможно, когда я здесь в первый раз?
— Это ничего не значит. Ведь могли же вы знать отпрысков младшей ветви фамилии Шатогранов — они родом с Антигуа, где и до сих пор еще обитают несколько членов этого славного семейства.
— Нет, у меня просто имеется рекомендательное письмо к графу Анри де Шатограну, которое дал мне перед моим отъездом из Парижа господин Н. де С. из Гваделупы.
— О! Граф Анри окажет вам самый теплый прием. И завтра же я лично представлю вас ему.
— Вы очень любезны; однако позвольте осведомиться, кто же этот граф Анри де Шатогран, имя которого вы, как я убедился, произносите с глубоким благоговением?
Дюкрей улыбнулся и, облокотившись на стол, машинально вертел ножом.
— Граф де Шатогран, — сказал он спустя мгновение, — натура избранная, великая душа. Таких людей природа создает, быть может, одного на сто миллионов. Вы представитесь ему, но прежде необходимо рассказать вам о нем в двух словах.
— Буду весьма обязан.
— Графу Анри де Шатограну теперь девяносто шесть лет, но до сих пор, как это ни поразительно, его высокая фигура пряма, черты лица выразительны, тонки и изящны, а взгляд необычайно живой; кроткое и умное лицо дышит неизъяснимой добротой, а длинные серебристые волосы и белая борода придают ему печать особенного величия. Несмотря на глубокую старость, граф очень бодр: он охотится, словно сорокалетний. Усталость и болезни не имеют власти над его могучим организмом, он создан, чтобы прожить полтораста лет, если не случится чего-нибудь непредвиденного.
Каков он физически, таков и нравственно. После войны в за независимость в Америке, в которой он участвовал вместе с де Рошамбо и Лафайетом, граф последовал за бывшим своим генералом и другом во Францию. В 1789 году ему было двадцать семь лет; он находился в числе тех немногих дворян, которые с искренним энтузиазмом приветствовали занимавшуюся в то время зарю эпохи возрождения величия Франции. Граф де Шатогран происходит из воинственного рода; разумеется, его место было в действующих войсках. В 1792 году он отправился волонтером на северную границу; как адъютант Пишегрю, он участвовал во взятии Вейсембургской линии. В 1795 году его произвели в генералы; позднее он последовал за генералом Бонапартом в Египет. День восемнадцатого брюмера опечалил его: он понял, в какую бездну увлекает Францию слепая восторженность народа. Герой Лоди и пирамид шел исполинскими шагами к цели, которой задался; ослепленная толпа стремилась за ним вслед с громкими рукоплесканиями. Это был уже не Бонапарт, но еще и не Август. Да, это был Цезарь, которому стоило только протянуть руку к императорской короне, чтобы завладеть свободой, так дорого обошедшейся Европе. Пробил последний час республики. Граф де Шатогран понял, что роль воинов 1793 года кончена, что впредь все стремления Франции будут подавлены и поглощены славой одного человека; он с грустью покорился, переломил шпагу и навсегда простился с отечеством, оплакивая разлуку с Францией и судьбу страны. По возвращении на остров Сент-Кристофер он как бы заперся в неприступной цитадели и с тех пор уже не расставался с ней.
Вот какой человек граф де Шатогран. От каждой новой блестящей победы эпопеи империи он содрогался, словно раненый лев. Исполинская мечта о воссоздании трона Карла Великого страшила его. Уже начиная с восемьсот девятого года он предвидел год восемьсот четырнадцатый. Его предчувствие сбылось; он глубоко скорбел об этом, потому что за разбитым титаном видел предсмертные муки, терзающие трепещущее тело Франции, изнемогающей в борьбе. И все же он остался верен своей клятве и своим убеждениями: он отверг все императорские предложения. Услыхав о революции 1848 года, он грустно улыбнулся: «Где восторженность 1792 года? — воскликнул он. — Правительства насильно не навяжешь, каким бы именем ни называли его; дважды не сделаешь одного и того же; былая трагедия оборачивается смешным, жалким фарсом». С той поры он больше ни одним словом не упоминал о политических событиях.
Живет он патриархально, в окружении своей семьи, но взгляд его постоянно прикован к Франции, за которую он проливал кровь на двадцати полях битв, из которой сам себя добровольно изгнал и которой никогда более не увидит.
Мы с капитаном слушали этот простой и прекрасный рассказ с глубоким сочувствием.
— Черт возьми! — вскричал Дюмон, — Ваш граф де Шатогран — славный человек.
— Да, — согласился Дюкрей с доброй улыбкой, — это человек великой души, способный на любую жертву, и он умрет в безвестности, вдали от отечества, для которого столько сделал.
— Неблагодарность народов есть венец, Богом возложенный на великих граждан.
— Однако я не скажу более ничего; завтра вы увидите графа и сами сможете судить о нем… Господа, вот гаванские сигары; ручаюсь вам, что они просто превосходны.
— Еще одно слово, — сказал я, выбирая сигару.
— Я слушаю.
— Граф де Шатогран также является потомком какого-то знаменитого флибустьера?
— Знаменитейшего, быть может, из всех, потому что слава его всегда оставалась незапятнанной. Он не был жесток, как его друг Монбар Губитель, не жаден, как Морган, не свиреп, как Олоне, не развратен и мстителен, как Прекрасный Лоран. Нет, сей флибустьер своими подвигами долго заставлял Испанию опасаться за свои колонии, но, можно смело сказать, заслужил уважение своих врагов.
— О! Тогда я знаю его имя! — с живостью вскричал я. — В летописях флибустьерства Александра Оливье Эксмелина упоминается только об одном лице, которое подходит к начертанному вами великолепному портрету.
— И лицо это?.. — с улыбкой спросил консул.
— Медвежонок Железная Голова.
— Так я вам скажу, — ответил Дюкрей, вставая, чтобы провести нас на террасу подышать свежим морским воздухом, — что граф Анри де Шатогран — правнук Медвежонка Железная Голова.
Я буквально оторопел, так на самом деле был далек от подобного предположения.
Несмотря на превосходную постель, предложенную мне Дюкреем, нервное возбуждение от напряженного любопытства ощущалось мной так сильно, что всю ночь напролет я не мог сомкнуть глаз и меня даже нисколько не клонило ко сну.
Я с нетерпением ждал минуты, когда увижу человека, величие которого мне описали и в личности которого спустя четыре поколения воскресали благородные качества его предка.
Надо сказать, что Медвежонок Железная Голова был из старых моих любимцев; сто раз читал и перечитывал я описание его прекрасной жизни, его удивительных приключений, его необычных подвигов в произведениях немногих авторов, посвятивших свое перо великим отверженцам XVII века, которые сами себе дали прозвище Береговых братьев. Но в жадно поглощаемых мною отчетах о подвигах знаменитого авантюриста всегда оставались пробелы; вероятно, Александр Оливье Эксмелин, правдивый писатель, который сам был действующим лицом в большей части с наивным добродушием передаваемых им сцен, и другие авторы, писавшие о том же предмете, знали пресловутого авантюриста, прозванного Медвежонком, только как одного из предводителей флибустьеров, тогда как личная его жизнь оставалась для них неизвестной; нигде я не находил никаких указаний на частную жизнь человека, который всегда являлся мне окруженным сиянием славы, однако же должен был любить, страдать и бороться, как все другие члены большой семьи, имя которой — человечество.
Именно эти-то пробелы я жаждал пополнить, этих-то интересных подробностей я добивался.
Нет героя для камердинера, сказал кто-то; слова эти, скорее правдоподобные, чем точные, подстрекали мое любопытство и заставляли меня отыскивать всеми средствами те мельчайшие подробности, которые так важны для полного изучения жизни человека, если хочешь описать его верно.
К великому моему облегчению, наконец занялся день; однако, чтобы мой добрый хозяин не получил обо мне дурного впечатления, нельзя же мне было с бестактной поспешностью явиться к нему и тем поставить его перед необходимостью сдержать данное мне слово.
Тем не менее к восьми часам утра я истощил весь свой запас терпения и сошел вниз.
Дюкрей был уже полностью одет.
Он ждал меня, расхаживая взад и вперед по гостиной с сигарой во рту.
— А! — вскричал он, увидев меня. — Вот вы и пришли! По-видимому, вы хорошо провели ночь.
— Превосходно, — ответил я, улыбаясь при мысли, что не сомкнул глаз.
— Я на ногах с шести часов; все мои дела, связанные с ведением консульской канцелярии, на сегодня завершены. Теперь я могу посвятить вам весь день.
— Не знаю, как благодарить вас за вашу неисчерпаемую любезность, но все-таки мне совестно, что я причинил вам столько хлопот.
— Я не понимаю, о каких же это хлопотах идет речь, мой дорогой гость?
— Во-первых, такие ранние занятия. Дюкрей засмеялся.
— Вы шутите, — сказал он, — в колониях встают с зарей, чтобы воспользоваться утренней свежестью, и потому все дела делаются рано. Среди дня дома закрыты, и всё спит.
— Ну вот! — вскричал я с досадой. — Мне всегда такое счастье!
— В чем же собственно? — удивился он.
— Преглупая шутка приключилась со мной; представьте себе, что мое нетерпение увидеть графа Анри де Шатограна было так велико, что я всю ночь не мог заснуть ни на одну минуту и не вставал до сих пор из одного опасения потревожить вас, поднявшись с петухами.
— Судите сами, как вы заблуждались, — заметил Дюкрей, смеясь. — Я уже сделал, или, вернее, помог капитану сделать заем, в котором он нуждался, и добрых полчаса назад он отправился на Песчаный мыс с деньгами в кармане и очень довольный, смею вас уверить.
— Не сомневаюсь.
— Потом, как уже говорил, я покончил с делами в канцелярии, прошелся вдоль гавани, кроме того отправил к графу де Шатограну нарочного, дабы предупредить о нашем приезде, так что нас ждут к завтраку, и вернулся сюда выкурить сигару в ожидании вашего прихода. Надеюсь, вы теперь уже не думаете, что стеснили бы меня, если бы спустились раньше. Но не стоит больше говорить об этом; лучше выпьем по рюмке старого рома, закурим по настоящей сигаре — ив путь! Нам предстоит проехать с добрых три мили.
Сказано — сделано; через пять минут мы уже ехали, отведав превосходного вина и закурив не менее превосходные сигары.
Двое чернокожих слуг в ливреях следовали за нами верхом на почтительном расстоянии.
Утро было великолепное, воздух теплый, с легким свежим ветром; мы ехали по дороге, содержащейся в таком же порядке, как аллеи королевского парка; она была окаймлена теми роскошными тропическими растениями, которые распространяют такую приятную свежесть. Укрывшись в листве и прыгая с ветки на ветку, звонко пели тысячи птиц. Странные маленькие обезьянки, которые водятся исключительно на острове Сент-Кристофер, строили нам уморительнейшие гримасы.
Эти животные, заметим мимоходом, истинный бич для колонистов. Избавиться от них не представляется никакой возможности, а между тем они опустошают все поля.
После трех четвертей часа езды мы достигли подножия довольно высокого утеса, на вершине которого был построен дом, или, скорее, великолепный замок, окруженный со всех сторон, кроме той, что была обращена к морю, роскошной растительностью; он, так сказать, утопал в сущем океане зелени.
— Видите этот замок? — спросил меня Дюкрей.
— Разумеется, вижу и нахожу его великолепным.
— Преклоняйтесь же перед ним, мой любезный соотечественник; на месте, где теперь высится этот действительно великолепный замок, к которому мы направляемся, некогда стоял домик, построенный Монбаром по его прибытии в Америку, первое его жилище в Новом Свете. Именно тут был составлен план знаменитой экспедиции, которой суждено было отдать в руки Береговых братьев Тортугу и часть Санто-Доминго.
— Гм! Удачное место для гнезда хищной птицы; это настоящее орлиное гнездо.
— Или ястребиное… Тот домик был подарен Монбаром своему матросу Медвежонку после блистательной картахенской экспедиции.
Разговаривая таким образом, мы поднялись на довольно крутой подъем, по которому шла дорога к замку, и достигли обширной площади с террасами, окруженной стеной деревьев. Миновав решетчатые ворота любопытной работы, мы минут пять ехали по широкой аллее, окаймленной молочаем и алоэ, и остановились у полукруглой мраморной лестницы, наверху которой стоял, ожидая нас, старик высокого роста, с длинной белой бородой, с коротким и вместе с тем гордым выражением лица.
По вчерашнему описанию моего хозяина я тотчас узнал графа де Шатограна; нельзя было ошибиться — так верен оказался набросанный Дюкреем портрет.
Нам был оказан самый радушный прием; граф только для вида взял мое рекомендательное письмо, едва бросил на него взгляд и, дружески пожав мне руку, выразил удовольствие видеть меня у себя. Он пошел вперед и привел нас в обширную гостиную, меблированную во вкусе конца XVIII столетия, а точнее, последних лет царствования Людовика XVI. Когда мы вошли, там не было никого.
Граф пригласил нас к столу перекусить с дороги. По гостеприимному обычаю креолов, в каждой комнате стоят наготове разнообразные прохладительные яства, дабы гость даже не имел надобности выразить желание. Перед завтраком завязалась беседа, между тем как мы курили и закусывали.
Признаться, я был довольно рассеян; с самого входа в комнату мое внимание приковала великолепная картина с подписью: «Филипп Шампань, 1672», то есть это был одно из последних произведений великого живописца, так как он умер в 1674 году.
Картина эта, единственная, висевшая в гостиной, имела колоссальные размеры, более пятнадцати футов в высоту. Изображала она гористую местность на острове Санто-Доминго; направо шалаш, полуодетый человек, лицо которого едва видно, стоя на коленях, вялит мясо, раскладывая его на подпорках; в глубине между деревьями дремучего леса виднеются испанские солдаты, вооруженные длинными копьями и, по-видимому, пробирающиеся вперед с величайшей осторожностью.
На переднем плане, точно живой и готовый ступить из рамы в гостиную, стоит человек лет тридцати двух или трех, в блузе из сурового полотна, покрытой жирными и кровавыми пятнами, в широких штанах, по колено, оставляющих ноги открытыми до сапожков из сырой звериной шкуры, и опоясанный кушаком из крокодиловой кожи; за пояс заткнуты четыре длинных ножа в большом чехле, тоже из крокодиловой кожи, слева да мешок с пулями и бычий рог — справа.
Человек опирается скрещенными руками на дуло ружья с серебряной оправой; две гончие серого цвета с черными крапинками, с широкой грудью и длинными висящими ушами, и два кабана лежат вокруг него.
За исключением разницы в летах и цвете воронова крыла развевающихся волос и длинной бороды, падавшей на грудь, человек этот имел поразительное сходство с графом: те же черты, выразительные, тонкие и умные, тот же блеск во взоре; солнечный луч играл на лице, и случайно брошенная тень придавала ему отпечаток неизъяснимой грусти.
Не было сомнения, что это портрет, выхваченный, так сказать, из самой жизни тех грозных флибустьеров или буканьеров на острове Санто-Доминго, которые не покорялись могущественнейшим монархам.
Судя по всему, на портрете был изображен предок графа, Медвежонок Железная Голова.
Я так углубился в созерцание, что граф наконец заметил мою рассеянность и по направлению моего взгляда уловил ее причину.
— А-а! — вскричал он с пленительным добродушием. — Вы рассматриваете эту картину? Что вы скажете о ней, мой любезный соотечественник?
— Скажу, что это замечательное произведение, граф.
— Да, Филипп Шампань был гениальным портретистом, как вам, вероятно, известно.
— Так это портрет? — вскричал я с наивным лицемерием.
— Портрет, — гордо подняв голову, ответил граф. — Это портрет моего прадеда, капитана по прозвищу Медвежонок Железная Голова; он пожелал быть запечатленным в костюме буканьера, перед тем как возвратиться во Францию после женитьбы.
— Как! — вскричал я, но вовремя опомнился и прикусил язык.
Граф улыбнулся.
— Разве вы не знакомы с историей этого знаменитого предводителя Береговых братьев? — спросил он.
— Весьма мало, граф, и очень жалею об этом; никогда я не интересовался чьей-нибудь биографией больше, нежели подробностями жизни этой замечательной личности.
В эту минуту раздался звонок и граф провел нас в столовую.
Там нас ожидало несколько лиц: три дамы и четверо мужчин, двоим из которых было от двадцати до двадцати пяти лет.
Из четверых мужчин двое старших оказались зятьями графа, а двое младших — его племянниками.
Граф представил меня, и все сели за стол.
— У меня еще два сына, — обратился ко мне граф, — но в настоящее время они в отсутствии. Один из них — контр-адмирал и командующий эскадрой, крейсирующей у берегов Бразилии; другой — дивизионный генерал и теперь, кажется, находится в Риме.
Я провел в замке два дня, так как граф ни за что не хотел отпустить меня в Бас-Тер.
Посещение свое я повторил, потом стал наведываться к графу все чаще и чаще, пока наконец не взял привычки приезжать в замок каждый день и проводить вечер с графом и его семейством.
Граф оказался изумительным рассказчиком, что теперь встречается редко; хорошая и верная память снабжала его множеством остроумных анекдотов из последних лет царствования Людовика XVI и первых — революции; он был накоротке знаком со многими знаменитостями двух этих эпох и рассказывал о них массу чрезвычайно любопытных подробностей.
Он был дружен с Дантоном, Камиллом Демуленом, обоими Робеспьерами, Сен-Жюстом, Фуше, и всех этих людей, которые оказали такое громадное влияние на революцию, он представил мне в совершенно ином свете, нежели тот, в котором я видел их до тех пор.
Граф не выражал суждения и не давал оценки, он просто откровенно и точно передавал то, что видел и слышал сам, предоставляя слушателям делать заключения из его слов.
Вечера пролетали с необычайной быстротой в этих занимательных беседах, перемежаемых иногда, но очень редко, музыкой. Замечу, кстати, что фортепиано, этот бич, изобретенный для терзания нашего слуха, проникло теперь даже на невинный остров Сент-Кристофер.
Однако одно обстоятельство мучило меня: я часто пробовал навести разговор на буканьеров — и каждый раз граф отклонял мою попытку, словно он находил удовольствие дразнить меня, не давая возможности прямо выразить ему желание, постоянно вертевшееся у меня на языке.
Быстро миновал срок моего пребывания на Сент-Кристофере. Капитан Дюмон завершил починку своего судна и перевозил теперь на борт закупленные съестные припасы и пресную воду; через два дня он снимался с якоря.
Грустно мне было расставаться с добрыми обитателями замка, которые приняли меня, человека им чужого, с таким сердечным радушием; я не решался проститься с ними и откладывал до последней возможности минуту разлуки, которая должна была стать вечной.
Однако следовало наконец собраться с духом и объявить о своем отъезде. На другое утро в восемь часов мы снимались с якоря, и мне уже с вечера надо было отправиться на Песчаный мыс, чтобы немедленно переехать на корабль.
Капитан любезно известил меня, что шлюпка будет ждать у пристани до полуночи. Было около восьми часов вечера, я не мог терять более ни минуты.
Расставание вышло очень тяжелым. Это милое семейство привыкло ко мне и считало уже как бы старым другом. Все отправились проводить меня до ворот, где уже ждал слуга Дюкрея с двумя лошадьми, которых этот превосходный человек одолжил мне для путешествия.
Прощание длилось довольно долго, однако настала все же минута разлуки, и я уехал.
В одиннадцать часов я был на Песчаном мысе и уже заносил ногу в ожидавшую меня шлюпку, когда меня почтительно остановил слуга, мой проводник.
— Простите, господин, — сказал он, — их сиятельство велели вручить это вам и передать на словах, что они посылают это вам на память, чтобы вы не забывали о семействе Шатогранов.
Я взял тщательно перевязанный и запечатанный пакет, который он подал мне, вложил ему в руку луидор и сел в шлюпку.
На следующее утро, когда я пробудился, мы уже шли под парусами и остров Сент-Кристофер виднелся на горизонте только синеватым облачком, которое вскоре и вовсе исчезло.
Тут я вспомнил о таинственном пакете, переданном мне от графа Шатограна таким странным образом. Я распечатал его и вскрикнул от радостного изумления, даже из рук выронил. Поспешно подобрав его с пола, я тотчас запер на задвижку дверь своей каюты, чтобы никто не мог мне помешать, и, расположившись у письменного стола, аккуратно разложил перед собой содержимое пакета.
Во-первых, там была адресованная мне записка в несколько строк. Содержание ее было следующим:
«Любезный соотечественник!
Простите мне коварное удовольствие, с которым я как бы нарочно отклонялся от разговора всякий раз, когда вы заводили речь о моем благородном предке; вы не должны сетовать на причуды старика.
Я разделяю ваше мнение, что о буканьерах и флибустьерах XVII века мало что известно или, что еще хуже, представления о них искажены.
Эпитетами „флибустьер“ и „буканьер“ ныне награждают грабителей, убийц, разбойников.
Однако не может быть ничего ошибочнее: флибустьеры скорее походили на портсмутских пилигримов. Подобно последним, они искали свободы совести и требовали свободных законов; еще они стремились к свободе на морях, свободе торговли и к уничтожению ненавистного владычества испанцев, почти повсеместного в Новом Свете.
Флибустьеры были свободные мыслители, это были действительно свободные люди.
Франция обязана им лучшими своими колониями, Испания — утратой своего могущества.
Зло, содеянное ими, забыто, добро — осталось; Франция воспользовалась им, заклеймив их кличкой пиратов, тогда как прежде вела с ними переговоры, признавала их право на существование и даже оказывала им покровительство.
Это последнее оскорбление естественно вытекало из ее неблагодарности за так великодушно оказанные ими громадные услуги, которые ей следовало бы вознаградить.
Вы видите, любезный мой соотечественник, что я не забыл ничего из наших коротких бесед о флибустьерах и, повторю, вполне разделяю ваш взгляд на них.
Примите в память о приятных часах, которые мы провели вместе, и в знак моего искреннего к вам расположения прилагаемую рукопись. Вся она принадлежит перу моего прадеда и представляет собой нечто вроде дневника, на страницах которого он ежедневно отмечал сведения, поистине драгоценные, не только о себе самом, но также и некоторых самых известных своих товарищах.
С какой целью мой прадед вел сей дневник, я не знаю. Быть может, и он собирался писать историю флибустьерства; но если это и было первоначальным его намерением, он, без сомнения, отказался от него: я не нашел в архивах нашего дома ничего, что указывало бы на подобный факт даже косвенным образом.
Верьте, Анри, граф де Шатогран»Я поспешил развернуть рукопись. Дневник был написан на пергаменте, и древность его не вызывала сомнений: выцветшие чернила, форма букв, правописание — все доказывало, что сей документ действительно относится ко второй половине XVII столетия.
На первом листе стояло:
«Заметки о некоторых самых замечательных авантюристах с островов Санто-Доминго и Тортуга, веденные авантюристом Медвежонком Железная Голова с лета от Р.X. 1650 до 1690 включительно».
Граф не хотел отпускать меня, не удовлетворив полностью моего любопытства.
Я остался благодарен ему до глубины души и немедленно принялся за чтение; остановился я лишь на последней странице.
Потом я тщательно убрал драгоценную рукопись.
Прошло несколько лет; множество событий, сменявшиеся одно другим, заставили меня позабыть о прощальном даре графа.
Однако несколько месяцев тому назад она попалась мне под руку, когда я однажды рылся в своей библиотеке. Снова прочел я ее, и на сей раз с еще большим удовольствием, чем некогда на корабле.
Тотчас по прочтении я положил рукопись перед собой и твердо вознамерился воспользоваться ею в самом скором времени.
Изложение этой рукописи я представляю читателю. Ему судить, прав ли я был, когда извлек ее из забвения.
Что касается меня, то, когда несколько, лет назад случай привел меня на остров Сент-Кристофер, я был далек от мысли, что в этом почти никому не ведомом уголке мира меня ожидает такая удача.
А теперь, как говорят испанцы, простите автору его ошибки.
ГЮСТАВ ЭМАР Париж, 10 августа 1868 г.Глава I В КОТОРОЙ АВТОР ВСТРЕЧАЕТСЯ С КАПИТАНОМ МЕДВЕЖОНКОМ ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА
В пятницу 13-го сентября 16.. года, в восьмом часу вечера, гостиница «Сорванный якорь», расположенная на самом берегу гавани Пор-Марго и являвшаяся привычным местом сборищ флибустьеров и буканьеров с Тортуги и Санто-Доминго, пылала огнями, как горнило среди темной ночи, и оглушительный шум от криков, хохота, пения и звона бьющейся посуды несся из раскрытых навстречу свежему морскому ветру окон.
Множество обывателей, буканьеров, флибустьеров, вербованных работников, женщин, детей и даже стариков с любопытством толпились у дверей и окон гостиницы, не обращая внимания на тарелки, стаканы и бутылки, то и дело летевшие их сторону изнутри, и весело примешивали свои возгласы к неистовому шуму, производимому тремя десятками пирующих за громадным круглым столом в большой зале «Сорванного якоря».
В этот вечер в гостинице «Сорванный якорь» устраивался кутеж на флибустьерский лад, то есть до победного конца. От вина побагровели лица, засверкали взгляды, загудели головы, забурлила кровь.
Капитан, прозванный Медвежонком Железная Голова, один из самых грозных флибустьеров Черепашьего острова, утром этого дня набрал из Береговых братьев экипаж в четыреста семьдесят три человека, и набор он совершал с величайшим тщанием, из самых отчаянных флибустьеров, находившихся в это время в Пор-Марго, Пор-де-Пе и Леогане. Этой же ночью стоявший на рейде фрегат «Задорный» должен был сняться с якоря и отправиться неизвестно куда.
Перед выходом в море капитан собрал на прощальном пиру всех своих старых друзей; самые знаменитые из предводителей флибустьерства сидели за столом и провозглашали тосты за успех таинственной экспедиции Медвежонка.
Тут были и Монбар Губитель, и Прекрасный Лоран, и Мигель Баск, и Тихий Ветерок, и Граммон, и Питриан, и Олоне, и Александр Железная Рука, и Давид, и Пьер Легран, и Польтэ, и Дрейк, и много других Береговых братьев, быть может, не столь знаменитых, но не менее страшных.
Бертран д'Ожерон, представитель власти Людовика XIV, губернатор Черепашьего острова и французской части Санто-Доминго, сидел на почетном месте. По правую руку от него восседал виновник торжества, Медвежонок Железная Голова, полевую — Пьер Легран, молодой человек лет двадцати пяти, с тонкими и благородными чертами лица, заместитель командующего предстоящей экспедицией.
Остальные флибустьеры сидели кому где досталось место. Целая толпа несчастных работников, едва прикрытых штанами и холщовой с жирными и кровавыми пятнами рубашкой в лохмотьях, быстро и безмолвно, как привидения, сновала вокруг пирующих с блюдами, тарелками и жбанами, которые флибустьеры забавы ради часто бросали им в голову — разумеется, предварительно осушив.
Надо сказать, что для Береговых братьев, которые все до единого прошли через этот тяжелый искус, обязанный работник, или данник, или вербованный, или попросту слуга был лишь вьючным животным, и они присвоили себе право на жизнь и смерть этих несчастных на долгих три года их рабства.
Медвежонку, настоящего имени которого никто из присутствующих не знал, было в то время года тридцать два; он отличался исполинским ростом и необычайной силой.
Черные глаза Медвежонка метали молнии, на правильных и красивых чертах лица лежал отпечаток неизъяснимого благородства и огромной силы воли. Длинная и густая черная борода, скрывавшая всю нижнюю часть его лица и падавшая веером на грудь, придавала его внешности выражение странное, роковое. Его движения были сдержанны, изящны, походка — благородна, голос — чист и звучен.
Как и у большей части Береговых братьев, в его жизни была тайна, которую он тщательно скрывал.
Никто не знал, кто он и откуда; все относящееся к прошлой его жизни, даже имя его, — все было покрыто мраком.
О событиях, произошедших в его жизни, знали только с тех пор, как он прибыл на Антильские острова.
Хоть и непродолжительная, жизнь эта была мрачна и печальна.
В течение нескольких лет этот человек терпел жестокие муки, и у него не вырвалось ни одной жалобы, ни разу не надломило его незаслуженное несчастье.
Вопреки обычаям флибустьеров, он жил уединенно, не стремясь сойтись с кем бы то ни было.
Словом, это был человек незаурядный.
Мы приведем два примера в доказательство нашего утверждения.
Первое свидетельствовало о необычайной смелости в ту эпоху суеверий, в которую он жил: он не побоялся сняться с якоря в пятницу, тринадцатого числа, с экипажем в четыреста семьдесят три человека.
Второе носило отпечаток еще большей оригинальности: куда бы он ни направился, его постоянно сопровождали две гончие и два кабана, страшно свирепых, однако живших между собой в самом добром согласии и преданных ему донельзя.
Даже теперь, сидя с гостями, он не разлучался со своими спутниками; четвероногие друзья лежали у его ног и то и дело получали остатки самых лучших кусков с его тарелки.
Капитан, прозванный Медвежонком Железная Голова, — одно из главных действующих лиц этого рассказа, поэтому мы опишем в нескольких словах, что с ним приключилось со времени прибытия на острова.
Лет за шесть или семь до того времени, с которого начинается наше повествование, в Пор-Марго прибыло судно из Дьеппа.
Корабль был нагружен разнообразными товарами, необходимыми для колонистов; кроме того, на нем находились восемьдесят пять вербованных, мужчин и женщин, которых агенты Вест-Индской компании[24] набрали во Франции за смехотворную цену, прельщая их тем, что в колониях им предоставят заниматься своим ремеслом, например, каменщика, плотника, доктора и даже живописца. Александр Оливье Эксмелин, впоследствии ставший историком Берегового братства, завербовался в Париже в качестве хирурга, а по прибытии на острова был продан с аукциона и три года оставался невольником одного из самых жестоких флибустьеров Санто-Доминго.
По обычаю несчастные, о которых мы говорим, на другой день после высадки, несмотря на все их протесты, пускались с молотка на торгах и присуждались колонистам, обывателям и буканьерам, явившимся купить живой товар.
Один из этих бедняг, красивый молодой человек лет двадцати шести — двадцати семи, пытался было протестовать против вопиющей несправедливости, жертвой которой стал, но вскоре ему пришлось убедиться, что рассчитывать на поддержку местных властей не приходится и что его требования натыкаются лишь на насмешки и грубые шутки.
Тогда он склонил голову, видимо покорившись своей участи, и молча последовал за своим повелителем.
Новый его хозяин был буканьер из внутренних земель Санто-Доминго, носивший имя Пальник. Неотесанный, грубый и злой, он находил наслаждение, безжалостно терзая своего нового работника, заставляя его перетаскивать неподъемные тяжести, колотя без всякого повода, из одной только прихоти, и не давая ему иной пищи, кроме объедков, которые доставались собакам.
Работник безропотно переносил все унижения и невзгоды, жестокости противопоставляя терпение и только стараясь еще больше угодить бездушному хозяину, в руки которого привела его роковая судьба.
Покорность эта нисколько не смягчала буканьера; напротив, в кротости и послушании своего слуги он видел хвастливый вызов и увеличивал притеснения, ища предлога, чтобы покончить с человеком, которого ничто, по-видимому, не могло вывести из себя.
Однажды в палящий зной несчастный работник шел, сгибаясь под тяжестью трех сырых бычьих шкур, которые нес на спине уже несколько часов, с трудом поспевая за хозяином. Тот всю дорогу ругал его напропалую и наконец, окончательно выведенный из себя упорным молчанием слуги, хватил его прикладом по голове. Бедняга грохнулся оземь весь в крови.
Слуга не подавал признаков жизни, и хозяин, поглядев на него с минуту, счел его мертвым. Не заботясь более о несчастном, Пальник взвалил себе на плечи бычьи шкуры и преспокойно пошел домой.
Когда случайно спрашивали, куда девался его слуга, он просто отвечал, что тот сбежал.
Тем дело и кончилось; о работнике совсем забыли.
Однако бедняга не был убит, даже не опасно ранен; как только отошел Пальник, он открыл глаза, встал и, хотя еще и очень слабый, попытался, однако, пойти вслед за хозяином.
Но, пробыв в Америке очень недолго, он не привык к ее природе, не знал, как отыскать дорогу через обширные океаны зелени, сбился с пути в лесу и проплутал несколько дней, не имея возможности определить, где находится, или добраться до моря. Если бы ему удалось выйти на берег, он был бы спасен; но он, наоборот, с каждым шагом удалялся от дороги, которую тщетно отыскивал среди неумолимых чащ.
Заблудившийся работник начинал томиться голодом; пришлось утолить его сырым мясом, которое он имел при себе; ему нечем было развести огонь.
Положение бедняги было тем ужаснее, что он решительно не знал, как добывать пищу.
Один единственный друг остался верен ему в его несчастье — собака хозяина не хотела отойти от него ни под каким видом и, устав от упорства пса, Пальник наконец бросил его, беспокоясь о нем не более, чем о слуге, от которого считал себя избавленным навсегда.
Тогда-то под влиянием мучительных страданий и нужды обнаружилась твердость и непоколебимая сила воли человека, который, будучи ранен и лишен всякой помощи, не поддался отчаянию, не упал духом, но вооружился терпением против постигшего его бедствия и мужественно вступил в борьбу, чтобы отстаивать свою жизнь до последнего.
Он проводил все дни в переходах то в одну, то в другую сторону; он не знал, куда идет, но все же не терял надежды проникнуть наконец сквозь окружавшие его со всех сторон густые стены листвы и выйти на настоящую дорогу.
Часто он взбирался на вершину горы и оттуда видел море.
При этом он чувствовал прилив сил и спешил спуститься на равнину; но первая же тропа, проложенная дикими зверями, заставляла его вновь терять направление, которого хотел держаться.
Во время странствований по лесам его собака то и дело подстерегала дичь; добыча ее охоты делилась между хозяином и нею по-братски и съедалась в сыром виде.
Мало-помалу скиталец свыкся с этой пищей; сырое мясо показалось ему почти вкусным; он подметил кустарники, где скрывается дичь, и охота пошла удачнее. Вскоре у него появились новые помощники — молодые дикие собаки и молодые кабаны, на которых он случайно наткнулся и решил выдрессировать; помощь этих животных была ему крайне полезна.
Уже около года и двух месяцев вел он этот странный образ жизни, почти потеряв всякую надежду положить ей конец, когда в одно прекрасное утро невзначай столкнулся лицом к лицу с кучкой французских буканьеров.
Те сперва удивились, даже чуть не струсили; надо сознаться что наружность бедняги не имела ничего привлекательного и не внушала доверия.
Волосы и борода достигли необычайной длины; вся одежда состояла из остатков панталон и оборванной рубашки, едва прикрывавшей тело. Лицо с сильным загаром имело дикое выражение; кусок сырого мяса висел на поясе; три собаки и два кабана такого же дикого вида, как и их хозяин, следовали за ним по пятам.
После первой минуты удивления и колебания все объяснилось.
Вербованный откровенно и бесхитростно поведал о своих мытарствах; некоторые из буканьеров узнали его и проявили к нему участие.
Тут же на месте они принялись держать совет.
После зрелого обсуждения всех обстоятельств решили, что Пальник злоупотребил присвоенной ему в силу берегового обычая властью над своим слугой; что безжалостным обхождением, в особенности же гнусным хладнокровием, с которым он бросил несчастного, буканьер сам отказался от его услуг и расторг скреплявшие их узы; следовательно, он лишил себя всяких прав на слугу и тот должен быть объявлен свободным.
Это решение, единодушно одобренное, немедленно привели в исполнение; нашего героя окрестили шуточным прозвищем Медвежонок, и он охотно принял его; говоря по правде, он скорее походил на медведя, чем на человека; итак, с прозвищем Медвежонок он был включен в число Береговых братьев и обрел права и преимущества, принадлежащие буканьерам и флибустьерам.
Новые друзья бывшего вербованного не ограничились этим: они дали ему одежду, оружие, пороху, пуль и привели с собой в Пор-Марго, где в присутствии д'Ожерона заявили о принятом раньше решении, и по их просьбе губернатор придал этому решению законную силу, несмотря на упорное сопротивление Пальника, который никак не хотел отказаться от своей власти над слугой, утверждая, что ни разу не бил его и не бросал, а тот сам убежал и выдумал все это со злости на хозяина.
К несчастью для Пальника, жестокость его была так известна в Пор-Марго и его окрестностях, что д'Ожерон даже не удосужился выслушать его, пригрозив вдобавок примерным наказанием, если впредь буканьер не будет обходиться со своими слугами человечнее.
Бывший слуга, однако, нисколько не опасался угроз прежнего хозяина теперь, когда он был свободен и имел право защищаться.
Спустя несколько дней он отправился в экспедицию под командой Монбара Губителя.
Таким образом он участвовал во многих экспедициях под предводительством знаменитых предводителей флибустьеров и за непродолжительное время приобрел не только большое богатство, но, благодаря отваге, храбрости и особенно уму, еще и громадную славу среди товарищей.
С тех пор как его объявили свободным, Медвежонок никогда не намекал на свои жестокие страдания во время рабства, ни разу имя Пальника не сходило с его губ; если в его присутствии речь заходила о свирепом буканьере, он не принимал участия в разговоре, ни для порицания, ни для похвалы, хотя порой спрашивали его мнения; впрочем, в течение двух лет, которые протекли после вышеописанных событий, два врага ни разу не встретились лицом к лицу.
История Медвежонка и Пальника стала уже преданием в краю, где каждый день приносит все новые приключения; все забыли о ней, и тот, кто в первую минуту ожидал блистательной мести со стороны новоиспеченного флибустьера, покачивал головой с недоверчивым видом, если речь случайно заходила о непримиримой вражде этих двоих, когда одним прекрасным вечером судьба свела их в гостинице «Сорванный якорь».
Вот как было дело.
Дня два или три назад флибустьерское судно под командой Мигеля Баска вошло в гавань с грузом золота и пленников после месячного крейсирования в водах Мексиканского залива. Шесть испанских судов, захваченных флибустьерами с Тортуги, были взяты на абордаж, разграблены и по обычаю сожжены в море.
Едва корабль бросил якорь на рейде Пор-Марго, пленников высадили на берег и приступили к дележу добычи.
Получив свою долю, флибустьеры поспешили, как случалось всегда, растратить добытое золото в сумасбродных оргиях.
Эти люди ценили золото лишь из-за наслаждений, которое сей драгоценный металл мог им доставить.
Наибольшим почетом у них пользовалась игра; ей они предавались с яростью, с бешенством, ставя на кон огромные суммы, и по большей части прекращали партию лишь когда проигрывали все свое золото, одежду и нередко даже свободу.
С прибытия корабля Мигеля Баска в Пор-Марго играли везде, на улицах и на площадях, на опрокинутых бочках, в гостиницах и даже в доме губернатора. Ссоры возникали повсеместно, и кровь лилась потоками; рассудительные и безумцы подчинились влиянию игорной горячки, почти не менее ужасной и убийственной, чем настоящая.
Быть может, из всех Береговых братьев один Медвежонок не поддался всеобщему сумасбродному увлечению; он презирал игру, считая ее постыдной страстью.
Приятели часто подтрунивали над его пуританизмом, как они выражались, но он оставался непоколебим, и ничто не могло заставить его изменить своих взглядов.
В вечер, к которому относится наш рассказ, часов в семь, когда солнце уже стало опускаться за голубые волны Атлантического океана, Медвежонок Железная Голова, равно-Душный к шуму и гаму в городе, медленно расхаживал по берегу с сигарой во рту, опустив голову на грудь, заложив Руки за спину, сопровождаемый шаг за шагом своими собаками и кабанами.
— Эй! — окликнул его внезапно веселый голос. — Что ты там делаешь, упрямый мечтатель, когда весь город гуляет и ликует?
Капитан поднял голову и с улыбкой подал руку говорившему, одному из самых знаменитых флибустьеров.
— Как видишь, Тихий Ветерок, — ответил он, — я гуляю и восхищаюсь закатом солнца, мой любезный.
— Хорошо удовольствие, нечего сказать! — вскричал со смехом собеседник. — Чем бродить тут на берегу, словно душа, осужденная на вечные муки, лучше пойдем-ка со мной.
— Что поделаешь, дружище, всякий веселится как умеет.
— Против этого, разумеется, возразить нечего; но почему же ты не хочешь идти со мной?
— Я пока не отказывался; однако, если тебе все равно, охотнее бы не пошел. Ты будешь играть, а я, как тебе известно, не терплю игры.
— Разве это мешает смотреть, как другие играют?
— Нисколько, но подобные зрелища печалят меня.
— Ты сумасшедший! Послушай-ка, в «Сорванном якоре», говорят, какой-то богатый буканьер с берегов Артибонита, или не знаю хорошенько откуда, играет с чертовским везением, так что чуть ли не обобрал более половины экипажа Мигеля Баска.
— Что же мне-то тут прикажешь делать, любезный друг? — со смехом воскликнул Медвежонок. — Не могу же я помешать, чтобы ему везло.
— Кто знает!
— Как же это?
— Послушай, брат, увидев тебя с минуту назад, мне пришла в голову великолепная мысль: я хочу играть с этим буканьером. Пойдем со мной и стой возле меня; ты счастлив во всем, что предпринимаешь, ты мне принесешь счастье — и я выиграю.
— Ты рехнулся.
— Нет, я просто игрок, следовательно, суеверен.
— Ты и впрямь так сильно желаешь этого?
— Пожалуйста, не отказывай.
— Так пойдем испытать счастье, — согласился Медвежонок, пожимая плечами.
— Спасибо, приятель! — вскричал Тихий Ветерок, крепко пожав ему руку. — Черт возьми! — прибавил он, весело щелкнув пальцами. — Теперь я уверен, что выиграю.
Медвежонок ответил одной улыбкой. И два товарища направились к гостинице «Сорванный якорь».
Глава II КАК ИГРАЛИ В КОСТИ БЫВШИЙ СЛУГА И ЕГО ХОЗЯИН И ЧТО ЗА ЭТИМ ПОСЛЕДОВАЛО
Когда два флибустьера подошли к двери «Сорванного якоря», их взгляду внезапно представилось удивительное зрелище; они невольно остановились на пороге и с изумлением осмотрелись вокруг. При свете ламп, копоть от которых вместе с дымом от сигар и трубок стояла черным облаком под потолком, виднелись, словно сквозь туман, резкие и искаженные лица множества городских обывателей, колонистов и Береговых братьев, черты которых судорожно подергивались от азарта игры и опьянения и принимали зловещее выражение при мерцающих отблесках огней, постоянно колеблемых ветром.
Посреди залы, на длинном столе, устроенном на скорую руку издосок и бочек, целые груды золота лежали перед игроком, который с дерзким и насмешливым взглядом вызывал сразиться толпившихся вокруг стола флибустьеров, встряхивая кости в стакане.
За игроком стояло десятка два испанцев, мужчин и женщин, захваченных в плен в последнюю экспедицию и послуживших последней ставкой своим прежним владельцам.
— Вот буканьер, с которым мы будем иметь дело, — сказал Тихий Ветерок. — Следуй за мной.
Медвежонок бросил рассеянный взгляд на человека, указанного ему товарищем, и узнал Пальника.
Привиде бывшего хозяина Медвежонок нахмурил брови, смертная бледность разлилась по его лицу, и он невольно отступил на шаг.
— Что с тобой? — спросил Тихий Ветерок, заметив его волнение. — А! — прибавил он спустя мгновение. — Понимаю: ты узнал своего прежнего хозяина!
— Да, — мрачно ответил Медвежонок, — это действительно он.
— Что ж за беда! Разве ты не свободен? Тебе нечего бояться.
— Я не боюсь, — пробормотал капитан, скорее говоря сам с собой.
— Так пойдем.
— Ты прав, — ответил капитан, улыбаясь странной улыбкой, — пойдем! Может, и лучше покончить раз навсегда.
— Что же ты намерен предпринять? — осведомился товарищ, слегка встревоженный.
— Бог мне свидетель, я не искал встречи с этим человеком; напротив, я всячески старался избегать его. Когда с минуту назад ты встретил меня на берегу и просил пойти с тобой, я пытался отговориться.
— Это правда.
— Итак, ясно, что только случай свел нас теперь.
— Чтоб меня черт побрал с руками и с ногами, если я понимаю хоть одно словечко из всего, что ты говоришь!
Медвежонок поднял голову и посмотрел на товарища с неподражаемым выражением насмешливого торжества.
Потом он взял его под руку и вкрадчивым голосом произнес:
— Пойдем, Тихий Ветерок. Ты часто ставил мне в укор, что я не играю… Ну так вот, сегодня, ей-Богу, ты будешь присутствовать при игре, которую и ты, и наши товарищи забудут не скоро.
— Ты станешь играть?! — вскричал Легкий Ветерок вне себя от изумления.
— Да, и партия будет решительная.
— С кем же?
— С человеком, который так нахально обобрал наших братьев, — ответил Медвежонок, указывая рукой на буканьера.
— С Пальником?
— Да, и вместо того, чтоб присутствовать при твоей игре, я буду играть, а ты — присутствовать при этом.
— Берегись! — заметил Тихий Ветерок.
— Мое решение принято. Пойдем!
— Да поможет тебе Бог! — прошептал флибустьер, следуя за Медвежонком.
Они вошли в залу, без труда прокладывая себе путь в толпе, так как оба пользовались большим уважением товарищей. Вскоре они очутились перед столом, за которым сидел буканьер, глядя на них с насмешливой улыбкой.
— Ага! — вскричал он с грубым смехом. — Уж не собираетесь ли вы попытать счастье против меня, друзья?
— Почему бы и нет? — откликнулся Тихий Ветерок.
— Попробуй, если берет охота, — продолжал, посмеиваясь, буканьер, — я готов взять у тебя до все последнего дублона, старый друг.
— Во-первых, я тебе вовсе не друг, благодарение Богу! Так что побереги это неподходящее звание для других, — возразил флибустьер. — Касательно же того, чтобы взять у меня все до последнего дублона, то это мы еще посмотрим, и сейчас же, не откладывая дела на потом.
— Возьму дублоны не только твои, но и твоего товарища в придачу, если он, против своего обыкновения, осмелится сразиться со мной, — прибавил буканьер с злой усмешкой.
— Не оскорбляй понапрасну, Пальник, когда тебя не трогают, — холодно произнес Медвежонок.
— Прошу без наставлений, я не нуждаюсь в них, — грубо заявил буканьер, — если ты недоволен, я готов дать тебе удовлетворение где, когда и как пожелаешь.
— Я прошу принять во внимание, — спокойно заметил Медвежонок, — что не давал ни малейшего повода к ссоре, которую ты стараешься завязать со мной; ведь я не вмешивался в твой спор с моим приятелем.
При внезапной ссоре вокруг стола мгновенно образовался круг из Береговых братьев, с любопытством ожидавших неминуемой развязки. Каждому из них была известна обоюдная ненависть Медвежонка и Пальника, и зрители предвидели страшную развязку так дерзко начатой буканьером словесной перепалки.
Пальник не был любим Береговыми братьями; его постоянное везение в игре в последние дни еще больше, если это возможно, усилило общее нерасположение к нему, и большая часть присутствующие втайне питали надежду, что наконец-то на него обрушится страшная месть, которую противник, вероятно, откладывал так долго только за отсутствием удобного случая.
Медвежонок был холоден, спокоен, хотя и немного бледен, и вполне владел собой.
— Ладно! — проговорил буканьер, презрительно пожав плечами. — Довольно слов. Насильно дурную собаку на настоящий след не наведешь. Бросим спор; я удивляюсь твоей премудрости и преклоняюсь перед нею.
— Полно хвастать-то! — вскричал Тихий Ветерок, — Медвежонок прав, ты привязался к нему; если он не отвечает тебе так, как бы следовало, то, вероятно, имеет на это свои причины; не беспокойся, однако, в накладе не останешься, если подождешь. А теперь лучше приступить к игре.
— Согласен. Что ставишь?
— Две тысячи пиастров, — ответил Тихий Ветерок, вынимая из кармана штанов длинный кошелек.
— Постой, — холодно сказал Медвежонок, остановив его за руку, — дай мне поговорить с этим человеком.
Флибустьер взглянул на своего приятеля и увидел в его потемневших глазах такой зловещий огонь, что опустил свой кошелек назад в карман и только ответил:
— Как хочешь.
Медвежонок сделал шаг вперед, оперся руками о стол и наклонился к буканьеру.
— Входя сюда, — резко отчеканил он, — я не знал, что встречусь с тобой. Я не искал встречи, потому что мое презрение к тебе равняется ненависти. Но если уж твоя несчастливая звезда побудила тебя, вместо того, чтобы подражать моей сдержанности, отбросить мнимо равнодушный вид, который мы сохраняли в отношениях друг с другом, пусть будет по-твоему, я принимаю предложенную тобой партию.
— Сколько пустых слов, чтоб прийти к такому ничтожному заключению! — воскликнул буканьер с нехорошей улыбкой.
— А вот увидим. Выслушай меня, а присутствующие пусть будут свидетелями: мы сыграем в гальбик[25] три партии, ни меньше ни больше, и ты должен принять мои условия. Согласен?
— Еще бы, когда ты проиграешь мне!
— Не проиграю, — возразил капитан, — я вступаю в решительную борьбу с тобой и убежден, что выйду победителем.
— Полно, не с ума ли ты спятил?
— Если трусишь, я настаивать не стану. Извинись передо мной и товарищами за сказанные тобой оскорбительные слова, и я тотчас уйду.
— Извиниться? Мне? Черт возьми! Да соображаешь ли ты, что говоришь?
— Предупреждаю тебя, — холодно произнес Медвежонок, вынув из-за пояса пистолет и взводя курок, — что при малейшем подозрительном движении я уложу тебя на месте как лютого зверя, каков ты на самом деле и есть.
Вне себя от ярости, но сдерживаемый наставленным ему на грудь длинным дулом пистолета, буканьер окинул взглядом присутствующих, быть может желая почерпнуть бодрости в дружеском лице.
Флибустьеры мрачно молчали, и в выражении их лиц он прочел одно лишь насмешливое злорадство.
Неимоверным усилием воли он усмирил порыв гнева, от которого кипела кровь, и голосом спокойным, в котором невозможно было подметить малейшее волнение, ответил:
— Принимаю твое предложение.
— Какое? Извиниться?
— Никогда.
— Очень хорошо; вы слышали, братья? — обратился капитан к присутствующим.
— Слышали, — ответили они в один голос.
— Итак, вот мои условия, — продолжал Медвежонок громко и отчетливо, — три кости и стакан, равно неизвестные и мне и тебе, будут взяты у кого-либо из присутствующих здесь.
— Что же, ты думаешь, что у меня плутовские кости? — грозно вскричал Пальник. — Ничего не думаю и думать не хочу, просто пользуюсь своим правом, вот и все. Буканьер с яростью швырнул об пол свой стакан с игральными костями и принялся топтать его ногами. Все бросили игру и с любопытством толпились вокруг стола, взобравшись кто на скамьи, кто на столы и бочки, чтобы присутствовать при этой весьма необычной дуэли, затаив дыхание, дабы не нарушить тишины, до того глубокой, что полет мухи был бы слышен в зале, где, однако, находилось более двухсот человек.
— Вот кости, друг мои, — сказал, подходя к капитану, человек, перед которым почтительно расступились все присутствующие.
— Благодарю, Монбар, — ответил Медвежонок, дружески пожимая руку страшного флибустьера.
Потом он обратился к своему противнику:
— Каждый из нас будет кидать кости поочередно; у кого выпадет на трех костях большая сумма очков, тот и выиграл, если только у противника не будет равное количество на всех трех костях. Согласен?
— Согласен, — мрачно ответил буканьер.
— Сыграем всего три партии.
— Ладно.
— И я один буду иметь право назначать ставки; сколько у тебя тут на столе?
— Восемь тысяч семьсот пиастров.
— Во сколько ценишь свое имущество: дома, мебель, слуг, словом, все?
— В такую же сумму.
— Ты выставляешь себя что-то уж очень богатым, — смеясь, заметил Медвежонок.
— Считал ты мое состояние, что ли? — грубо вскричал буканьер. — Это моя цена, и делу конец.
В эту минуту капитан почувствовал, что кто-то слегка тронул его за плечо; он оглянулся.
За ним смиренно стояли, с отчаянием на лицах, несчастные пленники-испанцы.
— Сжальтесь, сеньор! — прошептал у его уха голос нежный и жалобный.
— Ив самом деле, — сказал капитан, — а этих людей во сколько ты ценишь? — прибавил он, указывая на невольников.
— В десять тысяч пиастров, ни одним реалом[26] меньше. Капитан заколебался.
— Ради Святой Девы, сжальтесь, сеньор! — произнес тот же голос тоном глубокой тоски.
— Итак, все вместе составляет сумму в двадцать семь тысяч четыреста пиастров, — заключил он.
— Отлично умеешь считать, мой любезнейший, — посмеиваясь, сказал Пальник, — цифра хорошая, не правда ли?
— Очень хорошая. На первую игру я ставлю тринадцать тысяч семьсот пиастров.
Ропот удивления пробежал по внимательной толпе.
— Хорошо! Выкладывай деньги, — сказал буканьер со злой усмешкой.
— При мне их нет, — хладнокровно возразил Медвежонок.
— Так я отказываюсь, приятель; на слово я не играю. Капитан закусил губу, но не успел ничего ответить.
— Я ручаюсь за него, — вступил Монбар, остановив свой орлиный взгляд на буканьере, который в смущении опустил глаза.
— И я ручаюсь! — вскричал Тихий Ветерок. — Ей-Богу! Все что имею, я с радостью отдам ему.
— И я также, — прибавил Прекрасный Лоран, пробираясь в толпе, чтобы остановиться у стола в двух шагах от Пальника.
— Что ты скажешь на это? — спросил Медвежонок, пожимая протянутые ему руки. — Находишь ли ты эти ручательства достаточными?
— Будем играть, сто чертей! И чтобы все было поскорей кончено!
— Вот стакан, начинай.
Буканьер молча взял стакан, минуту встряхивал его в лихорадочном волнении, и кости с глухим стуком полетели на пол.
— Удачно! — сказал Медвежонок. — Шесть и шесть — двенадцать, да пять — семнадцать. Теперь моя очередь.
Он небрежно взял стакан, встряхнул его и опрокинул.
— Вот тебе на! — вскричал он, смеясь. — По шестерке на каждой кости; ты проиграл.
— Проклятие! — вскричал буканьер, позеленев.
— Счастье, видно, тебе изменило, — продолжал флибустьер. — Теперь — за вторую партию! Поручителей мне больше не нужно; я ставлю свой выигрыш против того, что у тебя остается.
Буканьер с силой встряхнул стакан и опрокинул его.
— Ага! — вскричал он вдруг с торжествующим хохотом, — удача еще не отвернулась от меня! Погляди-ка, приятель, на всех костях по четыре очка.
— Бесспорно, это хорошо, — ответил Медвежонок, — но ведь может быть и лучше. Что ты скажешь об этом? — заключил он, сделав бросок.
На всех трех костях было по пяти очков.
— Разорен! — вскричал буканьер, отирая холодный пот с помертвевшего лица.
— Как видишь, — ответил Медвежонок, подняв голову, — ты разорился, но это не все; разве ты забыл, что нам остается сыграть третью партию?
— У меня ровно ничего нет!
— Ошибаешься, у тебя есть еще то, что я хочу выиграть.
— Что же?
— Жизнь твоя! — вскричал капитан голосом, наводящим ужас. — Не воображаешь ли ты, что я вступил в эту смертельную игру с тобой из одного низкого наслаждения отнять золото, которое я презираю? Нет, нет, мне нужна твоя жизнь! Чтоб выиграть ее, я ставлю все твое состояние, которое теперь перешло ко мне, и свою жизнь в придачу. Кто проиграет, пустит себе пулю в лоб тут же на месте, при всех.
Содрогание ужаса пробежало, подобно электрическому току, по рядам Береговых братьев.
— Это безумие, Медвежонок! — вскричал Монбар.
— Брось, брось! — с живостью вмешались несколько флибустьеров.
— Братья, — ответил Медвежонок с бледной улыбкой, — благодарю вас за участие, но я твердо решился. Впрочем, будьте спокойны, я играю наверняка; человек этот заранее осужден; страх уже одолел его, одна гордость еще поддерживает его силы. Я согласен, однако, дать ему последнюю возможность спасти свою жизнь: пусть он публично сознается в своих преступлениях и смиренно попросит у меня прощения. С этим условием я готов простить его.
— Никогда! — вскричал буканьер в порыве неудержимого бешенства. — Твоя жизнь или моя, пусть будет так! Один из нас лишний на земле и должен исчезнуть. Сыграем же эту партию, и будь ты проклят!
Он бросил кости, отвернувшись. Крик ужаса раздался в толпе.
На верхней грани каждой кости было по пяти очков.
— Да, до победы рукой подать, — капитан равнодушно пожал плечами, собирая кости, — но не торопись торжествовать; ты ближе к смерти, чем полагаешь.
— Да играй же, наконец! — вскричал буканьер задыхающимся голосом, дико тараща глаза в невыразимой тоске.
— Братья, — заговорил Медвежонок все с тем же полнейшим хладнокровием, — это Суд Божий. Чтоб доказать, что человек этот безвозвратно осужден Божественным правосудием, я не коснусь стакана; один из вас бросит кости вместо меня.
— Не я! — вскричал Монбар. — Не стоит испытывать терпение Всевышнего!
— Ошибаешься, брат; напротив, этим воочию будет доказано Его могущество и правосудие. Бери кости и бросай.
— Клянусь честью, я не сделаю этого!
— Прошу тебя, брат. Монбар колебался.
— Да бросай же кости, разве ты трусишь? — повторял безотчетно Пальник, съежившись, точно тигр, готовый прыгнуть на добычу, судорожно ухватившись за край стола и с неподвижным, диким взглядом.
Медвежонок почти насильно вложил стакан с игральными костями в руку Монбара.
— Бросай без страха, — сказал он.
— Да простит мне Господь! — пробормотал Монбар и бросил кости, отворачиваясь.
В ту же минуту раздался пронзительный, нечеловеческий крик, чья-то рука внезапно дернула Медвежонка назад, грянул выстрел, и пуля со зловещим свистом засела в одной из балок потолка.
Все это совершилось так быстро, что крик отделяло от выстрела всего лишь одно мгновение.
Когда флибустьеры опомнились от оцепенения, в которое повергло их это неожиданное событие, они увидели буканьера, поваленного на стол и удерживаемого, несмотря на его сопротивление, могучей рукой Прекрасного Лорана; в своих судорожно сжатых пальцах Пальник держал дымящийся пистолет.
Когда упали кости, наверху каждой оказалось по шести очков.
На счастье Медвежонка, двое охраняли его: пленница-испанка, которая храбро дернула его назад, невзирая на риск сделаться жертвой своей преданности, и Прекрасный Лоран, который внимательно следил за малейшим движением буканьера и отвел дуло пистолета Пальника.
Монбар сделал знак, требуя молчания. Воцарилась тишина.
— Вы все были свидетелями того, что произошло, братья, — сказал Монбар.
— Да, да! — закричали флибустьеры в один голос.
— Стало быть, вы признаете вместе со мной, что мы имеем право судить убийцу?
— Разумеется, — ответил за всех Тихий Ветерок, — его надо судить, и немедленно.
— Хорошо, братья; к чему же вы присуждаете этого человека после его гнусного покушения?
— К смерти! — единодушно отозвались присутствующие.
— Таков ваш окончательный приговор?
— Неизменный! — опять вскричали в один голос Береговые братья.
— Так приготовьте лодку, чтобы отвезти его на Акулий утес.
Несколько человек выбежали исполнять приказание.
Напрасно упрашивал Медвежонок, чтобы несчастному по крайней мере дозволено было застрелиться; флибустьеры остались неумолимы.
Через несколько минут крепко связанного Пальника перенесли в лодку, которая удалилась от Пор-Марго, неся на борту караул из десяти флибустьеров с Монбаром во главе, который сам хотел исполнить приговор.
А приговор был ужасен.
Акулий утес, находящийся в открытом море в шести лье от берега, выступал на несколько футов над поверхностью воды, но волны полностью покрывали его во время прилива.
Человека, осужденного неумолимым, но справедливым флибустьеров, бросали без оружия и без пищи на этой скале, где он должен был ожидать смерти в жестоких пытках, душевных и телесных.
Вот какая участь предстояла Пальнику.
За час до восхода солнца, когда начинался прилив, к пристани причалила лодка; Монбар и его товарищи вышли на берег с холодным спокойствием людей, исполнивших свой долг.
Судя по всему, в это время буканьер уже завершил свой земной путь.
Глава III КАКИМ ОБРАЗОМ КАПИТАН ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА УПОТРЕБИЛ БОГАТСТВО, ВЫИГРАННОЕ У ПРЕЖНЕГО ХОЗЯИНА
Шоковая, но давно предвиденная развязка странной партии между двумя непримиримыми врагами оказала потрясающее воздействие на толпу, собравшуюся в гостинице «Сорванный якорь». Береговые братья, которые с жадным любопытством следили за поражающими перипетиями страшной игры, глядели теперь на капитана с робким удивлением.
Д'Ожерон, губернатор Черепашьего острова и французских владений на Санто-Доминго, вошел в залу, раскланиваясь с присутствующими, которые почтительно снимали перед ним шляпы, и сел посреди предводителей флибустьеров.
Бертран д'Ожерон был человек широкой души и замечательного ума. Он задался опасной, почти недосягаемой целью возвращения в лоно большой человеческой семьи возмутившихся детей, которых отторгла от нее пылкость их нрава и жажда свободы. Свое призвание он исполнял с редким самоотвержением.
Хотя флибустьеры скорее терпели, чем действительно принимали каждого вновь назначенного королем губернатора в своей среде, но тем не менее любили и уважали д'Ожерона, он был для них ровней, а не начальником, никогда не вмешивался в их дела, если не случалось чего-нибудь особенно важного, но и тогда ограничивался одними советами и убеждениями с людьми, которые никогда не желали терпеть ни малейшей узды.
Случайно извещенный о том, что произошло в «Сорванном якоре», он поспешил прийти туда — не помешать исполнению приговора, произнесенного над буканьером, но предупредить новые вспышки насилия.
Губернатор был встречен восторженными приветствиями, перед ним поспешно и почтительно расступились.
Сев за стол, он наклонился к Медвежонку и шепнул ему несколько слов, которых не мог слышать никто из посторонних.
— Не беспокойтесь, — ответил тот, — у нас одна цель; я постараюсь исполнить ваше желание.
Тогда капитан обратил к присутствующим и голосом, который сначала слегка дрожал от внутреннего волнения, но мало-помалу становился все тверже, произнес:
— Береговые братья, флибустьеры с Черепахи, буканьеры с Санто-Доминго и жители Пор-Марго, несколько минут назад вы присутствовали здесь не при страшной партии между двумя людьми, которых разделяла непримиримая вражда, но при Божьем суде. Я был только орудием гнева Господня; безотчетно побуждаемый действовать, как вы тому были свидетелями, я ни минуты не сомневался в успехе. Условия, предлагаемые мной, все что я говорил, — все служит тому доказательством. Итак, я не имею никакого права на богатство, которое выпало мне на долю, и с радостью отказываюсь от него; надеюсь, вы одобрите мое решение. Мы львы, а не шакалы; если мы бросаем золото без счета в сумасбродных и веселых оргиях, то это потому, что золото — цена нашей храбрости, нашей отваги, потому что мы купили его ценой нашей крови.
Неистовые рукоплескания заглушили громкий голос капитана.
Когда опять водворилась тишина, он продолжал с улыбкой на губах:
— Нашему уважаемому губернатору, отеческая заботливость которого всегда бодрствует над нами, я приношу сердечную благодарность за то, что он удостоил нас своим присутствием и тем придаст законную силу моему решению. Вот в чем состоит оно: золото, что лежит на столе, и все состояние Пальника, которое я выиграл, господин д'Ожерон потрудится разделить поровну между беднейшими из нас, без различия звания, пусть они будут буканьеры, флибустьеры или простые обыватели. Дай Бог, чтобы это назначение очистило выигранное мной богатство от грязи, которой оно запятнано! Знает ли кто-нибудь, сколько вербованных было в собственности у Пальника?
— Я знаю, — сказал Прекрасный Лоран, — всего пять.
— И мы здесь! — отозвался голос из толпы.
— Подойдите, — позвал их капитан.
Пятеро слуг, полунагих, бледных и худых до того, что на них страшно было смотреть, робко выступили вперед.
— Я объявляю вас свободными в силу права, которое мне присвоено званием Берегового брата, — продолжал Медвежонок, — согласно обычаю, я дам каждому из вас по ружью, по три фунта пороха и пуль, а кроме того вот вам пятьсот экю, которые вы разделите между собой.
Бедные люди, ошеломленные таким внезапно свалившимся на них счастьем, не смели верить своим ушам; они растерянно оглядывались вокруг и кончили тем, что залились слезами.
— Ступайте, — сказал им капитан тоном нежного сострадания, — ступайте, друзья мои, теперь страдания ваши кончились. Ваше место среди свободных людей, среди Береговых братьев.
Опять со всех сторон раздались такие восторженные крики, что самые закаленные буканьеры — и те умилились; это уже был восторг не обыкновенный, но неистовый, доходивший до исступления.
— Хорошо, капитан, — похвалил его губернатор, с чувством пожимая ему руку, — вы подаете возвышенный пример. Именно таким образом мы и вернем этих увлекшихся, но великодушных людей на истинный путь; благодаря вам задача моя станет легче.
— Пытаюсь идти по вашим следам, — почтительно ответил флибустьер, — я не могу желать лучшего образца для подражания.
— С десятью такими людьми, как вы, — продолжал д'Ожерон по-прежнему тихо, — всего за один год эта великолепная колония может просто преобразиться.
— Или погибнуть, — задумчиво пробормотал капитан.
— О! Неужели таково ваше мнение?
— Увы! Мы не такие люди, как все; в наших жилах течет огонь, а не кровь.
— Разве вы отступаетесь от меня?
— Вы так не думаете; к тому же, сейчас вы получите доказательство противного.
Губернатор улыбнулся и пожал ему руку. Флибустьеры спокойно ожидали конца этих переговоров вполголоса.
— Я еще не договорил, братья, — продолжал Медвежонок после минутного молчания, — мне остается решить судьбу пленных испанцев. Разве справедливо будет, чтобы эти несчастные остались в неволе, когда все мы участвовали в разделе наследства человека, нами осужденного? Хотя эти пленные и являются представителями ненавистной нам нации, с нашей стороны будет вопиющей несправедливостью оставить их в неволе. Покажем гордым испанцам, которые в своем высокомерии называют нас ворами и преследуют и травят, словно диких зверей, что мы презираем их и потому не боимся. Дадим свободу этим пленникам, и пусть они вернутся к своим родственникам и друзьям, которые уже не надеются увидеть их вновь. Узнав нас ближе, испанцы станут бояться нас еще больше. Одобряете ли вы мое решение, братья?
В толпе было заметно колебание, и с минуту капитан опасался, что его великодушная попытка разобьется о ненависть флибустьеров к испанцам.
Закон Береговых братьев запрещал под страхом смерти возвращать без общего согласия свободу кому бы то ни было из пленников-испанцев, мужчине ли, женщине ли, ребенку или духовному лицу.
Д'Ожерон с одного взгляда определил положение дел, он понял, что Медвежонок в порыве великодушия вышел за рамки благоразумия и если он не вмешается, то все погибло.
— Капитан Железная Голова, — сказал он, вставая, — благодарю вас от имени всех Береговых братьев за ваше великодушное предложение. Флибустьеры могущественны и не боятся врагов; они храбро нападают на них, но, поборов, лежачего не бьют. Их сердца открыты состраданию. К какой бы нации не принадлежали они, не надо забывать, что несчастны наши братья. Нам, изгнанным, так сказать, из общества, следует подать свету, клевещущему на нас, этот пример человеколюбия. Повторяю, капитан, приношу вам благодарность от имени всего флибустьерства. Ваши пленники свободны, вы вольны располагать ими и возвратить их семьям.
— Да, да! — вскричали флибустьеры, увлеченные благородными словами д'Ожерона. — Освободить их! Да здравствует губернатор! Да здравствует Медвежонок Железная Голова!
Первый толчок был дан; все поддались всеобщей восторженности.
Испанцы были свободны.
— В свою очередь благодарю вас, — обратился к д'Ожерону тронутый до глубины души капитан, — без вас я потерпел бы неудачу у самой цели.
— Не думайте этого, любезный капитан, — возразил, улыбаясь, губернатор. — Флибустьеры — большие дети, и сердце у них осталось добрым, только надо уметь затронуть струны их великодушия.
Золото, лежавшее все время на столе, было вручено д'Ожерону, который взялся раздать его, и затем все покинули «Сорванный якорь».
Толпа с восторженными криками сопровождала капитана до самых дверей его жилища и окончательно рассталась с героем дня, только когда он с двумя близкими друзьями и пленниками-испанцами наконец скрылся внутри дома.
Тем не менее в городе всю ночь не утихало волнение и множество людей группами бродило по улицам с песнями и восторженными криками в честь капитана Медвежонка Железная Голова и губернатора д'Ожерона.
Пленных испанцев было восемнадцать мужчин и две женщины.
Как только Медвежонок вошел к себе в дом, он велел своим слугам приготовить помещение для чужеземцев, которых уже считал своими гостями, потом, заверив их, что они ни в чем не будут нуждаться и что на следующее же утро он позаботится о возможности для них безопасно уехать из колонии, капитан простился с ними, положив таким образом конец их уверениям в вечной благодарности, и вернулся к друзьям, которые, вольготно расположившись в его гостиной, пили и курили в ожидании его прихода.
— Однако, — обратился к нему Прекрасный Лоран, — опасную же игру ты затеял, заступаясь за пленников!
— Правда, брат, но мне нельзя было поступить иначе; когда Пальник чуть было не застрелил меня, кто-то из пленников — мне показалось, что это была не женщина, — отважно кинулся вперед с явной целью спасти мне жизнь.
— Я видел, — заметил Мигель Баск, — это действительно была женщина, и молодая, кажется, но до того закутанная в покрывало, что нельзя было разглядеть и кончика ее носа.
— В таком случае ты поступил хорошо, Медвежонок, — согласился Прекрасный Лоран, — не подобает, чтобы испанская собака выказала себя великодушнее Берегового брата.
— И я так решил, — с кротостью ответил капитан.
— Во всей этой истории для меня ясно одно, — вскричал Прекрасный Лоран, — ты одержал победу над прелестной, надо полагать, испанкой!
— Ты с ума сошел!
— Ну, разумеется, твоя слава по этой части хорошо известна, — с усмешкой возразил Прекрасный Лоран, — только что же ты думаешь делать со своими гостями?
— Признаться, не знаю, как мне выпроводить их из колонии, в особенности теперь, когда все корабли в море.
— Ба-а! Нет ничего легче, — вмешался Тихий Ветерок. — Есть у меня добрый приятель, буканьер, о котором и вы, вероятно, слышали, так как он очень известен среди братства.
— Как его зовут?
— Польтэ.
— Кто же не знает его, по крайней мере понаслышке! — воскликнул Медвежонок. — Он охотник, больше на буйвола, чем на кабана, которым пренебрегает, если только не оказывается вынужден схватиться с ним; он здоровенный детина и друзьям своим предан.
— Польтэ — истинный Береговой брат, — подтвердили собеседники.
— Его-то нам и надо, — продолжал Тихий Ветерок. — Он должен теперь охотиться в окрестностях Артибонита; отправимся к нему, и мы получим все необходимые сведения, чтобы достигнуть испанского города или местечка, не подвергаясь ненужным стычкам с полусотнями. Принимаешь ли ты предложение, Медвежонок?
— С превеликой радостью. Когда мы отправимся?
— Тебе решать; я отдаю себя в твое распоряжение.
— Так завтра, если ты согласен.
— Ладно! На рассвете я буду здесь с двумя из моих слуг; ты также возьми двоих, больше нам не нужно.
— Каковы дороги? Можно ли пробраться по ним на лошади? — спросил капитан отчасти нерешительно.
— К чему этот вопрос?
— Ну и наивен же ты, ей-Богу, Тихий Ветерок! — вскричал Прекрасный Лоран с громким хохотом. — Разве ты забыл, что среди испанских пленных есть женщины?
— У тебя злой язык, Лоран, — весело воскликнул Медвежонок, — но я должен сознаться, что твое замечание справедливо. Бесчеловечно было бы заставлять женщин пройти, быть может, более двадцати лье по отвратительным дорогам.
— В высшей степени бесчеловечно! — подтвердил Прекрасный Лоран с комической серьезностью.
— Дороги в порядке, — успокоил Легкий Ветерок, — лошади пройдут без труда.
— Тогда я возьму двух лошадей.
— Как хочешь. Итак, решено, до завтра.
— До завтра; спасибо.
Флибустьеры встали, выпили по последней рюмке ликера, дружески пожали хозяину руку и ушли, чтоб дать ему возможность поспать.
Но капитан долго не мог заснуть. Неведомое чувство коварно закрадывалось в сердце; любопытство, в природе которого он сам не мог дать себе отчета, отгоняло от него сон всю ночь.
Против его воли, слова Прекрасного Лорана то и дело звучали у него в ушах.
На другое утро, когда еще не появилось солнце, Тихий Ветерок, олицетворенная точность, согласно своему обещанию явился с двумя вооруженными с ног до головы слугами и постучался в двери дома Медвежонка. Сам хозяин отпер ему дверь и вышел дружески пожать ему руку.
— Мы готовы, — сказал он.
— Так отправимся в путь, — ответил Тихий Ветерок. — Если поторопиться, мы, пожалуй, часам к одиннадцати или к полудню застанем Польтэ в его букане; иначе нам не удастся увидеть его раньше шести часов вечера.
Медвежонок тотчас велел предупредить испанцев.
Спустя десять минут караван покинул дом и направился к горам, удаляясь от моря.
Во главе шли Тихий Ветерок и Медвежонок, сопровождаемый своими неразлучными спутниками — собаками и кабанами.
Далее верхом на лошадях следовали две женщины. Они до того тщательно закутались в свои мантильи и шарфы, что из всего лица были видны одни только черные глаза, блестевшие словно карбункулы, когда они с беспокойством оглядывались по сторонам.
За ними в нескольких шагах шли испанские пленники, нахлобучив шляпы с широкими полями и с головой, до самых глаз, окутав себя толстыми складками плащей.
Испанцы ни в какую погоду, дождь ли, солнце ли, холодно или жарко, в Европе они или в Америке, не расстаются со своим плащом; это неизменная и в то же время любимейшая их одежда.
Два слуги Медвежонка и два — Тихого Ветерка шли на флангах колонны, с ружьем на плече, пистолетами и топором за поясом, штыком и ножами в ножнах из крокодиловой кожи на боку.
Редкие прохожие, которые встречались флибустьерам на улицах, почтительно кланялись им и желали счастливого пути, ничем не изобличая нескромного любопытства; караульные у городских ворот подняли решетку и опустили подъемный мост, едва завидев их, и вскоре маленький караван очутился в открытом поле.
Глава IV КАК ФЛИБУСТЬЕРЫ НАШЛИ ПОЛЬТЭ, КОТОРЫЙ ОДИН-ОДИНЕШЕНЕК ОЦЕПЛЯЛ ПОЛУСОТНЮ ИСПАНЦЕВ
Было еще темно; чувствовался резкий холод. Волны Антильского моря вспыхивали на горизонте кровавым оттенком; солнце готово было выйти из недр волн.
Путешественники пробирались по узкой и каменистой дороге, окаймленной с обеих сторон частым кустарником сасафраса, среди которого местами возвышались кокосовые пальмы, чьи густые верхушки слегка колебал затихающий утренний ветерок.
Вдали виднелась темная и величественная масса самого густого леса в Артибоните, над которым выступала остроконечная вершина невысокой горы Куридас.
Равнина пробуждалась, и все таинственные ее обитатели по-своему приветствовали возвращение света.
Отвратительные пипы, гады из семейства жаб, с бычьим голосом, мычали у какого-нибудь неизвестного болота, над которым с жужжанием кружились тучи москитов; кампанеро, или птица-колокол, повторял свою однообразную и пронзительную нотку через равномерные промежутки; обезьяны визжали наперебой, свиньи пекари глухо хрюкали в колючем кустарнике, и исполинские грифы, широко распустив свои большие крылья, описывали громадные круги в воздухе, испуская отрывистые, пронзительные крики, к которым примешивалось мяуканье диких кошек и веселое пение тысяч птиц всех родов и цветов, зябко нахохлившихся в густой листве.
Путешественники шли довольно быстро, отчасти чтобы согреться — на Санто-Доминго утро бывает крайне холодным — отчасти чтобы вернуть время, потерянное на приготовления к дороге.
По выходе из города никто не проронил ни слова.
Флибустьеры курили коротенькие трубочки, испанцы же, вероятно, размышляли о счастливом и неожиданном событии, которое возвратило им свободу, когда перед ними была открыта одна печальная перспектива вечного рабства.
Однако, когда мрак совсем рассеялся и на смену ему пришел ослепительный тропический свет, перед которым самый прекрасный день нашей старой Европы кажется серым и туманным, путешественники стали понемногу оживляться, и в разных группах, из которых состоял караван, уже успели переброситься несколькими словами.
Медвежонок Железная Голова, обычно такой хладнокровный и сдержанный, казался чем-то озабоченным, даже взволнованным; он то и дело оглядывался назад или по сторонам, на вопросы товарища отвечал невпопад, иногда вдруг останавливался без видимой причины и с досадой снова пускался вперед.
— Что это сегодня на тебя нашло? — вскричал наконец Тихий Ветерок. — Четыре раза я повторяю один и тот же вопрос, а ты не удостаиваешь меня ответа. Хороший же ты после этого собеседник!
— Я не слышал, — ответил Медвежонок тоном человека, который внезапно проснулся.
— Это дело другое; стало быть, ты оглох.
— Оглох?
— Разумеется, раз ты не слышишь. Берегись, дружище, — прибавил Тихий Ветерок, наклоняясь к уху капитана, — если так пойдет и дальше, я поневоле приду к заключению, что Лоран был прав.
— С какой стати приплетаешь ты Лорана? — возразил Медвежонок, невольно вздрогнув.
— Еще бы! Разве он не говорил, что ты вдруг воспылал участием к испанским пленникам из-за прекрасных черных глаз одной из сеньорит, если не обеих?
— Да я еще и лиц-то их не видел.
— Тем более, приятель.
— Ты бредишь!
— Разумеется, я брежу, а ты в полном рассудке; это дело решенное. Однако, как я ни брежу, будь я на твоем месте, не упустил бы случая, которого, пожалуй, более не представится; я подошел бы к дамам и отважно вступил с ними в разговор.
— Что же я выиграю этим?
— Удовольствие услышать нежный и мелодичный голос, который будет ласкать твой слух; разве этого мало?
— Но о чем же мне говорить?
— Вот тебе на! Нашел трудность! Говори с ними обо всем на свете, о дне и ночи, о погоде, настоящей и будущей.
— Премилый предмет для беседы, в особенности занимательный, — возразил капитан, презрительно пожав плечами.
— Занимательнее, чем ты полагаешь; сейчас докажу тебе это.
— Ты?
— Ив одну секунду; вот, смотри.
Тихий Ветерок остановился, поджидая, чтобы дамы поравнялись с ним.
— Извините, сеньорита, — вежливо обратился он к той, которая ехала ближе к нему, — кажется, у вашей лошади ослабла подпруга, позвольте мне осмотреть ее.
— Извольте, сеньор, — ответила дама.
Тихий Ветерок с самым серьезным видом осмотрел подпругу.
— Я ошибся, — сказал он через минуту, — все в порядке.
— Благодарю за внимание, сеньор.
— Не позволите ли вы задать вам один вопрос? — едва слышным голосом обратилась к нему другая дама.
— Весь к вашим услугам, сеньорита, так же как и мой друг, — с почтительным поклоном отвечал Тихий Ветерок, указывая на Медвежонка, который шел рядом с ним и, чувствуя, что стал предметом внимания дам, не знал, куда себя девать.
— Долго мы еще будем путешествовать таким образом? — спросила дама.
— Я не могу ответить вам определенно, сеньорита, по той простой причине, что сам не знаю.
— Однако вы же должны знать, куда ведете нас? — настаивала незнакомка.
— Приблизительно.
— Как это приблизительно? — испанка разразилась свежим и мелодичным смехом.
— Берегись, Лилия, ты задаешь нескромные вопросы, — остановила ее спутница.
— Я? Чем же мой вопрос нескромен, любезная Эльмина?
— Ты должна бы понять, что эти господа, вероятно, имеют важные причины отвечать тебе таким образом.
— Вы напрасно так думаете, сеньорита, — вдруг вмешался в их разговор капитан, — смею вас уверить, что слова моего друга — чистейшая правда.
— Я верю вам, — с глубоким чувством ответила донья Эльмина, — вы обошлись с нами так благородно и великодушно, что мы ни одной минуты не позволим себе сомневаться в вашей правдивости.
— Позвольте, сеньорита, я объясню вам в двух словах то, что может казаться загадочным. Вам, вероятно, известно, что мы пребываем в постоянной войне с вашими соотечественниками?
— Да, я знаю, — ответила донья Эльмина слегка изменившимся голосом.
— Итак, нам необходимо соблюдать величайшую осторожность, приближаясь к испанской границе, если мы не хотим угодить в засаду.
— Однако с нами, — перебила его с живостью донья Лилия, — опасности этой не существует. Если бы напали на нас…
— Молчи, Лилия, ради Бога! — вскричала с испугом донья Эльмина и даже схватила спутницу за руку.
— Мы — моряки, как вы можете убедиться, — продолжал, улыбаясь, капитан, — стало быть, очень мало знакомы с местами, где теперь находимся. Поэтому мы разыскиваем приятеля-буканьера, который охотится где-то поблизости и наверняка поможет нам изыскать средство беспрепятственно достигнуть какого-нибудь города или испанского местечка. Вот и вся тайна, сеньорита.
— Благодарю вас, кабальеро; действительно, все очень просто, и я сознаюсь, что ваш друг не мог ответить иначе.
Испанцы между тем мало-помалу подошли ближе и слушали этот разговор с видом отчасти недовольным, точно непомерная кастильская спесь не могла вынести, чтобы испанки унизились до разговора с ворами-флибустьерами, хотя эти воры и оказали им громаднейшую услугу.
Флибустьеры, однако, сочли за лишнее продолжать разговор, в котором участвовало столько лиц; они почтительно раскланялись с двумя всадницами и заняли свое прежнее место во главе каравана.
— Ну! — со смехом воскликнул Тихий Ветерок. — Как видишь, не трудно было.
— Ты прав, но что же это дало?
— Что дало? Во-первых, мы узнали имена этих дам, и, кстати будь сказано, я нахожу их прелестными; а ты? Далее, мы сделали открытие, что наши бывшие пленницы гораздо знатнее, чем хотят казаться.
— Когда же и как ты сделал это великое открытие? — с усмешкой спросил Медвежонок.
— Самым естественным образом на свете, когда донью Лилию вдруг остановила подруга — вероятно, чтобы не позволить ей выдать их тайну.
— Действительно, и я теперь припоминаю, что меня это удивило.
— Но мы выходим теперь на равнину Артибонита, — сказал Тихий Ветерок. — Надо держать ухо востро. Менее чем через час мы должны встретить Польтэ.
Было около половины одиннадцатого; путешественники шли уже более шести часов. Дорога, по которой они направлялись, вела к обширной равнине, покрытой высокой травой, местами перерезанной довольно широкими трясинами и мелкими речками. Оставаясь справа, остроконечный Куридас возвышался над равниной своей темной и величественной массой.
Зной становился томителен. Испанцы, вероятно люди богатые и избалованные всеми утонченностями роскоши и комфорта, очевидно, страдали от усталости: они с трудом передвигали ноги, спотыкаясь о каждый камушек на дороге, но терпели с безмолвным смирением, не позволяя себе ни малейшей жалобы.
Что же касается флибустьеров, то, давно свыкшись с жизнью в суровых условиях, они как бы шутя могли побороть величайшие трудности и потому продолжали идти прежним твердым шагом.
— Мне кажется, — заметил капитан, — что, несмотря на проявляемый из гордости стоицизм, наши бывшие пленники были бы совсем не прочь отдохнуть часок-другой. Что ты скажешь на это, дружище?
— Разделяю твое мнение; они едва тащатся за нами. На что уж я привычен ко всяким невзгодам, и то уже искал глазами удобное место для стоянки, — ответил Тихий Ветерок.
Караван проходил в это время густой лес, который, по-видимому, простирался во все стороны на довольно большое расстояние.
— Мы расположимся в тени, — продолжал флибустьер, — когда достигнем края леса. Неосторожно было бы останавливаться здесь. Я люблю видеть все вокруг себя. Не доверяю я этим стенам из листвы и лиан: никогда не знаешь, что за ними кроется.
Едва успел он договорить, как где-то неподалеку раздался выстрел, а вслед за ним — грозный и сильный голос:
— Я запретил стрелять, черт возьми! К чему попусту тратить порох, будьте вы прокляты! Ведь собаки испанцы окружены и уйти не могут!
Путешественники вздрогнули и остановились.
Они предугадывали борьбу, быть может, даже кровопролитную, какие часто происходили в глубине этих неведомых равнин, когда испанцы и буканьеры неожиданно сталкивались нос к носу.
— Это Польтэ, — шепнул Тихий Ветерок на ухо капитану. — Тут кроется какая-нибудь проказа. Слушай!
В лесу раздался тяжелый топот отряда солдат.
— Ваши хитрости нас не проведут, — ответил по-кастильски надменный голос, — люди, с которыми вы говорите, существуют только в вашем воображении.
— Вы так полагаете? — тотчас возразил Польтэ, посмеиваясь. — Повторяю, вы окружены значительными силами. Берегитесь! При малейшем вашем движении в вас будут стрелять одновременно со всех сторон.
Испанцы, по-видимому, поверили угрозе, потому что топот мгновенно прекратился.
— Покажитесь, по крайней мере! — опять вскричал с нетерпением испанский офицер. — Покажитесь, чтобы мы знали, с кем имеем дело!
— Вы увидите нас скорее, чем полагаете, — ответил Польтэ прежним насмешливым голосом, — попали же вы впросак, господа! Вам остается только одно средство выйти из беды, предупреждаю вас, — это немедленно сложить оружие и безоговорочно сдаться.
— Мы не можем вести переговоров с невидимым неприятелем, — вновь послышался голос, надо полагать, командира испанского отряда.
— Как угодно. Я даю вам пять минут на размышление. Воцарилось безмолвие.
Действующие в этой сцене лица, все еще невидимые, вероятно, совещались между собой.
Медвежонок шепнул несколько слов Тихому Ветерку; тот выразил согласие движением руки и тихим условным свистом с переливами подозвал к себе четырех слуг, которым отдал приказания, между тем как капитан направился к пленникам.
— Господа, — обратился он к ним, — вокруг нас происходит что-то странное, как вы сами слышали. Несколько наших товарищей вступили в борьбу с испанским отрядом. Дайте нам честное слово не вмешиваться, что бы ни случилось, не произносить ни одного слова, не делать ни одного движения, которое могло бы изобличить ваше присутствие. Если вы откажетесь, соображения безопасности вынудят нас прибегнуть к мерам, которые претят нам, особенно в том положении, в которое мы поставлены друг перед другом.
— Сеньор кабальеро, — ответил с достоинством один из пленных, — вы проявили рыцарское благородство в отношении нас, так можем ли мы отказаться исполнить ваши требования? От имени моих товарищей и моего собственного я даю вам честное слово, что бы ни случилось, соблюдать строжайший нейтралитет. Мы нарушим его только в том случае, если вам понадобится помощь, если счастье изменит вам и вашей свободе или жизни будет грозить опасность.
— Принимаю ваше слово, кабальеро, — с этими словами Медвежонок вежливо раскланялся с испанцами и вернулся к Тихому Ветерку.
По приказанию последнего слуги скрылись за деревьями и пробирались, скользя как змеи, сквозь кустарник.
— Пять минут прошли, — сказал Польтэ, — сдаетесь вы или нет?
— Невидимому неприятелю мы не сдаемся, — тотчас ответил испанский офицер.
— Ах, вот как! Ну так мы посмеемся! — вскричал буканьер своим насмешливым тоном. — Слушай меня, братья!
— Рады стараться, капитан! — разом грянули несколько грозных голосов с разных сторон в одно и то же время.
Истрашный треск сломанных ветвей раздался в кустарнике.
Это ответили слуги Тихого Ветерка и Медвежонка.
— Открыть огонь! — крикнул Тихий Ветерок.
— Постой! — ответил буканьер, не проявляя ни волнения, ни удивления при помощи, так кстати пришедшей, словно с неба свалившейся, к нему в самую критическую минуту. — Возьми двадцать человек, Тихий Ветерок, и отрежь отступление этим негодяям.
— Железная Голова с пятнадцатью братьями уже заняли эту позицию.
— Хорошо; бить всех без пощады, Железная Голова, слышишь? Надо проучить мерзавцев по заслугам, — с невозмутимым хладнокровием продолжал Польтэ.
— Будь спокоен, брат, не уйдет ни один, — твердым голосом отозвался Медвежонок.
Оторопев от многоголосицы, когда они думали, что имеют дело всего с одним противником, испанцы даже не пытались защищаться; они сочли себя погибшими, когда услышали имена Тихого Ветерка и Медвежонка Железная Голова, грозная слава которых леденила их ужасом.
— Мы сдаемся! — крикнул офицер. — Пощадите во имя святой Троицы, сеньоры!
— Бросайте оружие! — приказал Польтэ. — Четыре человека сюда, чтобы подбирать копья этих мерзавцев!
Тихий Ветерок, Медвежонок и два слуги пошли по направлению к Польтэ, который, притаившись за кустом, хохотал до упаду от славно сыгранной с испанцами шутки.
— Сколько у тебя человек с собой? — спросил его Тихий Ветерок.
— Я один; эти собаки застигли меня врасплох, когда все трое моих слуг отправились на охоту. Все равно, — прибавил Польтэ, протягивая руку двум флибустьерам, — вы можете считать, что поспели вовремя: мое положение становилось не то чтобы опасным, но достаточно затруднительным.
— Великолепная мысль: одному оцеплять целый испанский отряд! — восторженно вскричал Тихий Ветерок. — Это верх смелости!
— Шутишь, брат; у меня не оставалось иного выхода из западни, в которую я угодил. Все равно, когда я услышал твой голос, у меня прямо от сердца отлегло… Но нельзя давать времени опомниться этим трусам.
Флибустьеры вышли из-за кустов и приблизились к отряду, держа ружья наготове, со взведенными курками, чтобы при малейшем подозрительном движении неприятеля мгновенно дать залп.
Но все предосторожности оказались излишними: испанцы даже не помышляли о сопротивлении.
Глава V ЧТО ПРОИЗОШЛО НА РАВНИНЕ МЕЖДУ ИСПАНЦАМИ И БЕРЕГОВЫМИ БРАТЬЯМИ И КАК ОНИ РАССТАЛИСЬ
Испанскую границу охраняли от постоянных вторжений французских буканьеров отряды по пятьдесят человек под командой одного альфереса[27] специально с этой целью сформированные. Сначала им дали ружья, но вскоре ружья заменили копьями.
Причина этой перемены оружия, на первый взгляд лишенной всякой логики, заключалась именно в страхе, который внушали французские буканьеры своим врагам; как только испанские солдаты оказывались на равнине, они принимались палить из ружей в воздух и не прекращали этого занятия, пока не истощали все запасы пороха; цель же пальбы состояла в том, чтобы предупредить буканьеров о своем присутствии и таким способом заставить их идти в другую сторону, что, разумеется, те и делали, не из страха, но чтобы не прекращать охоты.
Подобная предосторожность, заключавшаяся в том, чтобы вооружить копьями солдат, посылаемых против неприятеля с превосходными ружьями, который славился своим искусством в стрельбе и попадал в пятистах шагах в стебелек апельсина на дереве, компрометировала и солдат, и правительство, которому они служили.
Действительно, чего можно было ожидать от такого войска при стычках и что думать о гуманности правительства, которое холодно и спокойно посылало этих бедняг на верную смерть?
Полусотня, возглавляемая альфересом, выстроилась в десяти шагах от леса, на открытом месте, но со всех сторон окруженном густым кустарником, который воображение испанцев от страха населило невидимым неприятелем.
Копья и сабли кучей лежали перед ними на земле.
Между тем Польтэ шел немного впереди своих товарищей.
Он насмешливо посмотрел на испанцев и после минутного молчания, от которого у побежденных мороз пробежал по коже, решил наконец заговорить своим прежним шутливым тоном.
— А-а! Кабальерос, — воскликнул он, — вы решились сдаться?
— Долг велит нам слагать оружие перед превосходящими силами, — смиренно ответил альферес.
— Но теперь, — продолжал Польтэ с насмешливым видом, — вы признаете, что были не правы?
— Как видите, мы сдались немедленно.
— Я вижу, — грубо вскричал Польтэ, захохотав прямо в лицо альфереса, — что вы олухи и трусы!
— Милостивый государь! — вскричал офицер, подняв голову.
— Уж не думаете ли вы опять задирать нос? Предупреждаю вас, хвастливые выходки теперь неуместны. Вы сдались шести человекам, — прибавил он с невероятным нахальством. — Правда, — заключил он с гордостью, — эти шесть человек — Береговые братья и каждый из них стоит десяти испанцев.
— Проклятие! — с яростью вскричал офицер.
— Довольно жалоб и покоряйтесь добровольно, государи мои, — сухо сказал буканьер. — Сеньор альферес, велите вашим людям связать друг друга.
— Но какие же ваши условия?
— Никакие; вы сдались без всяких условий; я поступлю с вами как мне заблагорассудится.
Что оставалось делать несчастным солдатам, попавшим в эту западню? Одно средство только и представлялось: полной покорностью смягчить своих грозных победителей; так они и поступили.
Через пять минут весь отряд был крепко связан им же самим. Только офицер, из уважения к его чину, оставался на свободе.
Польтэ поднял шпагу и, подавая ее альфересу, сказал с убийственной иронией:
— Возьмите, сеньор кабальеро, я не позволю себе лишить вас оружия, которым вы так хорошо владеете.
При этой жестокой обиде молодой офицер сделался бледен как смерть; по его телу пробежала нервная дрожь. Он схватил шпагу дрожащей рукой, взмахнул ею так, что со свистом рассек воздух, и плашмя ударил буканьера по щеке.
Польтэ заревел как тигр, кинулся на молодого человека и уложил его на месте ударом топора.
— Благодарю, — прошептал офицер, — по крайней мере, я умру смертью солдата!
Его тело передернуло от последней предсмертной судороги, и глаза сомкнулись.
Молодого альфереса не стало.
Кровавый эпизод, который так трагически завершил комедию, навеял грусть на лица присутствующих.
— Ты погорячился, — сказал буканьеру Тихий Ветерок.
— Правда, — откровенно признался Польтэ.
— Это был храбрый молодой человек.
— Он это доказал; я не сержусь на него.
— Очень кстати, — ответил Тихий Ветерок, невольно улыбаясь странной логике Польтэ.
— Теперь поговорим о деле, — вмешался Медвежонок.
— О каком?
— О том, что привело нас сюда.
— Правда, я и забыл; о чем идет речь, брат?
— Прежде всего о завтраке, — сказал Тихий Ветерок, — мы умираем с голоду; где твой букан?
— В двух шагах. Следуйте за мной.
— С нами есть испанцы, — заметил Медвежонок.
— Пленники?
— Нет, мы им возвратили свободу.
— Где же они?
— Там в лесу, за деревьями.
— Как быть? — вскричал Польтэ. — Ах! Знаю теперь, — прибавил он спустя минуту, — ступай за освобожденными пленниками, Тихий Ветерок. Ты, Медвежонок, оставайся со слугами здесь и карауль этих негодяев, а я пойду и через четверть часа вернусь. Вместо того, чтобы нам идти к букану, он придет к нам.
— Славная мысль!
Польтэ взял ружье под мышку и удалился большими шагами, тогда как Тихий Ветерок направился обратно в лес.
Оставшись один, Медвежонок не терял времени; с помощью слуг он вырыл могилу, опустил в нее тело несчастного офицера, а его шпагу положил рядом. Потом могилу засыпали землей и навалили на нее большие камни, чтобы оградить от диких зверей.
Оторопев от страха, испанские солдаты, мрачные и печальные, молча присутствовали при этом погребении.
Трагическая смерть командира внушала им грустные опасения относительно участи, ожидавшей их самих.
Когда подошли освобожденные испанцы, которых привел Тихий Ветерок, могила уже была засыпана и все следы убийства стерты с такой тщательностью, что ускользнули бы даже от более опытных глаз. Медвежонок Железная Голова и Тихий Ветерок помогли дамам сойти с лошадей и вежливо проводили их до навеса, в несколько ударов топора устроенного слугами, под которым можно было укрыться от знойных лучей солнца.
Мужчинам была предоставлена свобода расположиться как они хотят, с одним условием: не подходить к солдатам и не говорить с ними.
В ту минуту, когда флибустьеры, раскланявшись, хотели отойти отдам, те быстро переглянулись и сделали движение, будто желают остановить их.
— Что вам угодно, сеньориты? — спросил Медвежонок, угадав, что дамы собираются заговорить с ними.
Еще с минуту испанки колебались.
— Сеньор кабальеро, — наконец решилась сказать донья Эльмина, — быть может, случая обменяться с вами перед расставанием, которому наверно суждено быть вечным, двумя словами больше не представится. Позвольте же выразить вам искреннюю благодарность, которую одна только смерть изгладит из нашего сердца. Вам мы обязаны жизнью и честью, самым драгоценным благом для женщины. Благодаря вашему великодушному заступничеству и вашему самоотвержению, капитан Железная Голова, нам возвратили свободу и через несколько часов мы опять будем среди наших соотечественников.
— Сеньорита, — перебил капитан с достоинством, которое чрезвычайно удивило его собеседниц, — я поступил так, как предписывала мне честь благородного рода.
— Положим, капитан, — продолжала донья Эльмина, — я не буду настаивать на этом. Теперь я знаю, что мне думать о флибустьерах и буканьерах, которые всегда представлялись мне людьми жестокими, без правил и чести. Я сохраню о них самое приятное воспоминание, и когда в моем присутствии будут нападать на них, я сумею теперь взять их сторону.
— Ваше снисхождение и доброта, сеньорита, являются для меня высочайшей наградой.
— Мы не можем открыть вам своих имен и звания, но мы погрешили бы против должного к вам уважения, если бы, перед тем как расстаться, не показали лиц, которых вы никогда более не увидите, но о которых, быть может, сохраните воспоминание. Итак, вот, взгляните.
Донья Эльмина быстро откинула с лица шарф, и ее спутница сделала то же.
Крик удивления вырвался у флибустьеров при внезапном виде двух пленительнейших лиц.
Донье Эльмине и донье Лилии едва минуло по семнадцать лет; в чертах их лиц мавританский тип слился с кастильским и явил самую ослепительную красоту, какую могло бы создать воображение поэта.
К несчастью, это обаятельное видение мелькнуло с быстротой молнии и почти мгновенно две девушки опять с улыбками надвинули складки своих шарфов на лицо.
— Уже! — пробормотал Медвежонок.
— Теперь прощайте, сеньоры! — сказала донья Эльмина.
— Еще одно слово! — с внезапной решимостью вскричал капитан, вынув кольцо, которое носил на шее на стальной цепочке, и разорвав эту цепочку. — Будущее никому неизвестно. Бог мне свидетель, что я от всего сердца желаю вам счастья, но если суждено бедствиям снова обрушиться на вас и если вам понадобится верный, преданный и храбрый друг, возьмите это кольцо с моей печатью. Когда, как и где бы вы ни доставили мне его, я немедленно явлюсь на зов. Если же вы сами пожелаете отыскать меня, только покажите мое кольцо, и, так как всем моим товарищам знаком его вид, оно будет вам охраной и послужит свободным пропуском ко мне.
— Принимаю, сеньор кабальеро, — ответила тронутая этим подарком донья Эльмина, — вы меня так приучили к рыцарским поступкам, что еще одно благодеяние уже не в силах увеличить моего неоплатного долга.
Несмотря на грубую и неотесанную натуру, Тихий Ветерок был растроган не меньше товарища, однако решительно положил конец сцене, которая становилась уже тягостной, тем, что увлек за собой капитана.
Погруженные в собственные мысли, испанцы не заметили или сделали вид, будто не замечают продолжительного разговора флибустьеров с двумя дамами.
Часом позже явился Польтэ в сопровождении трех своих слуг и штук двенадцати гончих, которые при виде испанцев чуть не вцепились им в горло; успокоить собак стоило величайшего труда.
Слуги несли на своих широких плечах все принадлежности обильной трапезы; в несколько минут были раскинуты палатки и устроен букан.
По приказанию Польтэ, который в общем-то был человек добрый, перед бывшими испанскими пленниками и солдатами поставили большое количество съестных припасов и последним развязали руки, чтоб дать им возможность есть.
Лучшие куски, разумеется, были отложены для дам, оставшихся под навесом. Затем и слуги, и Береговые братья уселись в кружок и в свою очередь храбро набросились на пищу.
Флибустьеры между тем в нескольких словах объяснили Польтэ, почему они очутились на равнине и какие имели намерения.
Буканьер не возражал, только покачал раза два головой; но он оставил за собой право поступить с солдатами, которые в сущности были его пленниками, по своему усмотрению. Товарищи признали это вполне справедливым.
После завтрака, который длился недолго — охотники и авантюристы не теряют времени на еду — Береговые братья закурили трубки, и по приказанию Медвежонка были приведены бывшие пленники.
— Сеньор кабальеро, — обратился капитан к тому из освобожденных испанцев, кого его собратья по плену, как бы по безмолвному соглашению, признавали за старшего, — теперь мы расстанемся. Вы свободны, как я уже говорил. Слуга Польтэ проводит вас до испанских аванпостов; они всего в нескольких лье отсюда, и вы будете там до заката. За свою услугу я прошу об одном: оказывать некоторое сострадание тем из Береговых братьев, которых судьба приведет в ваши руки.
— Я никогда не забуду, — с достоинством ответил испанец, — что вам мы обязаны свободой. Взамен обещаю вам щадить каждого французского пленного, который окажется в моей власти.
— Принимаю ваше обещание, сеньор, и считаю себя вполне вознагражденным.
— Не забывайте, кабальеро, — по своему обыкновению бесцеремонно вмешался в разговор Польтэ, — что если с проводником, которого я вам даю, что-нибудь случится, за это ответят жизнью десять солдат.
— Разве эти бедные солдаты останутся в плену? — с живостью спросил испанец.
— Если только вы не согласитесь заплатить выкуп.
— Без сомнения. Сколько вы требуете за них?
— Пятьдесят пиастров за каждого, — отчетливо проговорил Польтэ.
— Согласен, но вы же понимаете, что при мне этих денег нет. Клянусь честью и словом дворянина, завтра, через два часа после рассвета, мой гонец вручит вам оговоренную сумму, то есть две тысячи пятьсот пиастров.
— Как только деньги окажутся у меня в руках, солдатам будет возвращена свобода.
— Разве вы не верите моему слову? — надменно вскричал испанец.
— Напротив, но предпочитаю деньги; давайте пиастры — получите солдат.
— Не устроить ли нам этого дела между собой, брат? — в свою очередь вмешался Медвежонок.
— То есть как же это?
— Если ты будешь согласен, то я поручусь за этого господина.
— Ты с ума сходишь; тебя обманут.
— Ба! Велика важность.
— Как хочешь, если так, но я умываю руки.
— Позвольте, сеньор кабальеро, — перебил испанец, — благодарю вас за предлагаемое поручительство, но я не принимаю его. Я докажу вашему товарищу, что больше доверяю ему, чем он мне.
С этими словами он вынул из камзола футляр.
— Вот, — продолжал он, — несколько бриллиантов, которые мне удалось скрыть от флибустьеров. Оставьте их у себя, сеньор кабальеро, и отдайте тому, кто привезет условленную сумму.
Польтэ открыл футляр и рассмотрел бриллианты взглядом знатока.
— Тут больше чем на миллион, знаете вы ли это? — спросил он.
— Их стоимость — четыреста тысяч пиастров, — холодно ответил испанец.
— И вы доверяете их мне?
— Почему же нет? Я полагаюсь на вашу честь.
— Возьмите назад ваш футляр, — заявил, возвращая его, Польтэ, пристыженный уроком, — пленники свободны. Вы пришлете выкуп, когда вам угодно.
— Хорошо. Благодарю, — просто сказал испанец. Спустя минуты две дамы садились на лошадей и бывшие пленники, молча раскланявшись с Береговыми братьями, отправлялись в путь, предшествуемые слугой буканьера.
Проезжая мимо капитана, донья Эльмина слегка наклонилась в седле и прошептала одно слово:
— Recuerdo![28]
Капитан молча и почтительно поклонился, после чего следил глазами за небольшой вереницей удалявшихся путников, пока те не скрылись из виду. Когда же испанцы наконец исчезли за поворотом извилистой тропы, флибустьер подавил вздох и в глубокой задумчивости направился к своим товарищам.
В тот же вечер слуга Польтэ вернулся с пятью тысячами пиастров — сумма, ровно вдвое превышающая оговоренный выкуп.
На другое утро Тихий Ветерок и Железная Голова, дружелюбно простившись с буканьером, возвратились в Пор-Марго.
Недели, месяцы, год и наконец другой миновали, а капитану, несмотря на все поиски, не удалось добиться каких-либо известий о донье Эльмине; характер его, и без того мрачный по природе, стал еще более замкнутым. Исчезла надежда, хотя и слабая, которую он лелеял до той поры.
Донья Эльмина забыла его! Однако не она ли шепнула ему, при расставании нежное, исполненное таких пленительных обещаний слово:
— Recuerdo!
Однажды вечером он, по обыкновению грустный и задумчивый, бродил по берегу гавани Пор-Марго, когда человек, показавшийся ему знакомым, хотя он не мог припомнить, где видел его, остановился с поклоном перед ним.
— Кто вы и чего хотите? — спросил Медвежонок.
— Капитан, я слуга Польтэ. Хозяин приказал мне доставить вам эту бумагу, которую он получил вчера через час после заката.
Сердце капитана сжалось от тайного предчувствия. Он взял бумагу дрожащей рукой и развернул ее. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что предчувствие не обмануло его: на бумаге он увидел свою собственную печать на черном сургуче и три слова:
Картахена. Сейчас. Опасность
— Твой хозяин ничего не велел передать на словах? — спросил он слугу.
— Он приказал вам сказать: «Куда направится капитан, туда и я с ним; не позднее завтрашнего утра я буду у него».
— Благодари хозяина и скажи, что я буду ждать. Вот тебе за труды.
И, сунув руку в карман, флибустьер вынул несколько пиастров.
Слуга принял их, поклонился и ушел.
На другое утро согласно своему обещанию явился Польтэ. Это было в четверг.
Капитан немедленно приступил к вербовке людей; в пятницу утром все было кончено.
Флибустьер не знал, какою рода опасность грозила донье Эльмине, но полагал, что она была велика, если испанка решилась прибегнуть к его помощи.
Итак, не давая себе времени даже на размышления, он поспешно приготовился к экспедиции.
Прежде всего надо было поспеть в Картахену, а там уже и решать, что предпринять.
Вполне возможно, обстоятельства сложатся так, что он составит план действий сообразно с ними.
Медвежонок Железная Голова много выстрадал и потому веровал.
Он надеялся.
На что именно — он не смог бы сказать; он надеялся, пожалуй, на невозможное…
Впрочем, не так ли всегда бывает в любви?
Не признаваясь в том самому себе, капитан любил.
Он безумно любил девушку, виденную мельком, одно мгновение, но чей образ навеки запечатлелся в его сердце.
Вся его жизнь сосредоточилась в этой страсти, сила которой пугала его и очевидная недоступность которой — увы! — приводила в бешенство.
И тем не менее, повторяем, он надеялся!
Сообразно с этим и действовал.
Но так как таинственные приготовления в поход наделали шуму в Пор-Марго, то он решил прекратить все пересуды и заставить замолчать всех сеющих более или менее нелепые слухи по поводу экспедиции.
Существовало лишь одно действенное средство закрыть рот болтунам — это дать им пищу.
На том Медвежонок и остановился. Впоследствии он имел достаточно веский повод радоваться, что принял такую меру.
Была пятница.
Медвежонок пригласил вожаков флибустьеров на большой пир, имея в виду немедленно по его окончании сняться с якоря.
Вот почему, как мы говорили в начале этого правдивого рассказа, 13-го сентября 16… года в «Сорванном якоре» устраивался кутеж на флибустьерский лад, то есть до победного конца.
А теперь, когда мы изложили во всех подробностях более или менее значительные факты, которые предшествовали разгульному пиру, мы приступим к продолжению нашего повествования с того самого места, где прервали его.
Глава VI КАК «ЗАДОРНЫЙ» СНЯЛСЯ С ЯКОРЯ И КАКОЙ ДОГОВОР О РАЗДЕЛЕ ДОБЫЧИ КАПИТАН МЕДВЕЖОНОК ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА ЗАСТАВИЛ ЭКИПАЖ СКРЕПИТЬ ПРИСЯГОЙ
Гости отдавали должное яствам; стаканы то и дело звенели; веселые речи не умолкали с одного конца стола до другого; песни и смех покрывали отдельные разговоры, и порой блюдо или пустая бутылка, пущенные в окно, разбивались, падая посреди толпы, собравшейся вокруг дома и приветствовавшей это падение с неистовым хохотом.
Однако благодаря присутствию д'Ожерона пир не выходил за известные рамки приличия. Правда, некоторые флибустьеры уже скатились под стол и храпели там, словно трубы органа, но их падение осталось незамеченным; они тихо, без шума и скандала соскользнули со своих мест, а их соседи только воспользовались свободным местом, чтобы раздвинуть стулья и расположиться удобнее.
Лишь некоторые из виднейших флибустьеров сохранили полное хладнокровие; это были, не считая губернатора д'Ожерона, Монбар, Тихий Ветерок, Польтэ, Мигель Баск и Медвежонок Железная Голова, который, кроме воды, ничего в рот не брал. Но капитан давно слыл среди пиратской вольницы большим оригиналом, и это нарушение флибустьерских обычаев было терпимо тем охотнее, что хотя сам он не пил, но другим не мешал, а, напротив, усердно потчевал их напитками.
Как известно, сильнее всего возбуждают жажду разговоры, и одному Богу ведомо, вдоволь ли натолковались Береговые братья. Временами все вдруг принимались говорить разом, не обращая никакого внимания на ответы. К тому же в этот вечер собиралась гроза, воздух был тяжел и насыщен электричеством, жар томителен; сколько предлогов для того, чтобы осушить очередной бокал, если бы пьющие нуждались в оправдании!
— Слушай, пропасть вас возьми! — вдруг крикнул Прекрасный Лоран, поднимая стакан, полный до краев. — Да слушайте же, братья! Я пью за здоровье капитана Медвежонка Железная Голова и за успех его предприятия! Черт возьми того, кто не ответит на мой тост!
— За здоровье капитана Медвежонка Железная Голова! — вскричали в один голос все флибустьеры без исключения — разумеется, кроме тех, кто свалился под стол.
— И пусть он встретит на пути галионы вице-короля Новой Испании! — весело прибавил Монбар Губитель в виде заключения.
— За его скорое и благополучное возвращение к нам! — улыбаясь, сказал губернатор и поднес стакан к губам.
Капитан Медвежонок Железная Голова уже несколько минут казался погруженным в глубокие размышления. Однако, услышав добрые пожелания друзей, он поднял голову; его бледное лицо озарилось добродушной улыбкой и, схватив стакан, он вскричал:
— Французского вина! Не водой отвечу я на пожелания моих товарищей!
— Браво! Да здравствует Медвежонок! — воскликнули флибустьеры, радостно захлопав в ладоши при этом неожиданном заявлении, которое шло вразрез с привычками капитана.
Вино подали и разлили по стаканам. Капитан встал и поклонился вокруг.
— Братья! — сказал он громким голосом. — Ответьте на мой тост. За успехи флибустьерства!
— За успехи флибустьерства! — повторили гости.
— Постойте, — продолжал капитан, снова протягивая стакан, чтобы наполнить его, — за Францию, нашу общую родину, и за свободу на морях, когда нам отказывают в ней на земле!
Этот тост принят был с исступленными криками восторга.
— А теперь, — продолжал капитан, разбив стакан об стол, — пить я больше не стану. Братья, простимся: пробил час разлуки, я отправляюсь. Через месяц я вернусь назад. Если этого не произойдет — значит, я мертв.
— Зачем такие мысли в подобную минуту, любезный капитан? — остановил его д'Ожерон.
Медвежонок грустно покачал головой.
— Действительно, я не прав, выражая печальные мысли. Не так должен кончиться веселый пир. Простите, братья! Я ставлю жизнь на карту, все против меня, и в минуту разлуки, быть может вечной, мысль о нашей братской дружбе раздирает мое сердце, хотя решения моего не поколеблет.
— Зачем уезжать сегодня? — вскричал Монбар.
— Тринадцатого и в пятницу! — задумчиво прибавил Тихий Ветерок.
— Подожди до завтра. Медвежонок! — закричали флибустьеры. — Подожди, брат; стоит ли испытывать терпение Всевышнего!
— Вот-вот разразится гроза, — заметил Прекрасный Лоран.
— Все вы правы, друзья, — ответил капитан твердым голосом, — но, к несчастью, я на это могу сказать только одно: так надо!
— Если так, мы будем молчать, капитан, — сказал д'Ожерон, — вы из тех людей, которых ничто не заставит отступиться, когда речь идет о долге. Не без причины, — весело прибавил он, — вас прозвали Железной Головой. Но мы с вами не расстанемся вот так, а проводим до пристани.
— Да, да! — вскричали флибустьеры с рукоплесканиями. — На пристань!
— Благодарю, братья, и соглашаюсь, — просто ответил Медвежонок.
Он встал.
Все Береговые братья последовали его примеру.
Флибустьеры вышли из гостиницы «Сорванный якорь» и направились к пристани, медленно шествуя между двух рядов обывателей, увлеченных общим чувством воодушевления.
Достигли пристани.
Шлюпка с десятью гребцами качалась на волнах у пристани.
Начались прощания.
Капитан Железная Голова и Польтэ в последний раз пожали руку д'Ожерону и предводителям флибустьеров, между тем как Александр, слуга Медвежонка, сводил в шлюпку собак и кабанов, верных спутников капитана. Умные животные вмиг улеглись под скамьями.
Медвежонок и Польтэ сели в шлюпку и отчалили.
Ветер был свежий, море — неспокойно; несколько тучек быстро скользили по синему небу, испещренному яркими, как бриллиантовая пыль, звездами; от почти полной луны исходило бледное сияние.
Гребцы, нагнувшись над веслами, менее чем за четверть часа преодолели расстояние до корабля, стоявшего на большом рейде.
Со шканцев шлюпку окликнул и узнал вахтенный, и она пристала к кораблю со стороны штирборта.
Пьер Легран, лейтенант фрегата, почтительно ждал своего командира у самого трапа, а когда тот поднялся, немедленно скомандовал, чтобы ему отдали честь.
Едва Медвежонок ступил на палубу своего корабля, как осмотрелся вокруг пытливым взглядом, потом задумчиво поглядел на городские огни и спросил:
— Мы готовы?
— Все готово, — ответил Пьер Легран.
Капитан поднялся на шканцы, с минуту изучал небосклон и, приложив к губам рупор, скомандовал могучим голосом, слышным во всех уголках корабля:
— По местам!
Словно по волшебству появились из всех люков загорелые, выразительные лица матросов, которые мигом очутились на палубе и покрыли бегучие снасти.
По команде десятки людей налегли на рукоятки брашпиля и разом освободили якорь.
Команда за командой были исполнены с необычайным искусством и быстротой.
Судно величественно повернулось и заскользило по волнам.
Тогда капитан спустился вниз и передал рупор своему лейтенанту.
Спустя двадцать минут флибустьерское судно рассекало мрак, словно призрак.
Хотя в открытом море ветер был свеж, однако не настолько, чтоб нельзя было им воспользоваться. Судно легко шло под несколькими парусами.
Свисток созвал экипаж на молитву.
Флибустьеры отличались особой богомольностью. Общая молитва происходила на их судах утром и вечером; лейтенант читал ее, а матросы повторяли за ним. Нередко флибустьеры с пением псалмов, как тигры, схватывались с неприятельскими судами на абордаж.
Этот удивительный обычай стоит отметить, когда речь идет о подобных людях.
Через час наверху не было никого, кроме вахты, весь экипаж спал с той беспечностью, которая составляет отличительную черту моряков.
Судно Медвежонка Железная Голова представляло собой фрегат водоизмещением в тысячу восемьсот тонн, всего год назад спущенное с верфи Эль-Фьероля.
Испанцы, снабдив его тридцатью пушками и экипажем из пяти сотен человек, послали судно в Мексиканский залив для прикрытия проходящих галионов.
Называлось оно «Сан-Хосе», имело корпус с изящными обводами, сидело в воде не глубоко, легко управлялось и отличалось быстротой хода.
К несчастью для «Сан-Хосе», не успел он достичь Антильского моря, как в одну прекрасную ночь его захватили врасплох на абордаж, почти без сопротивления, пять флибустьерских плоскодонок под командой Медвежонка.
Испанский капитан и его штаб попытались было обороняться, хотя сопротивление представлялось немыслимым, и поплатились жизнью: их повесили на мачтах, корабль отвели в Пор-Марго, а матросов продали колонистам и буканьерам.
Разделив между товарищами причитавшуюся им долю взятого приза, Медвежонок купил для себя «Сан-Хосе», тотчас переименовал его в «Задорный» — название во всех отношениях подходящее судну, такому легкому на ходу, стройному, красивому и кокетливо выкрашенному.
С тех пор как «Задорный» сменил владельца, он в четвертый раз выходил в море.
Часам к двум капитан опять поднялся на шканцы.
Ветер немного стих.
Медвежонок шепнул несколько слов вахтенному.
Это был Польтэ, такой же добрый моряк, как и смелый буканьер.
Польтэ велел поднять по зажженному фонарю на верхушку каждой мачты, еще один — на гафель и убрать грот-марсель.
Фрегат замедлил ход.
Флибустьеры находились не более чем в пяти или шести кабельтовых[29] от берега, вдоль которого шли все время по выходе из Пор-Марго и который был ясно виден благодаря светлой ночи.
Прошло с полчаса.
Капитан расхаживал по юту, склонив голову на грудь, заложив руки за спину и погрузившись в глубокие размышления.
— Капитан, — почтительно сказал Польтэ, так как дисциплина строго соблюдалась на флибустьерских судах, — я вижу огни с левого борта.
— Сколько?
— Четыре.
— Все верно. Быть наготове, бросить швартовы, когда пирога подойдут и ответят на оклик.
Польтэ поднялся на шканцы, не потребовав объяснения.
Прошло еще минут двадцать; огни быстро приближались к «Задорному», и теперь уже легко было различить подходящие лодки.
— Эй! На корабле! — крикнул сильный голос.
— Кто вы? — крикнул в ответ Польтэ. — Что вам надо?
— Береговые братья! — окликнул прежний голос. — Мы идем к «Задорному».
— Кто вами командует?
— Олоне.
При этом знаменитом среди флибустьеров имени вахтенные встрепенулись.
— Причаливайте! — продолжал Польтэ.
Бросили швартов, который, так сказать, подхватили на лету, и двести пятьдесят с ног до головы вооруженных флибустьеров с проворством обезьян взобрались по бокам «Задорного», цепляясь за что попало, и мигом очутились на палубе, не заботясь о пирогах, которые унесло течение.
— Вот и я! — просто сказал Олоне Медвежонку.
— Благодарю, брат! — ответил тот, дружески пожимая ему руку. — Ты держишь слово; впрочем, как видишь, я ждал тебя. Там ничего не подозревают?
— Ничего.
— И д'Ожерон тоже?
— И тени сомнения не испытывает.
— Очень хорошо! Чем безумнее наше предприятие, тем строже следует хранить его в тайне. Уверен ли ты в своих людях?
— Как в себе самом; я выбирал их по одиночке; будь спокоен, самый тихий из нас — сущий дьявол во плоти.
— Славно! Ребята, — прибавил капитан, возвысив голос и обращаясь к вновь прибывшим, столпившимся на шкафуте бакборта, — располагайтесь между пушками и в шлюпках и выспитесь; часа через три рассветет. Тогда мы и потолкуем.
Флибустьеры молча отошли и как истые моряки в несколько минут расположились для ночлега, кто в шлюпках, кто на носу, но так, чтобы не мешать производить необходимые маневры.
«Задорный» уже снова шел.
— Пойдем, матрос! — сказал Медвежонок Олоне. — Мне надо поговорить с тобой.
Оба спустились в каюту, где заперлись и шепотом обсуждали что-то более часа.
Потом Медвежонок пожелал товарищу доброй ночи и бросился, не раздеваясь, на свою койку. Что же касается Олоне, то он просто растянулся на полу и закутался в свой плащ. Спустя короткое время оба приятеля спали мертвым сном.
В половине пятого взошло солнце. Ночью ветер все свежел; море было бурное, по нему ходили глубокие волны. Земля вдали казалась одним голубоватым облачком.
«Задорный» сильно раскачивало с боку на бок, хотя почти все паруса были убраны.
Тем не менее фрегат шел быстро.
Капитан поднялся на палубу в сопровождении некоторых самых близких приятелей, как например Олоне, Польтэ и своего любимого слуги Александра.
Пьер Легран в качестве лейтенанта нес вахту с четырех часов утра.
Внимательно поглядев на компас и осмотрев мачты, капитан подошел к своему лейтенанту и сказал что-то шепотом.
Лейтенант кивнул головой и, приставив свисток к губам, нагнулся над большим люком и крикнул громовым голосом:
— Все наверх!
Через пять минут экипаж, неподвижный и безмолвный, выстроился по шкафутам, приставив ружья к ноге и устремив взгляд на командира, который стоял, скрестив руки, немного позади большой мачты.
Эти люди с загорелыми и энергичными безмятежными лицами представляли странное зрелище на корабле, который сердитое море перебрасывало с боку на бок.
Наивная простота и скромные размеры их костюмов еще более способствовали поразительно живописному характеру этой необычайной сцены. Их одеяние состояло из рубашки и коротких штанов, доходящих до колен. Присмотревшись к этой одежде, можно было заметить, что она некогда была сшита из холста, теперь пропитанного кровью и жиром настолько, что сделалась непромокаемой.
У одних торчали взъерошенные волосы из-под тульи шляпы с обрезанными вокруг полями, кроме переда, где ими заменялся козырек; другие носили волосы перевязанными. Все были с бородами, и некоторые — даже с очень длинными.
Каждый авантюрист носил на поясе с одного боку топор и короткую прямую саблю с широким лезвием, называемую бычьим языком, мешочек с пулями и рог, набитый порохом; с другого же боку висели ножны из крокодиловой кожи с четырьмя ножами и штыком; сверх того у каждого было по ружью, как сказано выше, и через плечо надето по скатанному куску тонкого холста для палаток на случай, если придется располагаться лагерем.
Ружья этих людей заслуживают отдельного описания: они изготовлялись во Франции исключительно для авантюристов, у Бражи в Дьеппе и Желена в Нанте. Дуло их имело четыре с половиной фута длины; приклад почти прямой, массивный и весь в серебряных украшениях. Эти ружья били чрезвычайно метко, особенно в руках буканьеров, которые славились своим искусством в стрельбе.
Капитан стал на свое место на шканцах и движением руки подозвал флибустьеров подойти ближе.
Это приказание было исполнено в величайшем порядке.
Резким и продолжительным свистком дали знать, что требуется молчание.
Капитан Железная Голова снял шляпу, поклонился Береговым братьям и заговорил. Его голос, спокойный, отчетливый и звучный, раздался среди свиста ветра в снастях и глухого рева разъяренных волн, ударявшихся о бока корабля.
Собаки и кабаны, неразлучные спутники капитана, лежали у его ног, не обращая внимания на качку и глядя на авантюристов наивно грустным взглядом, который Господь вложил в глаза животных, созданных жить с человеком или для него, как безмолвный и невольный укор его жестокости по отношению к ним.
Медвежонок провел рукой по лбу и гордо вскинул голову.
— Береговые братья, — начал он, окинув присутствующих молниеносным взглядом, — мы старые знакомые, среди вас нет ни одного, кто не плавал бы со мной. Итак, вам известно, кто я, на что я способен. Едва ступив на эту палубу, вы уже, вероятно, знали, что я поведу вас на завоевание, которое умеют замышлять и приводить в исполнение одни только обитатели Черепашьего острова! Вы не ошиблись, братья, эта экспедиция, говоря откровенно, самая безумная, самая отчаянная из всех, когда-либо до сих пор предпринимаемых флибустьерами. Словом, мы идем к испанцам в их сильнейшее убежище, идем похитить у них галионы в порту, который они в своей надменности считают неприступным, потому что нам еще не приходила мысль завладеть им! Братья! Мы идем в Картахену!
— В Картахену! В Картахену! Да здравствуют Медвежонок Железная Голова! — вскричали флибустьеры, восторженно размахивая оружием.
— Я не стану говорить, — продолжал капитан, — о бесчисленных преградах, которые нам предстоит побороть; о тех опасностях, которые подстерегают нас на каждом шагу! Какое нам дело! Мы Береговые братья! Ястребы с Черепахи! Мы победим!
— Да, да, победим! — неистово закричали флибустьеры в порыве восторга от надменных слов, значение которых вес отлично понимали.
— Разумеется, — продолжал капитан с убийственной иронией, — я легко мог бы последовать примеру Моргана во время его экспедиции в Пуэрто-Бельо[30] и снарядить эскадру; но гуси летают стаями, орел же всегда один. И мы одни исполним нашу задачу! Неприятель ничего не подозревает и будет поражен как громовым ударом. Он падет, не успев даже подумать о защите!
— Да здравствует Медвежонок Железная Голова! — снова перебили флибустьеры с восторженностью, доходившей до исступления.
— Но вам известно, — продолжал капитан, — что чем экспедиция славнее, тем больше опасности и тем строже должна быть дисциплина. Я составил договор о разделе добычи, выслушайте его внимательно; я потребую вашей подписи.
— Договор! Скорее договор! — заволновался экипаж. Капитан вынул из кармана сложенную вчетверо бумагу, жестом потребовал тишины, развернул лист и стал читать:
Пункт первый. Все Береговые братья, находящиеся на фрегате «Задорный», клянутся капитану Медвежонку Железная Голова, возглавляющему экспедицию, и офицерам его штаба в безусловном повиновении под страхом смерти.
— Клянемся! — вскричал экипаж в один голос.
Пункт второй. Капитан оставляет за собой исключительное право назначать офицеров, которые будут находится под его командой, вплоть до боцмана и констапеля[31].
— Клянемся!
Пункт третий. Кто сорвет неприятельский флаг с крепости и заменит его трехцветным флагом флибустьеров, получит, помимо своей доли, пятьдесят пиастров.
— Клянемся!
Пункт четвертый. Кто захватит пленника, когда понадобятся известия о неприятеле, получит, помимо своей доли, сто пиастров; гренадеры за каждую брошенную в форт гранату получат по сто пиастров; тот, кто возьмет в плен неприятельского штаб-офицера, получит двести пиастров.
— Клянемся!
Пункт пятый. Капитан имеет право на одного пленника из ста, остальные командиры — по одному из двухсот. Королю поступит десятая часть всей добычи, другая десятая доля будет отложена для вдов и сирот Береговых братьев, убитых во время экспедиции.
— Клянемся!
— Теперь же, братья, о том, что касается изувеченных и раненых. Для них будет отделено вознаграждение до раздела добычи.
— Браво! Да здравствует капитан! Послушаем, послушаем! — вскричали флибустьеры, сильно заинтересованные этим последним пунктом.
Пункт шестой. Кто лишится обеих ног, получит тысячу пятьсот пиастров или пятнадцать невольников, по желанию; за потерю обеих рук — тысячу восемьсот пиастров или восемнадцать невольников; за потерю одной ноги, все равно какой, правой или левой, — пятьсот пиастров или пять невольников; за одну руку или кисть руки одинаковое вознаграждение — пятьсот пиастров или пять невольников;за глаз — сто пиастров или невольника; за оба глаза — две тысячи пиастров или двадцать невольников, за палец — сто пиастров или невольника. У кого будет изувечена рука или нога, тот получит такое же вознаграждение, как за потерю конечности, если бы ее оторвало или ампутировал хирург. Тому, кто получит опасную рану на теле, куда бы то ни было, причитается пятьсот пиастров или пять невольников.[32]
— Это хорошо! — одобрили флибустьеры. — Капитан подумал обо всем. Да здравствует Медвежонок Железная Голова.
— Итак, весь договор принят? — спросил капитан.
— Принят и скреплен присягой, — весело вскричали авантюристы.
— Так слушайте же теперь, братья, — продолжал капитан, — кого я назначил себе помощниками, уделив им часть своей власти; надеюсь, что мой выбор будет вам приятен.
Тишина водворилась мгновенно, как бы по волшебству.
— Старшим капитаном на «Задорном» — продолжал Медвежонок, — назначается Пьер Легран; младшим капитаном — Давид; старшим лейтенантом — Олоне; младшим лейтенантом — Польтэ; боцманом — Александр, а констапелем — Данник. Клянетесь ли вы повиноваться этим офицерам?
— Клянемся.
— Теперь же, братья, назначьте сами своих унтер-офицеров, шкиперов, подшкиперов и штурманов; сойдитесь по матросским правилам и разделитесь на две команды. С этой минуты я объявляю экспедицию начатой. Как только кончатся ваши выборы, корабельный писарь придет с договором за вашими подписями. Ступайте.
Экипаж немедленно перешел на бак и приступил к выборам со спокойствием и хладнокровием, которого никак нельзя было ожидать от подобных людей, но которые доказывали, насколько они сознавали важность того, что им поручили.
Один капитан с своим штабом оставался на юте. Было восемь часов утра, рулевой пробил восемь склянок; Давид стал на вахту.
— Братья, — обратился Медвежонок к своим помощникам, — сделайте мне честь позавтракать со мной. Мы поговорим, я сообщу вам свой план захвата Картахены, и мы обсудим его за стаканом вина.
Флибустьеры почтительно поклонились и спустились за ним в кают-компанию, где уже накрыли стол.
Ветер все свежел и превращался в настоящий ураган, но никто на «Задорном» не обращал на это внимания.
Медвежонок и его помощники были люди не того закала, чтобы тревожиться насчет большей или меньшей силы ветра.
«Задорный» был новым судном, построенным со всем тщанием, которое испанцы в те времена прилагали к постройке кораблей всех типов. В ту эпоху французский флот существовал как бы только по имени; Кольбер едва приступал к сооружению судов, которые впоследствии приобрели такую грозную славу. Английский флот, правда, уже существовал, но был далеко не так велик и хорошо оснащен, как испанский, который наравне с голландским флотом считался лучшим во всем свете, во-первых, по числу судов и, во-вторых, по их вооружению и несомненным мореходным качествам.
Фрегат «Задорный», прекрасно оснащенный, отличавшийся прочностью постройки, которым можно было управлять, как лошадью, разумеется, не боялся даже достаточно сильного шквала. Стало быть, не стоило обращать внимания на расходившийся свежий ветер.
Капитан сел на почетное место, и его штаб расположился вокруг стола, на котором стоял завтрак.
Храбрые флибустьеры буквально умирали с голоду; они не ели еще после достопамятного пира в «Сорванном якоре». Разнообразные хлопоты заняли все их время, и они не могли выкроить ни минуты, чтобы перекусить на скорую руку сухарем с рюмкой водки.
Ели и пили, весело толкуя обо всем, что так или иначе касалось общих интересов. Потом, когда голод наконец был утолен, на стол поставили бутылки с ромом, задымились трубки, и разговор незаметно принял более серьезный характер.
— Красива ли Картахена? — поинтересовался Олоне.
— Говорят, — ответил Медвежонок, — но сам я там не бывал и потому не могу сказать ничего определенного.
— Думаю, — засмеялся Олоне, — что мало кто из нас мог видеть его.
— Испанцы так ревниво оберегают свои колонии, — заметил Польтэ, — что попасть к ним можно только с оружием в руках.
— Что касается меня, — возразил с улыбкой Пьер Легран, — то подобный способ меня устраивает: это выгодно.
— У тебя губа не дура! — вскричал Олоне, захохотав во все горло. — Признаться, я все спрашиваю себя, зачем Медвежонок, затеяв экспедицию, среди всех испанских городов предпочел именно Картахену.
— Ты ничего в этом не смыслишь, — откликнулся Польтэ, украдкой значительно переглянувшись с Медвежонком, — а понять-то как легко!
— Ты находишь?
— Причина лежит на поверхности, ей-Богу!
— Так скажи, в чем дело.
— Охотно; впрочем, если я ошибаюсь, Медвежонок тут налицо и может исправить мою ошибку.
— Говори, брат, — сказал капитан.
— Да, мы слушаем.
— Да тут и слушать-то придется недолго, — засмеялся Польтэ.
— Да ну же, болтун.
— Вот, в двух словах, в чем дело: все города на материковом побережье нами более или менее исследованы, то есть они были взяты и преданы огню и мечу; уцелели лишь немногие.
— Мне очень нравится выражение «исследованы», — воскликнул со смехом Пьер Легран.
— Не правда ли, удачно? Ну так вот, эти города, а их не более десятка, до сих пор оставались в пренебрежении или потому что очень бедны и, как говорится у нас на родине, игра не стоит свеч, или потому, что слывут сильно укрепленными, а мы, следовательно, не посмели бы не то чтобы подойти к ним, — трудного тут ничего нет, — но положить на них лапу, что было бы небезопасно. Абсолютно неприступными из них слывут два-три. Монбар и Морган взяли Маракайбо, Пуэрто-Бельо, Панаму — да и кто перечтет все наши безумно отважные экспедиции! Медвежонок славный товарищ, это бесспорно. Тем не менее эти образцовые подвиги, задуманные и с искусством исполненные нашими братьями, в душе огорчают его; не то чтобы он завидовал им, но слава Монбара, Моргана, Прекрасного Лорана и многих других наших братьев ему покоя не дает, и он также задумал одну из тех экспедиций, которые приводят в ужас наших врагов и доставляют их богатства в наши руки. Город, слывущий самым грозным из всех, еще не тронутых нами, — это Картахена. Разумеется, Медвежонок выбрал ее. Четыре дня тому назад он явился на равнину, где я охотился.
— «Хочу затеять экспедицию», — заявил он мне.
— «Что ж, черт возьми! — ответил я, как поступил бы каждый из вас. — Куда мы отправимся?»
— «В Картахену».
— «В Картахену, так в Картахену».
И я без дальнейших рассуждений последовал за ним.
— Да и нужды в них не было, — заметил Олоне.
— Само собой, и так довольно сказано, — прибавил Пьер Легран.
— Вот таким-то образом, братья, мы теперь и оказались на пути к Картахене. Не прав ли я, Медвежонок?
— Это совершенно справедливо, — с улыбкой согласился капитан.
Объяснение показалось простым и ясным, в особенности же логичным людям, которые и без повода всегда готовы были напасть на испанцев.
— Братья, — сказал Медвежонок спустя минуту, — прежде чем разойтись, я бы хотел посовещаться с вами о важной мере, к которой следует прибегнуть незамедлительно.
Тотчас же воцарилось безмолвие.
— Мы слушаем вас, капитан, — сказал Польтэ.
— Вот в чем дело, господа, — продолжал капитан, — наши сборы были так поспешны, что на каждого участника экспедиции приходится всего по три фунта муки и пять фунтов вяленой говядины. Склады в Пор-Марго были снабжены так скудно и торговцы заламывали такие цены, что я был вынужден отказаться от всяких переговоров с ними. Итак, съестных припасов мы не имеем вовсе, ни мяса, ни сухарей, ни водки, ни вина. У нас есть только вода и громадный запас пороха, пуль и ядер. Прежде всего надо принять меры против подобного положения вещей, которое повлекло бы за собой большие затруднения. К тому же нам необходимо найти проводника, который знал бы Картахену и мог указать нам уязвимые места в обороне испанцев. Какое мнение у вас на сей счет?
— Что ж, — вскричал Олоне, — нам нужны съестные припасы, нужен и проводник, а для достижения этого я вижу одно только средство.
— Какое?
— Взять их там, где мы наверняка найдем и то и другое, черт побери! Нас ждет лишь одно затруднение: выбрать, куда отправится. Мне кажется, поскольку теперь мы идем близ испанских островов, которые все до единого богаты и в изобилии снабжены припасами, остается пойти прямо к ближайшему населенному пункту, захватить его и взять выкуп. По-моему, это нетрудно.
— Олоне прав, — подтвердил Польтэ, — мы можем высадиться на берег самого Санто-Доминго; там нет недостатка в деревушках и селениях, где мы легко получим все, в чем испытываем нужду.
— Нет, это задержит нас, — заметил Медвежонок, — нам следует терять как можно меньше времени. Соображения Олоне я разделяю. Я уже думал о высадке на остров, но не хотел принимать этого решения, не узнав предварительно, что вы на это скажете.
— Ваше мнение всегда будет и нашим, капитан, — ответили в один голос присутствующие.
— Ближайший остров по ходу судна — Куба, — напомнил Польтэ.
— Гм! — задумался Олоне. — Кусочек этот переварить не так-то легко.
— И думать нечего, — подтвердил Польтэ.
— Кто знает! — заметил Медвежонок.
— Что такое? — вскричали флибустьеры с изумлением.
— Дерзость нашего нападения упрочит его успех, — продолжал командир, — внезапность нашей высадки — верный залог победы. Когда испанцы опомнятся от изумления, мы будем уже далеко и ограждены от их мести. Выслушайте меня внимательно: на Кубе в сущности всего один значительный город, Гавана; в нем теперь от шести до восьми тысяч жителей; множество селений, разбросанных вдоль берега, скорее рыбацкие деревушки и не в состоянии устоять, если ловко захватить их врасплох. Часа через четыре мы переправим на лодках съестные припасы, в которых нуждаемся, и уйдем на всех парусах. Полагаетесь ли вы на меня?
— Еще бы! — вскричали в один голос флибустьеры.
— Так предоставьте мне действовать по собственному усмотрению, и мы добьемся успеха.
— Ты волен поступать как тебе заблагорассудится, мы полагаемся на тебя, как ты можешь рассчитывать на нас, — ответил Польтэ, — приказывай и не сомневайся: твои приказания будут исполнены.
— Хорошо, теперь разойдемся. Этот день мы посвятим отдыху, так как высадку я назначаю на три часа ночи. Завтра днем, ручаюсь вам, съестных припасов у нас будет в изобилие. Пьер Легран, ветер как будто стих; прикажи ставить все паруса, какие только можно поставить, не рискуя лишиться мачт.
Пьер Легран поднялся на палубу исполнить приказание, и вскоре по более резвому ходу корабля стало понятно, что оно исполнено.
Медвежонок Железная Голова встал.
— Прощайте, братья, — сказал он, — помните, что в три часа ночи все должны быть на ногах.
Спустя пять минут флибустьеры спали мертвым сном.
Ожидание предстоящей опасности нисколько не повлияло на их спокойствие и на сон.
Что значила опасность для этих морских львов!
Глава VII КАКИМ ОБРАЗОМ МЕДВЕЖОНОК ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА КУПИЛ У ИСПАНЦЕВ ПРИПАСЫ, В КОТОРЫХ НУЖДАЛСЯ, И КАК ДОСТАЛ СЕБЕ ПРОВОДНИКА
Правила вербовки, организации службы и дисциплины для экипажей на флибустьерских судах настолько замечательны, что нельзя обойти молчанием некоторые их подробности. Каждый Береговой брат имел право снарядить экспедицию, если располагал собственным судном какого бы то ни было рода.
Суда эти преимущественно представляли собой большие пироги, иногда — небольшие баркасы; на таких-то утлых челнах эти смельчаки отваживались сцепиться на абордаж с грозными испанскими судами.
Когда задуманная экспедиция была решена, командир барабанным боем и сигналами рожка созывал флибустьеров в какое-нибудь питейное заведение.
Он излагал перед теми, кого хотел завербовать, выгоды предприятия, оговаривал с ними сроки проведения кампании и затем приступал к вербовке.
Каждый матрос должен был подписаться или, если не умел писать — что, однако, случалось редко, — по крайней мере поставить крест под договором, составленным одним из писарей Берегового братства; акт этот вступал в законную силу после того, как его скрепляли своими подписями командир экспедиции и губернатор.
Каждый из вербовавшихся обязывался иметь при себе ружье, топор, прямую саблю, кинжал, пятнадцать зарядов пороха и пуль и палатку для привалов, то есть кусок тонкого полотна, который Береговые братья скатывали и носили, перекинув через плечо на манер перевязи; сверх того они должны были запастись флягой водки, вяленым мясом и мукой на три дня.
Эти условия были строго обязательны.
Едва поступив в число членов экипажа, Береговые братья должны были слепо повиноваться своим командирам и оказывать им величайшее уважение.
Это требовалось даже в том случае, если командиры были их подчиненными в предыдущей экспедиции.
Нередко случалось, что тот, кто был вчера капитаном, назавтра становился простым матросом; это зависело от того, как он распоряжался своей долей добычи и, следовательно, от его средств к существованию.
Дисциплина на кораблях поддерживалась с неумолимой строгостью.
Только два наказания и существовало:
Опускание с реи до поверхности воды
Смерть.
Эти два наказания в сущности составляли одно и то же, только под разными названиями.
Были случаи, что опускание с реи не приводило к смерти, но оканчивалось серьезным увечьем.
Попав на корабль, завербованные обязывались немедленно выбрать себе товарища и вступить с ним в матросский союз. Состоял он в следующем.
Когда матрос стоял на вахте, его товарищ отдыхал или был занят общим хозяйством, то есть стряпал или чистил оружие. В случае болезни своего брата-матроса он ухаживал за ним и даже, если нужно, заменял его на службе.
На суше братья-матросы шли рядом, помогали друг другу во время пути и охотились поочередно для добывания пищи. Если одного ранили, другой не только не мог бросить товарища, но должен был оказывать ему всякую помощь, нести на себе к перевязочному пункту и заботиться о нем во всех отношениях, а также не бросать его оружие и боевые припасы, пока он не возвратится в строй, и сверх того в сражении защищать его, даже с риском для собственной жизни.
Эти братские союзы, скрепленные опасностями и лишениями, имели ту выгоду, что утраивали силу войска и делали его непобедимым. Они почти всегда становились нерасторжимыми. Даже по смерти одного из товарищей оставшийся в живых продолжал заботиться о детях умершего и нередко доводил самоотвержение до того, что вступал в брак с вдовой, которой никогда не видывал и вовсе не любил, только для того, чтобы сироты имели отца.
Вот в чем состояли братские союзы матросов у буканьеров; обычай этот почти без изменений сохранился до нашего времени на французском флоте. Сознавая всю пользу этих союзов и понимая, насколько дисциплина выигрывает от них, офицеры тщательно поддерживают и всячески поощряют на казенных кораблях подобные союзы.
Но вообще это явление гораздо более распространено и пустило глубокие корни на кораблях купеческих, потому что там матросы знают друг друга с детства, почти всегда будучи родом из одного края и, так сказать, всю жизнь прожив вместе.
Предводители экспедиции обязаны были иметь на корабле хирурга, если численность экипажа превышала тридцать пять человек.
Этим хирургом почти всегда был несчастный ученик фельдшера или бывший помощник провизора в аптеке, который ровно ничего не смыслил в медицине и все познания которого заключались в медицинской книге, куда он изредка заглядывал, прописывал лекарства и вкривь и вкось, нисколько не заботясь, что из этого выйдет, со всей уверенностью опытного хирурга кромсал и отнимал конечности у несчастных людей, которых роковая судьба приводила в его руки и которые одним чудом спасались от такого оригинального и немилосердного лечения.
Флибустьеры страшно боялись этих хирургов и предпочитали скорее дать убить себя, чем подвергаться их лечению с далеко не надежной перспективой сохранить жизнь.
Раздел добычи обычно происходил по возвращении судна или на Тортугу, или в Леоган, или в Пор-де-Пе, или в Пор-Марго, в присутствии губернатора и агента Вест-Индской компании.
Приступали к нему следующим образом. Сперва отделяли от общей суммы добычи часть короля, что составляло десятую долю, потом — долю убитых, которую губернатор был обязан раздать кому следовало. И уже затем происходил дележ согласно условиям договора, подписанного перед отплытием, копия которого хранилась у губернатора.
Добыча состояла из драгоценных камней, золотых и серебряных изделий, более или менее дорогих тканей и товаров, например пряностей, и, наконец, невольников, мужчин и женщин, захваченных во время экспедиции. Даже испанские священники и монахи не были ограждены от общего удела, несмотря на свое звание.
Обычно этим несчастным давали определенный срок, чтобы выкупиться.
Выкуп назначался втрое против суммы, за которую пленники уходили к своим хозяевам, всегда либо местным колонистам, либо буканьерам, то есть охотникам.
По окончании раздела флибустьеры часто не знали, как превратить в деньги драгоценности, выпавшие на их долю; тут они попадали в руки низких спекулянтов, которыми кишмя кишело в тех краях и которые скупали все их имущество за треть, а нередко и за четверть настоящей цены.
Тогда начинались оргии, не прекращавшиеся, пока флибустьеры не истратят или, вернее, не прокутят всё до последнего реала.
Когда у них ничего больше не оставалось, они весело отправлялись в новую экспедицию, результат которой был всегда одним и тем же.
Что им было до того, когда для них существовало одно только настоящее! Они чувствовали себя счастливыми.
Разве не были они правы?
Весьма может быть.
Вот каким простым и в то же время могучим устройством отличался союз Береговых братьев, когда, по их выражению, они ходили добывать испанца.
Этому-то устройству они были обязаны своими успехами и необычайными подвигами.
В три часа ночи, когда рулевой бил шесть склянок, Медвежонок вышел на палубу.
Все назначенные им офицеры уже ждали его.
Командир осмотрелся вокруг. Ночь была светлая; довольно крупная зыбь ходила по морю, ветер еще не стих. Впереди справа возвышалась темная масса, к которой фрегат быстро приближался. Это был остров Куба, берег которого находился не более чем в двух лье.
— Свистать всех наверх! — скомандовал капитан.
Раздался пронзительный свисток боцмана.
Через пять минут все матросы были на палубе около грот-мачты.
Им понадобилось совсем немного времени, чтобы встрепенуться от глубокого сна. Они лежали как попало на средней палубе или около пушек; койка считалась роскошью, непозволительной для флибустьеров.
Командир подозвал к себе шканцы своих помощников.
— Господа, — обратился он к ним, — помните, что не сражаться надо, но захватить врасплох; постараемся обойтись без единого выстрела. Наша главная цель теперь — добыть припасы. Поняли вы?
— Вполне, командир, — последовал ответ.
— Мы идем прямо к гавани Гуантанамо. Там лет двадцать как поселилась колония рыбаков; эти люди богаты и ведут с соседним городом Сантьяго торговлю зерновым хлебом, свининой и вяленым мясом, доставляемым из внутренних земель острова. Итак, там мы найдем все, что нам нужно. Вот каким образом следует приступить к делу: Польтэ и Олоне возьмут каждый по сто пятьдесят человек и опередят фрегат на пирогах с обернутыми ветошью веслами, чтобы подплыть неслышно. Польтэ обойдет деревню справа, а Олоне — слева. Потом вы оба останетесь на своих местах, зорко наблюдая, чтобы ни один беглец не смог ускользнуть и поднять тревогу в окрестностях. Я войду прямо в гавань. Мы сделаем дело даже прежде, чем испанцы заподозрят наше присутствие. Рассветет только через час; этого времени хватит с избытком, чтобы захватить этих соней в постели. Ступайте, господа.
Раздались слова команды, убрали часть парусов, и фрегат лег в дрейф.
Спустили шесть пирог. В них уселись Олоне и Польтэ со своими людьми, и вскоре лодки скрылись в тени, отбрасываемой высокими прибрежными утесами.
Медвежонок расхаживал большими шагами по юту, то всматриваясь в компас, то оглядывая берег, то окидывая внимательным взглядом снасти.
Протекло около получаса, когда старший капитан Пьер Легран подошел к командиру.
— Что случилось? — спросил тот.
— Часовой на мачте заметил лодочку, которая скользит вдоль берега; я сам в этом удостоверился, командир, и видел ее.
— Возьмите гичку[33] с десятью матросами, любезный Пьер Легран, и посмотрите, что бы это было такое; мы сейчас пойдем.
Пьер Легран опять поклонился и ушел. Спустя минуту он уже отчаливал от судна и, так как дул попутный ветер, поднял парус и погнался за примеченной часовым небольшой лодочкой.
Но тут произошло нечто странное: подозрительная лодочка не юркнула наутек, как можно было ожидать, а напротив, повернула назад и пошла прямо на гичку флибустьеров.
Или то была безумная смелость, или крайняя глупость со стороны людей, находившихся в лодочке.
Пьер Легран велел приготовить оружие и все летел вперед под парусом.
Вскоре расстояние между лодками составляло уже не более половины пистолетного выстрела.
Флибустьеры уже изготовились броситься на абордаж, когда увидели, что перед ними всего два противника: белый человек и негр.
Борт лодки зацепили абордажной кошкой.
— Кто вы и куда направляетесь? — спросил Пьер Легран на самом чистом кастильском наречии.
— Я лоцман, ваша милость, — смиренно ответил белый, тогда как негр дрожал всем телом, — увидев вдали большой корабль, я подумал, что к нам идет судно из Сантьяго. Я и вышел тотчас в море, но если ошибся, немедленно вернусь в гавань.
— О нет, черт возьми! — воскликнул молодой человек со смехом, — Напротив, вы не могли явиться более кстати; мы нуждаемся в ваших услугах.
— Но мне кажется, досточтимый господин капитан, что вы не…
— Испанец, — перебил Пьер Легран, — еще бы, черт возьми! Мы флибустьеры, к вашим услугам.
— Господи Иисусе Христе и Пресвятая Дева! — воскликнул лоцман, оторопев и с отчаянием всплеснув руками.
— Успокойтесь, любезнейший, — дружески сказал ему флибустьер, — зла мы вам не причиним, кто знает даже, не счастье ли ваше, что вы нам попались! Эй вы! Четверо в лодку и ждать на веслах приближения «Задорного».
Ожидание продлилось недолго; почти мгновенно их взяли на фрегат. Пьер Легран поднялся на трап вслед за своими пленниками.
Негр был ни жив ни мертв от страха; ничто не могло успокоить его.
Когда молодой человек отдал командиру отчет в том, что произошло, тот подозвал испанца.
— Ты лоцман? — спросил он, глядя ему прямо в глаза.
— Лоцман, ваше превосходительство, — смиренно сказал пленник, — не только на море, но и на суше, когда понадобится.
— Ага! — с улыбкой отозвался Медвежонок и прибавил: — Можешь ты быть верен?
— Как не мочь, ваша милость!
— Вход в гавань Гуантанамо затруднителен?
— Нисколько, ваша милость, стоит лишь держаться самой середины похода в гавань.
— Город велик?
— Это деревня, ваша милость.
— Очень хорошо. Есть там военные силы?
— Отряд в пятьдесят человек при земляном редуте.
— Черт возьми!
— Но, — поспешил договорить лоцман, — сооружение редута еще не докончено и пушки не прибыли из Сантьяго, хотя их ждут с часа на час!
— Тем лучше! Это во многом упрощает дело; как ты полагаешь, заметили наше приближение?
— Наверняка нет, ваша милость; я заметил вас около часу назад, когда все жители спали непробудным сном.
— Так слушай же меня: ты знаешь, кто мы, не правда ли? Берегись, если ты меня обманешь, я вздерну тебя на верхушке мачты, которая над твоей головой. Если же ты окажешь мне хорошую услугу, то получишь за это десять унций золота. Я никогда не изменяю своему слову. Что же ты выбираешь?
— Десять унций, ваше превосходительство, — с живостью вскричал лоцман, глаза которого заблестели от жадности.
— Хорошо, договорились; теперь принимай управление судном и веди нас в гавань.
Лоцман поклонился и приступил к исполнению того, что ему приказали.
Испанец примирился со своей невольной ошибкой, когда обещанная щедрая награда в десять унций золота превратила его, по крайней мере на время, в приверженца Береговых братьев.
Он с необычайным искусством провел судно по узкому проходу в гавань, и вскоре фрегат был на расстоянии половины пушечного выстрела от деревни, все еще погруженной в глубочайшее безмолвие.
Страшное пробуждение предстояло ей.
Командир фрегата велел бросить якорь и убрать паруса, потом передал командование Пьеру Леграну и съехал на берег, захватив с собой лоцмана.
Три лодки с сотней флибустьеров следовали за командиром.
Пристани достигли в несколько ударов весел.
Из опасения быть захваченными врасплох Медвежонок приказал лодкам, когда все высадились, отплыть и держаться поодаль от берега.
— Какие власти в деревне? — спросил он лоцмана.
— Всего одна, ваша милость: алькальд[34].
— Где он живет?
— В большом доме перед вами.
Большой дом на самом деле был хижиной, немного менее жалкой, чем остальные.
— Вот и прекрасно, — продолжал Медвежонок, — алькальд этот храбр?
— Не могу сказать вашей милости; знаю только, что это злой скряга, которого все ненавидят; но он племянник губернатора в Сантьяго и потому делает что вздумает.
— Вот тебе на! — вскричал Медвежонок, смеясь. — Уж не призван ли я здесь разыграть роль Провидения? Смешно было бы!
— О! Ваша милость, — вскричал лоцман умоляющим тоном, — весь наш край был бы очень счастлив избавиться от такого изверга; нет ни одного ужасного деяния, которого он не совершал бы ежедневно!
— Неужели? Ну, так я пойду поздороваться с этим достойным алькальдом; что же касается тебя, то ступай за мной и ничего не бойся.
Дом алькальда стоял в нескольких шагах от берега.
Медвежонок велел окружить его, потом выхватил пистолет из-за пояса и выстрелил в дверной замок, разлетевшийся вдребезги.
Но дверь не отворилась: она была крепко заложена изнутри.
— По-видимому, мы имеем дело с человеком осторожным, — сказал командир экспедиции, вновь заряжая пистолет, — Хватите-ка тут раза два топором!
В то же мгновение настежь распахнули окно, и в нем показалось бледное от испуга лицо человека в ночном одеянии, вооруженного длинным мушкетом.
— А! Мерзавцы! — пронзительно крикнул он. — Убить меня хотите! Постойте, я вас!
— Заткнуть рот этому крикуну, — холодно сказал Медвежонок.
Выстрелом из ружья мушкет разбило и вышибло из рук алькальда; осколки попадали наземь.
Алькальд буквально нырнул в глубь комнаты.
Выстрелы и удары топором в дверь разбудили жителей, повсюду в домиках робко приотворились двери, и показались бледные, с заспанными глазами лица; однако выйти не осмеливался никто.
Дверь дома алькальда наконец подалась под учащенными ударами сильного матроса.
— Приведите-ка сюда этого негодяя, — приказал Медвежонок двум флибустьерам, — а вы, — обратился он к остальным, — постройтесь и смотрите в оба.
Алькальд появился полунагой, в рубашке и подштанниках; он дрожал всем телом, скорее от страха, чем от холода, хотя ветер был довольно чувствителен — ночи очень холодны в тех местах. Два матроса, которые вели алькальда, не скупились на удары прикладами, чтобы подгонять его.
— Вы алькальд? — резко спросил Медвежонок.
— Алькальд, — последовал едва слышный ответ хриплым голосом.
— Связать ему руки, а пальцы перевить серными фитилями. При первом моем знаке зажечь фитили.
Приказание было исполнено с быстротой и ловкостью, свидетельствовавшими о долголетнем опыте.
Алькальд понял, в чем дело, и ужас его не знал меры.
— Теперь отвечайте и смотрите, не вздумайте обманывать, а то поплатитесь, — с двусмысленной улыбкой произнес Медвежонок, указывая на его пальцы.
— Спрашивайте, — тотчас отозвался алькальд.
— Ваша деревня в моей власти, вы и все жители — мои пленники. Но у вас есть возможность откупиться.
— Увы! Мы так бедны!
— Быть может, но у вас есть склады съестных припасов. Где они?
— Клянусь спасением души, все склады пусты.
— Где они?
— Там, — указал алькальд на два больших сарая из досок.
— Осмотреть, — коротко приказал Медвежонок. Человек двадцать флибустьеров бросились туда и через четверть часа вернулись с отчетом, что сараи пусты.
— Других нет? — спросил Медвежонок у алькальда.
— Нет, — пробормотал пленник.
— Точно нет?
— Клянусь спасением души…
— Хорошо, хорошо, — перебил капитан, — это мы знаем. Берегись.
— Но клянусь же вам, что нет, — осмелился повторить алькальд, начиная успокаиваться.
Однако вдруг отступил на шаг.
— Это что за дьявол! — вскричал он, увидав лоцмана, который до сих пор скрывался в толпе Береговых братьев.
— Этот человек обманывает вас, ваша милость, — с живостью вскричал лоцман, — и обманывает заведомо.
— То есть?
— Склады пусты, это правда, но это потому, что он захватил, несмотря на протесты законных владельцев, все товары, сложенные в магазинах, и велел перенести их на свой собственный склад, чтобы продать в свою пользу.
— Правда это? — спросил Медвежонок, обращаясь к толпе, стоявшей поодаль.
Когда жители удостоверились, что флибустьеры не имеют злого умысла собственно против них, они понемногу осмелились выйти из своих домов. Скопление народа увеличивалось с каждой минутой.
— Правда, ваша милость, — ответили они в один голос.
— Так этот человек, который должен бы по своему положению служить вам покровителем и защитником, напротив, грабит и притесняет вас?
— По миру пускает, берет все, что мы накопим; если же кто посмеет жаловаться, он тотчас подвергает строптивца пытке.
— Где склады этого человека? Алькальд издал горестный стон.
— Молчать, презренная тварь! — грозно вскричал Медвежонок.
— За его домом, — сказал лоцман, — они набиты битком, ваша милость, не только вяленым мясом, соленой свининой и зерновым хлебом, но и вином и водкой.
— Хорошо, он будет наказан по заслугам. Слушайте все: я мог бы взять с вас выкуп, но не хочу. Мне требуется только ваша помощь, чтобы переправить на мое судно припасы, в которых я нуждаюсь. Но так как люди вы бедные, я не хочу обижать вас, отнимая то, что вам принадлежит. Итак, во-первых, я предоставляю вам ограбить этот дом; во-вторых, вы получите от меня пять тысяч пиастров, которые поделите между собой.
Оглушительные клики радости служили ответом на эту речь. И чуть ли не громче всех кричали солдаты, которые с грозным видом подошли было под командой альфереса, однако, услыхав в чем дело, немедленно побросали оружие и разбежались, оставив офицера одного иметь дело с неприятелем.
Альферес был храбрый офицер, трусость солдат возмутила его и вызвала прилив краски к лицу.
С минуту он оставался неподвижен, нахмурив брови и с презрением глядя на своих подчиненных, которые так и рассыпались при слове «грабеж», но его колебания длились всего один миг.
Он гордо поднял голову и подошел твердыми шагами к Медвежонку.
Тот глядел на него с улыбкой на губах.
— Сеньор капитан, или какое бы там ни было у вас звание, кабальеро, — обратился к нему офицер с надменной вежливостью, — я пришел не сдаваться вам.
— Зачем же вы пришли, если так? — спросил Медвежонок, и взгляд его сверкнул.
— Один я не могу оказывать сопротивления, — холодно продолжал альферес, — я пришел заявить от имени Испании решительный протест против невиданного нападения, жертвой которого мы сделались; а шпагу мою… — заключил он, выхватив из ножен и взмахнув ею над головой.
— Постойте, альферес, — сказал флибустьер, спокойно взяв у него шпагу и вложив опять в ножны, пока офицер стоял неподвижно в сильнейшем изумлении, — вы храбрый воин. Если бы правительство, которому вы служите, имело побольше таких, как вы, быть может, мы не были бы так могущественны. Оставьте себе шпагу; если бы вы сломали ее, мне пришлось бы ее заменить, а признаться вам, я очень дорожу своей.
Слова эти были произнесены тоном такого сердечного добродушия, что тронули офицера.
— Что же вы за люди? — пробормотал он.
— Мы люди, — ответил Медвежонок с особенным ударением, — но уйдите, альферес; здесь произойдет то, что вам не подобает видеть.
— Капитан, неужели этот бедняга?.. — начал было офицер умоляющим голосом, указывая на алькальда.
— Не занимайтесь им, не просите за него, — поспешно перебил Медвежонок, — это подлец; он осужден.
При этих словах у алькальда кровь прихлынула к сердцу.
Альферес понял, что всякое заступничество будет напрасно; он медленно удалился в задумчивости и вскоре скрылся за поворотом улицы.
Между тем все население деревни принялось за дело с усердием, которое свидетельствовало о желании заслужить обещанную награду и как можно скорее избавиться от дерзких победителей, которые держали их под прицелом своих пушек и ружей.
При виде отрядов Олоне и Польтэ, которым Медвежонок приказал стянуться, когда убедился, что сопротивления опасаться нечего, усердие жителей Гуантанамо удвоилось: они убедились, что только полная покорность может спасти их.
Все они были рыбаками, каждый имел по лодке; пока одни подтаскивали припасы к берегу, другие складывали их в лодки, и, наконец, третьи перевозили на фрегат.
Пьер Легран был просто поражен множеством разнообразных припасов, которые складывались на палубу; это было настоящее наводнение, он едва успевал убирать с палубы добычу.
Менее чем за три часа все было доставлено на фрегат и убрано в трюм; судно оказывалось снабжено съестными припасами на целых шесть месяцев. Это казалось просто сказкой!
Командир, как всегда спокойный, холодный и невозмутимый, молча присутствовал при погрузке.
Когда наконец был отвезен последний тюк и полностью опустошили склады несчастного алькальда, который присутствовал при своем окончательном разорении с растерянным видом, Медвежонок сигналом трубы созвал обитателей деревни.
Народ шумно затолпился вокруг флибустьеров.
— До сих пор вы работали на меня, — обратился к жителям командующий экспедицией, — благодарю за это. Теперь работайте на себя: разграбьте этот дом, я отдаю вам его.
Испанцы не заставили повторить себе это. Они ринулись в дом, и он мигом наполнился ожесточенными грабителями, которые не оставили целым ни одного предмета мебели — ломали даже стены и перегородки.
Когда же наконец от дома остались только четыре стены, его подожгли по приказанию Медвежонка, и так как он был построен из кедрового дерева, то вскоре запылал веселым огнем.
Между тем Железная Голова принял из рук флибустьера тяжелый кошель, за которым посылал на фрегат, и, вручая этот мешок с золотом одному из именитых граждан, сказал, обращаясь к окружившей его толпе:
— Вот вам плата; я ведь исполнил все, что обещал?
— Не все, капитан, — ответил тот, кому он отдал мешок с деньгами, — вы не сдержали одного обещания.
— Какого?
— Вы не свершили правосудия.
— Правосудия?
— Да, капитан, ведь вы дали слово.
— Я не понимаю вас.
— Неужели этот человек, так долго бывший самым страшным нашим притеснителем, — продолжал испанец, указывая на алькальда, — этот презренный негодяй, который истерзал нас своим лихоимством, который бесстыдно обирал нас и мучил по своей прихоти, неужели вернете вы ему свободу, чтобы после вашего ухода он опять поднял голову и заставил нас искупить жестокими притеснениями те действия, которые совершались здесь сегодня под нажимом вашей военной силы? Разве может это называться справедливостью? Скажите сами, капитан. Мы верим вашему слову, как вы положились на наше. Мы честно исполнили свой долг, теперь ваша очередь исполнить свой.
— Хорошо, — ответил Медвежонок, и в голосе его звучало глубокое чувство, — но он не может умереть таким образом: его надо судить. Вы сами будете судьями.
— Пусть кровь его падет на наши головы.
— Вы твердо решились?
— Твердо, — крикнула толпа.
— Так отвечайте же мне теперь, какие преступления приписываете вы этому человеку?
— Жадность, доведенную до жестокости, продажность и обман.
— Считаете вы его виновным?
— Утверждаем это.
— Какого наказания заслуживает он?
— Смерти! — заревела в один голос распаленная ненавистью и гневом толпа.
— Да будет по-вашему! Этот человек умрет. Молитесь за его душу, чтобы Господь сжалился над нею.
Но взрыв криков, ругательств и проклятий был ответом на эти слова.
Медвежонок сделал знак.
В несколько минут на берегу напротив еще дымящихся развалин сгоревшего дома была воздвигнута виселица.
Несчастный алькальд был схвачен и связан, ему на шею накинули петлю. Но он уже не сознавал, что с ним происходит; полумертвая масса была вздернута на виселицу под восторженные крики всего населения.
По приказанию Медвежонка Железная Голова на груди казненного красовалась табличка с надписью по-испански и по-французски для объяснения грозного смысла смертного приговора:
Повешен не как испанец, но как вор.
Медвежонок Железная Голова
Когда тело после предсмертных судорог замерло в неподвижности, из которой ему уже не суждено было выйти никогда, предводитель флибустьеров поклонился жителям Гуантанамо и направился к берегу.
Спустя немного времени флибустьеры уже были на фрегате.
Когда судно вышло из гавани, Медвежонок позвал к себе лоцмана.
— Этот край для вас уже небезопасен, — сказал он ему, — следуйте за мной. По окончании нашей экспедиции я высажу вас, где вы пожелаете, и вы будете богаты до скончания своего земного срока. Согласны ли вы на это предложение?
— С одним условием.
— С каким?
— Что вы поможете мне переехать во Францию; в Америке и в Испании моя жизнь в опасности.
— Хорошо, даю вам слово. Служите мне честно и вы не раскаетесь в договоренности, заключенной между нами.
— Я буду предан вам, командир.
Фрегат покрылся парусами, при попутном ветре скоро оставил далеко позади высокие берега острова Куба и направился к Картахене, к которой капитан судна стремился с таким нетерпением.
Глава VIII КАК БЕСЕДА ДВУХ ДЕВУШЕК ОКОНЧИЛАСЬ РЫДАНИЯМИ
Из всех городов Нового Света Картахена — один из удачнейших по своему положению. Вообще говоря, испанцы были наделены редкой сметливостью и верным глазом при выборе местности для закладки городов, основанных ими в своих колониях на берегах Америки. За исключением нескольких незначительных ошибок, почти всегда совершаемых мимоходом, в поисках золота — единственной цели их смелых экспедиций, некогда жалкие селения ныне выросли в цветущие и могущественные города, расположенные на том же самом месте, несмотря на перемены всякого рода, которым они подвергались.
Картахену основал в 1533 году дон Педро Эредья на песчаном островке в проливе, образованном в своем устье рекой Магдаленой. Город имеет одну из прекраснейших и самых безопасных гаваней во всей Америке, и она долгое время служила убежищем галионам, нагруженным богатствами Тихого океана, которые перевозились на мулах через Панамский перешеек, но не были в безопасности в Пуэрто-Бельо, особенно после того как первая Панама была разорена и разграблена Береговыми братьями и вновь отстроена неподалеку, у впадения Рио-Гранде в Карибское море.
Подобно всем испанским городам Старого и Нового Света, вид Картахены мрачен, хотя ее улицы широки, прямы и освежаются бесчисленными фонтанами. Мрачным обликом город обязан длинным, на низких и тяжелых колоннах галереям, словно тюрьмы окаймлявшим с обеих сторон улицы, и высоко вздымающимся террасам, которые заслоняют свет и солнце.
В эпоху, к которой относится наш рассказ, население Картахены достигало тридцати тысяч жителей. Город и порт защищали пять фортов, самый мощный из которых, Бока-Чика, был вооружен шестьюдесятью орудиями.
Испанский гарнизон состоял из пяти тысяч двухсот старых и опытных солдат под командой бригадира — чин, соответствующий новейшему бригадному генералу. В случае необходимости можно было за несколько часов присоединить к этому войску три тысячи пятьсот человек милиции, хорошо вооруженной и действительно храброй, потому что эти люди на самом деле до конца отстаивали бы родные пепелища.
Этот-то сильно укрепленный город, расположенный так выгодно, и задумал взять Медвежонок Железная Голова, имея всего один фрегат с экипажем в семьсот двадцать три человека.
Правда, эти люди составляли цвет флибустьерства, а капитан Железная Голова утверждал, будто то, на что положит глаз флибустьер, принадлежит ему, стоит ему только захотеть. И сам он всегда доказывал это на деле.
Но еще никто из флибустьерских вожаков не предпринимал такой отчаянно смелой экспедиции, особенно с такими слабыми силами.
Пользуясь теперь свободой, всегда признававшейся за романистами, перелетать на крыльях фантазии куда им пожелается и в несколько взмахов не крыльями, но пером переноситься через громадные пространства, мы оставим «Задорный» и его храбрый экипаж в Антильском море после смелого нападения на Гуантанамо и, попросив наших читателей последовать за нами, одним прыжком перемахнем в Турбако.
Это прелестная деревушка с населением в семь или восемь сотен душ, построенная на зеленом склоне холма в нескольких лье от Картахены и прилепившаяся к величественному, почти непроницаемому лесу, дальние окраины которого примыкают к самому берегу реки Магдалены.
Для богатых городских жителей и прибывших из метрополии испанцев, еще не освоившихся с климатом, деревушка эта, расположенная в шести-семи лье от моря, служит убежищем от невыносимого зноя и болезней, свирепствующих на прибрежье в летний сезон.
Вид деревни поистине волшебный, она точно вырастает из исполинского букета зелени и возвышается амфитеатром до самой вершины холма; издалека видны ее большие и красивые дома, построенные из бамбука и крытые пальмовыми листьями.
Прозрачные ручейки вытекают из множества известковых скал, покрытых ископаемыми раковинами морских полипов и осененных глянцевитой листвой анакардов, которые действительно придают скалам оригинальный вид.
Анакард — колоссальное дерево, которому индейцы приписывают свойство привлекать издали пары, носящиеся в атмосфере; справедливость этого факта мы не осмелимся подтверждать или оспаривать.
Так как деревня возвышается более чем на пятьсот футов над уровнем моря, ночи там довольно холодны, а днем стоит удушливая жара.
Итак, мы в Турбако и, сделав несколько шагов по большой улице, минуем монументальный фонтан, имеющий один недостаток — всегда быть сухим, и входим в один из самых красивых домов.
Дом этот, разделенный на два корпуса громадным и густым садом, полным тени и мглы, задним фасадом почти прилегает к большому лесу, тогда как лицевой фасад обращен к фонтану, о котором мы уже упоминали.
Было около половины четвертого пополудни, удушливый дневной зной немного спал. Опустевшие с одиннадцати часов улицы начинали снова оживляться редкими прохожими, двери понемногу раскрывались, жители стряхивали полуденный сон, и жизнь опять принимала свой обычный ход.
В гостиной, довольно кокетливо меблированной, со стенами из бамбуковых палок, укрепленных на небольшом расстоянии одна от другой, но обтянутых тонким холстом, дабы, пропуская воздух, ограждать от нескромных взглядов, две молодые женщины, вернее, девушки, полулежа на койках, сами раскачивали их кончиком миниатюрной ножки и тихо беседовали, куря пахитоски, благовонный дым которых спиралью поднимался к потолку.
Эти две девушки, одаренные той чистой, величественной и в то же время бесхитростной красотой, были донья Эльмина и донья Лилия, уже представленные читателю.
В ту минуту, когда мы входим в гостиную, донья Эльмина с досадой отбросила далеко от себя только что закуренную пахитоску.
— Что с тобой? — изумилась подруга.
— Что со мной? — вздрогнула донья Эльмина. — Я страдаю, я несчастна, а ты, злая, вместо того чтобы сочувствовать моему горю и пожалеть меня, смеешься, поёшь и чуть ли не насмехаешься надо мной.
— О-о! — вскричала донья Лилия, приподнимаясь и слегка нахмурив брови. — Какой неожиданный и серьезный упрек! Видно, ты очень страдаешь, Эльмина, если говоришь таким образом со мной, твоей кузиной, твоим другом, твоей сестрой.
— Прости меня, Лилия, я действительно несправедлива, но если бы ты только знала…
— Что? Отчего не говоришь ты со мной откровенно, Эльмина? Вот уже месяц как я замечаю в тебе разительную перемену: ты бледна, мрачна, постоянно взволнована, порой я подмечала на твоих щеках следы едва стертых слез. Разве ты полагаешь, что я слепа или равнодушна к тебе? Нет, нет, дорогая моя, я все видела с первого же дня. Ты стала такой после продолжительного разговора с отцом.
— Правда, — пробормотала донья Эльмина, опустив голову.
— Но дружба должна прежде всего быть скромна, и я молчала. Я видела, что ты заключила горе в своем сердце и, быть может из гордости, не хотела открывать мне ничего. Я ждала, когда твое сердце переполнится и тогда ты станешь искать облегчения от тяжелого гнета горести, разделив ее со мной.
— Спасибо, Лилия, ты добра и любишь меня.
— Да, люблю, Эльмина, и гораздо сильнее, чем ты полагаешь. Что же касается веселости, в которой ты упрекаешь меня…
— Я ни в чем тебя не упрекала, — с некоторой живостью перебила донья Эльмина, между тем как легкая краска покрыла ее прелестное личико.
— Веселость, в которой ты упрекаешь меня, лишь напускная; притворяясь веселой, я хотела вызвать на твоих губах мимолетную улыбку. Мне не удалось — стало быть, я не права. Прости меня, Эльмина: впредь уже мой смех не оскорбит твоего горя.
Последние слова были произнесены Лилией с таким выражением нежного сочувствия и искренней дружбы, что Эльмина вдруг вскочила и кинулась в объятия подруги, заплакав навзрыд.
Воцарилось продолжительное молчание; обе девушки плакали.
— Ты права, — вновь заговорила Эльмина, — я жестоко страдаю, мое сердце надрывается, ты угадала часть моей тайны; так выслушай же меня, ты узнаешь все.
— Одни ли мы здесь? — спросила Лилия. — Подожди. Она поднесла к губам золотой свисток, который носила на шее на золотой цепочке, и свистнула.
Прошло несколько минут, и послышались тяжелые шаги по паркету. Дверь отворилась, и негритянка лет сорока с улыбкой появилась на пороге.
Негритянка эта, должно быть, смолоду была очень хороша собой; ее умное лицо дышало кротостью и добротой, не без примеси твердости.
— Мама Кири! — ласково обратилась к ней Лилия. — Мы с кузиной Эльминой должны переговорить о важном деле, но боимся, как бы нас не подслушали. Будьте добры и покараульте, чтобы никто не подходил сюда.
— Не беспокойтесь, мои милые, никто и близко не подойдет, я позабочусь об этом, только постарайтесь, нинья[35] Лилия, выведать наконец тайну ниньи Эльмины. Нехорошо для молодой девушки держать таким образом на сердце свое горе.
— Да я стараюсь, — со смехом ответила Лилия, — изо всех сил стараюсь, мама Кири.
— Хорошо, девочки, можете щебетать без боязни, словно птички Божьи — да и те не чище и не невиннее вас! — а я покараулю.
Негритянка вышла с доброй улыбкой на лице. Кузины следили за негритянкой глазами, пока она не затворила за собой дверь.
— Любезная Лилия, — начала тогда Эльмина, — обещай мне не смеяться надо мной. Ты услышишь скорее историю моих личных впечатлений, чем изложение важных событий, способных меня печалить или тревожить.
— Говори, друг мой! Разве я, так сказать, не половина тебя самой?
— Правда. Слушай же. Ты знаешь моего отца, дона Хосе Риваса де Фигароа, и мне, стало быть, нет нужды описывать тебе его надменный нрав, суровую заносчивость и непреклонную волю, перед которой все должно склоняться. Моя бедная мать умерла, когда я появилась на свет; раннее детство мое прошло в грусти и заброшенности, я оставалась на руках невежественных и злых невольниц. Когда я развилась настолько, чтобы осознавать, что происходит вокруг меня, все эти несправедливости, эти беспричинные вспышки гнева, эти строгости, которые ничем не оправдывались, я ужаснулась в душе; все мои наклонности, все стремления были извращены. Сознаться ли тебе, моя дорогая Лилия? Я боюсь, что не люблю отца!
— Ах, Эльмина, какая страшная мысль! Этого быть не может!
— Увы! Напротив, это истинная правда. Напрасно силилась я побороть роковое впечатление моего раннего детства… все напрасно… Я боюсь отца, один его взгляд приводит меня в трепет. Ты надеюсь, помнишь, что через некоторое время после нашего переезда с Кубы на Санто-Доминго, когда наш корабль был захвачен в плен флибустьерами с Черепашьего острова и мы словно чудом спаслись от страшного рабства благодаря великодушию капитана Медвежонка Железная Голова — как видишь, я не забыла имени нашего избавителя, — заметила она, улыбаясь сквозь слезы, — мой отец был назначен губернатором Картахены, тогда как твой отец, дон Лопес Альдоа де Сандоваль, был произведен в бригадиры и готовился принять командование над гарнизоном этого же самого города. Спустя две недели после своего нового назначения наши отцы отправились вместе с нами в Картахену. Когда высокие горы на Санто-Доминго стали расплываться на горизонте, сердце у меня внезапно сжалось, слезы выступили на глазах и я заплакала. Ты спросила о причине моей грусти. Я не могла объяснить, сама ее не зная: всего несколько дней провела я на Санто-Доминго, ничто не привязывало меня к этому месту, жизнь я вела там самую скучную и бесцветную. Отчего же такая грусть? Не было ли то предчувствием, внушаемым иногда Господом в своем милосердии тварям своим.
— Что ты хочешь сказать? — вскричала с изумлением Лилия. — Я не понимаю тебя.
— Сейчас поймешь. Наверняка ты помнишь церемонию вступления моего отца на пост губернатора Картахены. Именитые горожане явились во дворец представиться дону Хосе Ривасу. Все они — богатейшие купцы, явились в числе тринадцати, и тринадцатого звали доном Энрике Торибио Морено; это богатый мексиканский купец, прибывший из Веракруса всего за несколько дней до нас.
— Дон Торибио Морено, закадычный друг твоего отца?
— Именно он.
— У него какое-то угрюмое лицо, — задумчиво заметила донья Лилия.
— Не правда ли? Знаешь ли, на кого он похож, и поразительно, так что я просто остолбенела, в первый раз увидев его?
— Нет, не знаю.
— Уверяю тебя, он в точности походит на презренного разбойника, рабами которого мы сделались в Пор-Марго вследствие случайностей азартной игры.
— Странно, — пробормотала Лилия.
— О, очень странно! — вскричала кузина с лихорадочным жаром. — Несмотря на его бороду, подстриженную теперь на испанский манер, на чистейшее андалусское произношение и мнимо добродушный вид, которым он как бы маскирует свое лицо, я ни минуту не была введена в обман и с первой встречи поняла, что человек этот явился мне на погибель.
— Однако…
— Дай мне договорить, ты увидишь, обмануло ли меня предчувствие. Впрочем, дон Торибио Морено отличается изяществом в одежде, в обращении и, судя, по крайней мере, по наружности, обладает несметным богатством; он так и сыплет золотом.
— Прибавь, что это азартный игрок, к тому же, как говорят, удачливый.
— Именно к тому я и веду речь. Мой отец небогат, как тебе известно, однако он страстный игрок и каждый вечер в его доме идет серьезная игра; нередко ставки достигают значительной суммы.
— Игра — бич Америки, она погубит испанские колонии!
— Погубит и поселенцев с их семействами. С месяц назад отец неожиданно приехал сюда, велел позвать меня и заперся со мной в этой самой комнате. Он усадил меня возле себя и пристально изучал несколько минут, после чего заговорил суровым голосом:
— «Ты хороша, Эльмина, тебе восемнадцать лет; пора выдать тебя замуж. Я выбрал тебе супруга, он богатый человек и мой закадычный друг. Готовься принять его ласково, я дал ему слово, а решения своего, как тебе известно, никогда не изменяю, особенно если связан еще и словом. У тебя два месяца, чтобы подготовиться к этому браку. Через два месяца, день в день, считая с этой минуты, епископ Картахенский благословит ваш союз в церкви Милосердия Богоматери. Тот, невестой кого ты, Эльмина, являешься с этой минуты, — дон Энрике Торибио Морено». На том он и кончил.
— А ты что ответила отцу?
— Ничего. Что же мне было отвечать на такое решительное объявление его воли? Я была ошеломлена, почти лишилась чувств и чувствовала, что не в состоянии произнести ни слова. С первых же его слов я по тайному безотчетному внушению предчувствовала или, вернее, угадала, что отец кончит разговор именем этого человека. Дон Хосе Ривас встал, долго смотрел на меня и вышел, не простившись, так же холодно, как вошел. Когда дверь затворилась за ним, я упала на пол без чувств; меня подняла моя кормилица. Прошел ровно месяц с тех пор, как произошел этот разговор между мной и отцом, Лилия.
— Что ты намерена сделать?
— Не знаю; одно только верно: я не буду женой этого человека.
— Но из-за чего же должен состояться этот брак? Как допускает его твой отец? Он ведь так гордится своим дворянским титулом!
Донья Эльмина горько улыбнулась.
— Отец разорился, Лилия, у него не остается, быть может, ни одного реала. Все его состояние теперь принадлежит дону Торибио. Понимаешь?
— О, это ужасно!.. Какая же надежда остается тебе?
— Господь! — вскричала Эльмина, воздев к небу умоляющий взгляд. — Господь! Он не оставит меня, когда нигде нет для меня опоры.
В эту минуту дверь отворилась, и вошла негритянка.
— Идет ваш отец, нинья, — сказала она, — с ним дон Торибио Морено!
— Ни слова! — грустно шепнула молодая девушка кузине, приложив палец к губам. — Ни слова, умоляю тебя, Лилия.
— Не унывай, Эльмина, — ответила та, целуя ее.
Глава IX ДОН ЭНРИКЕ ТОРИБИО МОРЕНО ПРЕДСТАЕТ В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ
Дон Хосе Ривас де Фигароа, волею Его Католического Величества, короля Испании губернатор города Картахены, был высок ростом, хорошо сложен, лет сорока восьми, хотя на вид казался годами пятью-шестью моложе; походку он имел величественную, обращение изысканное; черты его лица не блистали красотой, но отличались теми крупными правильными линиями, которые встречаются только у потомков древних родов; его живые черные глаза глубоко сидели в глазных впадинах и выражали высшую степень надменности, спеси и насмешливого презрения.
Личность, которая сопровождала дона Хосе Риваса и величала себя доном Энрике Торибио Морено, слывя за мексиканца, составляла с ним самый разительный контраст.
Черты самые простые; серые, постоянно моргающие глаза с морщинами по углам, напоминавшие глаза хищных ночных птиц; светло-русые, почти белокурые волосы; рост не выше среднего; неуклюжее и тяжелое телосложение придавало ему с первого взгляда вид скорее нормандского или бретонского матроса, чем испанского дворянина, но взгляд его был так тонок, такая природная сила угадывалась в его мускулах, что невольно следовало признать в нем человека недюжинного.
Впрочем, обращение его носило отпечаток вполне светского воспитания.
Услышав, что двери отворяются, кузины поднялись со своих лежанок, чтобы принять посетителей.
У дона Хосе Риваса брови были нахмурены, насмешливая улыбка мелькала на его губах. Казалось, он совсем не в духе.
— Здравствуйте, ниньи, — с иронией приветствовал он девушек, — я приехал, как нежный отец, навестить вас.
— Милости просим, отец, — дрожащим голосом ответила донья Эльмина.
Донья Лилия подвинула стулья.
— Я осмелился, — продолжал дон Хосе все тем же насмешливым тоном, — привести с собой своего доброго друга дона Торибио Морено, который сделал мне честь просить вашей руки.
— Отец…
— Прошу не перебивать меня, нинья. Девушка замолчала, вся дрожа.
— Извините, сеньорита, — обратился к ней мексиканец с почтительным поклоном, — ваш отец не успел договорить, что, осмеливаясь добиваться высокого счастья быть вашим супругом, я поставил при этом одно условие.
Донья Эльмина подняла голову и с изумлением поглядела на дона Торибио.
— Правда, — сказал дон Хосе сердито, — как ни нелепо это условие, я только что намеревался передать его в двух словах: дон Торибио Морено просит вашего разрешения ухаживать за вами, сударыня.
— Ведь вы не все передали, уважаемый дон Хосе, — любезно прибавил мексиканец. — Действительно, сеньорита, я добиваюсь чести быть иногда допущенным к вам, потому что при всем страстном желании сделаться вашим супругом я хочу, чтобы вы узнали меня, прежде чем отдадите мне свою руку. Все мое честолюбие в том именно и заключается, чтобы своим счастьем я был обязан вашей собственной воле.
— Благодарю! О, благодарю вас, — вскричала девушка, в душевном порыве протянув крошечную руку, которой мексиканец почтительно коснулся губами.
— Браво! — вскричал дон Хосе Ривас с холодной иронией. — Это прелестно! Клянусь вечным блаженством, мы просто вернулись к самым цветущим временам рыцарей Круглого Стола и двора короля Артура или императора Карла Великого. Ей-Богу! Я совсем умилен.
Молодая девушка опустила голову, покраснев от стыда, и прошептала голосом едва слышным от внутреннего волнения.
— Я исполню вашу волю, отец.
— Разве о моей воле идет речь, нинья? — продолжал он со сдержанным гневом. — Я имел глупость обещать вашему любезному рыцарю, что вы вольны принять или отвергнуть его предложение, и клянусь, вы будете совершенно свободны в своих действиях; никакого влияния, даже моего, не будет между вашим робким поклонником и вами. Повторяю, вы свободны.
— Слышите, сеньорита, — вскричал дон Торибио Морено с почтительным поклоном, — ваш отец подтверждает мои слова.
— Приходится, ей-Богу! — отозвался дон Хосе, презрительно пожав плечами. — Желаете вы сказать моей дочери еще что-нибудь?
— Ничего, друг мой, разве только повторить смиренную просьбу позволить мне иногда являться к ней с визитом.
Донья Эльмина молча склонила голову.
— Ну, довольны вы теперь? — грубо вскричал дон Хосе. — Становится поздно. Пойдемте, дон Торибио, пусть девочки вернутся к своим игрушкам и куклам.
— Як вашим услугам, друг мой.
— Прощайте, ниньи.
— Разве вы не поцелуете меня на прощание, отец? — спросила девушка, робко наклоняясь к нему.
Дон Хосе холодно поцеловал ее в лоб, глядя в сторону.
— Пора ехать, — повторил он.
Мексиканец почтительно раскланялся с двумя девушками.
Посетители вышли.
У наружной двери стояли неподвижно, как статуи, человек двенадцать всадников, вооруженных копьями с развевающимися значками, под командой унтер-офицера.
Губернатор подал знак, черный невольник подвел двух великолепных лошадей в кокетливой роскошной сбруе, употребляемой в испанских колониях.
Мужчины сели на лошадей и стали во главе отряда, который тотчас двинулся вслед за ними.
Когда отъехали шагов на сто от дома, дон Торибио Морено спросил:
— Вы возвращаетесь в Картахену, дон Хосе?
— Куда же вы хотите, чтоб я ехал? — изумился губернатор.
— Откровенно говоря, я не ожидал, что мы так скоро вернемся в город; я полагал, что ваше визит к дамам будет продолжительнее и что, пока вы отдыхаете, у меня будет время съездить на свою ферму, находящуюся здесь поблизости.
— Правда, я и забыл, что, если верить слухам, вы купили прелестное поместье на расстоянии двух-трех выстрелов от деревни.
— О! Это полуразвалившаяся жалкая лачуга, — с живостью вскричал дон Торибио, — потому-то я и прошу позволения оставить вас. Там производятся некоторые поправки, я и не прочь был бы невзначай нагрянуть к своим работникам.
— Я не спешу; хотите, мы поедем вместе?
— О нет, как можно!
— Почему?
— Во-первых, я должен поддерживать свою славу богача, друг мой, и не желаю вовсе лишиться ее, продемонстрировав вам свое приобретение в его нынешнем виде; во-вторых, признаться ли вам, я не знаю, где разместить вас, там все вверх дном. Итак, мой любезный дон Хосе, лучше послушайтесь меня и спокойно продолжайте путь к городу, а мне позвольте следовать по своим делам.
— Пусть будет по-вашему! Но вы знаете, что я скоро жду вас в своем дворце, у нас сегодня большое собрание.
— Я не замедлю явиться.
— Обедайте у меня без церемонии, что будет проще.
— Не отказываюсь; подождите меня до семи часов. Быть может, я представлю вам еще одно лицо.
— Кого же?
— Капитана своей шхуны «Санта-Каталина», которая пришла сегодня утром из Веракруса.
— Это человек из хорошего общества?
— Моряк, но очень приличный, к тому же прекрасный игрок.
— Так постарайтесь привести его ко мне, особенно если он богат, — сказал со смехом дон Хосе.
— Надеюсь привести. Во всяком случае, подождите меня до назначенного часа.
— Хорошо.
И они разъехались.
Дон Хосе Ривас крупной рысью отъехал от деревни со своим конвоем, тогда как дон Торибио вернулся в нее, то есть повернул назад к Турбако, но, проехав несколько шагов в этом направлении, сошел с лошади и с минуту тщательно поправлял мундштук, в котором нечего было поправлять, потом снова вскочил в седло, сперва, однако, удостоверившись, что граф и его конвой скрылись за поворотом дороги и что нигде вокруг не видно ни души.
Тогда дон Торибио круто свернул вправо, немного погодя опять влево, очутился на опушке леса и поскакал по глухой тропе, с обеих сторон окаймленной частыми деревьями, густая листва которых образовывала над его головой непроницаемый свод.
Спустя четверть часа он достиг жалкого шалаша из сплетенных ветвей, какие устраивают вольные охотники и деревенские жители для защиты от солнечного зноя и страшных ливней.
Рослый детина с бледным лицом, изможденным от выпавших на его долю невзгод и лишений, но с мрачным и решительным выражением сверкающих глаз, внезапно вырос у входа в шалаш, заслышав стук конских копыт.
Человек этот, в расцвете лет, гордо драпировался в гадкие лохмотья неопределенного происхождения; за поясом у него были заткнуты длинный нож и топор; обеими руками он опирался на дуло буканьерского ружья, которое поставил перед собой, и насмешливо поглядывал на приближающегося дона Торибио.
Мексиканец остановил лошадь перед самым шалашом.
— Ты войдешь? — спросил по-французски вместо всякого приветствия хозяин шалаша.
— Войду, — ответил дон Торибио на том же языке, — если только у тебя найдется, где спрятать мою лошадь. У меня вовсе нет охоты оставлять ее таким образом на виду посреди дороги.
— Не беспокойся на сей счет, — возразил незнакомец, взяв лошадь под уздцы, — слезай и ступай в шалаш.
Дон Торибио повиновался, а его странный собеседник увел лошадь и скрылся с ней в чаще леса.
Внутренность шалаша была, если только подобное возможно, еще жальче наружного вида. В одном углу ворох сухой травы служил постелью; в середине яма с тремя камнями заменяла очаг, два-три бычьих черепа выполняли назначение стульев; старый, совершенно пустой матросский сундучок без крышки, чугунный котелок и две-три плоские деревянные чашки без ручек, скорее напоминавшие тарелки, — вот и вся обстановка.
Вероятно, давно уже знакомый с ней, дон Торибио Морено окинул убранство шалаша равнодушным взглядом, уселся на бычий череп, потом достал из портсигара сигару, закурил ее и в ожидании хозяина преспокойно стал пускать к потолку клубы.
Тот явился почти немедленно.
— Черт возьми! Аромат-то какой! — посмеиваясь, сказал вошедший. — Славные сигары ты куришь! Вот что значит быть богатым!
— Возьми! — небрежно подал незнакомцу свой портсигар дон Торибио Морено. — Что с моей лошадью?
— На мягкой подстилке и с вязанкой корма перед собой. Он выбрал сигару, закурил ее о сигару дона Торибио, потом возвратил портсигар и сел напротив него. На минуту установилось молчание.
Два человека исподтишка наблюдали друг за другом, но, видя, что гость упорно молчит, хозяин шалаша наконец решился заговорить.
— Давно тебя не было видно в этих краях.
— Я завален делами.
— Бедняга! И все же ты вспомнил о старом товарище.
— Разве не были мы братьями-матросами?
— Правда, но очень давно, и после того много что произошло. Ведь было это в экспедицию Монбара Губителя на Маракайбо. Помнишь?
— Еще бы!
— Однако ты, вероятно, приехал не для того, чтоб поговорить со мной об ушедших временах? Скорее, полагаю, ты имел в виду потолковать о настоящем, если не о будущем.
— Ага! Ты угадал, Бартелеми!
— Не надо быть колдуном, — с презрительной улыбкой возразил другой, — чтобы угадать, что если ты приезжаешь ко мне, то, вероятно, имеешь во мне надобность.
— Ну, я буду откровенен с тобой, старый дружище. Да, ты мне нужен.
— На все согласен, брат, я до смерти скучаю без дела. Но предупреждаю, это тебе обойдется недешево.
— Назначай свои условия, — холодно ответил дон Торибио.
— Стоит ли того дело?
— Стоит.
— Слушай же, ты всегда был человеком тайных козней и скрытных замыслов. Когда испанское судно, на котором я был пленником, встретило тебя плывущим в одиночестве посреди моря, ты объяснил свое странное положение весьма туманно. Вдобавок ты выдал себя за мексиканца, и я притворился, что не узнаю тебя.
— Я не забыл этой услуги.
— Гм! Это было естественно между флибустьерами, особенно между братьями-матросами. Но менее естественно то, что случилось со мной в Сан-Франциско-де-Кампече: ты не помог мне, как я был вправе ожидать, но бросил меня, хотя был свободен и пользовался почетом у испанцев. Я догадывался, что некий удар ножом, который мне нанесли одной темной ночью в гавани, отчасти исходил от тебя.
— Как можешь ты думать так, старый дружище?
— Ладно, не будем об этом, приятель! Словом, я разбил цепи, сковывавшие меня, словно дикого зверя, и бежал. После многого, чего и не перескажешь, сам не знаю как я достиг этого острова и нашел прибежище в здешнем лесу. Однажды случай свел нас. Ты был богат, я — беден, ты мог оказать мне помощь, но не сделал этого.
— Ты забываешь, друг…
— Что ты предложил мне быть твоим слугой, это правда. Но я отказался: мне, капитану Бартелеми, знаменитому флибустьеру, быть слугой такого… словом, бросим это. Только, — прибавил он немного погодя с насмешливой улыбкой, — я должен отдать тебе справедливость, ты не выдал меня за вознаграждение.
— О-о!
— Я не благодарю. Выдав меня, ты сгубил бы себя самого. Ты очень хорошо понимал, что я без колебаний открыл бы твое настоящее имя. Испанцы же помнят его и, вероятно, несколько лучше, чем тебе бы хотелось. И вот теперь, после трех месяцев как ты ни разу не побеспокоился задать себе вопрос, жив я или мертв, ты как с неба свалился в мой шалаш и говоришь мне: «Я нуждаюсь в тебе». Разумеется, я вывел заключение, что дело должно быть очень важным. Я все взвесил и сказал: это тебе обойдется недешево.
— А я ответил: согласен.
— Хорошо же! Приступим к делу, я ничего другого не желаю. Дай мне еще сигару.
— Бери.
И дон Торибио вновь протянул ему свой портсигар.
Бартелеми открыл его и выбрал сигару, покачав головой.
Достойный капитан ни на грош не доверял своему «другу»; он знал его с давних пор. Конечно, его нынешнее появление, после того как он не вспоминал о Бартелеми столько времени, казалось крайне странным.
Итак, куря сигару, он в душе давал себе слово быть начеку и не давать маху.
Глава X КАК ТОЛКОВАЛИ ДВА МАТРОСА И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО
Скажем в немногих словах, что за новое лицо мы так внезапно вывели на сцену. Ему предназначено играть довольно значительную роль в нашей истории.
Капитан Бартелеми пользовался громкой славой за свою храбрость и отвагу. Флибустьеры с Черепашьего острова рассказывали легенды о его необычайной смелости. Кроме того, он был отличный моряк и слыл среди друзей и в особенности среди врагов удивительно удачливым во всех предпринимаемых им экспедициях.
Много было и справедливого в рассказах о капитане Бартелеми. Одаренный большим умом, неукротимой храбростью, невозмутимым хладнокровием и беспримерным присутствием духа, не покидающим его, как бы ни было плохо положение, в которое внезапно попадал вследствие каких-либо случайностей, он всегда умудрялся выйти из него целым и невредимым при помощи мер, которые для всякого другого были бы недоступны.
Кроме того, он отличался честностью, вошедшей в пословицу, и ни за что на свете не согласился бы изменить данному слову.
Вот каков был человек, которого дон Торибио — мы сохраним за ним это имя на время — отыскал в жалком шалаше, дабы предложить то, что он назвал «делом».
Пока флибустьер губами приглаживал кончик своей сигары со всей развязностью настоящего дворянина, мнимый мексиканец украдкой всматривался в его лицо, гадая, с какой бы стороны ему приступить, чтобы вернее поколебать внешнее равнодушие своего собеседника.
— Посмотрим же, — вскричал он наконец весело, — каковы твои условия, дружище!
— Сперва ты предложи свои. Купцу следует показать свой товар, я буду судить по образчику, — посмеиваясь, возразил Бартелеми.
Дон Торибио понял, что ничего не поделаешь и надо вести дело начистоту.
— Ты расседлал мою лошадь? — спросил он. Внезапный, ни с того ни с сего вопрос показался капитану столь удивительным и неуместным, что он вытаращил глаза.
— Что с тобой? — вскричал он.
— А то, что, знай я где находится моя лошадь, тотчас отправился бы за саквояжем, который ты наверняка заметил за седлом.
— Еще бы не заметить! Он довольно тяжел.
— Очень хорошо. Знаешь, что в саквояже?
— Откуда же мне знать?
— Во-первых, для тебя богатый и изящный костюм, какой приличествует дворянину; сверх того сто пятьдесят унций золота, которые я прошу тебя принять, не обязывая ни к чему, просто как бывший брат-матрос.
— Тьфу, пропасть! — засмеялся Бартелеми. — Если ты даешь мне богатую одежду и двенадцать тысяч только потому, что я был твоим братом-матросом, что же ты дашь мне, когда я буду твоим соучастником?
Дон Торибио попробовал улыбнуться, но получилась кривая гримаса.
— Ступай за саквояжем, — сказал он, — пока ты будешь одеваться, я объясню тебе, в чем заключается дело.
— Разве ты рассчитываешь взять меня с собой?
— Конечно.
— Но ведь я буду смешон донельзя.
— Отчего?
— Пешком, что ли, прикажешь мне бежать за тобой в богатом наряде.
— Не заботься, маловерный, — смеясь, возразил дон Торибио, — когда настанет время, сыщется и лошадь.
— Ну, ты, видно, обо всем подумал. Канальство! Дело должно быть нешуточным; оно возбуждает мое любопытство и заставляет работать воображение.
— Дай обоим волю, я удовлетворю их. Только торопись, время уходит.
Бартелеми вышел и вскоре вернулся с саквояжем.
Дон Торибио открыл его, вынул одежду и разложил ее, очень довольный собой.
Действительно, костюм был великолепен и сшит в лучшем вкусе. Штаны, камзол, полукафтанье, сорочка, шелковые чулки, туфли, ботфорты со шпорами для езды верхом, шляпа, портупея, дорогие золотые вещи и, наконец, множество безделушек, в то время необходимых человеку хорошего тона, — тут было все.
— Одевайся, — сказал мексиканец. — Вот зеркало, гребенка, бритвы, мыло, все, что только нужно. Некоторые другие вещицы, которые тебе еще понадобятся, будут у тебя вместе с лошадью.
— Пожалуй, и одеться можно, а ты говори тем временем, И действительно, Бартелеми принялся за свое превращение — да, да, это можно было бы назвать настоящим превращением червя в бабочку.
— Тебя зовут доном Гаспаром Альварадо Бустаменте, — начал дон Торибио.
— Что за чертову кличку навязываешь ты мне?
— Это твое имя на время, пока ты капитан шхуны «Санта-Каталина» из Веракруса, водоизмещением в двести пятьдесят тон, которая пришла сегодня утром в Картахену прямо из Мексики с грузом европейских товаров на имя сеньора дона Энрике Торибио Морено.
— А это что еще за молодец?
— Я сам.
— Ты?
— Ну да, разве тебе это неприятно?
— Ничуть. Продолжай, это походит на волшебную сказку, — со смехом ответил Бартелеми.
— Сегодня вечером я представлю тебя картахенскому губернатору дону Хосе Ривасу, с которым мы на короткой ноге, и дону Лопесу Альдоа де Сандовалю, командующему здешним гарнизоном.
— Я не настаиваю на этом.
— Зато я настаиваю.
— Очень хорошо. Дальше.
— Это все.
— Как все?
— Да, на первый раз хватит.
— Если я понимаю хоть что-нибудь… клянусь честью, я готов провалиться в тартарары!
— Тебе и понимать не нужно, — перебил дон Торибио. — Когда твое положение будет ясно определено в глазах всех, мы сможем беседовать, когда нам заблагорассудится, а наши торговые дела доставят нам самый естественный предлог.
— Правда, наши торговые дела, черт возьми! — вскричал флибустьер со смехом. — Но при всем том, должен признаться, я очень боюсь.
— Чего?
— Чтоб все эти замысловатые выдумки не привели к заключительной катастрофе.
— Объяснись.
— Я полагаю, что губернатор дон Хосе Ривас — так, кажется, ты назвал его?
— Ну да.
— Дон Хосе Ривас должен знать, что делается в городе.
— Разумеется.
— Портовые смотрители всегда докладывают ему о заходе и отплытии каждого корабля.
— Без сомнения.
— Стало быть, шхуна «Санта-Каталина»…
— Она пришла в порт сегодня утром.
— Из Веракруса?
— Из Веракруса.
— С европейскими товарами…
— На мое имя.
— Так ты действительно богат?
— Всего-навсего миллионер.
Авантюрист посмотрел на своего приятеля невыразимо насмешливо.
— Ага! — пробормотал он почти шепотом. — Убийство мексиканцем богатого торговца алмазами и похищение всего его состояния… эта история, которую рассказывали в Сан-Франциско-де-Кампече, когда мы находились там, видно, имела основание?
Дон Торибио помертвел.
— Что ты хочешь сказать?
— Ты слыл за мексиканца уже в Кампече.
— Что ж из того? Разве я француз?
— Правда, и даже бретонец, — продолжал авантюрист со странной улыбкой. — Но в Кампече в то время было немало мексиканцев и без тебя; не станем же углубляться в этот вопрос и положим, я ни о чем не говорил.
— О, я ничего не боюсь!
— Мне ли не знать, черт побери! Впрочем, это касается одного тебя, а нам лучше вернуться к общему делу. Решено, что шхуна существует в действительности, что она пришла из Веракруса с грузом, принадлежащим тебе, что утром она стала на рейде и называется «Санта-Каталина».
— С удовольствием вижу, что ты ничего не упустил.
— Прекрасно. Но ведь шхуна же пришла из Веракруса не сама по себе — полагаю, на ней был экипаж и, наконец, капитан?
— Само собой! Шесть человек экипажа и капитан.
— Куда же они девались? Уж не сбежали ли все разом — и матросы, и капитан?
— Увы! Мой бедный друг, — вскричал мнимый дон Торибио Морено с добродушно покровительственным видом, — все мы смертные.
— Поговорка мудрая и справедливая.
— Вот что случилось.
— Я слушаю.
— Вчера с борта шхуны завидели берег в столь поздний час, что нельзя было решиться войти в узкий пролив; итак, она была вынуждена лавировать всю ночь, чтоб приблизиться к берегу на рассвете. Около полуночи, при повороте судна, капитан упал в море.
— Бедный капитан! — сказал Бартелеми чрезвычайно серьезно. — И его не удалось спасти?
— Пробовали.
— А!
— Но вот ведь какое роковое стечение обстоятельств! Спустили лодку; четыре человека сели в нее, и лодка с людьми камнем пошла ко дну. От страшной жары расплавилась смола, которой были залиты швы. Разумеется, вода набежала мгновенно — и все потонули.
— Все четверо?
— Все без исключения. Ночь была темная, море неспокойно. На шхуне оставалось всего два человека, как могли они оказать помощь товарищам?
— Вот что называется несчастьем! И к тому же, совсем у цели!
— В двух лье всего-то. Будь светло, их бы увидели.
— В том-то и дело, что ночь была темная, — заметил авантюрист по-прежнему насмешливо, — ты должен признать, что два человека, оставшиеся одни на шхуне, находились в большом затруднении.
— По счастью для них и для «Санта-Каталины», шхуну заметили еще до заката, так как я ожидал ее прибытия с нетерпением. Зная, с каким грузом она идет, я хотел удостовериться в причине, почему она не вошла в канал еще с вечера. Я тотчас отправился к ней в лодке с шестью матросами и часам к четырем утра причалил к судну, которое лежало в дрейфе перед входом на рейд, ожидая помощи.
— Это просто внушение свыше.
— Ты совершенно прав. В ту самую минуту, когда я ставил паруса, из Картахены вышел корабль, державший путь в Кадис.
— В самом деле! Вот что значит случай.
— Единственные два матроса, оставшиеся в живых на шхуне, были до того поражены ужасной ночной катастрофой, что стали умолять меня отпустить их на корабль, который выходил из картахенского порта.
— Разумеется, ты сжалился над этими несчастными и согласился.
— Действительно, так и было. Я выплатил причитающееся им жалование, даже прибавил маленькое вознаграждение, чтобы утешить их в несчастной гибели своих товарищей, и отвез на испанское судно, капитан которого был немного знаком со мной и согласился принять их.
— Как все соединяется, Боже мой! — вскричал Бартелеми, воздев очи горе. — И ты…
— Я тотчас нанял шесть человек, которых привез с собой. Они ровно ничего не знали о том, что произошло на шхуне. К тому же, прежде чем сесть в шлюпку, шедшую к «Санта-Каталине», я сказал им, сам не знаю зачем, — такая вдруг мне в голову пришла мысль, — что капитан накануне съехал на берег, чтобы скорее известить меня о приходе шхуны, которую между тем оставил у входа на рейд.
— Это и было причиной того, что они не удивились, увидав накануне всего только двух матросов. Про капитана же думали, что он на берегу.
— Как видишь, все это очень просто.
— Разумеется, любезный друг. И нарочно лучше нельзя было сделать.
— Что ты хочешь сказать? — отчасти надменно спросил дон Торибио.
— Я? Ровно ничего!
— Ты, право, так странно толкуешь вещи… — невольно бледнея, возразил собеседник.
— Толкую, как следует толковать. Я просто удивляюсь, насколько счастье благоприятствует тебе; кажется, естественнее быть ничего не может. Ты волен истолковывать мои слова по-своему. Но помни одно: я нисколько не ответствен в твоих действиях и словах, не ответствен — благодарение Богу! — ив чистоте твоей совести. Следовательно, все это меня не касается и я умываю руки.
— Так-то лучше.
— Я только хотел знать все в подробностях, чтобы не наделать ошибок и промахов, всегда достойных сожаления во время исполнения назначенной тебе трудной роли в комедии, которая очень легко может перейти в трагедию, если будет продолжаться так, как началась. Теперь я знаю все, что мне следовало знать. Можешь быть спокоен, тебе не придется упрекать меня в чем-либо. Я готов. Что мы теперь будем делать?.. Но прежде всего посмотри на меня.
Дон Торибио осмотрел его с величайшим вниманием.
Превращение было полным; от странной личности, появившейся с час назад на пороге шалаша, не осталось ровно ничего.
Авантюрист, как человек, получивший прекрасное воспитание, не был ничуть стеснен своим костюмом, он имел вид очень приличный. Мексиканец пришел в восторг и крепко пожал ему руку.
— Ты, ей-Богу, бесценный человек! — вскричал он с жаром.
— Не бесценный, — возразил Бартелеми со своим привычным насмешливым хладнокровием, — но я стою дорого, ты скоро убедишься в этом, — прибавил он, спокойно опуская в карман кошелек, данный ему прежним братом-матросом. — Повторяю: что мы теперь будем делать?
— Мы поедем.
— Хорошо, дай мне только спрятать свое ружье, любезный друг. Это «желен», которым я, признаться, очень дорожу. Я приду за ним, если не завтра, то очень скоро.
Пока авантюрист тщательно прятал свое ружье под сухими листьями, так долго служившими ему постелью, дон Торибио запер саквояж, вышел на тропу, окинул ее внимательным взглядом и свистнул два раза особым образом.
Ему почти мгновенно ответили таким же свистом.
Он вернулся в шалаш.
— Спрятал? — спросил он у авантюриста.
— Да, я готов, — ответил тот.
— Так потрудись привести сюда мою лошадь… Ах! Позволь еще одно слово.
— Говори.
— Помни, что с этой минуты ты — дон Гаспар Альварадо Бустаменте, командир шхуны «Санта-Каталина», пришедшей из Веракруса.
— А ты дон Энрике Торибио Морено, богатый мексиканец, владелец моих товаров.
— Очень хорошо, только смотри не проговорись как-нибудь. И будем при посторонних всегда говорить друге другом по-испански.
— Разумеется. Если тебе нечего больше сообщить мне, я приведу твою лошадь.
— Веди.
Минут пять авантюрист был в отсутствии и вернулся со стороны дороги.
— Лошадь готова, — сказал он.
В эту минуту раздался топот лошадей, скачущих во весь опор.
Товарищи вышли из шалаша.
Это скакал верхом негр, ведя другую лошадь под уздцы.
Он остановил лошадей перед шалашом и почтительно поклонился мексиканцу.
— Сеньор дон Гаспар, — сказал дон Торибио, — я думаю, вы напрасно будете ждать дальше того человека, о котором говорили. Судя по всему, он уже не придет.
— Я разделяю ваше мнение, сеньор кабальеро, — тотчас ответил Бартелеми, отважно входя в свою роль, — да и мне больше нельзя оставаться здесь: я должен ехать на шхуну.
— Як вашим услугам, сеньор кабальеро. Прошу вас взять лошадь, которую я приготовил для вас, и принять эту шпагу взамен сломанной.
— Тысячу раз благодарю вас, кабальеро.
Все это было сказано на чистейшем кастильском наречии.
Оба вскочили в седло и поскакали к Картахене, куда прибыли без малого в пять часов пополудни.
Негр, невольник дона Энрике Торибио, следовал за ними на почтительном расстоянии, даже не стараясь уяснить себе, что произошло в его отсутствие.
Глава XI КАК ВСТРЕТИЛИСЬ «ЗАДОРНЫЙ» И «САН-ХУАН-БАТИСТА»
Мы оставили «Задорный» с убранными главными парусами, между тем как его раскачивало во все стороны разъяренными волнами, исполинские гребни которых то и дело перекатывались через палубу.
Ураган бушевал двое суток. Все усиливаясь, он наконец достиг таких размеров, что были вынуждены убрать все паруса до единого и закрепить все снасти, какие только можно, чтобы спасти их от действия бури. Случай весьма редкий в морском деле: корабль только и держался, что на руле, которым едва могли управлять четверо самых сильных моряков из всего экипажа.
«Задорный» так и подбрасывало; на палубе нельзя было держаться от волн, которые ежеминутно бешено устремлялись через нее. Измученные матросы стали глухо роптать, и офицерам стоило величайшего труда сдерживать их недовольство.
Экспедиция начиналась неудачно; уже поговаривали о роковом тринадцатом числе и благодаря суеверию матросов недовольство грозило принять очень серьезные размеры.
Один капитан Медвежонок Железная Голова и его помощники, Олоне, Польтэ и еще два-три человека оставались холодны и спокойны. Обратив взгляд на небосвод, они с уверенностью выжидали конца урагана.
На третьи сутки, в восемь часов утра, буря как будто стала стихать, ветер заметно спал, хотя море еще бешено выбрасывало свои волны на необъятную высоту и стремительно обрушивалось на корабль. В девять часов уже можно было воспользоваться ветром, а в поддень «Задорный» ходко шел вперед под несколькими парусами.
В первый раз по происшествии трех суток на «Задорном» могли делать наблюдения по солнцу и определить положение судна!
Оказалось, что оно находится совсем рядом с Сент-Кристофером, прямо на пути следования европейских кораблей, направляющихся к острову или возвращающихся от его берегов.
Экипаж снова повеселел. С обычной беспечностью моряков матросы сами подтрунивали над паникой, которая было овладела ими, между тем как готовили оружие к бою и вновь водворяли на корабле порядок и чистоту, разумеется упущенные из виду во время шторма. Теперь у этих людей только речи и было, что о доле добычи, на которую они рассчитывали, да о тех богатствах, которые они захватят.
Часам к четырем пополудни Пьер Легран стоял на вахте и расхаживал между ютом и грот-мачтой, то наблюдая за парусами, то глядя на море, которое стихало все более и более, и по временам бросая взгляд на нактоуз, когда вдруг дозорный на верхушке фок-мачты крикнул:
— Корабль!
Пьер Легран кинулся на бак.
— Эй, дозорный! — крикнул он, образовав руками нечто вроде рупора.
— Есть, — ответил матрос.
— Где видишь корабль?
— От штирборта милях в четырех под ветром.
— Судно трехмачтовое?
— Нет, настоящий двухмачтовик с низкой кормой. Это бриг!
— Предупреди-ка командира, малый, — обратился старший капитан к Александру, стоявшему возле него с боцманским свистком в руках.
Александр передал приказание матросу, который тотчас исчез в люке на юте.
— Куда направляется бриг? — продолжал расспрашивать Пьер Легран.
— Идет на нас, — ответил дозорный, — он уже заметил фрегат.
— Ты уверен, что заметил?
— Так точно; он взял к ветру на два румба.
— Видно, «испанец».
В это мгновение на палубу поднялся командир с длинной подзорной трубой через плечо.
Он пристально поглядел на ту точку горизонта, где должен был находиться замеченный корабль, потом, не говоря ни слова, быстро влез на выбленки и вмиг очутился на грот-марселе, а с него поднялся на вершину брам-стеньги, поднял подзорную трубу и стал смотреть.
Весь экипаж стоял на палубе молча и неподвижно.
Волшебное слово «корабль», точно гальванический ток, оживило самых ленивых и беспечных. Корабль — это означает добычу, поживу, быть может богатство, но уж наверняка бой с непримиримыми врагами. Разумеется, жадное нетерпение флибустьеров все разгоралось, пока командир хладнокровно рассматривал во всех подробностях замеченное судно.
Прошло несколько минут. Наконец Медвежонок Железная Голова медленно спустился назад на палубу.
— Братья, — сказал он, сняв шляпу, — это судно — испанский бриг; он сейчас повернул на другой галс, но с Божьей помощью мы догоним его до заката: он далеко не так легок на ходу, как мы. Господин лейтенант, распорядитесь, чтобы пуститься за ним в погоню.
Маневр был исполнен с необычайным усердием и похвальной быстротой.
В несколько минут «Задорный» покрылся парусами и вскоре рассекал носом волны со стремительностью морской чайки.
Удостоверившись, что приказание его было правильно понято и исполнено, командир вернулся в свою каюту в сопровождении Польтэ и Олоне.
«Задорный» был едва ли не лучшим ходоком из всех французских, английских, голландских и испанских судов, которые в ту эпоху бороздили Атлантический океан по всем направлениям.
И в этот раз он не ударил лицом в грязь. Как ни хитрил, как не менял галс, как ни вертелся и поворачивал несчастный бриг, за которым гнался фрегат Медвежонка, ничто не помогло; он был вынужден признать себя побежденным.
Вскоре он уже показался на небосклоне белым пятнышком с величину крыла чайки; потом пятно стало расти, стали различимы паруса, затем корпус, и часам к шести вечера бриг находился не более чем в полумиле от грозного корсара.
Впрочем, сознавая невозможность спастись от когтей хищника, бриг покорился своей участи с тем героическим спокойствие, которым во все времена отличались испанцы, фаталисты по природе, пропитанные восточным духом покорности судьбе вследствие восьмивекового рабства под игом мавров.
Бриг убрал почти все паруса, которые распустил было сначала, и храбро продолжал свой путь под малыми парусами.
Медвежонок опять появился на палубе и, поднявшись на шканцы, взял в руки рупор.
— Все по местам! К бою! — скомандовал он.
— Все готовься к бою! — повторил Олоне.
Немедленно на палубе и на батареях все пришло в движение, гренадеры и самые искусные стрелки взобрались на мачты; потом все стихло, и мертвое молчание водворилось на фрегате.
— Командир! — сказал Олоне. — Все готово, каждый на своем месте.
Пьер Легран с фитилем в руках неподвижно стоял у пушки на баке, устремив взгляд на командира.
Тот подал знак. Пьер Легран поднес фитиль.
Грянул выстрел, и в то же мгновение флибустьерский флаг величественно взвился над фрегатом.
Флаг этот, как удостоверяют все сочинения о флибустьерстве, голубой, белый и красный, имел в точности такое же расположение полос, как на нынешнем национальном флаге Франции.
Только на белой полосе командир «Задорного» велел изобразить черную медвежью голову в натуральную величину, пользуясь преимуществом флибустьеров помещать, если им заблагорассудится, герб, разъясняющий их имя, на флаге собственного судна.
Пушечный выстрел был только угрозой, никакого ядра не пронеслось над волнами. Однако эту угрозу вполне правильно истолковали на бриге: большой испанский флаг мгновенно поднялся на корме, и радостное «ура!» экипажа «Задорного» погребальным звоном отдалось в ушах испанцев.
Между тем погоня все продолжалась; вскоре «Задорный» поймал в паруса свежий порыв ветра и очутился рядом с бригом, на расстоянии слышимости голоса.
— Эй, на судне! — крикнул Медвежонок в рупор.
— Эй! — тотчас отозвались с брига.
— Ложись в дрейф или потоплю!
Приказание флибустьера на бриге исполнили с быстротой, похожей на волшебство.
Фрегат шел вперед еще несколько минут, потом также лег в дрейф.
Два судна находились на расстоянии неполного ружейного выстрела.
Тут Медвежонок приступил к продолжению на минуту прерванного разговора.
— Название и водоизмещение брига? — спросил он.
— «Сан-Хуан-Батиста» в триста пятьдесят тонн.
— С каким грузом?
— Индиго, кофе, слитки серебра и сплющенная серебряная посуда.
При этом блистательном перечислении богатств, заключавшихся в трюмах брига, радостный трепет пробежал по рядам флибустьеров.
— Откуда и куда идете? — продолжал спрашивать Медвежонок.
— Из Картахены в Кадис прямым путем.
При упоминании о Картахене командир едва удержался от удивленного жеста.
— Сколько времени вы в пути?
— Мы вышли из Картахены одиннадцать дней назад.
— Пришлите лодку с капитаном.
Этот маневр был исполнен гораздо медленнее первого. Испанцы страшно боялись флибустьеров, которых буквально считали исчадиями ада; однако приходилось покоряться.
На воду спустили шлюпку, в нее сошли несколько человек, хотя и с очевидным неудовольствием, потом они отчалили от брига и направились к корсару, отдаляя всеми возможными мерами страшную минуту встречи с противниками.
Командир «Задорного» обратился к своему экипажу со словами:
— Пусть каждый остается на своем месте. Ни криков, ни ропота: я хочу, чтобы величайший порядок и глубокая тишина царили на фрегате в течение всего времени, пока на нем будет оставаться испанский капитан. Боцман, — продолжал Медвежонок, — поставьте четырех человек у трапа на штирборте. Покажем этим гордым испанцам, что и мы знаем морские обычаи. Да быть наготове бросить канат, как только подойдет шлюпка.
Несмотря на преднамеренную медлительность, за которую всякий другой флибустьерский предводитель заставил бы дорого поплатиться, шлюпка с испанского брига в конце концов все-таки достигла фрегата.
Капитан, который правил рулем, был человек лет сорока, с мелкими и ничем особенным не приметными чертами лица, на котором было разлито выражение грусти и глубочайшего уныния.
Он один взошел на фрегат. Ему отдали воинские почести. Испанец ответил с улыбкой, исполненной горечи, и направился к командиру фрегата, который со своей стороны спустился со шканцев и шел к нему навстречу.
— Э-э! — вскричал Медвежонок с движением дружеского удивления. — Да это, кажется, дон Рамон де Ла Крус, если не ошибаюсь.
— Увы, благородный командир, — ответил тот со смиренным поклоном, — опять я.
— Опять? Уж не укор ли это, капитан?
— Он относится лично ко мне, командир. Видно, судьбой так определено, что я не могу совершить ни одного перехода, не будучи захваченным вами в плен. Я сетую на судьбу, а не на вас.
— Действительно, мы встречались чуть ли не три раза.
— Четыре, командир.
— Вы думаете?
— Увы! Уверен, — со вздохом ответил дон Рамон.
— Положим, четыре! Итак, в знак уважения к старому знакомому я прошу сказать мне, что могу сделать для вас.
— Только одно, командир.
— Вернуть вам ваше судно, не так ли?
— Увы!
— К несчастью, это невозможно. Но Бог мне свидетель, я желаю облегчить вашу участь… Постойте, кажется, я придумал средство. Есть ли на корабле что-нибудь, принадлежащее лично вам?
— Увы! Все мое состояние.
— Как так?
— Индиго и кофе — моя собственность.
— Какая опрометчивость.
— Теперь я и сам это вижу.
— Впрочем, кто знает! Сколько стоила вам покупка этого индиго и кофе?
— Пять тысяч пиастров, все мое состояние.
— Гм! Сумма крупная… Все равно, что сказано, то сказано! Я покупаю у вас индиго за шесть тысяч пиастров от своего имени и от имени своих товарищей; сверх того я уполномочиваю вас взять две лодки, в которые вы сложите все ваши собственные вещи, равно как и те, что принадлежат членам вашего экипажа. Сколько их?
— Четырнадцать, благородный командир, — ответил капитан с растерянным видом, — да еще два матроса, которых я взял пассажирами при выходе из Картахены.
— Стало быть, шестнадцать человек. Возьмите еще пресной воды и съестных припасов на восемь дней, десять ружей, восемь пистолетов и сто пятьдесят зарядов пороха, чтобы иметь возможность защищаться в случае необходимости; вы находитесь поблизости от Антильских островов, стало быть, если не сумеете добраться до испанских владений, то уж решительно судьба против вас. Впрочем, для большей верности, на тот случай, если бы вы наткнулись на какого-нибудь корсара с Черепахи или из Пор-Марго, я снабжу вас пропуском. Довольны вы теперь?
— О, командир! — вскричал капитан со слезами в голосе, целуя руки флибустьера, несмотря на его сопротивление. — Я навеки остаюсь у вас в долгу. Чем могу я отплатить вам?
— Рассказывая вашим соотечественникам, любезный дон Рамон, что флибустьеры вовсе не такие дьяволы, какими кажутся, что и у них есть сердце, как у других людей. А теперь послушайтесь моего совета.
— Я готов на все.
— Постарайтесь больше мне не попадаться.
— Говоря по правде, — наивно воскликнул дон Рамон не то со смехом, не то со слезами, — если уж суждено мне быть захваченным в плен в пятый или, вернее, в шестой раз, я скорее предпочел бы, чтобы это было проделано вами, нежели кем-нибудь другим.
— Благодарю. Пока будут переносить в лодки вашу поклажу, пойдемте перекусить в мою каюту, капитан, и потолкуем.
— К вашим услугам, командир.
— Олоне, ты слышал? — обратился Медвежонок к младшему капитану. — Посмотри, чтобы все было исполнено, как я решил.
— Будь спокоен, я беру это на себя.
Медвежонок Железная Голова и капитан испанского брига дон Рамон де Ла Крус спустились в каюту, где были приготовлены закуски.
Оба моряка сели за стол.
Флибустьер, как известно, не пил вина; но это не мешало ему быть любезным и приятным хозяином.
Когда дон Рамон выпил два-три стакана вина, Медвежонок вынул из небольшого кожаного мешочка, который висел у него на шее на стальной цепочке, довольно крупный алмаз и подал его капитану.
— Разбираетесь ли вы в подобных вещах? — спросил он.
— Немного, — ответил испанец, — одно время я торговал ими.
— Так взгляните на этот алмаз и оцените его. Капитан взял алмаз, очень внимательно осмотрел его, поворачивая во все стороны, и наконец сказал:
— Он стоит по меньшей мере одиннадцать тысяч пиастров.
— То есть пятьдесят пять тысяч франков, — заметил Медвежонок, отстраняя руку испанца, который возвращал ему драгоценный камень, — итак, оставьте его на память обо мне, любезный капитан. Теперь с денежными делами мы покончили; побеседуем, если вы ничего против этого не имеете?
— Однако, — возразил дон Рамон, — этот алмаз…
— Что ж, это плата за ваше индиго и за кофе, вы продали мне их с прибылью ста на сто, вот и все. Я же даю вам алмаз, потому что его удобнее иметь при себе, чем золото; уберите его и бросим разговор о нем. Скажите-ка лучше, кто теперь губернатор в Картахене?
— Дон Хосе Ривас, граф де Фигароа, предостойный дворянин, у которого очаровательная дочь.
— Ага! У него есть дочь. Ребенок, наверное?
— Нет, любезный командир, донье Эльмине лет шестнадцать, насколько я мог судить по виду.
— Дочь губернатора зовут Эльминой? — воскликнул Медвежонок, слегка вздрогнув. — Она очаровательна, по вашим словам. Наверное, за ней многие ухаживают?
— Этого я, по правде, не сумею сказать. Только я знаю, что, когда я уезжал, речь шла о ее браке.
— Донья Эльмина выходит замуж! — вскричал Медвежонок, помертвев.
— По крайней мере, так говорят, — ответил спокойным тоном дон Рамон, который не подозревал, какое значение для собеседника имели его слова.
— И кто сей счастливый смертный?
— Признаться, любезный командир, мне этот счастливец кажется довольно гаденькой личностью, между нами будь сказано. Это мексиканец, который в один прекрасный день словно с неба свалился в колонию. Никто не знает, кто он и откуда. Он слывет страшно богатым, живет на широкую ногу и ведет игру по-крупному. Последнее качество, судя по всему, и открыло ему двери дома губернатора, с которым он теперь в самых коротких отношениях, уже настолько коротких, что на днях женится на его дочери, бедняжке!
— Вы жалеете эту девушку?
— От всего сердца жалею, командир. Я уверен, что ее приносят в жертву. Она не может любить этого человека, о котором ходят странные, даже гнусные слухи.
— Расскажите-ка мне о них.
— Я уже говорил вам, командир, что при выходе из Картахены я принял на борт брига в качестве пассажиров двух матросов.
— Помню.
— Ну так вот, эти два матроса были привезены мне самим доном Торибио Морено.
— Доном Торибио Морено?
— Да, так зовут мексиканца.
— Ага! Очень хорошо! Продолжайте.
— Представьте себе, этот дон Торибио Морено ждал своей шхуны «Санта-Каталина» из Веракруса. На шхуне было всего семь человек, включая и капитана. Так вот, мексиканец так ловко подстроил дело, что при подходе к картахенскому рейду потонули четыре матроса и сам капитан. Дон Торибио Морено сам приехал на шхуну с новым экипажем немного спустя после этого рокового случая, но два матроса, оставшиеся в живых, были охвачены жестоким ужасом от всего, что произошло на их глазах, и во что бы то ни стало хотели покинуть шхуну. В это самое время я выходил в море. Сеньор Морено, который, вероятно, ничего больше не желал, как только избавиться от нежелательных свидетелей, предложил мне взять их на бриг, на что я согласился.
— И теперь они у вас?
— А то как же! Им это темное дело известно во всех подробностях. Только одного я не пойму: какая выгода может быть дону Торибио Морено в этом потоплении?
— Я дознаюсь, — пробормотал себе под нос флибустьер. — Хотите уступить мне этих двух людей, капитан, — спросил он вслух, — даю вам слово, что им не будет причинено вреда, напротив.
— Как вам угодно, любезный командир. Но позвольте узнать?..
— Любопытство, капитан, одно любопытство. Вот вам пропуск, — прибавил он, подавая бумагу, на которой написал несколько слов и подписался внизу, — теперь пойдемте.
— Ах! Командир, — вскричал капитан, пряча драгоценный листок, — я, право, не сумею выразить…
— Полноте, мы старые друзья, и я не хочу, чтобы с вами случилось несчастье. Идемте же.
Они вышли на палубу.
Олоне в точности исполнил приказание командира: две самые большие лодки с брига были нагружены сундуками и всем имуществом экипажа. Сами матросы разместились в лодках с запасом воды, съестных припасов и оружия. В лодку, которая была побольше и предназначалась для самого капитана, сложили его собственные вещи. Человек десять флибустьеров перешли на время на бриг, чтобы нести вахту.
Два испанских матроса с радостью приняли предложение Медвежонка и поспешно поднялись на борт фрегата.
Кроме личных сведений, которые командир экспедиции надеялся получить от них, эти двое своим знанием местности и порта, куда направлялся фрегат, могли быть весьма полезны для общего дела. Разумеется, флибустьеры поняли цель начальника и с удовольствием встретили это пополнение экипажа.
Капитан дон Рамон де Ла руус, простившись с капитаном Медвежонком Железная Голова и осыпав его благословениями, сошел в свою шлюпку, и две лодки помчались на всех парусах к острову Куба, берегов которого они могли достигнуть менее чем за трое суток, если бы все время дул свежий попутный ветер.
Медвежонок Железная Голова отобрал сто пятьдесят человек, которых перевел на бриг. Кроме того, он вооружил его дюжиной восемнадцатифунтовых орудий, которые находились в трюме фрегата, и переименовал свой приз в «Бунтаря», назначив Олоне капитаном. Вслед за тем на обоих флибустьерских кораблях подняли паруса, и они устремились к Картахене.
Глава XII КАК ДОНЬЯ ЛИЛИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРИЛА СВОЮ КУЗИНУ
Когда двери залы затворились за доном Хосе Ривасом и его приятелем, донья Эльмина опустила голову и две слезы тихо скатились по ее щекам, между тем как вздох вырвался из ее груди. Донья Лилия тихо подошла, села на стул возле нее и нежно пожала ей руку.
— Бедная сестра! — шепнула она ласково.
Донья Эльмина не ответила, она сидела неподвижная и грустная, устремив в пол растерянный взгляд.
— Эльмина, милая, — продолжала девушка, целуя кузину в лоб, — не унывай, приди в себя, вооружись бодростью против горя, не поддавайся отчаянию, опомнись. Твое несчастье велико, но могущество Божье беспредельно.
— Нет, Лилия! Нет, моя дорогая! Сам Господь не может спасти меня. Я в могучих когтях тигра, а тигр неумолим, как тебе известно. Я должна умереть.
— Умереть, ты?
— Да, Лилия, лучше смерть, чем страшная жертва, которой требует от меня отец.
— Тебя ли я слышу? Всего два часа тому назад не была ли ты исполнена твердости, отваги и надежды!
— Я надеялась, это правда, на что — сама не знаю. Всегда надеешься, увы, когда страдаешь, а я страдаю так сильно, Лилия.
— Бедный, милый друг, приди в себя, повторяю, не поддавайся горю. То, что произошло во время визита твоего отца, не должно было тебя удивить, ведь ты все знала. Так ободрись же и вернемся к нашей беседе, прерванной так некстати. Докончи признание, на которое едва намекнула…
— Не настаивай, любезная Лилия, — с живостью перебила ее донья Эльмина, подняв голову, — все это — один только бред воспаленного воображения. Я погибла, я чувствую это. Ничто не удержит меня на краю пропасти, в которую я готова низринуться.
— Не говори таким образом, Эльмина, умоляю тебя; напротив, ты должна мужаться и не поддаваться отчаянию.
— Мужаться! — горестно повторила Эльмина. — К чему пытаться вступить в безнадежную борьбу? Увы! Моя судьба решена безвозвратно.
— Кто знает, Боже мой! Разве не может случиться чего-нибудь необыкновенного?
— Не старайся, любезная Лилия, — возразила Эльмина, качнув головой, — вселять в меня надежду, которой сама не имеешь.
— Полно, милая Эльмина, будь же немного бодрее. Забудь, если можешь, хоть на минуту свое горе, и попытайся отвлечься чем-нибудь. Поговорим душа в душу, открой мне тайну, которая гнетом лежит у тебя на сердце, а ты все упорно носишь его одна, скрывая от всех.
Донья Эльмина задумалась, бледная улыбка мелькнула на ее губах, и наконец невыразимо грустным тоном, в котором звучало глубокое смирение, она сказала:
— Впрочем, милая Лилия, я не вижу причины хранить секреты от тебя, моего единственного друга. Признание, которого ты требуешь от моей дружбы, я сделаю в двух словах: я люблю. Тот, кого я люблю, не знает о моем чувстве; он далеко, очень далеко от меня. Никогда я не увижу его более, он едва знаком со мной, и даже если бы любил меня, что немыслимо, нашему союзу препятствуют такие неодолимые преграды, такая бездна разделяет нас, что я никогда не смогу принадлежать ему! Эта любовь — просто безумная мечта.
Донья Лилия выслушала кузину с величайшим вниманием, порой покачивая головой и очаровательно надувая крошечные губки.
— Эльмина, — шепнула она, когда та замолчала, — французы говорят, что слова «невозможно» в их языке не существует; почему бы не допустить этого и для испанского?
Донья Эльмина пристально поглядела на нее.
— С какой стати говоришь ты мне про французов? — спросила Эльмина, и голос ее слегка дрогнул.
Донья Лилия улыбнулась.
— Французы — люди с душой, — заметила она вкрадчивым голосом.
— Некоторые из них доказали нам это, — ответила Эльмина, подавив вздох.
Донья Лилия склонила голову к плечу кузины.
— Не знаю, заметила ли ты, — продолжала она, — но дон Торибио в нашем присутствии как будто прикидывается…
— Ни слова больше об этом человеке, — вскричала с живостью донья Эльмина, — умоляю тебя!
— Как хочешь, но пока он говорил с тобой, я пристально вглядывалась в него и, как и ты…
— Как и я, не правда ли, нашла, что лицо его очень тебе знакомо? — перебила донья Эльмина с нервным содроганием во всем теле.
— Это и вправду он, буканьер, разбойник с Санто-Доминго!.. О! Никогда не существовало сходства удивительнее!.. — продолжала донья Лилия. — А между тем тот, о ком мы говорим, не может быть жив.
— Разве злой дух не выходит из пучины?
— Но если это он, надо предупредить твоего отца, Эльмина, и все сказать ему.
— Что же все? — возразила дочь дона Хосе Риваса, с унынием качая головой. — Что мы знаем? Ровно ничего. К тому же этот человек целиком завладел моим отцом, который видит все вокруг только его глазами. Доказательства же мы, к несчастью, никакого привести не можем.
— Как знать! — быстро ответила донья Лилия.
— Что ты подразумеваешь под этим?
— Выслушай меня, Эльмина. У меня также есть тайна, которую я тебе открою, — твердо и решительно заявила донья Лилия.
Донья Эльмина взглянула на нее с изумлением.
— У тебя?
— Ну да, Эльмина. Ты знаешь, какая я сумасбродка и как люблю бродить одна по лесам и по полям. Ты сама часто ставила мне в укор мои бродяжнические наклонности.
— Правда, — прошептала донья Эльмина, улыбаясь сквозь слезы.
— Так именно этой моей страсти к одиноким странствиям мы, пожалуй, и будем обязаны единственной помощью, на которую можно рассчитывать.
— Объяснись.
— Одним прекрасным утром, недель шесть назад, я выехала верхом из деревни и скакала по лесу без определенной цели, просто находя наслаждение в том, чтобы вдыхать свежий и легкий воздух и чувствовать, как утренний ветерок играет в моих волосах. Вдруг моя лошадь бросилась в сторону, так что я едва удержалась на седле. И представь себе, я вижу, что поперек дороги лежит человек в лохмотьях, с длиной бородой и осунувшимся лицом; он имел самый жалкий вид. Я сошла с лошади и наклонилась к нему. Глаза незнакомца были закрыты, и глухое хрипение вырывалось из его груди. Мне с трудом удалось привести его в чувство. Несчастный умирал с голоду. Я бросилась в деревню и привезла ему что-нибудь поесть. Когда же он немного пришел в себя, то сознался мне, что он француз, флибустьер, чудом спасшийся из испанской тюрьмы. Зная, что будет безжалостно убит, если попадется в руки своих врагов, он добрался до леса и скитался в нем несколько дней, питаясь кореньями и дикими плодами. Ружье он сохранил, но пороха не имел, следовательно, ни охотиться, ни защищаться не мог. Я дала ему нож и топор, которые захватила с собой из деревни, и высыпала все деньги, какие были у меня в кошельке, на траву возле него.
— Это хорошо, милая Лилия.
— Он сказал мне только: «Вы спасли мне жизнь, она принадлежит вам».
— И ты виделась с ним после того?
— Часто. Он рассказал мне всю свою историю. По-видимому, это какой-то знаменитый флибустьер с Черепашьего острова. Я говорила с ним о…
— О ком?
— О том, кого ты знаешь, милая, — улыбаясь, ответила донья Лилия, — он знает его и любит; мне и пришла в голову одна мысль, — прибавила она нерешительно.
— Какая?
— Видя тебя такой страдающей и не зная, каким способом помочь твоему горю, я с месяц назад спросила у Бартелеми — этого человека зовут Бартелеми — нет ли у него возможности доставить письмо на Санто-Доминго.
— «А что, это очень важно, сеньорита?» — осведомился он.
— «Вопрос жизни или смерти», — ответила я.
— «Хорошо, — сказал он, — сам еще не знаю как, но клянусь вам, я доставлю письмо. Давайте его».
— «Я привезу его завтра».
— И письмо это?.. — вскричала донья Эльмина задыхающимся голосом.
— Я отдала на следующий день Бартелеми. В письме заключалось всего три слова: «Картахена. Сейчас. Опасность». Однако надо было, чтобы тот, к кому посылалось извещение, узнал, от кого оно. Тут я вспомнила про кольцо, которое ты постоянно носишь на груди в ладанке из пахучей кожи. Я тайком сняла его с тебя, пока ты спала и, каюсь, отважно приложила печать вместо подписи.
— Ты сделала это, Лилия?
— Признаюсь, сделала, моя душечка. Ты находишь, что я была не права?
— О Лилия, моя дорогая Лилия! — вскричала донья Эльмина, бросившись кузине на шею. — Спасибо тебе, спасибо тысячу раз!
— Спустя три дня Бартелеми, которого я нигде не могла отыскать, хотя изъездила весь лес вдоль и поперек, сам пришел ко мне сюда.
— Письмо отправлено, — объявил он мне, — оно дойдет самое позднее дней через десять.
— О! Только бы он получил его! — пробормотала дочь дона Хосе.
Лилия улыбнулась.
— Недели две назад, — продолжала она, — Бартелеми сказал мне однажды утром: «Капитан получил письмо, он будет. Зорко наблюдайте, и я со своей стороны буду смотреть в оба».
— Так он уже в пути?
— В пути. Довольна ли ты теперь, милочка?
— О, Боже мой! Неужели Ты сжалишься надо мной? — воскликнула донья Эльмина и зарыдала.
Две девушки крепко обнялись, одновременно и плача, и улыбаясь.
Глава XIII В КОТОРОЙ ДОН ТОРИБИО И ЕГО ПРИЯТЕЛЬ БЕСЕДУЮТ О КОЕ-КАКИХ СВОИХ ДЕЛАХ
Прошло несколько дней со времени представления капитана Бустаменте губернатору города Картахены дону Хосе Ривасу де Фигароа. Знаменитый флибустьер так искусно сыграл свою маленькую рольку, как говаривал кровавой памяти король Карл IX, мнимый капитан «Санта-Каталины» изъяснялся на таком чистейшем кастильском наречии, выражал настолько глубокое отвращение к грабителям с Тортуги, Санто-Доминго и Ямайки, а в особенности с такой очаровательной непринужденностью выигрывал пиастры и квадруполи новых приятелей, что все лица, присутствовавшие на вечерах губернатора, с первого же раза признали его за старого христианина и чистокровного испанца из старой Кастилии.
Заметим мимоходом, что в испанских колониях Америки и даже в самой Испании звание старого христианина — настоящий титул и присваивается только тем, в чьем роду никогда не примешивалось ни индейской крови в Америке, ни мавританской в Испании.
Дон Хосе Ривас был очарован таким замечательным игроком и почувствовал к нему безотчетное влечение; он радушно отворил двери своего дома настежь для капитана Бустаменте.
Итак, все улыбалось авантюристу: он был богат, пользовался почетом и уважением и вдобавок имел прелестное судно.
Однако капитан Бартелеми не был счастлив. На ясном небосклоне его судьбы виднелась темная тучка, правда едва заметная, но напоминающая о том, как в аргентинской пампе крошечная черная точка на горизонте в несколько мгновений может разрастись до громадных размеров и превратиться в ураган.
В этот день около семи часов утра достойный капитан задумчиво сидел в каюте своей шхуны «Санта-Каталина», облокотившись о стол и подперев руками голову, и трагическим взглядом смотрел на громадный стакан глинтвейна, стоявший перед ним.
— Это не может длиться дальше таким образом, — пробормотал он, — я просто более не человек и не принадлежу себе. Черт меня побери, если я не превратился в вещь, которую ворочают и вертят как хотят! Надо так или иначе положить этому конец. Мне надоело.
Он встал, залпом осушил стакан и вышел на палубу.
— Спустить мою шлюпку, — приказал он вахтенному, который расхаживал взад и вперед по шкафуту.
Приказание исполнили немедленно.
Через несколько минут шлюпка отчалила от шхуны и направилась к берегу.
Едва капитан занес ногу на первую ступень пристани, как вдруг увидел перед собой высокую фигуру своего близкого приятеля дона Торибио Морено.
Мексиканец улыбался.
Капитан, напротив, нахмурил брови.
Он знал своего приятеля: улыбка не предвещала ничего хорошего.
— Ты куда? — поинтересовался дон Торибио, протягивая ему руку.
— На берег, — лаконично ответил капитан, не взяв руки.
— Видно, у тебя есть какой-то замысел? — продолжал расспрашивать дон Морено, нисколько не обидевшись.
— Нет.
— Так пойдем позавтракаем вместе.
— Я не хочу есть.
— Голод придет, когда примешься за еду. Капитан сделал нетерпеливый жест.
— Да что же с тобой сегодня? — спросил дон Торибио, пристально глядя на него.
— Не знаю, я раздражен. Пусти меня.
— Куда ты идешь?
— За своим ружьем, если тебе непременно надо знать.
— Неужели ты так им дорожишь?
— Разумеется, дорожу.
— В таком случае все складывается как нельзя лучше, мы поедем вместе. Я еду на свою ферму в Турбако.
— Я предпочитаю отправиться один.
— Весьма возможно, но я мне крайне необходимо переговорить с тобой, любезный друг.
— После переговорим.
— Нет, сейчас; то, что я должен тебе сказать, очень важно и не терпит отлагательства.
— А-а! — вскричал авантюрист, останавливаясь, и в свою очередь посмотрел прямо в глаза собеседника. — Что такое творится?
— Еще ничего, но скоро, пожалуй, что-то произойдет.
— Что же именно?
— Узнаешь. Поедем.
— Поедем, раз ты так настаиваешь.
Держа на поводу двух оседланных лошадей, черный невольник неподвижно стоял в нескольких шагах. Дон Торибио подал ему знак; он подвел лошадей.
Бартелеми и его приятель вскочили в седло.
Через пять минут они несись по дороге.
Видя, что спутник упорно молчит, дон Торибио наконец решился вступить в разговор.
— Ты ведь принял на шхуну десять человек, которых я прислал к тебе четыре дня тому назад? — спросил он.
— Принял, хотя, признаться, вовсе не понимаю, на что тебе понадобился экипаж из шестнадцати человек на судне, которым легко управлять вчетвером.
— Тебе какое дело?
— Никакого, только хочу заметить, что если ты делал выбор намеренно, то он удачен: это сущие разбойники.
— Ба! Ты усмиришь их, не мне тебя учить, как за это взяться. Кстати, ты ведь также принял на борт порох и четыре орудия?
— Все тщательно спрятано в трюме.
— И ты готов сняться с якоря?
— По первому знаку. Целых двое суток я стою наготове на большом рейде.
— Очень хорошо.
— Ты доволен, тем лучше.
— И ты будешь доволен, когда узнаешь, что я хочу сделать.
— Какую-нибудь гадость, вероятно?
— Великолепную штуку. Ты знаешь, что у губернатора есть дочь?
— На которой ты женишься.
— Какой дурак наговорил тебе подобный вздор! — вскричал дон Торибио, пожимая плечами. — Я уже десять лет как женат, дружище. Черт возьми! Я не хочу быть двоеженцем.
— Чего же ты хочешь?
— Немногого. Ты ведь обедаешь сегодня у губернатора?
— Ну да.
— За десертом ты пригласишь губернатора с семейством, дона Лопеса Сандоваля, командующего гарнизоном, и всех присутствующих на вечер, который ты даешь на своей шхуне перед уходом из Картахены, чтобы отблагодарить за оказанное тебе радушное гостеприимство, понимаешь?
— Совсем мало.
— Все с радостью принимают твое приглашение, а ты устраиваешь пир. Пока гости веселятся, играют, пьют и танцуют в каюте на корме, ты тихонько снимаешься с якоря и выходишь в открытое море. В двух или трех милях от рейда мы берем с наших гостей выкуп — и шутка сыграна.
— А богатство-то свое ты бросишь, что ли?
— Мой бедный Бартелеми, до конца дней твоих ты останешься простаком, — заметил дон Торибио, пожав плечами и глядя на собеседника с насмешливой улыбкой. — Сколько бочонков принял ты на шхуну?
— Тридцать, черт возьми! Можно подумать, что ты сам не знаешь!
— Счет верен. Ну так вот, двенадцать из них набиты золотом. Я потихоньку превратил все свое состояние в деньги под предлогом грядущих больших трат для покупки земель, домов и так далее. Теперь все мое богатство на «Санта-Каталине», понимаешь?
— Еще бы!
— Что же ты скажешь о моей мысли?
— Это порядочная гнусность! — отчеканил капитан.
— Ба-а! Разве, любезный друг, не все позволено в борьбе с испанцами?
— Может быть… а девушка?
— Девушки, хочешь ты сказать; их две, и обе очень хорошенькие.
— Две девушки?
— Да, да, и очень хорошенькие, приятель.
— Ага! Как же ты поступишь с ними?
— Еще не знаю, там поглядим, — самодовольно ответил мексиканец.
Уже несколько минут всадники взбирались на довольно высокий пригорок, с вершины которого открывался прекрасный вид на море, в ту минуту тихое и голубое.
Вдруг флибустьер вскрикнул.
— Что с тобой? — спросил дон Торибио с изумлением.
— Со мной? Что же со мной могло случиться! Ничего, моя лошадь вдруг споткнулась, вот и все, — холодно ответил капитан Бартелеми, тревожно всматриваясь вдаль, где на горизонте только что появилось едва заметное, с крыло чайки, белое пятнышко.
— Какой ты неумелый наездник, — насмешливо заметил дон Торибио.
— Что ж тут удивительного, раз я моряк.
— А потому плохой ездок, не правда ли?
— Сознаюсь. И что дальше? — с некоторой грубостью воскликнул Бартелеми.
— Уж не сердишься ли ты?
— Я нисколько не сержусь, но считаю нелепым с твоей стороны подтрунивать надо мной.
— Не знал я за тобой такой щепетильности, брат.
— Уж не прикажешь ли мне переродиться? Надо принимать меня таким, каков я есть.
— Тьфу, пропасть! Ты сущий терновник с иглами! Не в духе ты, видно, сегодня.
— Может быть, — согласился Бартелеми, который во что бы то ни стало хотел отвлечь внимание товарища и не дать ему взглянуть на море, где почти незаметная сперва белая точка быстро росла.
— Полно, не сердись, брат, я был не прав.
— Рад, что ты признаёшь это, — ответил Бартелеми угрюмо.
— Вернемся к нашему делу.
— К какому?
— О котором мы сейчас говорили, пропасть тебя возьми!
— А! Хорошо.
— Итак, решено, не правда ли? Ты пригласишь их сегодня.
— На какой день? — осведомился флибустьер, не отрывая взгляда от моря.
— Сегодня пятница… — начал дон Торибио.
— Несчастный день, — заметил Бартелеми с насмешливым выражением.
— Эх ты, суеверный! Пригласи своих гостей к будущему вторнику.
— Пожалуй. Если тебе нечего больше сообщить мне, то прощай или, вернее, до свидания вечером. Мы у самого Турбако.
— До вечера.
Они повернули в разные стороны.
Всадники находились совсем неподалеку от узкой тропинки, которая вела к шалашу, прежнему жилищу Берегового брата.
Дон Торибио тихо продолжал свой путь и въехал в деревню, а капитан направился к лесу.
— Как только исчезнет надобность в его помощи, я сумею от него избавиться, — пробормотал мексиканец, посмотрев вслед товарищу, который скрылся за деревьями.
— Как долго еще Господь будет терпеть на земле этого подлеца и допускать его злодеяния, — пробормотал в свою очередь капитан Бартелеми, углубляясь в чащу леса.
Глава XIV КАПИТАН БАРТЕЛЕМИ ПРИСТАВЛЯЕТ ГЛАЗ К ЩЕЛИ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ, А УХО ПРИКЛАДЫВАЕТ К ПЕРЕГОРОДКЕ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ
Спустя минуту после прощания с доном Торибио Морено капитан Бартелеми, сделав круг по лесу, вернулся на прежнюю дорогу и осторожно последовал за мнимым мексиканцем на таком расстоянии, чтобы не быть замеченным им. Он увидел, что вместо того, чтобы направиться к своей ферме или, вернее, вилле, как убеждал капитана, он, напротив, свернул к кабаку, пользующемуся крайне дурной славой, где имели обыкновение собираться бродяги и мошенники, которыми испанские колонии, как бы по особому преимуществу, кишмя кишели с первого дня своего существования.
Дон Торибио Морено сошел с лошади и без малейшего колебания направился в кабак с видом человека, вполне привычного к виду этого более чем подозрительного заведения.
Мы забыли упомянуть, что за те полчаса или минут тридцать пять, на которые капитан Бартелеми оставил его одного, достойный мексиканец перед въездом в деревню, спрятавшись, без сомнения, за кустом, воспользовался полным уединением, которое царило вокруг, чтобы переодеться и настолько изменить свой наружный вид, что его не узнал бы никто, кроме флибустьера, одаренного зорким и проницательным глазом и сильно заинтересованного всем происходящим.
Подъехав чуть позже к кабаку, капитан остановил лошадь.
С минуту он колебался. Очевидно, с первого же шага, который ему предстоит сделать в общей зале, взгляд его товарища упадет прямо на него и он будет узнан.
Именно этого он и хотел избежать.
К несчастью, флибустьер находился перед одним из тех затруднений, которые порой возникают случайно и разрушают любые, даже самые тщательно обдуманные планы, поскольку не представляется никакой возможности обойти их.
Но капитан Бартелеми был из числа тех энергичных, с железной волей людей, которые, сильно захотев чего-нибудь и приняв решение, скорее дадут убить себя на месте, чем отступятся от него.
— Ба-а! — пробормотал он про себя, выразительно пожав плечами. — Кто ничем не рискует, ничего и не получает. Как он ни хитер, все же не у него мне учиться хитрости. К тому же, — насмешливо заметил он, — я заслужил от Бога это вознаграждение!
Он поднял лошадь на дыбы, чтобы привлечь к своей особе внимание, а когда никто не вышел, крикнул громовым голосом:
— Эй, кто здесь кабатчик! Выйдешь ли ты, мерзавец, черт тебя побери?!
Почти мгновенно на пороге явился субъект в жалких лохмотьях, сухощавый, худосочный, кривобокий и горбатый, с лицом в форме треугольника и голодным выражением круглых, точно буравом просверленных карих глаз, которые, однако, светились тонким умом.
Этот прелестный образчик индейской расы — человек этот был индеец — взял в руку засаленную шляпу, украдкой лукаво взглянул на путешественника и наконец решился подойти.
— Что прикажете, ваша милость? — сказал он, низко кланяясь и взяв лошадь под уздцы.
— Хочу, — ответил капитан, — чтобы ты отвел мою лошадь на конюшню, а мне подал водки.
— Здесь? — хитро спросил индеец.
— Нет, — с живостью возразил капитан, — в общей зале или, если там слишком людно, в отдельной комнате; я оплачу, что причитается.
И он сделал движение, чтобы сойти с лошади.
— Вам будет хорошо в общей зале, ваша милость, посетители не будут беспокоить вас.
— Это почему? — спросил капитан, спрыгнув наземь.
— Потому во всем доме пусто, ни единой души. Капитан пытливо взглянул на индейца, но тот выдержал его взгляд, не опуская и не отводя глаз.
— Это другое дело, любезнейший, — ответил капитан, положив ему руку на плечо, — хочешь заработать унцию золота? — прибавил он, слегка понизив голос.
— Гм, ваша милость, я предпочел бы две, — не задумываясь, ответил индеец и выразительно прищурил глаз.
— Я вижу, что мы можем поладить.
— Ваша милость, такой бедняк, как я, который за весь год не зарабатывает более восьми пиастров — когда на его долю случайно выпадет счастье получить иное вознаграждение помимо палочных ударов, всегда уладит дело с господами, которые удостоят его своего доверия и покажут ему свои унции золота.
Слово покажут было произнесено с ударением, в значении которого капитан ошибиться не мог.
Он достал из кармана длинный красный кошелек, сквозь шелковые петли которого поблескивало золото, и, с ювелирной точностью выхватив правой рукой две унции золота и зажав их между большим и указательным пальцами, сверкнул деньгами перед заблестевшими от жадности глазами нищего индейца.
— Что ты сделаешь, чтоб заработать это золото и даже вдвое больше, если я останусь тобой доволен? — с улыбкой спросил капитан.
— Увы! Ваша милость, — ответил индеец с выражением, которого нельзя передать, — у меня отца нет, иначе я бы сказал… но за неимением его, я весь к вашим услугам. Что мне нужно сделать? Я принадлежу вам душой и телом.
Капитан спрятал золото в руке.
— Где конюшня? — спросил он.
— Там за домом, ваша милость; вы отсюда можете видеть ее.
— Очень хорошо. Слушай: вот тебе пять минут, ни секундой больше, чтобы отвести мою лошадь на конюшню и вернуться ко мне. Если ты кому-нибудь скажешь хоть слово за это время, считай, что мы ни о чем с тобой не договаривались. Понял? Ступай!
— Ай, ваша милость, я буду нем как рыба. Индеец увел лошадь.
Через три минуту он уже вернулся.
— Я доволен тобой, — продолжал капитан, — теперь вслушайся хорошенько в то, что я скажу тебе: с четверть часа назад к этому дому подъехал всадник. Ты отвел его лошадь на конюшню, как сейчас свел туда мою. Я хочу, чтоб ты поместил меня в таком месте, где я мог бы видеть этого всадника и слышать все, что он скажет, между тем как он не будет подозревать о моем присутствии. Если ты в точности исполнишь мое требование, я заплачу тебе не две, а четыре унции золота. А чтобы ты не сомневался, что я не обманываю тебя, вот тебе две унции задатка.
Он опустил золото в дрожащую руку индейца. Тот спрятал его с таким проворством, что капитан не мог понять, куда оно девалось.
— Кстати, чуть не забыл, мне надо предупредить тебя, для твоей же пользы, — прибавил Бартелеми, нахмурив брови, — что при малейшем подозрении в измене я пристрелю тебя как собаку.
И, приподняв край своего плаща, он показал индейцу массивные рукоятки двух пистолетов, заткнутых за его шелковый пояс.
— Ваша милость, — с величавым достоинством возразил индеец, — если бы я имел честь быть вам знакомым, вы бы знали, что Тонильо не изменник. Мой хозяин теперь отдыхает после обеда, стало быть, я один распоряжаюсь в доме, и клянусь вам той долей блаженства, которую надеюсь вкусить в раю, что вы услышите все, о чем будут говорить люди, которых вы хотите подкараулить. К тому же, это дрянные посетители, — прибавил он тоном насмешливого презрения, — они сидят с добрый час и еще ничего не заказали, ни на один реал. А ведь прежде всего я должен соблюдать выгоды заведения.
— Это справедливо! — посмеиваясь, согласился бравый капитан.
— Пойдемте, — сказал индеец. Капитан пошел вслед за ним.
Тонильо, как звали индейца, не вошел в общую залу, а обогнул угол дома и направился через конюшню к двери, не запертой на ключ. Он привел капитана в какой-то подвал, где было сложено несколько бочонков с водкой и вязанок сорок корма для лошадей.
Тонильо осторожно отодвинул вязанки, прислоненные к стене, и указал капитану на довольно широкую щель в перегородке.
— Здесь вам будет очень удобно, — сказал он.
— Хорошо, можешь идти, — ответил флибустьер. — Смотри, чтобы не увидели моей лошади. Когда эти люди соберутся уезжать, вернись сюда.
Индеец отвесил почтительный поклон, вышел из подвала и затворил за собой дверь.
Капитан внезапно очутился в глубоком мраке.
Единственный свет, которым освещался подвал, исходил от широкой щели, указанной индейцем.
— Ведь я всегда знал, — пробормотал себе под нос капитан свойственным ему насмешливым тоном, — я был уверен, что Господь никогда не покидает честных людей.
И, пристроившись как можно удобнее, он приложил глаз к скважине.
Взгляду его представилась одна из тех живописных картин, которые наш бессмертный Калло[36] уже тогда начал гравировать в своих странствиях с цыганами.
В зале, довольно обширной, но едва освещенной узкими окнами, тусклые стекла которых были покрыты паутиной, где табачный дым густым облаком стлался под потолком, поглощая почти весь свет, находились человек двадцать сущих висельников, если судить по лицам с низкими лбами, выступающими, словно клювы, носами, коварным взглядом и с усами, так лихо закрученными вверх, точно они были готовы проткнуть небо.
Люди эти, одетые буквально в отрепья, но драпировавшиеся в них с искусством, которым владеют одни только испанцы, в случае нужды способные составить себе живописный наряд из одной простой бечевки, лежали или стояли вокруг столов в самых причудливых позах.
Все были отлично вооружены.
У каждого из них не только висела на боку длинная шпага с рукояткой в виде раковины, но все до одного к тому же имели пистолеты за поясом и широкие кинжалы с роговой ручкой — за голенищем правого сапога.
Капитан с минуту отыскивал глазами своего «приятеля» среди этой пестрой толпы бродяг и разбойников.
Он вскоре обнаружил его сидящим на единственном стуле, который был в зале. Прислонившись к спинке и закинув назад голову, мексиканец, по своему обыкновению, курил превосходную сигару.
В ту минуту, когда флибустьер наклонился к щели, дон Торибио Морено держал речь; разбойники слушали его с величайшим вниманием.
— Господа! — небрежно говорил он, пуская огромные клубы дыма ноздрями и ртом. — Я не понимаю вашего колебания. В чем же, наконец, дело? Ведь проще, ей-Богу, и быть ничего не может.
— Проще! — подхватил хриплым голосом рослый детина отвратительной наружности, кривой на правый глаз и косой на левый. — Гм! Видно, вашей милости угодно шутить. Я не нахожу этого дела таким простым.
— Черт тебя побери, любезный Матадосе, — возразил дон Торибио заискивающим тоном. — Ты вечно находишь затруднения в пустяках.
Достойный Матадосе, судя по виду, между прочим будь сказано, вполне заслуживающий свое прозвище, которое по-испански означает буквально «убивший дюжину», ответил невозмутимо:
— Я возражаю потому, ваша милость, что я честный человек и добросовестно исполняю дело, за которое возьмусь, чтобы не заслужить укора. Что касается девчонок — дело простое: петля, стянутая более или менее крепко — и все тут! Ребенок возьмется за это. Бедненькие голубки, они и не подумают защищаться… да, наконец, мы же будем в море, далеко от нескромных глаз, никто не посмеет помешать нашим делам… вопрос в том, что это еще не все.
— Да, да, — ответил дон Торибио, посмеиваясь, — я знаю, где у вас больное место.
— Черт побери! И даже очень, ваша милость. Я видел знаменитого капитана Бустаменте, как вы изволите называть его, и клянусь, мне он кажется вовсе не таким, чтобы с ним легко было справиться.
— Да вас-то ведь двадцать!
— Велика важность! Послушайте-ка: не далее как дня три назад человек двенадцать из наших поджидали, когда он выйдет от губернатора. Говорят, он чертовски удачлив в игре, и, признаться, мы хотели избавить его от части выигрыша за этот вечер. Темно было, хоть глаз коли. Подходит он, и мы накидываемся на него со всех сторон сразу. Другой бы немедленно сдался и просил пощады, не правда ли?.. Как бы не так!.. Что делает этот черт? Обнажает длиннющую шпагу и, не говоря ни слова, не подав даже голоса, как бросится на нас; меньше чем за три минуты искрошил пятерых, двоих-троих поранил и ушел, показывая нам кукиш. Нет, нет, ваша милость, это нелегкое дело. И наконец, поскольку сам я человек военный, то полюбил его. Это малый что надо! Мне он мил, клянусь честью, и меньше чем за тридцать унций я не убью его; вот и весь сказ!
— Вот и весь сказ! — хором подхватили остальные разбойники.
— Как угодно, ваша милость, меньше мы не возьмем, — повторил Матадосе.
Дон Торибио задумался.
— Пусть будет так! — вскричал он спустя минуту с гримасой, которая имела притязание изобразить улыбку. — Пусть будет по-вашему, упрямцы. Но я балую вас, честное слово! Каждый из вас получит по тридцать унций; только в этот раз, надеюсь, вы действительно убьете его.
— Без честности дела вести нельзя, ваша милость, — с достоинством ответил разбойник. — Мы с товарищами, благодарение Богу, известны как люди благородные и всегда добросовестно отрабатываем свои деньги.
— Никогда я и не сомневался в вашей честности и вашем благородстве, — улыбнувшись, заверил общество дон Торибио, — так как теперь мы обо всем договорились… ведь договорились, кажется?
— Договорились, ваша милость, — ответили разбойники хором.
— За исключением задатка, — вкрадчиво вставил Мата-досе.
— Каждый из вас сейчас получит по десять унций, остальное — после дела. Только помните, что вы всегда должны быть у меня под рукой. Я отправлю вас на шхуну только в последнюю минуту.
Капитан Бартелеми нашел, что слышал достаточно; он выбрался из своей засады.
Спустя пять минут он уже отдал честному Тонильо две унции золота и на всем скаку удалялся от кабака.
— Тьфу пропасть! — пробормотал он сквозь зубы. — Животное ядовитее, чем я полагал. Я не жалею, что подкараулил и подслушал его. Это, признаться, единственное средство докопаться до истины! Как, однако, хорошо питать недоверие!
Глава XV КАПИТАН БАРТЕЛЕМИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЗА СВОИМ РУЖЬЕМ
Капитан Бартелеми придерживал аллюр лошади все время — разумеется, непродолжительное, — пока ехал по деревне. Отъехав на расстояние ружейного выстрела от Турбако, он пустил лошадь во весь опор и, достигнув узкой тропинки в лесу, решительно углубился в чащу.
Тропинка эта вела к шалашу, в котором так долго жил капитан, где мы увидели его в первый раз совсем в другом виде, нежели в настоящую минуту, и перед которым он проехал с час назад.
Еще издали, не доехав до шалаша, он увидел у входа негра верхом на лошади, который держал другую лошадь в поводу.
— Слава Богу! — шепотом сказал себе капитан. — Она имела терпение дождаться меня.
Он вонзил шпоры в бока лошади, и та помчалась стрелой.
Заслышав бешеный топот копыт, на пороге шалаша появилась прелестная молоденькая девушка.
Это была донья Лилия.
В мгновение ока капитан подскакал, спрыгнул наземь, бросил повод негру и почтительно раскланялся со своей очаровательной гостьей, вслед за которой вошел в шалаш.
— Долго же вы заставили себя ждать, сеньор! — воскликнула донья Лилия, пленительно надув губки. — Разве вы не получили моего письма? Или, быть может, вы забыли, что в нем заключалось?
— Вы сами этого не думаете, сеньорита; напротив, вы абсолютно убеждены, что любое ваше слово для меня равнозначно приказанию, которому я с радостью готов повиноваться.
— Но только не с поспешностью, — вставила девушка, усмехаясь.
— Сеньорита, я направлялся прямо сюда, когда нежданно-негаданно столкнулся нос к носу со своим достопочтенным другом сеньором доном Торибио Морено. Вот уже несколько дней как он — прости, Господи! — точно задался мыслью не отходить от меня ни на шаг. Он так упорно вертелся около меня, что я едва высвободился из его когтей с час назад в нескольких шагах отсюда.
— Ха-ха-ха! — рассмеялась девушка. — И вам понадобился целый час, чтобы доехать? Перемените свою лошадь, любезный капитан; у бедного животного, должно быть, страшно разбиты ноги.
— Смейтесь, смейтесь, сеньорита, — с обиженным видом ответил капитан, — доброе же у вас сердце, когда вы так радуетесь моим невзгодам!
— Полноте, вот вы уже и сердитесь, капитан! Еще одна уловка, чтобы как-нибудь вывернуться.
— Нисколько, сеньорита, и в доказательство я скажу вам все: я ездил в кабак.
— Выпить чарочку?
— Нет, кое-что посмотреть.
— Отведать винца, хотите вы сказать? — насмешливо заметила девушка.
— Шутите сколько угодно, сеньорита, но тем не менее я вовсе не весел, смею вас уверить. Я пробрался в отвратительный сарай, приложил глаз к щели в перегородке и увидел и услышал такие вещи, от которых содрогнулись бы алькальд и даже альгвазил[37], по природе своей люди отнюдь не робкого десятка.
— И что же такого удалось вам увидеть и услышать, капитан? — полюбопытствовала донья Лилия.
— Этого я, видите ли, сказать не могу, — ответил капитан, качнув головой.
— Стало быть, вы рассказываете мне, ни дать ни взять, какую-то чепуху.
— Я?
— Еще бы! Вы с головы до пят окутаны таинственностью.
— Увы! — воскликнул Бартелеми. — Разве моя вина, сеньорита, что вся наша жизнь состоит из тайн? Идем мы куда-то или возвращаемся, спим или бодрствуем, все вокруг нас — тайна! Отовсюду веет на нас таинственный мрак, он парит у нас над головой, глухо рокочет под ногами!
— Уж не сходите ли вы с ума, любезный капитан? — с изумлением сказала девушка, пристально взглянув ему в лицо.
— Я?
— Разумеется, вы.
— Насколько мне известно, нет. Я только отвечаю вам, сеньорита.
— Ах! И это вы называете «отвечать»?
— Когда же я говорю вам, сеньорита, что тайна…
— Довольно, капитан, ради Бога! — поспешно перебила донья Лилия. — Не повторяйте снова!
— Как вам угодно.
— Видно, мне придется отказаться от того, чтобы узнать что-либо от вас.
Бартелеми молча и почтительно поклонился очаровательной собеседнице.
— Фи, какой дурной! Ничего и говорить не хочет! Знаете ли вы, по крайней мере, что происходит?
— Происходит много разных разностей, сеньорита.
— И среди прочих одна в особенности.
— Какая же именно?
— Брак моей кузины с сеньором доном Торибио Морено назначен на будущий четверг. Что вы на это скажете?
— Что же сказать? Это смешно.
— Злой человек! Так-то вы принимаете эту страшную весть!
— Позвольте, сеньорита, прошу не смешивать одного с другим. Если бы этому браку, вполне обоснованно ненавистному вашей пленительной кузине, суждено было совершиться, вы бы видели меня в отчаянии. Но так как он не состоится никогда, то это известие просто смешит меня.
— Послушайте, капитан, вы, право, стоите того, чтобы я выцарапала вам глаза.
— Мне!.. Вот тебе и на! За что?
— Я приезжаю сюда с отчаянием в душе, чтобы почерпнуть у вас утешения и поделиться с вами горем, а вы только одно и твердите: этот брак не состоится. Не вы ли помешаете ему?
— Гм, гм!.. Как знать? — насмешливо заметил капитан. — Пожалуй, что и помешаю. Во всяком случае, если не я остановлю его, то это сделает некто другой, кого я знаю.
— Да, ваш знаменитый капитан Железная Голова?
— Именно, сеньорита.
— Который все едет, да никак не приедет! — с досадой воскликнула девушка.
— Ошибаетесь, сеньорита, он приехал.
— Он?
— Как нельзя вернее.
— Медвежонок Железная голова?
— Он сам, сеньорита.
— Вы видели его?
— Признаться, еще нет.
— О чем же вы мне толкуете?
— Позвольте.
— Я горю нетерпением, а вы как нарочно мучаете меня! — вскричала девушка, с гневом топнув крошечной ножкой.
— Можете ли вы говорить так, сеньорита, когда я исполняю все, что вы приказываете?
— Кончите вы или нет?
— В двух словах дело вот в чем, сеньорита: час назад, въезжая на пригорок, все также в обществе моего почтенного приятеля дона Торибио Морено… вот кому, между прочим, я готовлю хороший сюрприз!..
— Да продолжайте же, капитан, продолжайте, ради всего святого!
— Ну так вот, сеньорита, я увидел два больших корабля, фрегат и бриг, которые показались на горизонте.
— И это единственный признак?
— Для меня его вполне достаточно, сеньорита, и вот почему: фрегат идет со взятым на гитовы грот-брамселем и распущенным красным фор-брамселем.
— Вы должны знать, что я не поняла ни слова из того, что вы сейчас сообщили.
— Подозреваю, сеньорита. Для меня это означает так же ясно, как будто написано буквами высотой в шесть футов, что это фрегат Медвежонка Железная Голова.
— Ах, Боже мой! — донья Лилия сильно побледнела и пошатнулась.
— Что с вами? Уж не ужалила ли вас змея?
— Меня, капитан? Ничуть не бывало; это просто от волнения.
— Я предпочитаю последнее, сеньорита, — по крайней мере, опасности нет.
— Но вы сообщаете известия так внезапно!
— Ну вот! Не говорю я — грозят выцарапать мне глаза; говорю — падают в обморок. Прекрасное у меня положение, нечего сказать!
— Молчите!
— Весьма охотно.
— Отвечайте же!
— Как! Опять?
— Когда должен прибыть капитан Железная Голова?
— В эту ночь, по всей вероятности.
— Можете вы связаться с ним?
— Мог бы, то есть… нет, не могу!
— Не объясните ли вы мне этого противоречия?
— С легкостью, сеньорита. Я мог бы, если бы имел лодку, какую-нибудь пирогу или выдолбленное бревно, что бы то ни было; не могу же потому, что не располагаю ни одним из вышеозначенных средств для плавания и, при всем своем желании, не в силах проплыть мили четыре, по меньшей мере, уж не говоря об акулах, которые, вероятно, цапнули бы меня мимоходом, так как имеют дурную привычку постоянно шнырять вокруг берегов.
— Стало быть, вы нуждаетесь в лодке?
— Боже мой! Я удовлетворюсь чем угодно, лишь бы было куда сесть.
— Если бы я достала вам индейскую пирогу, смогли бы вы ею воспользоваться?
— Это как раз было бы мне на руку.
— Что такое?
— Это я так сболтнул, а просто хотел сказать, что для меня ничего не может быть удобнее.
— Пирогу я вам достану.
— В самом деле?
— Да.
— Сейчас?
— К какому времени она вам нужна?
— Позвольте, сеньорита… Солнце заходит часов в семь или в половине восьмого; раньше восьми полная темнота не наступит… мне нужна эта ладья или пирога где-то к половине девятого, но не позднее.
— Это почему?
— Принимая во внимание, сколько времени понадобится, чтобы привести пирогу в то место, откуда я должен отчалить… потом кратчайший срок на переезд… я не могу попасть на фрегат раньше полуночи.
— Не поздно ли это будет?
— Нет, сеньорита, напротив, самое лучшее время. Месяц всходит только в одиннадцать часов, а я уже буду так далеко от берега, что меня не увидят.
— Это уж ваше дело, капитан; вам лучше меня знать.
— Да, да, сеньорита, будьте уверены, я все устрою, положитесь на меня.
— Капитан, вы премилый человек, я вас очень люблю.
— Ах, если б это было правдой! — вскричал Бартелеми с трагикомическим видом. — Но все равно, ветер подул с другой стороны; я предпочитаю его прежнему.
— А когда мы увидим капитана Железная Голова?
— Кого? Медвежонка?
— Да, капитана Железная Голова.
— Знаю, знаю. Когда же вы желаете его видеть?
— Разве вы не понимаете, что кузина будет рада увидеть его чем скорее, тем лучше?
— Постойте-ка!
— Что такое?
— Позвольте прикинуть.
— Вечно все только прикидывать!
— Правда, но ведь это единственное средство не ошибиться. Можете ли вы выходить в ваш сад когда вам заблагорассудится?
— Кто же нам запретит? Мы с кузиной совершенно свободны.
— Хорошо; извольте же нынче часам к трем утра прогуливаться вдвоем, как ни в чем ни бывало, близ калитки, которая вам известна.
— Которая в самом конце сада, со стороны леса?
— Именно.
— А дальше что?
— А то, что, вероятно, некое отчасти знакомое вам лицо постучится в эту калитку…
— Ах, капитан, если вы это сделаете, то я…
— Что? — с живостью перебил он.
— Повторяю вам, вы будете премилым человеком и я буду крепко любить вас.
— Так решено, я привезу вам Медвежонка, живого или мертвого.
— Кузина предпочла бы первое.
— Понятно; да и он также, надо полагать. Вы ничего больше не желаете спросить у меня, сеньорита? Не стесняйтесь.
— Нет, ничего.
— Так я напомню вам о пироге для меня.
— Я сейчас уеду, следуйте за мной на расстоянии, я укажу вам место, где она находится. Смотрите, не забывайте вашего обещания.
— Скорее умру, чем обману вас.
— Вот моя рука, до свидания, капитан.
— До свидания, сеньорита, — ответил он, целуя протянутую ему крошечную ручку.
Девушка присела в грациозном поклоне, сопровождая его пленительнейшей улыбкой, и вышла из шалаша.
Спустя минуту на потрескавшейся от засухи земле раздался лошадиный топот, который быстро удалялся.
Оставшись один, капитан подозрительно осмотрелся вокруг, наклонился к куче сухих листьев в углу и, порывшись в них, достал свое буканьерское ружье, спрятанное некоторое время тому назад, когда он покидал шалаш с доном Энрике Торибио Морено.
— Вот мой «желен», — весело воскликнул он, — хорошо быть предусмотрительным. Если я встречусь со своим славным товарищем, то докажу вам, что я не обманщик.
Часам к десяти с половиной капитан Бартелеми сел в пирогу и стал грести к флибустьерской эскадре, замеченной им днем.
Для большей предосторожности, чтобы какой-нибудь невидимый соглядатай не подкараулил его, он обернул весла ветошью, и плеска воды не было слышно.
Глава XVI КАК КАПИТАН БАРТЕЛЕМИ ВСТРЕТИЛ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
Ночь была темная, целых двое суток дул свежий ветер. Флибустьерская эскадра находилась уже на виду Картахены, но не смела подходить близко к берегу, пока не соберет точных сведений о том, что там происходило. Потому она и лавировала в открытом море в пяти милях от рейда.
Вахтенный у руля на «Задорном» пробил четыре склянки, то есть десять часов; то же повторилось на «Бунтаре», следовавшем за фрегатом.
В эту минуту на палубе «Задорного» появился человек.
Он был тщательно закутан в широкий плащ, капюшон которого, наброшенный на голову, не давал рассмотреть лица.
Увидев его, вахтенный офицер вполголоса отдал приказание, матросы бросились исполнять маневр, судно немедленно сделало поворот. На фрегате убрали грот-марсель.
Легли в дрейф.
Человек в широком плаще молча сошел в спущенный на воду баркас, где уже находилось человек двенадцать Береговых братьев, хорошо вооруженных. Тихо оттолкнулись, обернули весла ветошью, и баркас отчалил от фрегата, который опять принялся лавировать.
Как уже говорилось, ночь была темная, волнение сильное. Высокие мачты фрегата и менее значительной высоты мачты брига не замедлили исчезнуть во мраке, и баркас очутился среди моря один, направляясь прямо к берегу, который простирался громадной черной линией на горизонте.
Двое сидели на корме баркаса: Олоне и человек в плаще, — сам Медвежонок Железная Голова.
— Сушите весла, ребята, — приказал Олоне немного погодя. — Поставьте мачту и поднимите парус.
Спустя пять минут баркас мчался по верхушкам волн, слегка наклонившись на правый борт, точно силился коснуться парусом их пенистых гребней.
Протекли два часа; на баркасе царило глубокое молчание, только изредка раздавалась команда Олоне.
Берег вырастал, так сказать, на глазах.
Баркас уже приближался к земле, потому что, несмотря на темноту, легко было различить ее прихотливые очертания.
Два Береговых брата с минуту совещались шепотом, потом Олоне велел убрать парус, опустить мачту и взяться за весла.
Пока исполнялся этот маневр, на небольшом расстоянии от баркаса появилась красноватая точка и хриплый голос крикнул по-французски:
— Эй, на лодке, слушай!
— Эй! — тотчас отозвался командир.
— Что бы это значило? — пробормотал Олоне. — Странно, голос мне как будто знаком.
— И мне тоже, — ответил Медвежонок Железная Голова, — впрочем, сейчас мы все узнаем.
Он приложил к губам руки в виде рупора и крикнул:
— Кто идет?
— Береговой брат! — немедленно ответили, несомненно радостным голосом.
— Какое судно? — спросил Медвежонок.
— Индейская пирога с одним человеком.
— Причаливай!
— Будьте наготове.
Предостережение оказывалось излишним: любопытство флибустьеров было возбуждено странной встречей, и все они стояли настороже.
Вскоре две лодки поравнялись, и, не дожидаясь приглашения, приплывший на пироге легко перепрыгнул на корму баркаса.
Олоне тотчас же открыл потайной фонарь.
— Бартелеми! — вскричал он с изумлением.
— Олоне! Медвежонок! — радостно ответил тот. — Вот счастье-то, ей-Богу! Добро пожаловать, братья! — прибавил он, протягивая им обе руки, которые флибустьеры дружески пожали.
— Так ты узнал нас? — спросил Медвежонок.
— Еще бы, со вчерашнего дня наблюдаю за вами; как назло, я мог пуститься в путь только ночью.
— Да как же ты попал в эти края? — полюбопытствовал Олоне.
— Это длинная история, теперь не расскажешь.
— Мы считали тебя погибшим, — прибавил Медвежонок.
— Мне и впрямь чуть было не пришел мне карачун, но теперь я жив и здоров, и весь к вашим услугам, братья.
— Мы этим воспользуемся, — сказали в один голос два флибустьера.
— И ты, если имеешь в нас нужду, говори прямо, — прибавил Медвежонок.
— Весьма охотно, — ответил Бартелеми, — а вы теперь куда идете?
— Ищем удобного места, где бы пристать к берегу, не возбуждая ненужного внимания, и собрать необходимые для нас сведения.
— В таком случае пусти меня к рулю, Олоне… Весла на воду, ребята, — обратился Бартелеми к матросам, — через четверть часа мы будем у цели.
— Зачем же нам ехать дальше, когда ты можешь дать все необходимые для нас сведения? — заметил Олоне.
— Я действительно могу снабдить вас всеми сведениями, но все равно, братья, поверьте, вам лучше сойти на берег.
— Так вперед, и да хранит нас Бог!
Гребцы склонились над веслами, которые, словно ивовые прутья, гнулись в могучих руках, и баркас понесся по морю, словно чайка; один из матросов перешел в легкую пирогу капитана Бартелеми и плыл в кильватере баркаса.
— Теперь скажи мне… — начал было Медвежонок Железная Голова.
— Тс-с, — повелительно остановил его Бартелеми, — мы переговорим на берегу. Теперь я должен пустить в ход всю свою сметливость, чтобы не допустить ошибки.
Уже некоторое время баркас шел в тихой воде; вскоре над ним раскинулся лиственный свод и он очутился посреди зарослей корнепусков. Последовал легкий толчок, что-то заскрипело, и баркас был у цели.
Он замер в неподвижности.
— Мы пришли, — сказал Бартелеми, — здесь вы так хорошо скрыты, что вас не отыскали бы и за две недели, впрочем и берег-то этот весь пустынный. Привяжите баркас к стволу дерева, оставьте одного человека караулить его и следуйте за мной.
Флибустьеры повиновались и последовали за Бартелеми. Шли ощупью, так было темно, но вскоре почувствовали твердую почву под ногами. Олоне передал свой фонарь капитану Бартелеми.
— Да мы, похоже, в каком-то гроте! — вскричал Олоне. — Это превосходно!
Действительно, они находились в естественном гроте.
Пройдя несколько поворотов, они увидали вдали мелькнувший огонь.
Флибустьеры приостановились в нерешительности, не зная, благоразумно ли идти дальше вглубь.
— Не бойтесь, это я развел огонь перед выходом в море, — сказал Бартелеми, — погрейтесь, братья.
Флибустьеры не заставили повторять приглашение: ночной воздух леденил.
Между тем Бартелеми не упустил из виду ничего, что относилось к обязанностям гостеприимства. Береговые братья с радостным восклицаниями обнаружили несколько корзин со съестными припасами и напитками, которым по приглашению хозяина не замедлили оказать должную честь.
— Теперь же, братья, — сказал Бартелеми, — пейте, ешьте и спите без страха, здесь вы в безопасности.
Он обратился к Медвежонку.
— А теперь можешь спрашивать меня, брат, — прибавил он, — я готов сообщить тебе все необходимые сведения.
— Говори, брат, — ответил Медвежонок.
— Не здесь. То, что мне следует сообщить тебе, должно быть сказано с глазу на глаз.
Медвежонок поднял на него изумленный взгляд.
— Следуй за мной. Ты вскоре найдешь объяснение моим словам.
Дав вполголоса наставления Олоне, Медвежонок взял свое ружье и обратился к Бартелеми:
— Я готов идти, брат.
— Так пойдем.
Они вышли из грота и почти мгновенно очутились у подножия горы, на вершине и откосах которой лепились амфитеатром домики очаровательной деревушки.
— Прежде чем идти дальше, — вдруг заговорил буканьер, остановившись, — я должен задать тебе несколько вопросов. Расположен ли ты отвечать на них?
— Разумеется, брат; я знаю, что ты человек честный и настоящий Береговой брат.
— Спасибо. Получил ли ты с месяц назад в Пор-Марго записку из трех слов и с печатью внизу, значение которой известно тебе одному?
— Получил, брат.
— Связано ли твое прибытие сюда с получением записки или один лишь простой случай привел тебя в эти места?
— Едва получив записку, я снарядил экспедицию и направился к Картахене.
— С какой целью?
— С той, чтобы, не теряя времени, явиться на зов к особе, которая прибегла к моей помощи, и, если понадобится, пожертвовать жизнью, чтобы спасти ее, — с чувством произнес Медвежонок.
— Хорошо, брат. Теперь я знаю все, что мне было нужно. Следуй за мной.
— Куда мы идем?
— Будь тверд, брат. Я веду тебя к той, которая писала записку. По ее приказу я и доставил тебе ее послание.
— О! Если это справедливо, брат!.. — вскричал капитан.
— Разве ты сомневаешься в моих словах?
— Нет, нет, извини, брат, я с ума схожу, пойдем скорее! Они пошли по тропинке к деревне.
Было два часа утра.
Глава XVII МЕДВЕЖОНОК ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА ИСПЫТЫВАЕТ ПРИЯТНУЮ НЕОЖИДАННОСТЬ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ БРАТУ-МАТРОСУ
Флибустьеры шли быстрым шагом; через несколько минут они достигли деревни. Улицы были темны, безмолвны и пустынны. Лишь кое-где собака, потревоженная появлением чужих людей, приветствовала их продолжительным лаем и снова засыпала.
Бартелеми обошел дом губернатора и через несколько минут остановился перед низенькой калиткой в садовой стене, полускрытой ползучими растениями, которые падали с высоты стены зелеными спиралями почти до земли.
— Вот мы и пришли, любезный друг, — сказал он спутнику.
— Войдем, — с живостью ответил Медвежонок.
— Спешить не к чему; та особа, которая должна ввести нас, появится за этой калиткой не раньше чем через четверть часа.
— Стало быть, нас ждут? — осведомился Медвежонок с тайным биением сердца.
— Ждут меня, брат. На твое столь скорое прибытие не рассчитывали. Пойдем в эту беседку у лимонных и апельсинных деревьев, там мы будем ограждены от любопытных взглядов и сможем спокойно потолковать о наших делах.
Медвежонок молча последовал за товарищем; когда же оба расположились на траве, Бартелеми продолжал тихим голосом:
— С какой целью прибыл ты сюда на двух судах и, вероятно, с большим числом людей?
— Я отвечу тебе коротко, брат, и правдиво, по своему обыкновению. Я люблю донью Эльмину; она не знает о моей любви, однако, когда мы расставались с нею, я поклялся, что моя жизнь принадлежит ей. Я говорил, что если когда-нибудь понадобится, то я по первому ее призыву явлюсь на помощь. Она призвала меня — и я тут.
— Ты знаешь, что отец хочет выдать ее замуж?
— Да, за мексиканца.
— Знаешь ты этого мексиканца?
— Откуда же мне знать его?
— Это правда. Когда ты исполнишь задачу, которой задался, какой награды ожидаешь ты за свою преданность?
— Никакой, брат, — ответил капитан, грустно покачав головой, — я ни на что не надеюсь, не смею ни оглянуться на самого себя, ни спросить свое сердце. Я с ума схожу, люблю, страдаю — и все тут.
Бартелеми пожал ему руку. Воцарилось продолжительное молчание.
— Кстати, — вдруг сказал буканьер, — куда девался твой бывший хозяин?
— Пальник?
— Он сам.
— Советом флибустьеров был осужден на смерть и брошен на Акульем утесе.
— Ты уверен, что он умер?
— Разве ты имеешь повод предполагать противное?
— Ничего не предполагаю, брат, сохрани меня Боже! Только по моему мнению, недостаточно раздавить голову змеи, надо еще оторвать ее от туловища, чтобы окончательно убедиться, что она убита.
— Что ты хочешь сказать?
— Теперь не могу говорить яснее. Я обещал молчать, а ты знаешь, Медвежонок, что я никогда не изменяю своему слову. Не расспрашивай же меня больше, но прими последний совет: что бы ты ни предпринимал, будь осторожен.
— Спасибо, брат.
— Теперь встанем и пойдем. Нас, должно быть, уже ждут. Они немедленно поднялись с травы и пошли к калитке, в которую Бартелеми тихонько постучал. Нежный голос произнес одно слово:
— Вера!
— Надежда, — ответил сейчас же Бартелеми. Калитка приоткрылась; флибустьеры проскользнули в отверстие.
— Вы не одни, капитан? — с изумлением, почти с испугом вскричала донья Лилия.
— Успокойтесь, сеньорита, — почтительно сказал флибустьер, — я обещал вам и привожу Медвежонка Железная Голова.
— Вы очень добры, благодарю вас, сеньор кабальеро, — с чувством продолжала девушка и, грациозно поклонившись двум мужчинам, прибавила: — Следуйте за мной, сеньоры. Эльмина не смела надеяться на такое счастье. Не опасайтесь, что кто-нибудь вас увидит, в доме все спят.
Флибустьеры склонили голову в знак согласия и последовали большими шагами за девушкой, которая весело, почти бегом шла впереди них.
Вскоре все трое были у входа в беседку, где неподвижно стояла донья Эльмина, встревоженная, бледная, нагнув вперед голову и пристальным взглядом как бы стараясь проникнуть во мрак и уяснить для себя природу смутного шума, уже несколько минут долетавшего до ее ушей.
— Это вы! — воскликнула она с глубоким чувством при виде капитана.
Тот остановился, стал на одно колено и почтительно снял шляпу.
— Вы позвали меня, сеньорита, — сказал он, — и я тут.
Девушка приложила руку к сердцу и прислонилась к переплетенной ветвями стене беседки.
Донья Лилия бросилась поддержать ее, но кузина мягко отвергла ее помощь и протянула руку Медвежонку.
— Встаньте, сеньор кабальеро, — сказала она ему дрожащим голосом, — такое положение пристало только тому, кто молит, но не избавителю; сердце не обмануло меня, я надеялась на вас.
Медвежонок встал, почтительно поцеловав руку девушки, и, склонив голову перед ней, сказал:
— Располагайте мной, сеньорита. Только откройте мне, что я могу сделать для вас. Как бы ни велики были препятствия и опасности, клянусь, я избавлю вас от ваших врагов во что бы то ни стало. Господь поможет мне!
— У меня только один враг, сеньор кабальеро, — с грустью ответила девушка, — но, увы, враг этот всесилен в Картахене.
— Я полагал, что ваш отец — единственная власть в городе.
— Это правда, сеньор кабальеро, но тот человек или, вернее, демон овладел моим отцом до такой степени, что дон Хосе Ривас видит все окружающее только его глазами и думает так, как хочет он; не далее как месяц тому назад в этом старом доме, где мы теперь находимся, отец обещал ему мою руку.
— А вы этого человека не любите, сеньорита? — с живостью спросил Медвежонок.
— Люблю ли? — с содроганием вскричала девушка. — Я ненавижу его, он вселяет в меня ужас. Уж лучше умереть, чем принадлежать ему.
Капитан поднял голову и оглянулся вокруг сверкающим взглядом.
— Успокойтесь, сеньорита, вы не выйдете за него; он осужден и умрет. Ведь он мексиканец?
— Слывет за мексиканца.
— Разве вы полагаете…
— Он как две капли воды похож на другого.
— А кто этот другой?
— Вы знаете его.
— Я?
— Помните вашу страшную партию с буканьером, пленницей которого я была?
— Ведь тот буканьер умер, сеньорита.
— Действительно ли умер? Вы уверены в этом?
— О, капитан, — робко вмешалась донья Лилия, со страхом прижимаясь к своей подруге, — это он, я убеждена, это наверняка он. Подобное сходство невозможно.
Мрачное облако легло на лицо капитана Медвежонка Железная Голова. Он медленно повернулся к Бартелеми, который стоял в двух-трех шагах позади него, опираясь на свое ружье.
— Брат, — протягивая ему руку, сказал Медвежонок с грустью, — ты должен знать всю правду. Отчего же ты молчишь?
При этом внезапном и прямом вопросе флибустьер вздрогнул, нервный трепет пробежал по его телу, он побледнел и, стукнув оземь прикладом ружья, сказал хриплым, едва слышимым голосом:
— Зачем спрашивать меня, Медвежонок, когда ты знаешь, что я не могу отвечать?
— Прости, Бартелеми, я виноват, — откровенно признался капитан, — но теперь знаю достаточно, чтобы принять меры. Сеньорита, — обратился он к донье Эльмине, — как зовут этого человека?
— Дон Энрике Торибио Морено.
— Так и есть! — пробормотал Медвежонок Железная Голова. — А на какой день назначен брак? — спросил он.
— Окончательно время еще не назначено, но он должен совершиться скоро.
— Повторяю, успокойтесь, этому браку не бывать, клянусь вам честью!
— Увы! Что можете вы сделать против такого количества врагов, в чужом краю и почти один? Я была не права, призвав вас на помощь. Предоставьте меня моей печальной участи, не затевайте этой страшной борьбы, капитан, умоляю вас.
— Когда человек, подобный мне, дает клятву, сеньорита, никакая человеческая власть не в силах помешать ему сдержать ее.
— Но вы подвергаете опасности свою жизнь из-за меня, посторонней вам, и вдобавок представительницы враждебной нации.
— Я так мало ценю жизнь, сеньорита, что не считаю нужным беречь ее, когда речь идет о вашем счастье.
— Аесли я хочу, чтобы вы берегли ее? — вскричала донья Эльмина. Отчаяние сквозило в ее взгляде.
— Господь решит это, сеньорита, — с унынием сказал капитан, — клянусь, что спасу вас или умру. Да хранит вас Бог! Позвольте мне теперь проститься с вами. Вскоре, как полагаю, я буду иметь счастье видеть вас опять. Надейтесь, сеньорита.
Он почтительно раскланялся с обеими девушками и быстро ушел в сопровождении Бартелеми. Донья Лилия пошла за ними вслед, чтобы указывать дорогу.
Оставшись одна, донья Эльмина с минуту стояла неподвижно, потом вдруг упала на колени, сложила руки и, воздев к небу полные слез глаза, воскликнула:
— Сохрани его, о Боже, Боже мой! Ведь я люблю его! И она рухнула на землю без чувств.
Глава XVIII ДОН ТОРИБИО МОРЕНО НАЧИНАЕТ ТРЕВОЖИТЬСЯ
Сеньор дон Энрике Торибио Морено чувствовал смутное беспокойство.
Несмотря на щедро розданные им деньги, несмотря на меры предосторожности, которые он принял, чтобы упрочить успех своего дерзкого замысла, бывший буканьер находился под влиянием безотчетного предчувствия, которое никогда не обманывает. Временами ему представлялось, что небосвод вокруг него опускается все ниже и ниже и на него мало-помалу набегают грозные тучи.
Между тем вокруг него не происходило никаких видимых изменений.
Приятели были все также внимательны, знакомые кланялись с таким же корыстным подобострастием, губернатор и комендант гарнизона встречали его с прежней улыбкой.
Дважды навещал он донью Эльмину, и в оба раза девушка, отбросив обычную холодность, приветствовала его улыбкой и беседовала с ним почти дружески.
Что же происходило? Отчего дона Торибио Морено невольно волновали смутные опасения? Он сам не мог бы сказать этого.
Предполагать, что подобный человек способен испытывать угрызения совести, было бы совершенно ошибочно.
Дон Торибио Морено, по природе своей дикий зверь в полном смысле этого слова, был из тех свирепых натур, созданных для злодейских поступков, которые, по счастью, встречаются реже, чем полагают, у которых не существует даже зачаточных представлений о морали и нравственности и которые творят зло, уступая инстинкту, почти с наслаждением, даже не сознавая, какие преступления совершают. Злодеяния представляются им действиями обыденными.
Дон Торибио не доверял никому.
Против воли вынужденный прибегнуть к помощи Бартелеми, чтобы достигнуть своей зловещей цели, он, однако, не полагался на верность Берегового брата, помня, сколько зла причинил ему за время их знакомства.
Он стремился избавиться, и чем скорее, тем лучше, от соучастника, который мешал ему, и мы видели выше, какие меры уже были приняты им на сей счет.
Но он боялся, что Бартелеми упредит его. Чем меньше оставалось времени до срока, назначенного для похищения девушек, тем внимательнее наблюдал мексиканец за своим соучастником, по возможности не теряя его из виду.
Только страх измены со стороны капитана Бартелеми причинял беспокойство дону Торибио.
Поучительный страх этот можно бы назвать предчувствием.
Однажды, часов в пять пополудни, он отправился на шхуну «Санта-Каталина», стоявшую, как уже говорилось, на большом рейде.
В ту минуту, когда он подходил к правому борту судна, лодка, которую он рассмотреть не мог, внезапно отчалила от левого борта и капитан Бартелеми, обменявшись безмолвным знаком с людьми, сидящими в ней, поспешно перешел на другую сторону палубы и бросился навстречу мексиканцу.
Действия капитана не прошли незамеченными для дона Торибио: поспешность друга, который, как ему было известно, менее кого-либо на свете подчинялся требованиям этикета, разумеется, показалась ему подозрительной.
Он слегка нахмурил брови.
— Что ты там делал? — спросил он с равнодушным видом, однако внимательно озираясь вокруг.
— Там? Где же это, любезный друг? — изумился флибустьер.
— Нагнувшись над левым бортом.
— Я прощался с лейтенантом судна, которое ты видишь там на якоре, в двух кабельтовых от нас. Оно пришло ночью; это береговое судно из Веракруса. Чтобы легче стать на фертоинг[38], они протянули к нам канат.
Дон Торибио поглядел в ту сторону.
— Странно, — сказал он задумчиво, — корабль мне как будто знаком.
— В этом нет ничего удивительного, — заметил Бартелеми, — не в первый раз приходит он в Картахену. Что привело тебя сюда? Ты собирался сообщить мне о чем-то важном?
— Ровно ни о чем; я просто приехал повидаться с тобой.
— Только-то?
— Да, — ответил дон Торибио рассеянным тоном и прибавил как бы про себя: — Решительно, этот корабль мне знаком.
Флибустьер улыбнулся.
— Твоя идея приехать сюда просто прекрасна, — воскликнул он, — я ждал тебя с нетерпением.
— А!
— Тебе, видишь ли, нечего мне сообщить, но зато мне нужно побеседовать с тобой о многом.
— Говори, но коротко.
— То, что я должен сказать тебе, очень важно, приятель, никто не должен нас слышать. Ступай за мной в каюту.
Дон Торибио поглядел флибустьеру прямо в глаза; тот улыбался.
— Это что, действительно очень важно? — пробормотал мексиканец.
— Настолько важно, что, не появись ты сам на шхуне, любезный друг, я был бы вынужден сегодня же отправиться на берег, чтобы повидаться с тобой.
— Ого! В чем же дело?
— Пойдем, и ты узнаешь.
Дон Торибио, хотя и неохотно, решился в конце концов последовать за капитаном в каюту, бросив последний долгий взгляд на неизвестное судно, вид которого внушал ему все большие подозрения, хотя он не мог дать себе отчет в причинах этого беспокойства.
Капитан Бартелеми придвинул стул гостю, достал из шкафчика бутылку рома и налил два стакана.
— За твое здоровье, — сказал он.
— За твое.
Бартелеми набил себе трубку, закурил ее и откинулся на спину стула со словами:
— Теперь поговорим.
— Пожалуй, — ответил мексиканец. Воцарилось продолжительное молчание. Капитан словно совсем забыл про своего приятеля.
Тот терпеливо ждал несколько минут, но когда собеседник совсем углубился в свои мысли и, по-видимому, перестал замечать его присутствие, мексиканец вскричал, стукнув кулаком по столу:
— Ну же!
— Что? — холодно откликнулся капитан.
— О чем таком важном ты собирался мне сообщить? Говори!
— Разумеется, буду говорить. Об этом и думаю.
— И дело очень важное?
— Суди сам, приятель.
— Так говори же скорее.
Капитан устремил на него лукавый взгляд и тем насмешливым тоном, который всегда принимал, разговаривая с прежним братом-матросом, наконец произнес:
— Что ж, я готов… Дело наше все еще должно состояться? — задавая этот вопрос, капитан Бартелеми окружил себя густым облаком дыма.
— Конечно.
— Послезавтра?
— Послезавтра; но к чему ты клонишь?
— К тому, любезный друг, — ответил Бартелеми еще насмешливее, — что пора бы нам и счеты свести.
— Свести счеты? Какие? — вскричал мексиканец в изумлении.
— Да наши счеты. Уж не воображаешь ли ты, чего доброго, что я буду служить тебе с завязанными глазами, не зная, что это принесет мне? Ведь я сказал, что мои услуги обойдутся тебе недешево. Дело делом, любезный друг, но ты втянул меня в такие неблаговидные проделки, что я не могу не принять мер предосторожности.
— Если ты привел меня сюда для этого только, — посмеиваясь, возразил дон Торибио, — то очень жаль, дружище. У меня сегодня уйма хлопот, я больше никак не могу оставаться здесь; в другой раз — пожалуй, завтра — я буду весь к твоим услугам.
Он осушил свой стакан и встал.
— Как хочешь, — ответил Бартелеми, не трогаясь с места, — но, честное слово, я думаю, что ты не прав, любезный друг.
— Ба! — откликнулся дон Торибио и сделал шаг к двери.
— До свидания, приятель. Ах, кстати, меня предупредил вчера ловец жемчуга, который возвращался из открытого моря, что неподалеку от берега крейсирует сильная флибустьерская эскадра.
— Что такое? — мексиканец побледнел как мертвец и кинулся назад к капитану. — Что ты говоришь, Бартелеми? Сильная флибустьерская эскадра?
— Ну да.
— Ты уверен?
— Еще бы, когда я видел ее собственными глазами! Ты понимаешь, я надеюсь, что обстоятельство это очень важно для меня, и потому я тотчас удостоверился сам, верны ли слухи… Но что же ты, любезный друг, смотришь так растерянно, вместо того чтобы радоваться?
— Я смотрю растерянно? — вскричал дон Торибио, стараясь возвратить себе внешнее хладнокровие. — Ты с ума сошел, приятель! С какой стати мне глядеть растерянно? Но скажи, пожалуйста, не догадываешься ли ты, что намерены предпринять Береговые братья?
— Не только догадываюсь, но прекрасно знаю. На кораблях эскадры по меньшей мере тысяча пятьсот человек, набранных из самых храбрых флибустьеров и буканьеров; они просто хотят овладеть Картахеной.
— Овладеть Картахеной? Какой вздор! — вскричал, подпрыгнув от изумления, мнимый мексиканец. — Это чистое безумие!
— Твоего мнения не разделяют Береговые братья, уверяю тебя, приятель! Напротив, они надеются на успех.
Дон Торибио опять опустился на стул, дрожа всем телом; лицо его обрело зеленовато-бледный оттенок.
Бартелеми сделал вид, будто не замечает состояния своего «друга».
— Смелая затея, не правда ли? — заметил он, раскуривая трубку, которая успела погаснуть.
— Очень смелое, правда, но откуда же ты знаешь все это?
— О! Все чрезвычайно просто, любезнейший друг: я виделся с их предводителями. Ведь ты же понимаешь, надеюсь, что, заброшенный более года назад в этот край, находясь в положении почти что пленника, я не мог упустить счастливый случай, представившийся мне, чтобы вырваться на свободу. Я преспокойно отправился ночью на судно командующего экспедицией.
— Продолжай же.
— А-а! Ты уже передумал немедленно отправиться на берег? Видно, разговор становится для тебя интересен.
— Очень даже.
— Их вожаки — между прочим будь сказано, все мои старые друзья, — приняли меня с распростертыми объятиями и, разумеется, принялись выспрашивать у меня разные сведения, которые я и сообщил им с превеликой охотой.
— А кто ими командует? Можешь ты назвать мне их имена?
— Конечно, любезный; во-первых, Олоне, потом Польтэ, Пьер Легран и еще два-три наших брата.
— И Медвежонок с ними?
— Какой Медвежонок? Железная Голова?
— Именно.
— Не знаю; его я не видел. Дон Торибио перевел дух.
— Продолжай, — опять повторил он.
— Я рассказал почти все. Мы с ними потолковали, они спросили меня, могу ли я быть им полезен, и, как ты понимаешь, я ответил утвердительно. Я полностью отдал себя в их распоряжение, чтобы со своей стороны способствовать успеху их предприятия. Я даже прибавил, что нас здесь двое Береговых братьев, способных благодаря своему положению оказать им пользу. По-моему, я поступил правильно.
— Так они знают, что я здесь?
— То есть им известно, любезный друг, что в Картахене двое авантюристов: я и другой Береговой брат.
— Но ведь другой-то, тысяча чертей, это я!
— Конечно, но что ж тут такого?
— Если им не удастся, я разорен.
— Разорен, ты? Да ты с ума сошел, что ли? Никто в Картахене тебя не знает, а ты настолько вошел в свою роль мексиканца, что…
— Здесь в Картахене это возможно, но они, флибустьеры… Береговые братья… наши товарищи, наконец…
— Ну и что? Они тебя также не знают. Не воображаешь ли ты, чего доброго, что я был таким олухом и прямо объявил твое имя, не будучи уверен в успехе их предприятия?
— Это правда? — вскричал дон Торибио, в порыве радости схватив капитана за руку. — Они не знают моего имени?
— Вовсе не знают.
— Слушай, старый дружище, — совсем растерянно заговорил мнимый мексиканец, — все это до того поразило меня, что я сам не знаю, что сказать. Дай мне время подумать, я отвечу тебе сегодня вечером. Знай только одно: ты тут говорил, что нам надо свести счеты, не правда ли? Даю тебе слово, если ты будешь мне верным и добрым товарищем, награда превзойдет все твои желания.
— Спасибо, — с усмешкой ответил капитан. — Я принимаю обещание.
— Но и ты со своей стороны…
— Буду нем, это решено.
Дон Торибио выбежал, как полоумный, из каюты, спустился в свою лодку и поспешно удалился от шхуны, даже не простившись с капитаном.
— Все это прекрасно, — посмеиваясь, пробормотал флибустьер, как только остался один, — но лишняя предосторожность не помешает. Мне не следует терять из виду этой ехидны; никогда нельзя быть полностью уверенным, что принял все меры предосторожности против нее.
Глава XIX ПЛАН АТАКИ
После свидания с доньей Эльминой Медвежонок долго беседовал со своим другом и только потом вернулся в пещеру к товарищам.
Там же в пещере и стали держать совет.
В качестве Берегового брата Бартелеми был приглашен принять в нем участие.
Конечно, мгновенно овладеть такой твердыней, какой слыла Картахена, было делом нешуточным; хорошо укрепленный, город защищался многочисленным и храбрым гарнизоном.
Но эти трудности только воспламеняли дух отваги у флибустьеров и подстегивали их поскорее приняться за дело.
Бартелеми, давно уже пребывавший в этом краю, знал его как нельзя лучше. Вследствие жизни, которую он был вынужден вести, ему было знакомо все на десять миль в округе, и он сообщил Береговым братьям драгоценные сведения о численности гарнизона, о слабых пунктах в системе оборонительных укреплений и о возможных способах захватить Картахену врасплох.
Все эти сведения оказались точными и были дополнены лоцманом, привезенным из Гуантанамо, и двумя матросами с «Санта-Каталины» — все трое отлично знали город.
Картахена, как и все испано-американские города в ту эпоху, была серьезно защищена только со стороны моря.
Действительно, только с этой стороны и следовало ожидать нападения. Представлялось невероятным, что опасность будет грозить из глубины материка. Город был просто обнесен деревянной, местами очень ветхой стеной футов в десять высотой и три — толщиной. В крепостной стене имелось четверо ворот, никогда не запиравшихся.
По совету Бартелеми решили основной натиск произвести именно со стороны, обращенной к внутренним областям Материковой земли.
Вот на чем остановились.
Триста человек самых искусных стрелков под командой Олоне должны высадиться на берег. Снабженные съестными припасами, они должны были скрываться в пещере до той минуты, когда будет подан сигнал атаки.
Пещера находилась не более чем в двух милях от Картахены.
Сто Береговых братьев под командой Польтэ должны будут поодиночке войти в город в сопровождении Бартелеми, который мало-помалу разместит их в обширных складах для товаров богатого мексиканца дона Торибио Морено. Эта сотня человек также будет наготове действовать по первому сигналу.
Двадцать флибустьеров с Александром, слугой Медвежонка, во главе засядут в лесу и установят пристальное наблюдение за загородным домом дона Хосе Риваса.
В минуту атаки эти двадцать флибустьеров займут дом и запрутся там, чтобы охранять донью Эльмину и донью Лилию. В случае, если атака не удастся, девушки послужат заложницами для Береговых братьев.
Бриг «Сан-Хуан-Батиста», которому на время экспедиции придадут его прежний мирный вид, войдет прямо на рейд и станет в двух кабельтовых от «Санта-Каталины».
На нем будет находиться экипаж в сто пятьдесят человек под командой Пьера Леграна. Пятьдесят из них переправят на шхуну и спрячут до поры до времени в трюме.
Наконец, Медвежонок Железная Голова на «Задорном» станет силой пробиваться в канал.
И пока фрегат будет стоять на шпринге[39] под огнем первого форта, два десантных отряда начнут штурмовать второй и третий, чтобы все три форта одновременно подверглись нападению и не могли оказать друг другу поддержку перекрестным огнем.
Этот смелый план, который мог удаться только благодаря своей крайней смелости, заставив испанцев потерять голову, был предложен флибустьерам Медвежонком Железная Голова, в главных чертах предварительно составившим его вместе с Бартелеми.
Береговые братья с восторгом приняли этот план. Решение совета было единодушно: немедленно приступить к его исполнению.
Медвежонок Железная Голова еще больше своих товарищей горел нетерпением приступить к безумно отважной попытке.
Когда все было оговорено и определено, Медвежонок и Бартелеми дружески простились и флибустьеры вернулись на фрегат, куда прибыли незадолго до восхода солнца.
Капитан же Бартелеми, расставшись с товарищами, тотчас направился к дому в Турбако, где жили дочь дона Хосе Риваса со своей кузиной.
Достойный капитан не терял времени, пока Медвежонок Железная Голова разговаривал с доньей Эльминой.
Сад был ему давно известен, так как он уже не раз тайком пробирался сюда; обширный и очень тенистый, он кончался со стороны леса каменным павильоном, в который никто никогда не входил.
Капитану пришло в голову, что гораздо лучше спрятать двадцать человек флибустьеров во главе с Александром именно в этом павильоне, вместо того чтобы они скрывались в лесу, где случайно могли быть обнаружены.
Павильон представлял собой полуразрушенное массивное здание; два окна с решетками и балкон, наглухо закрытый по обычаю испанцев, выходили к лесу на высоте пятнадцати футов от земли.
Осмотревшись вокруг, дабы удостовериться, что поблизости никого нет, флибустьер развернул длинную веревку, обмотанную вокруг его пояса.
К одному из концов он привязал довольно тяжелый камень и закинул его на балкон, чтобы камень попал в одну из железных спиралей решетчатых ставень и опять упал к его ногам.
Так и случилось; веревка, ловко закинутая вместе с камнем, проделась в железный завиток и упала назад на землю.
Бартелеми тотчас взялся за нее и, убедившись, что она держится крепко, вмиг поднялся по ней и очутился у балкона.
Тогда он вложил в замок кончик своего кинжала. Замок открылся без малейшего труда.
Флибустьер прыгнул внутрь павильона.
Место немедленно подверглось тщательному осмотру.
Второй этаж павильона состоял из единственной комнаты, довольно большой, меблированной стульями, столами, скамейками и шкафами, отчасти ветхими, но еще способными служить.
Два широких окна выходили к дому губернатора. Они были закрыты, но сквозь решетчатые ставни можно было видеть весь сад.
Бартелеми посмотрел туда.
Он был пуст.
Флибустьер весело потер руки, потом отворил дверь, находившуюся против балкона, и очутился на площадке лестницы.
Капитан спустился вниз, отворил другую дверь и вошел в комнату, почти такую же, как наверху, но еще больше заставленную всякого рода хламом.
С трудом пробравшись между вещами, Бартелеми убедился, что дверь в сад заперта на ключ.
Для большой предосторожности он подпер ее изнутри двумя толстыми кольями, потом опять вернулся наверх, вышел на балкон, затворил за собой решетчатый ставень, соскочил на землю, выдернул веревку и весело направился к Картахене, куда прибыл часам к восьми утра, не замеченный решительно никем.
Следующей ночью началась высадка флибустьеров.
В тот день, когда дон Торибио прибыл на шхуну «Санта-Каталина» и между ним и капитаном Бартелеми состоялся вышеприведенный занимательный разговор, план Медвежонка Железная Голова уже начал приводиться в исполнение.
Мина была подведена.
Флибустьеры ждали только сигнала своего предводителя, чтобы начать атаку.
Сигнал не заставил себя ждать.
Глава XX В КОТОРОЙ ДОН ТОРИБИО ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ПРЕДЧУВСТВИЯ ЕГО НЕ ОБМАНУЛИ
Едва достигнув пристани, дон Торибио отправился во дворец губернатора.
Доверенный камердинер дона Хосе Риваса де Фигароа тотчас вышел сообщить дону Торибио, что господин губернатор долго ждал его, но в конце концов предположил, что мексиканец был чем-нибудь задержан, и решил отправиться в свой загородный дом, куда просил приехать как можно скорее и сеньора дона Торибио Морено, потому что собирался сообщить ему весьма важную новость.
Дон Торибио Морено велел оседлать для себя лошадь и тотчас поскакал вслед за доном Хосе, надеясь догнать его, так как, по словам камердинера, он выехал из Картахены не более двадцати минут назад.
Между тем в голове мексиканца роились мысли одна другой мрачнее.
О каких важных известиях собирался сообщить ему дон Хосе?
Неужели ему уже стало известно о прибытии флибустьеров к картахенскому берегу?
Он мчался во весь опор; уже невдалеке от Турбако дон Торибио был вынужден на крутом подъеме несколько умерить аллюр лошади и машинально бросил взгляд на море, простиравшееся справа от него обширной голубой равниной, уходящей за далекий горизонт. Вдруг он вскрикнул от изумления и остановился, весь бледный, растерянный, дрожащий.
В трех пушечных выстрелах от берега под всеми парусами шел великолепный фрегат.
Прежнему буканьеру было достаточно одного взгляда, чтобы узнать его.
— «Задорный»! — пробормотал он в ужасе, отирая пот, выступивший на его бледном лбу. — «Задорный», фрегат Медвежонка Железная Голова! Бартелеми обманул меня! Это Медвежонок Железная Голова, он сам возглавляет экспедицию! Но откуда же он может знать, что я здесь? О, мои предчувствия! Прочь все колебания, надо во что бы то ни стало опередить их. Я погиб, если не погублю их!
И с яростью вонзив шпоры в бока лошади, которая заржала от боли, бывший буканьер понесся во весь дух к Турбако.
Однако как ни быстро мчалась лошадь, мексиканец доскакал до загородного дома губернатора, так и не догнав его.
Входя во двор, он увидел несколько лошадей, которых держали под уздцы слуги-негры.
Дон Торибио соскочил наземь.
— Паломбо, — спросил он невольника, — здесь сеньор губернатор?
— Здесь. Только что приехал с сеньором полковником доном Лопесом Альдоа.
— И полковник тут?
— Так точно, сеньор кабальеро.
— Странно, — пробормотал дон Торибио Морено сам с собой. — Где они, Паломбо? — спросил он вслух.
— В гостиной сеньорит.
Мексиканец бросил поводья чуть ли не в лицо негру и опрометью кинулся к дому.
Он уже отворял двери гостиной, когда почувствовал на плече чью-то руку.
Быстро оглянувшись, он вдруг увидел склоненное к нему насмешливое лицо Бартелеми, которого никак не ожидал встретить.
— Ты здесь? — вскричал он.
— Почему же нет, когда ты тут? — откликнулся буканьер.
— Что я тут делаю — понятно, но ты? Объясни мне?..
— Сейчас, любезный друг, сейчас, — ответил Бартелеми, все также продолжая посмеиваться, — но что же мы стоим у дверей! Входи, есть много новостей.
— Вот тебе и на! Видно, сегодня у всех есть новости.
— Должно быть, — равнодушно заметил Бартелеми.
И не дожидаясь более дона Торибио, он сам распахнул двери с двусмысленной улыбкой на лице, которая имела свойство бросать в дрожь мнимого мексиканца.
Они вошли.
Среди комнаты стояли губернатор и комендант картахенского гарнизона, дон Лопес Альдоа. Они беседовали с Эльминой и Лилией.
По-видимому, разговор был очень оживлен, в нем даже слышались угрозы.
При виде дона Энрике Торибио Эльмина быстро обернулась к нему.
— В присутствии этого человека, — вскричала она, — когда случай или, лучше сказать, Господь привел его сюда, я объявляю вам, отец, что никогда не соглашусь быть его женой!
— Берегись! — с гневом топнув ногой, перебил ее дон Хосе.
— Сеньорита, умоляю вас! — прошептал дон Торибио Морено. — Да что же тут происходит?.. Я только сейчас прискакал… Мне ничего не говорили…
— Молчите! — крикнула на него девушка в порыве негодования. — Как вы смеете возвышать здесь голос?
— Довольно, донья Эльмина! — вскричал дон Хосе. — Вы будете женой дона Торибио, я так хочу.
— Нет, отец, — вскричала Эльмина еще смелее, — я скорее умру, чем сделаюсь женой этой презренной твари!
— Сеньорита! — опять вскричал дон Торибио, совсем озадаченный внезапным нападением и не зная, как себя держать.
Бартелеми исподтишка смеялся над жалким видом приятеля.
Донья Лилия старалась ободрить кузину и защитить ее от гнева отца.
При последних словах доньи Эльмины дон Хосе пришел в такую ярость, что чуть не бросился на дочь.
— Несчастная! — вскричал он. — И ты осмеливаешься не покоряться моей воле?
— Не хочу идти за этого человека, — произнесла она разбитым от скорби голосом.
— Ты выйдешь, говорю тебе, или…
— Убейте же меня на месте! — воскликнула девушка в невыразимом отчаянии.
— Повторяю тебе, — кричал дон Хосе, сильно сжимая ее руку, — ты выйдешь за дона Энрике Торибио Морено!
Внезапно дверь гостиной с шумом распахнулась и на пороге появился человек в сопровождении двух громадных собак и двух кабанов.
При виде незнакомца у присутствующих вырвался крик изумления, смешанного с ужасом.
Это был Медвежонок Железная Голова.
Он был одет в свой буканьерский костюм и держал в руке ружье.
Сделав два шага вперед, он спокойным голосом произнес:
— Вы ошибаетесь, сеньор кабальеро, донья Эльмина не выйдет за этого негодяя.
На мгновение все остолбенели.
При появлении Медвежонка Бартелеми как бы случайно стал у двери, чтобы загородить выход.
— Флибустьер, грабитель, здесь?! — вскричали оба испанца и взялись за эфесы шпаг.
— Прошу без криков и без угроз, — все так же невозмутимо продолжал Медвежонок Железная Голова. — Сеньор дон Хосе Ривас, знаете ли вы человека, которого выбрали себе в зятья?
— Кажется… — пробормотал было испанец, невольно подчиняясь твердости и прямодушию Берегового брата.
— У вас, по-видимому, короткая память, кабальеро, — строго заявил флибустьер, — я скажу вам, кто этот человек, который бесчестной игрой отнял у вас все состояние и теперь прикидывается, будто хочет жениться на вашей дочери. Правда заключается в том, что он обманывает вас, так как давно вступил в брак у себя на родине.
— Прежде всего, — надменно и с обычным хладнокровием сказал дон Хосе, который уже вполне овладел собой, — не угодно ли вам будет сообщить, кто вы такой, сеньор кабальеро, и по какому праву вошли в мой дом.
— Кто я? — холодно ответил Медвежонок. — Флибустьер, как вы сами только что сказали, тот человек, сеньор кабальеро, которому вы на Санто-Доминго были обязаны своей свободой и сохранением чести вашей дочери. По какому праву я здесь? По праву каждого благородного человека — праву ограждать слабых от притеснений тех самых лиц, которые должны бы служить им покровителями.
— Такая дерзость не останется безнаказанной, сеньор! — вскричал в бешенстве дон Хосе. — Я сумею отплатить по заслугам…
— Давайте не будем попусту произносить напыщенные фразы и грозить, кабальеро, а вы, сеньориты, уйдите, пожалуйста, в ваши комнаты. Не бойтесь, донья Эльмина, вы теперь под моей охраной, я сумею защитить вас от всех и от каждого, даже от вашего отца.
Знаменитый Береговой брат низко поклонился молодым особам, которые, ответив на его поклон, медленно вышли из комнаты, не произнеся ни слова.
Дон Хосе бросился было вперед, чтобы преградить дочери выход. Но перед ним словно из-под земли вырос капитан Бартелеми.
— Позвольте, сеньор кабальеро, — сказал он, — поверьте, вам лучше послушаться капитана Железная Голова. Дело стоит того, клянусь душой!
Действия губернатора заставили Бартелеми отойти на несколько мгновений от дверей, которые он заслонял собой.
Дон Торибио не дремал, хотя совсем уже отчаялся спастись. Увидев лазейку, открывшуюся ему по счастливой случайности, он мигом юркнул в нее и бросился бежать сломя голову.
Почти немедленно вслед за тем раздался топот лошади, удалявшейся во весь опор.
Это мнимый мексиканец решил обратиться в бегство, так как для него стало очевидно, что он попал в безвыходное положение.
Побег произошел так стремительно, что пораженные изумлением присутствующие не успели ему воспрепятствовать.
Куда он ускакал, читатель узнает совсем скоро. Пока же предоставим беглецу свободу нестись что было духу.
— Доброго пути! — рассмеялся Бартелеми.
— Господа, — продолжал с достоинством Медвежонок Железная Голова, — Картахену теперь атакуют и с моря, и с суши. Отправляйтесь в город, чтобы стать во главе ваших солдат. Я не нарушу законов гостеприимства, задержав вас пленниками в вашем собственном доме; одной донье Эльмине вы обязаны, что я поступаю с вами таким образом.
— Презренный! — в бешенстве вскричал дон Хосе. — Я отомщу за эту гнусную измену!
Медвежонок презрительно улыбнулся.
— Вам изменил тот, — заявил он, — кого вы хотели сделать своим зятем, ваш прежний хозяин на Санто-Доминго, бывший буканьер, которого товарищи осудили на смерть, а злой дух спас. Словом, Пальник!
— Пальник?! — вскричал дон Хосе вне себя от унижения.
— Кровь смывает любую вину, кабальеро. Будьте мне благодарны за то, что я предоставляю вам возможность умереть смертью воина.
Дон Хосе с минуту колебался. Жгучая слеза сверкнула на его ресницах и тотчас высохла.
— Моя дочь! — воскликнул он.
— Что бы ни случилось, я возвращу вам ее после сражения. Она и ее кузина находятся под охраной моей чести.
— Итак, до встречи на поле битвы. Дай Бог, чтобы я нашел там смерть!
Вдруг дверь отворилась и в комнату вбежали донья Эльмина и донья Лилия.
— Отец! Отец! — донья Эльмина упала к ногам дона Хосе. Тот как будто пребывал в нерешительности.
— Отец! — повторила девушка голосом, исполненным тоски. — Сжальтесь надо мной!
Но гордость уже взяла верх в душе надменного дворянина; демон победил доброго ангела. Дон Хосе поглядел на бедное дитя со странным выражением и, наклонившись к ней, спросил вполголоса тоном убийственной иронии:
— Если я прощу тебя, покоришься ты моей воле?
— О, отец! — воскликнула она с невыразимой тоской. Губернатор поднял голову, горькая усмешка мелькнула на его бледных губах.
— Прочь! — крикнул он, грубо отталкивая Эльмину. — Прочь! Не желаю тебя знать!
И он быстро вышел.
Дон Лопес сделал было движение, чтобы последовать за ним, но любовь к дочери оказалась сильнее. Он остановился, прижал ее к сердцу и, толкнув в объятия Медвежонка Железная Голова, вскричал с невыразимой скорбью:
— Берегите ее!
Он выбежал с глухим рыданием, закрыв лицо руками. Обе девушки лежали в обмороке.
— Александр! — крикнул Медвежонок. Слуга немедленно явился на зов.
— Ты мне ответишь головой за них обеих, — сказал капитан, обращаясь к нему.
— Не беспокойтесь, командир, — заверил флибустьера Александр.
— А мы куда? — спросил Бартелеми.
— Мы идем победить или лечь костьми вместе с товарищами.
Через несколько минут Береговые братья также покинули загородный дом губернатора.
Глава XXI ДОН ХОСЕ РИВАСДЕ ФИГАРОА ИСПОВЕДУЕТСЯ ДОНУ ЛОПЕСУ АЛЬДОА САНДОВАЛЮ
Два испанца вихрем мчались к Картахене на превосходных лошадях.
Бледный, нахмурив брови, сжав губы, без шляпы, с обнаженной шпагой в руке, дон Хосе то и дело погонял своего коня. — Осмеян! — бормотал он. — Предан, брошен всеми! И одной только жалости презренного флибустьера быть обязанным, что умру смертью солдата!
— Этот человек вовсе не презренный, вы сами это знаете, мой друг, — возразил дон Лопес Альдоа, пожав плечами.
Дон Хосе быстро обернулся.
— И вы, вы также против меня! — вскричал он с гневом, в котором сквозила невыразимая горечь.
— Я не против вас, дон Хосе. Вы же сами видите, я возле вас и готов принять смерть. Отчаяние ослепляет вас.
— Правда! Я с ума схожу! Я не прав! — горестно воскликнул губернатор. — Простите меня, друг мой, но вы не знаете, вы не можете знать, как я страдаю.
— А сам я разве не страдаю, дон Хосе? Разве моя честь воина не запятнана так же, как ваша? Разве я не отец, как и вы? И Богу известно, дорога ли мне моя дочь, моя бедная добрая девочка! Клянусь же вам честью, друг мой, я убежден, что донья Лилия подвергается не большей опасности под охраной этого человека, чем если бы была со мной.
— Уж не воображаете ли вы, что я не знаю этого так же хорошо, как и вы? — нетерпеливо произнес дон Хосе Ривас.
Дон Лопес поднял на него изумленный взгляд.
— Если так, то я не понимаю вас, мой друг, — сказал он.
— Вы не можете понять меня, любезный дон Лопес, — пробормотал с горькой улыбкой губернатор.
Они продолжали скакать так же стремительно, но уже молча.
Вскоре два испанских сановника очутились в виду Картахены; городская стена была всего в несколько сотнях шагов от них.
Везде царила тишина. Несмотря на слова Медвежонка, который полагал, что говорит правду, атака города еще не начиналась.
Всадники миновали довольно густой лесок гуайявы, который почти примыкал к городской стене, очень ветхой, как уже было сказано, и с большими брешами там и здесь.
Нигде не было видно ни души. Мертвое безмолвие установилось там, где обычно царило оживление.
Дон Хосе сошел с лошади.
Спутник его также остановился и глядел на него с изумлением, не понимая, в чем заключался смысл его последних слов и что он собирается делать.
— Дадим отдохнуть лошадям, — мрачно сказал губернатор, — торопиться некуда: неприятель еще далеко.
Дон Лопес Альдоа молча кивнул головой и в свою очередь спешился. Лошадей привязали к стволу дерева. Губернатор, бледный как мертвец, опустился на землю и несколько мгновений оставался неподвижен, с тусклым взглядом, искаженными чертами, холодным потом на лбу, словно не сознавая ничего вокруг себя. Его побороло жестокое душевное страдание, против которого он, несмотря на все усилия воли, устоять не мог.
— Что с вами, дон Хосе? — спросил с участием дон Лопес. — Вам дурно?
— Нет, — откликнулся губернатор, качая головой, — душа страдает. Выслушайте, любезный друг, мою предсмертную исповедь.
— Вашу предсмертную исповедь? — с изумлением вскричал дон Лопес.
— Да; вы мой единственный друг, вас я назначаю исполнителем моей последней воли.
— Однако…
— Вы отказываетесь? — дон Хосе почувствовал новую вспышку гнева.
— Я далек от подобной мысли.
— Так позвольте мне говорить, дон Лопес Альдоа, времени остается мало.
— Друг мой…
— Не перебивайте меня, — мрачно остановил коменданта дон Хосе. — Предстоящее сражение будет для меня роковым, я предчувствую это.
Но я не хочу уносить в могилу тайну, которая убивает меня и которую я так долго хранил в душе. После моей смерти поступайте как сочтете нужным — вернее, я в этом уверен, как предпишет вам честь. Не перебивайте, дайте мне договорить. Мне станет легче, когда я выскажусь. Если я не сделаю этого сейчас, то уже никогда не соберусь с духом покаяться в том, что меня просто убивает.
Я все скажу в нескольких словах. Неумолимая ненависть к двум объектам терзает мое сердце целых двадцать лет: я ненавижу флибустьеров и ненавижу Эльмину.
— Вашу дочь? — вскричал дон Лопес.
— Донья Эльмина мне не дочь, — сухо возразил дон Хосе Ривас.
Он говорил хрипло, отрывисто, поспешно, точно торопился поскорее излить страшную исповедь, быть может, уже раскаиваясь в глубине души, что приступил к ней.
Дон Лопес Альдоа слушал его в оцепенении, почти в ужасе.
— Мне было тогда двадцать пять лет, — продолжал дон Хосе немного погодя, — три года я был женат вопреки воле своих родителей. Вы знаете, что наш род принадлежит к высшему дворянству Испании. Мы жили с женой и двухлетней дочерью в маленьком городке Сан-Хуан-де-Гоаве на Эспаньоле; этот городок находится, как вам, быть может, известно, на самой границе испанских владений. В одну ночь буканьеры завладели городом и сожгли его. Мой дом взяли приступом только после отчаянного сопротивления, все мои слуги были безжалостно умерщвлены разбойниками. Лишь каким-то чудом я сумел убежать сквозь огонь и пламя. Жена и дочь сгорели.
— Это ужасно! — вскричал дон Лопес.
— Не правда ли? Слушайте дальше, я еще не кончил… Я люблю деньги — не ради них самих, но из-за наслаждений, которые они доставляют. Деньги для меня — все. По условиям брачного контракта состояние моей жены должно было возвратиться в ее род, если бы она умерла бездетной. Состояние это доходило до двух с лишним миллионов пиастров. Как младший сын, я не имел ничего, кроме дворянского титула. Смерть дочери делала меня нищим, а я жаждал богатства, жаждал во что бы то ни стало сохранить состояние своей жены, так как только ради него и женился. В суматохе, пока город погибал под натиском огня и меча, я незаметно выбрался из него. Увидев пьяного буканьера, который спал у подножия дерева, я подкрался, убил его, снял с него платье и надел взамен своего. Вслед за тем я пошел куда глаза глядят, без определенной цели, останавливаясь, когда усталость сломит меня, питаясь Бог знает как; я не помнил себя от отчаяния. На третий день я вошел в какой-то город. Впоследствии я узнал, что это был Пор— Марго. Под своей новой одеждой я был так хорошо скрыт, что никто не обратил на меня внимания. Мои предки из Наварры, а посему я говорю по-французски почти так же свободно, как на родном языке. Непроизвольно я остановился у первого встретившегося мне дома и попросил приюта; мне дали его. Хозяин был бедняк бретонец, недавно прибывший на Эспаньолу с женой и дочерью, слышите, дочерью в точности одного возраста с моей девочкой, которой я лишился таким ужасным образом…
— Итак, донья Эльмина…
— Дочь приютившего меня хозяина; вот как это произошло.
Спустя несколько дней после моего водворения в дом Гишара — моего хозяина, который был очень беден, звали Гишар — он нанялся матросом на корабль знаменитого Монбара Губителя и отправился в экспедицию, поручив жену и дочь моим заботам. Оставшись хозяином в доме, я поддался искушению — злой дух вселил в меня ужасную мысль. В первую же ночь по отъезде Гишара около полуночи я крадучись вошел в комнату хозяйки. Она спала; я приблизился к колыбели ребенка. При шуме моих шагов мать проснулась. И зачем ей только понадобилось просыпаться?! Я не хотел ей зла… Увидав меня, она, вероятно по предчувствию, которое никогда не обманывает сердце матери, заподозрила мое намерение и с криком бросилась на меня, призывая на помощь. Я убил ее, потом хладнокровно закутал девочку в свой плащ и бежал. Через четыре дня я достиг Сан-Хуан-де-Гоаве. Я вернулся вовремя, — продолжал дон Хосе с резким смехом, в котором не слышалось ничего человеческого, — наследники уже делили мое состояние. Своим неожиданным появлением я спутал им все карты: моя жена умерла, но дочь осталась в живых. Итак, я сохранил богатство. Спустя месяц я уже продал все свое недвижимое имущество и был на пути в Мексику.
— О, это ужасно! — вскричал дон Лопес Альдоа, в ужасе всплеснув руками.
Дон Хосе продолжал, не обратив внимания на этот возглас, которого, может быть, не расслышал.
— И что же, друг мой! Несмотря на все, что я сделал для нее, — произнес он с невыразимой горечью и негодованием, — девочка никогда не любила меня. Слепое, безотчетное чувство удаляло ее от меня, оно будто говорило ей, что мы не одной крови. Она почти невольно стремится душой к этим презренным грабителям.
— А что же сталось с ее отцом? — спросил дон Лопес Альдоа, против воли увлеченный страшным рассказом.
— Никогда о нем не слыхал. Впрочем, вы должны понимать, что я и не добивался известий о нем. Какое мне было дело до этого человека, вероятно убитого во время какой-нибудь экспедиции?.. Вот тайна, которую я решился открыть вам перед смертью.
— Бедное дитя! — грустно произнес полковник вполголоса.
Дон Хосе Ривас презрительно рассмеялся.
— Не жалейте ее, — возразил он с горечью, — если захочет, она легко отыщет своих родных. Кто знает, быть может, я ошибаюсь и ее родители еще живы? Кстати, я забыл упомянуть, что благодаря образу жизни, который они ведут, флибустьеры часто бывают разлучены со своим семейством на долгий срок и потому имеют обыкновение отмечать детей разными знаками. У доньи Эльмины на правой руке вытатуирован голубой знак величиной с реал. Теперь, надеюсь, вы поймете мою ненависть к флибустьерам, этим врагам, которые вечно становились у меня на пути и вечно побеждали меня; вы понимаете, как я должен был страдать от геройского великодушия презренного разбойника, который избавил меня на Санто-Доминго от позорного рабства и час тому назад в моем собственном доме разыграл роль покровителя и с таким пренебрежением дал мне уйти, когда я находился в его власти!
При этих словах дон Хосе быстро встал и отвязал свою лошадь.
Полковник шел за ним почти машинально, находясь под впечатлением невыразимого ужаса.
Страшная исповедь ошеломила его.
— Еще одно слово, — вдруг сказал дон Хосе.
— Говорите.
— Я узнал гнусного негодяя, за которого насильно хотел выдать донью Эльмину! — с демонической усмешкой вскричал губернатор. — Брак этот должен был стать моей последней и окончательной местью!
— О, довольно! Довольно! — воскликнул полковник. — Это чудовищно!
Дон Хосе разразился адским смехом, вонзил шпоры в бока лошади и отпустил поводья.
Всадники понеслись во весь опор.
Едва они успели отъехать, как из кустарника медленно поднялся человек, прежде лежавший там, притаившись. С минуту он со странным выражением глядел вслед удалявшимся всадникам.
— Ей-Богу! Иногда полезно подслушивать! — вскричал он, весело потирая руки. — Как хорошо я сделал, что гнался за достойными испанскими сановниками! Ну и злодей же этот достопочтенный испанский дворянин! Честное слово, мой превосходный друг Пальник — просто невинный агнец перед ним!
Произнеся эту маленькую речь свойственным ему насмешливым тоном, он вернулся в лес за лошадью, которую там оставил, вскочил в седло и ускакал во весь опор по направлению к Картахене.
Читатель, вероятно, узнал в нем капитана Бартелеми.
Глава XXII РАЗВЯЗКА
Несмотря на решение совета, Медвежонок Железная Голова возглавил десантный отряд, поручив Олоне командовать фрегатом. Медвежонок никому не хотел доверить заботы об охране доньи Эльмины. Фрегат «Задорный», недостаточно поднявшись по ветру, не смог подойти к каналу в условленное время; он был вынужден сделать поворот, отчего и произошла заминка.
Однако, когда наконец подошли флибустьеры и завязался бой, испанцы, которые не имели возможности так быстро приготовиться к обороне и были, так сказать, захвачены врасплох, почти не сопротивлялись, увидав себя окруженными со всех сторон.
Город был бы взят без боя, если бы губернатор и комендант гарнизона не успели запереться в форте Сан-Хуан с отборным войском и не воодушевляли солдат своим присутствием, решившись защищаться до последнего.
Вокруг форта разгорелось ожесточенное сражение. Если бы везде оборона была такой же умелой и упорной, флибустьерам ни за что не удалось бы овладеть Картахеной.
Форт был ключом к городу; взять его следовало во что бы то ни стало.
Десять раз буканьеры, раздраженные сопротивлением, дружно бросались в атаку, и десять раз их отбрасывали от укреплений. Солнце клонилось к закату. Нужен был решительный штурм.
Медвежонок Железная Голова собрал вокруг себя самых храбрых своих товарищей и вместе с Польтэ и другими вожаками флибустьеров решился на последнюю отчаянную попытку.
Но перед тем как подать сигнал к атаке, он подозвал капитана Бартелеми.
— Ну что? — спросил он.
— Ничего.
— Надо отыскать этого человека; он наверняка замышляет очередную измену.
— Боюсь, что ты прав, — покачав головой, ответил Бартелеми. — Он вернулся в Картахену, где собрал негодяев, завербованных им для шхуны, и куда-то с ними скрылся.
— Этот Пальник — мой злой гений, — в задумчивости пробормотал Медвежонок. — Послушай, Бартелеми, возьми человек пятьдесят, садитесь на лошадей и скачите в Турбако. Он должен быть там.
— Ты прав! — вскричал Бартелеми, ударив себя по лбу. — Он там и нигде более. Я еду сейчас же. А ведь мне, — прибавил он со вздохом сожаления, — очень хотелось участвовать в последнем приступе. Атака обещает быть великолепной.
— Еще бы! Они защищаются, как львы. Впрочем, как знать, не ожидает ли и тебя там серьезное дело?
— Не думаю, что оно сравнится с тем, что предстоит тебе. Но раз ты приказываешь…
— Прошу, брат. Обнимемся — и да хранит тебя Господь!
— Прощай, брат, желаю успеха!
Когда Бартелеми удалялся, будучи совсем не в духе, до его слуха донеслась команда Медвежонка:
— За мной, братья! В штыки! Пора кончать!
— Вот счастливцы-то! — проворчал Бартелеми.
Он мигом собрал вокруг себя небольшой отряд всадников, стал во главе их и во весь опор понесся к деревне.
Спустя час они показались в виду Турбако, словно мчавшийся вихрь.
Едва дон Торибио Морено — или, вернее, бывший буканьер Пальник, так как пора назвать его настоящим именем — обратился, как мы говорили выше, в бегство из загородного дома губернатора, он стремглав понесся к кабаку, где нанятые им Матадосе и его достойные товарищи скрывались, согласно уговору, в ожидании распоряжений дона Энрике.
Пальник вбежал в общую залу. Его сподручные курили, пили ром и играли в карты, вовсе не интересуясь тем, что происходило в городе, и нисколько не скучая от бездействия, в котором оставлял их тот, кому они запродали свои услуги.
По приказанию бывшего буканьера они встали, взялись за оружие и вмиг приготовились следовать за ним.
Их было пятнадцать; остальные, отправленные два дня тому назад в Картахену, были переведены, как мы уже говорили, на шхуну.
Пятнадцать разбойников вышли из кабака поодиночке и направились к лесу, который примыкал к загородному дому дона Хосе Риваса, где и спрятались в кустарнике, выжидая, когда настанет минута действовать.
Велев им соблюдать величайшую осторожность, мнимый мексиканец поскакал к Картахене за остальными разбойниками, которые находились на шхуне.
Ненависть словно придавала ему крылья; менее чем за два часа он слетал туда и обратно и примкнул с подкреплением к Матадосе и его товарищам.
Теперь он очутился во главе пятидесяти человек отчаянных висельников, которые не остановились бы ни перед чем и по одному его знаку без колебаний совершили бы величайшее злодеяние.
Убедившись, что узнан и не сможет уйти от мести Береговых братьев, Пальник смело сбросил маску и, если смерть была неизбежна, решился, по крайней мере, умереть, отомстив за себя.
Он раздал своим клевретам довольно крупную сумму денег, в нескольких словах дал им инструкции и приготовился сыграть свою последнюю игру.
Вот в чем она состояла: пробраться в дом, который Пальник считал незащищенным, и, завладев девушками, запереться там, приняв все меры для обороны. В душе он не сомневался в успехе флибустьеров и питал глубокое убеждение, что их смелая затея увенчается победой. Итак, он намеревался выдержать целую осаду и сдаться только на выгодных для себя условиях при том, что донья Эльмина и донья Лилия будут в его руках заложницами.
Он рассчитывал на любовь Медвежонка к донье Эльмине и вообще на великодушие и благородство знаменитого флибустьера.
План был составлен хорошо; исполнив его с надлежащей смелостью, можно было рассчитывать на успех.
Итак, Пальник напал на загородный дом губернатора.
Сперва он велел сломать садовую калитку, через которую два дня назад тайком входили ночью Бартелеми и Медвежонок Железная Голова. Разбойники с яростными криками ринулись в сад.
К несчастью для Пальника, его шайка с первых же шагов наткнулась на флибустьеров под командой Александра, слуги Медвежонка.
Завязалась ожесточенная стычка. Бандиты вдвое превосходили числом флибустьеров, но последние твердо решились не отступать ни на пядь.
Бой разгорался.
Домчавшись до Турбако, капитан Бартелеми остановил на мгновение свой отряд и с напряженным вниманием стал вслушиваться.
Со стороны губернаторского дома раздавался сильный ружейный огонь.
— Я слышу звук желеновских ружей! — вскричал Бартелеми. — Медвежонок был прав! Нападают на наших. Вперед, братья, с Богом, вперед!
Отряд немедленно помчался вскачь и влетел во двор дома. Там все было тихо. Сражение происходило в саду.
— За мной, ребята! — крикнул Бартелеми и соскочил с лошади.
Авантюристы последовали его примеру. Сад был усеян мертвыми телами.
Посреди обширной лужайки, в центре которой рос могучий дуб, стояли кругом, спиной к дереву, Александр и восемь уцелевших буканьеров. Все они уже успели получить легкие или тяжелые раны. Словно львы, доведенные до крайности, они отбивались от двадцати испанцев, которые с яростью наседали на них со всех сторон.
— Стреляй, ребята, и в штыки! — вскричал Бартелеми. Раздался страшный залп, и буканьеры ринулись на испанцев со своим грозным воинственным кличем.
Произошла страшная свалка.
Испанцы, очутившись между двух огней, так что бегство стало для них невозможным, полегли все до единого.
— Эй, ты! Постой-ка! — вскричал Бартелеми, прицеливаясь в субъекта, который старался ускользнуть в кусты. — Так с товарищами не расстаются.
Раздался выстрел, и беглец упал на землю безжизненной массой, испуская от боли дикий крик, скорее походящий на рев дикого зверя.
Бартелеми бросился к нему.
— Эге! Ты, видно, хотел изменить нам, достопочтенный Пальник! — сказал он с обычной усмешкой, крепко скрутив его веревками и отдав под надзор двух товарищей.
Пленник бросил на него грозный взгляд, но не произнес ни слова.
Узнав бывшего буканьера, бросившегося в бегство, Бартелеми раздробил ему пулей правую ногу, так как не собирался убивать презренного негодяя, а только хотел помешать ему уйти, что ему и удалось.
Приставив к Пальнику надежный караул, Бартелеми вернулся к Александру, занятому перевязкой двух полученных им довольно сильных ран — в правую руку и в голову.
— Где девушки? — спросил он.
— Здесь, — ответил Александр, — под этим ворохом листьев и сухих ветвей.
— Они целы и невредимы?
— Да, но ты подоспел вовремя, брат.
— Вижу.
— Как ты думаешь, Медвежонок Железная Голова будет доволен мной?
— В восторге, черт возьми!
— Тогда все идет отлично! — весело вскричал Александр.
— Однако ты ранен?
— Ба-а! Пустяки!
И он снова принялся за свою перевязку.
Девушки были так хорошо спрятаны в ворохе сухих ветвей своими защитниками, что не получили ни одной царапины. Правда, они были ни живы ни мертвы от страха.
Медвежонок Железная Голова был прав, когда предполагал, что Пальник нападет на дом, где находились девушки, и попытается овладеть им.
Еще несколько минут — и низкий негодяй преуспел бы в своем гнусном замысле.
Не теряя ни секунды, капитан Бартелеми принял все меры, чтобы вернуться в Картахену как можно скорее и увезти с собой молодых девушек.
— А мой отец? — вскричала донья Лилия.
— Вы вскоре увидите его, надеюсь, — ответил буканьер.
— Видели вы его?
— Издали видел; он храбрый воин.
— Вы ничего не говорите про моего отца, сеньор кабальеро! — в волнении воскликнула донья Эльмина.
— Вашего отца, сеньорита, я не знаю.
— Как! Вы не знаете дона Хосе Риваса?
— Знаю, сеньорита.
— Так что же?
— Что?
Буканьер остановился; он заметил, хотя и слишком поздно, что у него с языка сорвалась глупость.
— Ради Бога, говорите все! — с горечью вскричала донья Эльмина. — Не ранен ли он, о Боже мой?.. Вы не отвечаете… Одно слово, умоляю вас… он не умер?
Буканьер сделал над собой усилие и храбро принял решение.
— Да! — пробормотал он. — Лучше рассказать все.
— Господи! Я вся дрожу от ваших слов.
— Успокойтесь, сеньорита.
— Он ранен?
— Этого я не знаю, сеньорита, но вот что мне известно, потому что я слышал, как сам он говорил: он вам не отец, даже не родственник. Вы дочь храброго Берегового брата, вот что!
— Дон Хосе мне не отец? — вскричала Эльмина, всплеснув руками. — Боже, Боже мой! Что все это значит? Я ослышалась, вероятно, я с ума схожу…
И, пошатнувшись, молодая девушка покатилась на землю без чувств.
Бартелеми растерянно поглядел на нее.
— К черту женщин! — вскричал он, треснув себя кулаком по лбу так, что впору бы свалить быка, — а я-то воображал, что сообщаю хорошую весть!
— Вы глупец, сеньор! — засмеялась над его растерянным видом донья Лилия.
— Начинаю подозревать об этом, — очень серьезно бравый буканьер.
Капитан Бартелеми вернулся в Картахену часам к восьми вместе с девушками, Александром и его товарищами, а также с плененным Пальником.
Флибустьеры уже заняли город.
Последний приступ увенчался победой. После упорной схватки грудь с грудью защитники форта, сознавая бесполезность дальнейшего сопротивления, были наконец вынуждены выкинуть белый флаг и сложить оружие.
Против обыкновения, Береговые братья благодаря решительности и твердости их предводителя этот раз не запятнали своей победы позорными неистовствами.
После геройского сопротивления дон Лопес Альдоа отдал свою шпагу самому Медвежонку Железная Голова.
Тот заставил его взять ее обратно и в то же время вернул ему дочь.
Что же касается дона Хосе Риваса, то он сам свершил над собой суд: губернатор пустил себе пулю в лоб, не желая отдаться живым в руки врагов.
В тот же вечер испанский полковник поведал предводителям флибустьеров историю доньи Эльмины.
Береговые братья тотчас признали ее своей приемной дочерью.
В награду за храбрость при защите дома в Турбако Медвежонок объявил Александра свободным от всякого обязательства и равноправным Береговым братьям.
Пребывание победителей в захваченной Картахене длилось восемь дней, после чего флибустьерская эскадра вернулась на Санто-Доминго с громадным количеством добычи.
Напрасно Медвежонок разыскивал и лично, и через других лиц родственников сироты. Бедный Гишар только однажды много лет назад показался на Санто-Доминго, не оставив никаких следов своего кратковременного пребывания.
Пришлось покориться невозможности приподнять хоть краешек завесы, которая скрывала эту непроницаемую тайну.
Спустя месяц Медвежонок Железная Голова женился на донье Эльмине.
Свидетелями со стороны жениха и невесты были Бертран д'Ожерон, губернатор Тортуги и французских владений на Санто-Доминго, и Монбар Губитель.
Благодаря обмену заложников, совершенному д'Ожероном от имени короля французского, донья Лилия и отец ее оказались на свободе.
По просьбе дочери дон Лопес Альдоа поселился в Пор-Марго.
Через четыре месяца капитан Бартелеми имел счастье называться супругом доньи Лилии.
Что же касается Пальника, то он также совершил переезд из Картахены на Санто-Доминго, только способом не совсем приятным, то есть повешенный на фок-рее фрегата «Задорный».
Говорят, добродетель рано или поздно всегда вознаграждается; в подтверждение этой истины и мы скажем, что капитан Бартелеми унаследовал состояние своего бывшего приятеля и прелестную шхуну «Санта-Каталина». Но бравый капитан не возгордился, тем более что спустя полгода все состояние перешло в цепкие руки барышников из Пор-Марго.
Достопочтенный флибустьер сохранил только шхуну, благодаря которой богател еще несколько раз, чтобы вновь разориться, да прелестную жену, которая заменила ему все, чего он лишился, как говаривал он шутливо.
К концу царствования Людовика XIV мадам Эльмина появилась при дворе в Версале, где была представлена королю самой маркизой Ментенон. Но к тому времени ее муж уже носил свое настоящее имя и титул.
Конечно, никто не узнал бы тогда в изящном и гордом дворянине грозного буканьера Медвежонка Железная Голова, который так долго наводил страх на испанцев в американских морях.
Примечания
1
Миля равна 1609 м.
(обратно)2
Лье — французская путевая мера длины, равная 4,44 км.
(обратно)3
Фут — равен приблизительно 30,5 см.
(обратно)4
Флотом в описываемые времена именовались крупные соединения кораблей.
(обратно)5
Боскет — декоративная роща.
(обратно)6
Аламеда — здесь: проспект, главная улица города.
(обратно)7
Нья — госпожа, сеньора (употребляется при обращении к немолодой женщине).
(обратно)8
Около пяти тысяч франков на французские деньги. — Примеч. автора.
(обратно)9
Перистиль — прямоугольная площадка, окруженная крытой колоннадой.
(обратно)10
Ниобея (Ниоба) — в греч. мифологии жена царя Фив Амфиона. Семеро сыновей и семеро дочерей Ниобеи были убиты Аполлоном и Артемидой. От горя Ниобея окаменела и была превращена Зевсом в скалу, источающую слезы.
(обратно)11
Жалованная грамота, вручавшаяся от имени государя. Разрешала ее обладателю «добывать» суда противника. Человек, получивший жалованную грамоту, из простого пирата превращался в корсара, т. е. переставал быть лицом, стоящим вне закона.
(обратно)12
Исторически верно. — Примеч. автора.
(обратно)13
Шпигаты — отверстия в палубе корабля для удаления скопив шейся на ней воды за борт.
(обратно)14
Наветренный пролив отделяет Кубу от Санто-Доминго.
(обратно)15
Каботажные суда предназначены для плавания между морскими портами одной страны.
(обратно)16
Асиенда — поместье, ферма в Латинской Америке.
(обратно)17
Рассказ об этой битве строго достоверен. — Примеч. автора.
(обратно)18
Исторически верно. — Примеч. автора.
(обратно)19
Серебряную посуду — вазы, блюда, тарелки и кубки — расплющивали ударами молота, так как пошлина на них в этом виде была самая ничтожная. — Примеч. автора.
(обратно)20
Фунт — равен примерно 454 г.
(обратно)21
В 1678 г. в Амстердаме была выпущена книга «Пираты Америки», написанная неким А. О. Эксквемелингом. Это произведение переведено практически на все европейские языки. В 1686 г. увидел свет французский перевод «Пиратов». Переводчик назвал автора на французский лад Александром Оливье Эксмелином. Книга «Пираты Америки» и поныне служит источником поистине бесценных сведений о пиратах, промышлявших в XVII в. в Карибском море. Практически все авторы многочисленных романов о флибустьерах так или иначе обращались к этому интереснейшему труду.
(обратно)22
Энтер-дрек — небольшой ручной якорь в форме кошки, бросавшийся при абордаже на неприятельское судно для более надежного сцепления с ним.
(обратно)23
Т. е. млекопитающих и насекомых.
(обратно)24
В 1626 г. во Франции была организована Сент-кристоферская компания, одним из акционеров которой стал кардинал Ришелье. В 1636 г. она была переименована в Компанию островов Америки. В 1664 г. она получила название Французской Вест-Индской компании и монопольное право на ведение торговли с землями Нового Света.
(обратно)25
Гальбик — игра в три кости. — Примеч. перев.
(обратно)26
Реал — мелкая испанская монета.
(обратно)27
Альферес — подпоручик.
(обратно)28
Воспоминание! (исп.)
(обратно)29
Кабельтов — морская единица длины, равная 185,2л (0,1 морской мили).
(обратно)30
Один из важнейших для Испании городов Нового Света, Пуэрто-Бельо, расположенный на Панамском перешейке и являвшийся перевалочным пунктом для караванов, вывозивших золото из Перу и Чили в метрополию, был взят в 1668 г. Генри Морганом после ожесточенного штурма.
(обратно)31
Констапель — первый офицерский чин в морской артиллерии.
(обратно)32
Этот странный договор исторически верен; он приведен целиком в любопытном произведении Александра Оливье Эксмелина. — Примеч. автора.
(обратно)33
Гичка — легкая быстроходная разъездная шлюпка.
(обратно)34
Алькальд — городской голова.
(обратно)35
Нинья — малышка, ласковое обращение к девушке.
(обратно)36
Жак Калло (1592–1635) — французский художник-гравер, чьи офорты поражают своими фантастическими образами.
(обратно)37
Альгвазил — судебный исполнитель.
(обратно)38
Фертоинг — способ стоянки судна на двух якорях.
(обратно)39
Постановку на шпринг выполняют, когда необходимо удержать судно в определенном положении по отношению к ветру или течению.
(обратно)


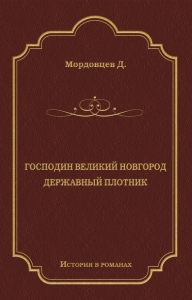
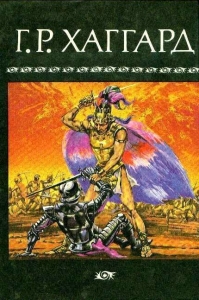
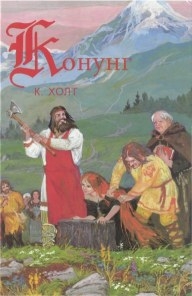
Комментарии к книге «Том 8. Золотая Кастилия. Медвежонок Железная Голова», Гюстав Эмар
Всего 0 комментариев