Густав Эмар
― ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШЕЛЯ ГАРТМАНА ―
Пролог ШПИОНЫ
Глава I КАК ПАУК РАССТАВЛЯЛ ПАУТИНУ
Австрия была побеждена.
Непредвиденные результаты сражения при Садовой предали ее власть Пруссии.
Бессильный и униженный, император австрийский был принужден преклониться перед неумолимой волей своего победителя и подписать постыдный трактат, исключавший его из Германского Союза.
Уже несколько дней Вильгельм IV находился в Эмсе. В то время король прусский был человек шестидесяти девяти лет, роста гораздо выше среднего, сухощавый. Глаза его исчезали за густыми ресницами и бровями.
Застегнутый сверху донизу, в синей шинели с двумя рядами серебряных пуговиц, он носил эполеты того же металла. На воротнике и у рукавов шинели был красный кант; в отверстиях, как в туниках наших городских сержантов, проходила рукоятка шпаги. Остаток его костюма состоял из серых панталон с ярким красным кантом.
Каждый день видели в курсале, как он прохаживался молча один, а в десяти шагах позади него всегда шли два лакея.
В тот день, когда начинается история, которую мы взялись рассказать, выпив свой стакан воды, как он делал это каждое утро, король явился в курсаль; но на этот раз он был не один.
Его сопровождал человек высокого роста, с резкими чертами, с короткими и редкими волосами на лбу, взгляд которого беспрестанно вертелся во все стороны и никогда не останавливался ни на чем. Жесткие усы наполовину скрывали сардоническое сжимание рта с мясистыми губами; смех их, который он напрасно старался сделать добродушным, придавал его лицу неописуемое выражение насмешливого лукавства.
По спесивости и надутости этого человека в нем можно было узнать прусского офицера, хотя на нем был гражданский костюм.
Человек этот был министр, поверенный, alter ego короля. Словом, это был человек, который в начале своей карьеры был патриотом и демократом, а потом отрекся от всех своих верований, которого льстецы имели смелость сравнивать с Ришелье, а который даже не может быть карикатурой Мазарини.
Около получаса король и министр разговаривали шепотом, с одушевлением, все возраставшим.
Король шел, слегка склонив голову на грудь. Концом сапога он нетерпеливо отбрасывал камешки, попадавшие ему под ноги.
Министр, не возвышая голоса, с раболепными движениями и улыбками как будто настаивал на какой-то просьбе, на которую король не соглашался.
Но наконец, как случается всегда, когда характер слабый и нерешительный борется с другим более твердым, король взволновался, подняв голову, и сделал знак согласия.
Министр, не настаивая более, отступил шаг назад, низко поклонился и, оставив своего повелителя продолжать прогулку, ушел, бросив на него украдкой взгляд торжества.
Этот министр был знаменитый вельможа, и хотя его состояние еще не согласовалось с его феодальными притязаниями, особенно же с его честолюбивыми видами, он был старинного рода и носил графский титул.
Без всякого сомнения, его предки принадлежали к числу тех бар, которые грабили путешественников и которых Фридрих Барбаросса раздавил в их феодальных городках своей могущественной шпагой.
Вероятно, потомок этих благородных грабителей мечтал о том, как бы воскресить прекрасные времена среди веков, и с этой-то целью принялся за дело с яростным упорством; сначала испытал силы над Данией, потом над Австрией, потом на мелких германских штатах, чтоб впоследствии в обширных размерах подавлять современную цивилизацию.
Итак, как мы сказали, граф, оставив своего повелителя, удалился большими шагами в самые пустынные улицы города; потом, дойдя до дома скромной наружности, но построенного между двором и садом, остановился перед низкой дверью, сделанной в стене сада, зорко осмотрелся вокруг, чтоб удостовериться, не наблюдает ли кто за его движениями.
Он отпер эту дверь микроскопическим ключом, который вынул из кармана жилета, и запер за собой эту дверь.
Он очутился в саду довольно обширном, устроенном на французский лад, который, брошенный без сомнения давно, походил почти на лес: до того деревья и кусты разбросали во все стороны свои отпрыски.
Министр торопливыми шагами прошел аллею во всю длину.
Через несколько минут он вышел на обширную лужайку, расстилавшуюся позади дома.
Там временным лагерем стояла сотня солдат в прусских мундирах. Приметив графа, они почтительно стали в ряд и отдали ему честь. Граф отвечал на это машинальным движением, поднялся на ступени крыльца, находившиеся в плохом состоянии, положил руку на защелку двери, но в ту минуту, как хотел отворить ее, обернулся.
— Капитан Шульц, — сказал он офицеру, который, приложив мизинец левой руки к шву панталон, а правую руку к каске, стоял неподвижно у крыльца, — мой секретарь сообщил ли вам мои приказания?
— Да, ваше сиятельство, — ответил колосс — капитан был больше шести футов ростом — и более походил на автомат, чем на человека.
— В десять часов вечера будьте готовы. Теперь ступайте.
Капитан повернулся всем телом и присоединился к другим офицерам, которые стояли неподвижно в нескольких шагах.
Граф отворил дверь, вошел в коридор, а оттуда в обширный кабинет, где сел в большое кресло за стол, покрытый или, лучше сказать, заваленный бумагами, разложенными в строгом порядке и отмеченными ярлыками.
Кабинет освещался двумя большими окнами с толстыми занавесками, пропускавшими почти сумрачный свет.
За маленьким столом в углу комнаты писал человек с лицом, напоминавшим куницу. Его белокурые волосы падали длинными грязными прядями на воротник узкого фрака со швами, побелевшими от ветхости и с заплатками на локтях.
Приметив графа, человек этот встал, как бы движимый пружиной, поклонился, согнувшись вдвое, как будто хотел перекувырнуться, потом сел на свое место и опять принялся за работу, прерванную на мгновение.
— Что нового, герр Мюлер? — спросил граф.
— Ничего, ваше сиятельство, — ответил писец, вставая, кланяясь и опять садясь.
— Никто не приходил?
— Никто, ваше сиятельство, — ответил писарь, опять кланяясь и опять садясь.
Ничто не могло быть страннее автоматических и размеренных движений этого достойного человека, который каждый раз, как его начальник заговаривал с ним, считал себя обязанным вставать, кланяться и опять садиться.
Если бы разговор продолжался несколько часов, при каждом вопросе никогда писарь не пропустил бы того, что считал своим непременным долгом.
Не раз граф делал ему замечания на этот счет, но никогда секретарь не хотел оставить своей привычки. Министр предоставил ему наконец действовать, как он хочет.
— Вы знаете, герр Мюлер, — сказал граф, — я хочу, чтобы мне тотчас доложили, как только приедут те, кого я жду.
— Я исполнил все приказания вашего сиятельства.
— Ведь я сегодня созвал тех, которые желают обратиться ко мне с просьбами.
— Я не знаю, кого ваше сиятельство изволили созвать сегодня, но передняя полна людей, которые по большей части, кажется, приехали из самых отдаленных частей Пруссии. Их около тридцати. Между ними находится несколько женщин. У всех есть рекомендательные письма к вашему сиятельству.
Улыбка насмешливого удовольствия осветила, как молния темную ночь, нахмуренное лицо министра.
— Если так, — сказал он, — не будем заставлять долее ждать этих людей. Введите их немедленно по азбучному порядку. Впрочем, я скажу только несколько слов каждому. А! Кстати, где же талоны на казначейство, которые я у вас спрашивал? Готовы они?
— Вот они, ваше сиятельство. Их пятьсот. Как вы приказали, тут есть на пять, на десять, на двадцать пять и на сто тысяч талеров. Все на предъявителя и на главные банковые дома в Париже, Меце, Нанси, Мюль-гаузе…
— Очень хорошо, герр Мюлер, — сказал граф, перелистывая талоны казначейства, которые положил потом на стол под пресс-папье. — Теперь впустите просителей… Не забывайте, однако, что если люди, которых я жду, приедут, я хочу их видеть немедленно.
— Приказание вашего сиятельства будет исполнено.
Писарь поклонился и вышел, пятясь задом.
Граф встал и прислонился к камину.
— Все эти люди очень мне рекомендованы, — пробормотал он, пробегая глазами бумагу, исписанную цифрами. — Их представляют мне как людей деятельных, смышленых, бессовестных, бедных, жадных и решившихся не отступать ни перед чем, чтобы приобрести состояние. Настала минута, когда начинается важная партия, которую я приготовляю так давно. Пора, наконец, чтоб все нити громадной сети, которой я покрыл Францию, были связаны между собой и чтоб я держал их в руке. Кто может предвидеть, какие события совершатся через несколько месяцев? Надо быть готовым. Притом, при надобности, не могу ли я помочь случаю? На Бога надейся, а сам не плошай, — сказал мудрец. Я и не плошаю, — прибавил он смеясь, — потому что на этот раз я посылаю уже не солдат, а начальников…
В эту минуту дверь кабинета отворилась и портьера была приподнята. Явился человек и аудиенции начались.
Они продолжались без перерыва целый день. Только к шести часам вечера последний проситель вышел из кабинета графа.
Каждый из этих людей, которым министр дал без сомнения какое-нибудь тайное поручение, уносил с собой один или несколько талонов казначейства.
Граф пошел тогда в столовую, смежную с кабинетом, и велел подать себе обедать.
Министр короля прусского любит поесть, а особенно попить. Он долго оставался за столом. Когда встал, чтобы пройти в кабинет, его слегка зарумянившиеся щеки показывали, что он остановился на точной границе не воздержания, а опьянения.
У этого человека, в жилах которого текла не кровь, а желчь, пищеварение было трудное, душа не развеселялась, а опечаливалась. Лицо становилось мрачнее. Он сел.
Часы во вкусе Людовика XIV медленно пробили десять.
В ту же минуту шум, похожий на раскаты отдаленного грома, быстро приближался и прекратился перед домом. Потом тяжелые шаги раздались в передней. Послышалось бряцание нескольких ружей, опустившихся на плиты.
Дверь отворилась и показалась длинная фигура герра Мюлера.
— Вашему сиятельству угодно принять барона Штанбоу?
— Пусть он войдет, — ответил граф, — но чтобы караул не удалялся.
Человек, о котором доложили под именем барона Штанбоу и который мог слышать это приказание, вошел в кабинет, почтительно поклонился графу, потом выпрямился и остался неподвижен, как солдат под ружьем.
Барону было около двадцати трех лет. Красавец в полном смысле слова, он сосредотачивал в своей наружности всю красоту чистой германской породы. Но бледные, утомленные, расстроенные черты, томные глаза показывали в этом молодом человеке большую нравственную горесть, еще не подавленную, или усталость от преждевременного развращения.
Может быть, в нем было и то, и другое.
Граф рассматривал его с минуту украдкой, потом, устремив на него свои серо-зеленоватые глаза, сказал ему голосом кротким и тоном чрезвычайно добродушным:
— Вы барон Фридрих фон Штанбоу?
— Я, ваше сиятельство.
— Не угодно ли вам подойти.
Барон сделал четыре шага вперед и остановился перед министром, от которого его отделял только один стол.
— Барон, — продолжал граф, голос которого делался все приятнее, а обращение ласковее, — несколько дней только, как я узнал о жестоком заточении, на которое вы осуждены. Человек, который говорил мне о вас, принимает в вас такое живое участие, что я не мог устоять от желания этого человека и собрал о вас и причинах вашего заточения самые точные и подробные сведения.
— Ваше сиятельство… — с замешательством прошептал барон.
— Да, я знаю. У вас была молодость… Как бы сказать?.. Бурная, такая бурная, что ваши родные, испуганные вашей беспорядочной жизнью, принесли королю жалобу на вас.
— Ваше сиятельство…
— О! Позвольте, барон. Я говорю с вами не как педагог. Ах, Боже мой! И у меня также была молодость бурная. Я также бросал деньги в окно, имел интриги, однако вы видите теперь… Только между нами будь сказано, вы действовали слишком быстро. Через два года после того, как вы вступили во владение вашим состоянием, вы разорились, сами не зная как. Тогда, не имея никаких средств, лишившись кредита — заметьте, это говорю не я, а так стояло в жалобе, поданной королю, — вы решились для того, чтобы продолжать еще несколько времени эту сумасбродную жизнь, подделать чужую подпись.
— О! Ваше сиятельство, действительно…
— Это важно, барон, и тем важнее, что отец ваш, говорят, умер с горя. Его величество король по благосклонности, которую он сохранил к вашей фамилии, чтобы не обесславить публично имени ваших предков, осудил вас на пожизненное заключение в крепости. Не скрываю от вас, любезный барон, что я нахожусь в чрезвычайном затруднении; я хочу быть полезен вам и не знаю, что мне делать. Правда ли все это? Что вы можете возразить?
— Ничего, ваше сиятельство, — прошептал молодой человек дрожащим голосом. — Наказание справедливое и заслуженное. Однако, если ваше сиятельство удостаиваете расспрашивать меня, я осмелюсь попросить у вас милости.
— Милости? — повторил граф с притворным участием.
— Ваше сиятельство, я очень молод. Мое наказание еще может продлиться очень долго. Страдания мои невыносимы. Пусть король удостоит довершить свои милости, приказав немедленно казнить меня. Моя смерть искупит мою жизнь.
Наступило довольно продолжительное молчание.
Молодой человек следил тревожным взором за всемогущим министром, который, заложив руки за спину, склонив голову на грудь, ходил большими шагами по кабинету, погруженный внешне в самые глубокие размышления.
Наконец граф остановился перед молодым человеком и устремил на него взгляд, который заставил его потупить глаза.
— Итак вы просите смерти? — сказал он кротким голосом.
— Да, смерти, как милости, смерти, ваше сиятельство, — ответил он со слезами в голосе.
Граф улыбнулся, лицо его прояснилось, черты смягчились еще более.
— Стало быть, вы очень страдаете? — сказал он.
— Муку ежечасную, ежесекундную, муку такую ужасную, что мне нужна вся сила воли, чтоб не разбить себе голову о стены моей тюрьмы.
— А если я отворю вам двери этой тюрьмы? — продолжал граф, напирая на каждое слово. — Если я возвращу вас к жизни? Если возобновлю будущность, так круто закрывшуюся перед вами? Словом, если я сделаю вас свободным и богатым?
— О! Ваше сиятельство, — прошептал молодой человек, все тело которого подернулось судорожными движениями, а лбу выступили крупные капли пота. — Неужели меня ожидает еще такое счастье? О! Нет, это невозможно.
— Ничего нет невозможного для того, кто хочет, — твердо, нравоучительно возразил зловещий искуситель.
— Ваше сиятельство, простите мне слова, невольно вырывающиеся из моего сердца, наполненного горечью. — Я не смею верить той будущности, о которой вы говорите мне… Я вычеркнутый из списка живых! Вы насмехаетесь надо мной… Если б я мог хоть на минуту предположить, что вы изволили сказать правду… Но нет, это невозможно.
— Бедная человеческая натура! — сказал граф, как бы говоря сам с собой, — неужели сомнение будет постоянно в глубине всех твоих чувств? Отвечайте мне прямо, господин барон фон Штанбоу, отвечайте как я спрашиваю вас; повторяю вам, от вас зависит сделаться богатым и свободным.
— О! Ваше сиятельство, сейчас, — ответил барон задыхающимся голосом.
— Сейчас? Хорошо, — продолжал граф, вдруг сделавшись холоден, — я вам не сказал: вы свободны, но от вас зависит сделаться свободным, а это не одно и тоже. Это предполагает… Условие… Нечто в роде договора между нами.
— Условие или договор, я на все согласен, на все, чтоб сделаться свободным, дышать свежим воздухом, видеть других людей, кроме моих тюремщиков, ходить куда хочу среди равнодушной толпы, но в которой каждый человек будет для меня неизвестным другом… О! Ваше сиятельство, не берите назад ваших слов! Возвратите мне свободу, которую вы показали мне, когда меня оставила всякая надежда; требуйте от меня взамен чего хотите. Я готов на все, для того чтоб сделаться свободным; что ни приказали бы вы мне, чего вы бы ни потребовали бы от меня… Я сделаю без нерешимости, без боязни, без угрызения.
— Я вижу, — сказал граф тоном неуловимой насмешливости, — что я не ошибся насчет вас и что мы можем понять друг друга. Выслушайте меня, барон фон Штанбоу; как только выйдете из этого кабинета, вы сделаетесь свободны и унесете в вашем бумажнике два талона казначейства, каждый в сто тысяч талеров. Каждый год вы будете получать двадцать пять тысяч талеров содержания, а когда поручение, данное вам, будет исполнено, я берусь восстановить ваше состояние вполне, или женитьбой, или иначе.
— Вы дадите мне поручение, ваше сиятельство?
— Выслушайте меня не прерывая. Какова бы ни была ваша прошлая жизнь, вы без сомнения не забыли антагонизм, скажем прямо, наследственную ненависть, существующую между Пруссией и Францией. Вы не забыли, так что мне не нужно читать вам курс истории и заходить слишком далеко, унижения, которыми нас осыпали французы в царствование Наполеона I, разорение нашего отечества, раздробление его, опустошение наших полей и, наконец, страшное поражение, которое мы понесли при Иене.
— Я не был бы ни дворянин, ни пруссак, ваше сиятельство, если б забыл об этой ненависти.
— Ну! Другой Наполеон занимает в эту минуту французский престол. Человек этот похож и на Калигулу, и на Клавдия, и на Нерона. Неизвестно, что преобладает в нем: гордость, низость, свирепость или глупость. Никогда более удобного случая не может представиться Пруссии для возмездия. Франция, сильная и могущественная десять лет тому назад, ныне совершенно деморализована. Все добродетели, составляющие силу народа, систематически уничтожались глупым правительством. Таланты отстраняются, людей мужественных запирают в тюрьму или посылают в изгнание. Самые постыдные пороки выставляются напоказ. Беспорядок царствует везде, в финансах, в армии. Нравы развратились. Словом, дело дошло до того, что при первом натиске Франция должна рушиться, как колосс, подточенный в основании. Случай возмездия, который Пруссия подстерегает так давно, наконец представился ей. Уже несколько лет я разбросал по французской территории тысячи агентов, смышленых, преданных, которые, находясь на всех ступенях общественной лестницы, разжигают огонь, поддерживают разврат и сообщают мне все, что делают, что говорят, что хотят делать. Настало время дать этим агентам начальников, чтоб когда пробьет час, каждый готов был действовать сообща и ускорить успех возмездия, которое будет полно только при совершенной погибели этой гнусной страны, погибели желаемой всей Европой. Вы видите, барон, я говорю с вами откровенно, потому что уверен в вас. Вы должны принадлежать мне, как говорят иезуиты, perinde ас cadaver[1]. Впрочем, — прибавил он, подходя к окну и приподнимая занавес, — посмотрите на этих солдат. В случае отказа, я дарую вам милость, о которой вы меня просили, — сказал он насмешливым голосом. — Если, напротив, вы согласны, все обещания мои будут строго исполнены. Согласитесь вы сделаться одним из тех начальников, которых я назначаю обеспечить нам свободу?
— Соглашаюсь, ваше сиятельство, соглашаюсь, потому что поручение, которым удостаиваете меня, священно, и в таком деле, которое вы поручаете мне защищать, цель оправдывает средства… Она облагораживает все, даже роль шпиона, потому что в моих глазах это роль преданности.
Макиавелевская улыбка сжала губы графа.
— Не обманывайте себя, барон, — сказал он, — вблизи и издали я не потеряю вас из вида. Притом вы будете переписываться со мной прямо каждый месяц.
— Куда я должен ехать и когда, ваше сиятельство?
— Поедете вы сейчас прямо в Эльзас, откуда не должны уезжать без моего приказания… Вы, кажется, говорите на нескольких языках?
— Да, ваше сиятельство, по-французски, по-итальянски, по-польски и по-русски. Моя кормилица была из окрестностей Варшавы. Первые слова, произнесенные мной, были польские. Этот язык для меня почти родной.
— Вот это прекрасно. Не забудьте, что вы поляк, отыскиваемый австрийской полицией. Вы с трудом избавились погони. Все ваши родные были убиты в последнем восстании. Вы лишились всего и приехали искать во Франции убежища. Французы имеют глупость принимать изгнанников всех стран, помогать им и считать их братьями. Вас будут звать Владислав Поблеско. Вы должны сделать себя как можно интереснее. Вот два талона, каждый на сто тысяч талеров, а вот цифры, которыми вы будете переписываться со мной. Я не поручаю вам соблюдать осторожность и верность, потому что при первом слове, которое у вас вырвется о поручении, данном вам, будь вы в недрах земли или среди стотысячной армии, вы не избегните моего мщения. Теперь ни слова о признательности. Доказывайте ее поступками. Поезжайте. Почтовый экипаж, в котором вы приехали, довезет вас до пункта, ближайшего к границе Франции. Прощайте.
Молодой человек вышел, шатаясь как пьяный, натыкаясь на мебель и комкая бумаги, полученные им.
Граф следовал за ним глазами с неописуемым выражением, а когда молодой человек исчез, пробормотал тоном, запечатленным горечью и насмешкой:
— Кажется, на этот раз я нашел человека, какого мне нужно.
Потом он позвонил. Явился герр Мюлер.
— Скажите капитану Шульцу, чтобы он пришел ко мне.
Мюлер поклонился и вышел.
Через минуту дверь отворилась, и капитан Шульц явился на пороге, вытянувшись, приложив правую руку к каске, а левую к шву панталон.
— Пойдемте, капитан, — сказал граф.
Офицер как автомат сделал три шага вперед и остановился напротив графа.
— Это вы, капитан, командуете отрядом, находящимся в этом саду?
— Точно так, ваше сиятельство.
— По отданному мною приказанию ваши люди не ходили по городу?
— Никак нет, ваше сиятельство. Они прибыли сюда ночью. Их присутствие в Эмсе не известно никому.
— Очень хорошо. Вы через час должны выехать из города; я не хочу, чтобы в Эмсе видели мундир королевской гвардии. Это подаст повод к толкам и к предположениям, которых не следует допускать. Для вас приготовлен поезд, на котором вы прямо приедете в Берлин. Возьмите с собой также людей, провожавших почтовый экипаж, который привез сюда пленника. Через десять минут вы должны оставить этот дом, через час город. Поняли вы?
— Понял, ваше сиятельство.
— В таком случае ступайте.
Капитан повернулся и ушел теми же шагами автомата, которыми вошел в кабинет.
Через десять минут Мюлер пришел доложить, что в доме не осталось ни одного солдата. Потом доложил, низко поклонившись по своему обыкновению:
— Его сиятельство граф фон Бризгау.
Граф немедленно вошел.
Представьте себе низенького, круглого, толстенького сорокапятилетнего человека, с румяным лицом, с вечной улыбкой, с маленькими серыми глазками, живыми и коварными, с лукавыми губами, вертлявого — и у вас будет портрет графа.
— Придите же, любезный граф, — сказал ему министр, как только его приметил, — я с нетерпением желаю вас видеть.
— А! Граф, от вас зависело увидеть меня раньше. У меня не было недостатка в желании сделать вам визит, но дела…
— Ах! Да, дела! Поговорим о них немного, любезный Бризгау, особенно о ваших делах, которые, мне кажется, немножко запутаны.
— То есть, — сказал добряк смеясь, — сам черт их не распутает. Эти проклятые французы опять надули меня на сто тысяч талеров в последней продаже лошадей.
— Так вы все еще разъезжаете по Франции?
— Необходимо. Родительское-то наследие пошло ко всем чертям. Надо было воспользоваться моими коновальскими познаниями, чтобы поправить в моем зрелом возрасте состояние, расстроенное немножко бурной молодостью. Но решительно французы хитрее меня, и если сам черт не придет ко мне на помощь, я должен буду искать другой способ спасения.
— А что, если я вам помогу?
— Э! Э! Вы немножко сродни черту, любезный граф; признаюсь, что это очень пришлось бы кстати для меня, — сказал он, громко засмеявшись.
— Сродни я черту или нет, любезный Бризгау, а вы знаете, что я всегда готов вам быть полезен. Уже несколько раз не мог нахвалиться вашей верностью в поручениях, которые давал вам на французской границе.
— Так вы такое поручение хотите мне дать? Я чрезвычайно к этому расположен, и вы выбрали самую удобную для меня минуту. Я непременно хочу отомстить этим мошенникам французам, которых уже десять лет напрасно стараюсь перехитрить.
— Ну вот и прекрасно! Просто надо делать в большем размере то, что до сих пор вы делали в малом.
— Я вполне понимаю вашу мысль. Начиная с нынешнего дня я становлюсь барышником, продаю мекленбургских и люксембургских лошадей, скачу по ярмаркам и по эльзасским и лотарингским деревням. Я вижу все, слышу все, спутываю все и рассказываю вам все. Так?
— Совершенно. Только вы умеете угадывать таким образом и понимать с полуслов.
— Да, да, — сказал Бризгау, — всегда с полуслов; я понимаю скоро, но заставляю дорого себе платить. Послушайте, это ведь потому, что я не мужик…
— Будьте спокойны, любезный Бризгау, я поступлю с вами как с дворянином. Пока, прежде чем вы сдерете деньги с французов, сделайте мне удовольствие принять от меня сто тысяч талеров, которые вы потеряли.
— Я сказал: талеров? — хитро спросил толстяк.
— Талеров или двойных талеров, между нами это все равно, любезный граф.
— Это является как манна в пустыне, — ответил граф Бризгау, старательно спрятав в бумажник талон, отданный ему министром. — Когда я должен приняться за дело?
— Когда хотите. Чем скорее, тем лучше.
— Хорошо. Завтра же начинаю я кампанию. Положитесь на меня. Дам я им знать себя, вашим французам! Я калякаю на эльзасском наречии как чистый уроженец Страсбурга. Если неравно вы встретитесь со мной, вы меня не узнаете, а примете за чистого эльзасца.
— Я полагаюсь на вас, любезный Бризгау, а состояние ваше в хороших руках.
— Теперь я вас не узнаю, любезный друг, вы сделались дьявольски щедры. Это у вас не в обычае.
— Я также надеюсь содрать с французов, — сказал министр со злой улыбкой. — У вас еще прежняя наша азбука цифрами?
— Еще бы.
— Все та же. Каждый месяц, по крайней мере, вы будете присылать мне письмо.
— Понимаю. А теперь…
— Теперь, любезный Бризгау, прощайте и благополучного успеха.
— Положитесь на меня, — сказал толстяк, весело потирая руки. — А! Господа французы! Мы увидим…
Он вышел из кабинета.
— Баронесса фон Штейнфельд, — доложил Мюлер с обычным поклоном.
— Просите баронессу фон Штейнфельд, — сказал граф.
Потом он прибавил шепотом:
— Так же ли легко удастся мне с этой женщиной?
Глава II НОЧЬ ПЕРВОГО МИНИСТРА
Баронесса фон Штейнфельд была одна из тех блондинок, тип которых внушил Гёте поэтическое создание Маргариты, а гений Шекспира угадал в Офелии.
Высокая, стройная, гибкая, она имела в походке те извилистые движения, которые свойственны андалузянкам и делают их непреодолимо привлекательными. Ее овальное лицо окаймлено шелковистыми локонами тех белокурых волос с пепельным оттенком, который свойствен северным народам.
Ее большие голубые глаза, томные и задумчивые, были окаймлены длинными ресницами, бросавшими тень на ее щеки, кожа которых, чрезвычайно тонкая и прозрачная, походила на персик.
Ее нос, прямой, несколько короткий, с розовыми и подвижными ноздрями, возвышался над губами ярко-красного цвета, которые, раскрываясь, обнаруживали двойной ряд зубов маленьких, тонких и белых, как у молодой собаки.
Подбородок, немножко квадратный, был разделен ямочкой, на который, по странной случайности, природа положила пятнышко величиной с глаз мухи, блестящего черного цвета.
Руки, немножко длинные, с тонкими пальцами, с розовыми ногтями, были чрезвычайно белы. Ноги, гибкие и стройные, кокетливо обутые, были удивительно малы, что обыкновенно встречается очень редко в Германии.
Баронессе было тогда двадцать семь лет, но как все блондинки, которые, действительно, хороши собой, ей казалось на вид не более двадцати двух.
Костюм ее, и очень богатый, и чрезвычайно простой, показывал продолжительное путешествие, которое, однако, не заставило его потерять свежесть.
Когда баронесса фон Штейнфельд вошла в кабинет, министр пошел к ней на встречу и, почтительно поклонившись ей, подвел к креслу и попросил сесть, говоря:
— Прежде всего, баронесса, извините меня, что я принимаю вас в такой поздний час. Я так завален делами всякого рода, что несмотря на мое живейшее желание принять вас раньше, я был принужден назначить вам этот час.
— Такой важный министр как вы, граф, не должен извиняться перед просительницей. Ваше сиятельство удостоили благосклонно принять мою просьбу, оставить свои труды, чтобы заниматься женщиной, которую вы не знаете и к положению которой, следовательно, вы должны быть равнодушны; это я должна благодарить ваше сиятельство.
— Вы ошибаетесь, баронесса, полагая, что я вас не знаю, а в особенности, что я равнодушен к вашему положению. Напротив, я знаю вас очень коротко; король, которого я имею честь быть представителем перед вами, принимает живое участие во вдове генерала Штейнфельда.
— Как! Ваше сиятельство, вы действительно меня знаете?
— Судите сами, баронесса. Когда муж ваш умер пять лет тому назад, вероломный управитель исчез, украв завещание, которое делало вас единственной наследницей всего состояния покойного генерала. Завещание это не было найдено, и так как в вашем брачном контракте было поставлено, что если муж ваш умрет не сделав завещания, то вы будете иметь право только взять назад ваше приданое, а все имение перейдет к его брату, до совершеннолетия вашего сына, если у вас будет сын, которому в таком случае будет назначено содержание три тысячи флоринов в год, а все громадное имение вашего мужа в Силезии перейдет к младшему брату генерала, кавалеру Штейнфельду, прусскому посланнику в Швеции. Не так ли?
— Увы! Точно так, ваше сиятельство. Вы сказали от слова до слова совершенную правду. Вы знаете все подробно.
— Даже еще более, чем вы предполагаете. Тот вероломный управляющий, который исчез после смерти генерала, которого вы напрасно отыскивали и о котором вам невозможно было получить ни малейших сведений…
— Что же, ваше сиятельство?
— Я узнал об этом негодяе, которого звали кажется Ганс Штейниц…
— Действительно, Ганс Штейниц, ваше сиятельство.
— Я узнал, говорю я, об этом человеке самые подробные сведения. Я прибавлю даже, что генерал фон Штейнфельд, действительно, сделал завещание, что оно было украдено и существует еще и теперь.
— Как, ваше сиятельство, вы уверены, что оно не было уничтожено?
— Тем более уверен, баронесса, что вот оно, — сказал граф, взяв бумагу из тех, которыми был завален его письменный стол, и подавая ее баронессе.
— О! Когда так, ваше сиятельство, если это завещание, действительно, у вас и которое я, действительно, знаю — оно все написано рукой моего мужа — тогда я спасена; мое состояние будет мне возвращено…
— Увы! Баронесса, — сказал граф, печально качая головой, — к несчастью, это дело гораздо труднее устроить, чем вы думаете.
— Однако, граф, если завещание у вас…
— Да, я это знаю, завещание у меня… Мне стоило даже довольно дорого успеть захватить его. И если б дело шло о какой-нибудь мещанке или даже о мелкой дворянке, дело устроилось бы само собой и завтра вы могли бы вступить во владение всего принадлежащего вам. К несчастью, это невозможно.
— О, Боже мой! Что вы хотите сказать, ваше сиятельство?
— Послушайте меня, баронесса, — продолжал граф с участием, прекрасно сыгранным, — прежде всего будьте убеждены, что король принимает в вас живейшее участие и что я лично имею величайшее желание видеть признанными ваши права.
— О! Ваше сиятельство, я вам верю; но, извините, я бедная женщина, совершенно несведущая в этих вещах; я не понимаю, каким образом возможно…
— Имейте терпение, баронесса. Благоволите выслушать с самым серьезным вниманием то, что я буду иметь честь вам объяснить.
— Говорите, я вас слушаю, граф.
— Боже мой! Баронесса, вопрос, о котором мы будем рассуждать, до того щекотлив, что я, право, не знаю, как мне взяться за него, чтоб как следует выставить все затруднения. Все права на вашей стороне, это очевидно. У вашего сына и у вас недостойным образом ограблено состояние, законно вам принадлежащее; но против вас произнесен был приговор в пользу ваших противников. О! — прибавил он, остановив движением руки баронессу, которая хотела его прервать, — правосудие было обмануто; доказательство ваших прав не существовало; оно думало, что эти права ложны. Ныне завещание тут; оно может быть представлено и дать вам перевес, но подумайте хорошенько вот о чем: генерал Штейнфельд был одним из знаменитейших лиц королевства. Его фамилия одна из самых старинных. Ваша, впрочем, не уступает ему в этом отношении; родственники ваши и вашего мужа занимают самое высокое положение в администрации, в армии, в дипломатии, в парламенте, в суде. Они встречаются повсюду. Вот именно, в чем заключается для вас невозможность или, по крайней мере, затруднение возвратить ваши права.
— Боже мой! — прошептала баронесса. — Что это вы говорите, ваше сиятельство?
— Правду, жестокую правду, но которую вы должны знать. Эти права вы можете возвратить только процессом; подумайте об этом хорошенько. Этот процесс будет иметь громадную гласность в Европе; он возбудит страшный скандал. Против кого будете вы тягаться? Против вашего деверя, человека, занимающего одну из высоких должностей в государстве, служащего представителем короля союзной державы. Подумайте о последствиях подобного процесса, особенно в тех обстоятельствах, в которые поставлена Пруссия относительно других европейских держав. Может ли наш король, сделавшийся защитником прав и трудящийся для единства Германии, опровергать самого себя? Показывать, какие беспорядки могут существовать в немецком дворянстве и каким образом правосудие нашей страны, которая до сих пор пользовалась такой громадной репутацией знания и беспристрастности, легко позволило обмануть себя в деле чисто гражданском, которое самый ничтожный деревенский бургомистр решил бы лучше!
— Ах! Ваше сиятельство, — сказала баронесса, на глазах которой навернулись слезы, — для чего вы подали мне столько надежды, если теперь доказываете мне, что мое дело проиграно и что государственные причины мешают вам оказать мне справедливость?
— Не печальтесь, баронесса. Осушите эти слезы, которые раздирают мне душу. Я вам сказал правду, грубую, неумолимую, но всякий вопрос имеет две стороны; те, которых нельзя развязать, разрубают… Я имею честь вам сообщить в начале этого разговора живое участие, которое принимает в вас его величество наш король, и как я сам желаю сделать для вас все, что будет возможно.
— Я не знаю почему, ваше сиятельство, но при этих благосклонных словах я чувствую надежду в своем сердце. Однако, менее прежнего я усматриваю решение выгодное для меня…
— Вы не усматриваете, баронесса, потому что вы смотрите на вопрос не с настоящей точки зрения. Если причины, касающиеся высоких интересов государства, мешают королю оказать вам правосудие, его величество может, как я уже имел честь вам говорить, если не совершенно разрубить вопрос, то, по крайней мере, обойти затруднение.
— Я жду, чтоб вы объяснились яснее, граф.
— Доход с вашего имения, сколько мне известно, простирается до восьмисот тысяч флоринов в год; состояние колоссальное. С нынешнего дня, если вы согласитесь предоставить мне вести это дело, то есть для вашей же пользы, я могу вас уверить, что через пять лет, то есть в начале 1871, все ваше состояние будет вам возвращено и вы не будете иметь никакой надобности не только начинать процесс, но и делать малейший шаг. До того времени, относительно которого я добился от вашего шурина начала полюбовного соглашения. Каждый год вы будете получать триста тысяч талеров. А чтоб вы не сомневались в моих словах, баронесса, вот это полюбовное соглашение, подписанное кавалером фон Штейнфельдом. Вы видите, баронесса, что ваши интересы дороги мне и что я, действительно, занимался ими.
— О! Ваше сиятельство, какой признательностью я вам обязана!
— Вы не обязаны вовсе быть мне признательной, баронесса, тем более, что я не мог исключить довольно сурового пункта, включенного в это соглашение вашим деверем.
— Какой же этот пункт, ваше сиятельство?
— А вот как он написан:
«Баронесса фон Штейнфельд, подписав этот документ, обязывается немедленно уехать из Германии во Францию, откуда не может вернуться, не будучи формально отозвана королем; если она не примет этого пункта или нарушит его, этот акт и условия, в нем поставленные, уничтожаются».
— Это все, ваше сиятельство?
— Все, баронесса.
Странная улыбка мелькнула на очаровательных губах молодой женщины.
— Как ни строго это условие, — сказала она, — и хотя я не понимаю его значения, я согласна на это изгнание и принимаю его без ропота. Я делаю это для моего сына, будущность которого я должна обеспечить.
— Я постараюсь, баронесса, чтоб эти годы изгнания не были для вас тяжелы… Кажется, у вас есть родственники во Франции?
— Да, одна отрасль нашей фамилии французская.
— А! — сказал граф с притворным удивлением. — Я этого не знал. А отрасль эта занимает приличное положение?
— Она занимает высокое положение во Франции; в ней есть и дипломаты, и генералы.
— Советую вам, где бы вы ни поселились, жить открыто. Французы должны знать, что немецкое дворянство не так бедно, как они воображают. Притом, я буду иметь честь, если вы позволите, вручить вам письма, которые отворят вам настежь двери таких домов, куда ваше имя не доставило бы вам доступа.
— Я очень вам благодарна, ваше сиятельство. Итак, вы думаете, что я должна жить открыто?
— Конечно. Ведь вы будете рекомендованы нашему посланнику в Париже. Ведь вы будете добровольной изгнанницей. Правительство будет милостиво к вам расположено.
— Боже мой! Я очень несведуща, и если вы удостоите сообщить мне последнее сведение…
— Какое сведение, баронесса? Говорите, я к вашим услугам.
— Граф, вы знаете лучше всех, что есть сто различных способов жить открыто. Так как я непременно желаю доказать вам признательность, вы удостоили бы указать мне, на какую ногу должна я поставить свой дом?
— Я только поставлю вам в пример четырех женщин, из которых две были так же неизвестны, как вы, баронесса, а между тем все четыре оставили во Франции великие воспоминания. Госпожа де Тенсен и госпожа Рекамье.
— А две другие, ваше сиятельство?
— Две другие, — значительно сказал министр, — собирали каждую неделю в своей гостиной всех замечательных литераторов, дипломатов и военных. Первую звали княгиней Б., вторую госпожой Ливень.
— Но, ваше сиятельство, — заметила баронесса, — княгиня Б. была жена посланника, госпожа Ливень…
— А вы, баронесса, — с живостью перебил министр, — вдова генерала барона фон Штейнфельда.
— Это правда, я вас понимаю, ваше сиятельство. И если я не могу, как госпожа Ливень, быть Энергией могущественного министра, я постараюсь собирать в моих гостиных самое отборное парижское общество.
Собеседники разменялись улыбкой неописуемого выражения. Они поняли друг друга. Договор был заключен.
Однако было несколько второстепенных пунктов, которые следовало обсудить. Баронесса фон Штейнфельд чувствовала в себе больше твердости. Она видела, что может договариваться с министром как равная.
— Ваше сиятельство, — сказала она, — вы забываете, без сомнения, что у меня есть сын и что заботы о его воспитании поглотят большую часть времени, которое я должна посвящать свету.
— Я ничего не забываю, баронесса; его величество король с нынешнего дня берет на себя воспитание вашего сына. Ему одиннадцать лет и он вступит в военную школу. Не занимайтесь же будущностью этого ребенка; король будет его опекуном. Его величество делает еще более. Он знает, как велики издержки по переселению в чужую страну, и поручил мне сообщить вам, что каждый год он будет давать вам по сто тысяч талеров из своей собственной шкатулки. Сумму эту вы будете получать от Ротшильда в Париже или в другом месте, когда вы сочтете это нужным.
— Смиренно благодарю его величество, граф, за такую щедрость.
— Это еще не все, баронесса; вот два талона на сто тысяч флоринов, которые прошу вас употребить на первые издержки перемещения.
— Вы осыпаете меня милостями.
— Нет, баронесса, его величество поступает только справедливо. Он знает, как несправедлив приговор, поразивший вас; он старается загладить, на сколько возможно, несчастье, которого вы сделались жертвой. Благоволите подписать это условие, баронесса.
Баронесса встала, взяла перо и подписалась.
— Вот два талона казначейства на сто тысяч флоринов. По приезде в Париж банк Ротшильда выплатит вам триста тысяч талеров, назначенных вам вашим деверем, и сто тысяч талеров, назначенных королем.
— Благодарю, ваше сиятельство. Когда я должна ехать во Францию?
— О! Не торопитесь; у вас есть еще время, чтобы приготовиться.
— Я поеду через неделю. Это не поздно?
— Нет, я именно сам хотел назначить этот срок. Теперь, баронесса, так как вы сделали продолжительное путешествие, приехали на почтовых, следовательно, не имели времени найти квартиру в этом городе, которого вы не знаете, позвольте мне предложить вам гостеприимство до завтрашнего дня.
— Ваше сиятельство…
— Комнаты для вас заняты сегодня в первом отеле Эмса; ваш почтовый экипаж отвезет вас туда.
— Благодарю тысячу раз. Теперь позвольте мне проститься с вашим сиятельством. Я, вероятно, не буду иметь чести видеть вас до отъезда.
Граф сделал почтительный поклон и проводил баронессу до двери кабинета. Там она остановилась и, обернувшись к министру с улыбкой, исполненной тонкости и лукавой шаловливости, сказала:
— Вы знаете, ваше сиятельство, что мысли женщины всегда находятся в приписке их письма. Мое сердце в эту минуту до того взволновано радостью, счастьем, которое свалилось на меня так неожиданно, что мне невозможно выразить вам так, как бы я хотела, всю мою преданность и признательность. Но когда я поселюсь в Париже, вы позволите мне вам писать?
— Я прошу вас об этом.
— Ваше сиятельство, женщины болтливы; они любят рассказывать в своих письмах свои впечатления, что они видят, что делают, что слышат. Вы извините, не правда ли, всю эту болтовню, которая, может быть, покажется вам нелепой?
— Это так далеко от моих мыслей, баронесса, что в доказательство моих слов, я прошу вас писать мне как можно чаще.
— Следовательно, вы от меня требуете регулярной переписки?
— Разве это вас огорчает, баронесса?
— Меня, ваше сиятельство? Нисколько. Я только боюсь наскучить вам моей болтовней.
— Если только одна эта причина останавливает вас, я буду рад получать от вас по крайней мере два письма в месяц.
— Это значит, в две недели по одному письму, в котором я буду рассказывать вам мою жизнь…
— Все, что вы мне расскажете, баронесса, будет чрезвычайно интересовать меня, могу вас уверить.
— Хорошо, граф, — сказала она лукаво. — Если это вызов, я его принимаю. Мы увидим, кому из нас первому надоест, мне ли вам писать, или вам читать мои письма.
— Я боюсь, чтоб не надоело прежде вам.
— Нет, ваше сиятельство. Вы так много сделали для меня, что я не могу отказать вам в таком ничтожном удовольствии.
— Итак, это решено, баронесса?
— Да, решено, граф.
Они разменялись последним поклоном и баронесса фон Штейнфельд вышла.
Как только граф остался один, лицо его просияло. Он потер себе руки с довольным видом.
— Ах, дертейфель! Трудная ночка, — вскричал он, — но я вышел с честью! Я напустил на нашего союзника императора Наполеона три лица, которые как я надеюсь, наделают ему порядочно хлопот. Право, иметь дело с женщинами приятно. Злость и коварство до такой степени составляют основание их характера, что для мужчин, которые умеют ими пользоваться, они самые страшные дипломатические орудия. Я удивляюсь, что пользуются так мало. Я подумаю об этом. У меня недоставало в Париже такой гостиной, какую откроет баронесса. Какая женщина эта баронесса! Мне потребовалась вся сила воли, чтоб не влюбиться в нее… Какое восхитительное создание!.. Куда это забрели мои мысли? Что мне за нужда до женщин? Я играю государствами. Только бы Германия была велика, только бы Франция была побеждена и раздроблена — о! Тогда, тогда…
Он не кончил, провел рукой по лбу, как бы для того, чтобы прогнать мысли, осаждавшие его, подошел к столу, позвонил и ждал.
Через минуту появился Мюлер, раболепнее прежнего.
Достойный человек, не произнося ни слова, сел на свое место и начал внимательно рассматривать перья, даже чинить некоторые.
Граф прохаживался взад и вперед, не примечая присутствия своего секретаря, которого, однако, сам позвал.
Вдруг он остановился перед ним и посмотрел на него со странным выражением.
— Что это вы делаете? Оставьте ваши бумаги; все кончено на сегодня.
Он опять продолжал свою прогулку. Потом снова подошел.
— Кстати, герр Мюлер…
— Что прикажете, ваше сиятельство?
— Что сделалось с вашим негодным братом? Я не слышу о нем уже несколько дней; что вы с ним сделали?
— Мне нечего с ним было делать, ваше сиятельство. Он сидит теперь в крепости, куда посажен на пятнадцать лет.
— Ах, да! — сказал министр, как будто вдруг вспомнил, хотя знал это так же хорошо, как и его секретарь. — Я знаю, ваш брат партизан Якоби, не так ли? Спрашиваю вас, куда суются эти голыши? Нищие! Ни копейки за душой, ничтожный деревенский школьный учитель. Туда же, вмешивается в политику! Он расхохотался.
— Ваше сиятельство… — прошептал бедный секретарь, униженно кланяясь.
Министр продолжал резким голосом, презрительно пожимая плечами:
— Негодяи, ни кола ни двора, и позволяют себе управлять государствами! Это было бы смешно, если б не было так гнусно.
Мюлер следил с остолбенением за движениями своего страшного начальника, отрывистые движения которого, резкие слова и громкий голос леденили его ужасом. Несчастный напрасно ломал себе голову, чтоб угадать, какая засада скрывалась за этой внезапной вспышкой гнева, которого ничто не оправдывало по наружности и который сыпался как град на его тщедушную фигуру.
— Ах! Ваше сиятельство, — прошептал он отчаянным голосом, — несчастный бесславит все наше семейство и составляет мучение всей моей жизни.
— Хорошо, — ответил министр с насмешкой, — неужели вы думаете, что я обманут вашим притворным отчаянием?
— Как, ваше сиятельство, не верите? — вскричал бедный человек, побледнев.
— Напротив, я верю, я убежден, что окружен врагами. Все доказывает мне это. Я не могу положиться ни на кого.
— Ваше сиятельство, вот уже пятнадцать лет как я имею честь служить вашему сиятельству, вот первый раз…
Министр начал смеяться; он достиг своей цели.
— Полноте, герр Мюлер, вы идиот, — сказал он, тяжело положив руку на плечо бедняка, который задрожал от страха. — Неужели вы думаете, что я хочу наложить на вас ответственность за глупости вашего брата?
Секретарь приподнял голову и вздохнул глубоко; опасность угрожала не ему. Какая ему была нужда до остального?
— Ваше сиятельство очень добры, — ответил он, скорчив улыбку.
— Вы, кажется, видели его несколько дней тому назад?
— Кого это, ваше сиятельство?
— Вашего брата, черт побери! Спите вы, что ли?
— А! Моего брата. Действительно, ваше сиятельство поручили мне повидаться с ним.
— Я вам поручил?..
— Извините, ваше сиятельство, у меня так сорвалось с языка… Если вашему сиятельству не нравится…
— Продолжайте, мне все равно. Итак вы видели?
— Да, ваше сиятельство, он очень несчастен, но все-таки менее, чем заслуживает за свои гнусные мнения.
— Что же он вам говорил?
— Да ничего особенного. Жалуется, как всегда; беспрестанно твердит о тиранстве, о неволе. Я объяснил ему, однако, что вы поручили мне… то есть нет, чего я желаю от него.
— А! Он слушал вас?
— С ангельским терпением, ваше сиятельство, ни разу не прервал. Я сам удивился; он, обыкновенно такой пылкий, такой запальчивый, он позволял мне говорить сколько я хотел, не проронив ни слова.
— А! А! Как это странно.
— Да, ваше сиятельство, очень странно. А когда я кончил, он начал улыбаться и два или три раза пожал мне руку. Это удивило меня еще больше, потому что обыкновенно он не очень ласков ко мне. Представьте себе, ваше сиятельство, мы беспрестанно спорим.
— Хорошо, избавьте меня от этих подробностей. Он ничего вам не говорил?
— Извините, ваше сиятельство, он сказал мне такие слова, которые меня обрадовали.
— А! А! Какие же?
— А вот какие, ваше сиятельство: «Брат, министр действительно великий человек; я ошибся в нем. Твое непреодолимое красноречие убедило меня. Если ты имеешь на это власть, вели мне дать принадлежности для письма и напишу к министру письмо, которое ты сам отдашь ему».
— О! О! Вот это для меня удивительнее всего. Где же это письмо?
— Вот оно, ваше сиятельство.
— Для чего не отдали вы мне раньше?
— Ваше сиятельство…
— Объяснитесь, черт побери!
— Признаюсь, ваше сиятельство… я не смел.
— Вы не смели?
— Ваше сиятельство, перемена в брате была так внезапна, так радикальна, употребляя его собственное выражение, что…
— Вы с ума сошли, герр Мюлер! Подайте мне это письмо.
Секретарь, согнувшись больше прежнего, подал графу страшное послание. Тот распечатал его, пробежал глазами и покатился со смеху.
— Ну, герр Мюлер, вы решительно не так глупы, как я думал; вы предчувствовали, что заключается в этом письме.
— Как, ваше сиятельство, он осмелился?
— Он просто насмехается надо мной в этом письме.
— Ах, негодяй! — закричал секретарь, лицо которого позеленело и который дрожал всеми членами.
— Прочтите сами…
— Ваше сиятельство, — вскричал секретарь с энергией, которую включает отчаяние или страх, доведенный до крайней степени, — чтобы я стал читать подобные глупости! Ваше сиятельство всемогущи. Вы можете мне отрубить голову, но не в состоянии принудить меня прочесть, что осмелился написать негодяй, от которого я отрекаюсь.
— Полноте, герр Мюлер, успокойтесь; я боюсь, что ваш брат умрет в закоснелости; но будьте спокойны, вас не коснется ни малейшее подозрение; я знаю вашу верность.
— Ваше сиятельство, как вы добры…
— Полноте! — сказал граф, пожимая плечами, — разве лев обращает внимание на ничтожных гадин? Ваш брат идет мне наперекор в своей тюрьме, но он настолько ниже меня, что не стоит даже моего презрения.
— Итак, ваше сиятельство удостоите забыть…
— Я ничего не забываю, я только пренебрегаю.
— Но ваше сиятельство без сомнения прикажете, чтоб он был подвергнут более тяжкому наказанию. Поступок его до того непростителен…
— Вы очень строги, герр Мюлер. Для членов вашего семейства я буду снисходительнее.
Он написал несколько слов на белом листе, подписал, сложил бумагу и отдал секретарю, который дрожал все более.
— Если ваш брат так предан республиканской партии, я возвращаю ему свободу. Пусть он отправляется, если ему угодно, к доктору Якоби и его сподвижникам, только пусть остерегается; если опять попадется, он лишится головы.
С этими словами министр отпустил своего секретаря, который рассыпался в изъявлениях признательности и в поклонах.
— То, что я сделал, — пробормотал граф, оставшись один, — просто гениальный поступок. Очутившись на свободе, этот человек, которому теперь невозможно жить в Пруссии, уедет распространять свои мысли в другом месте… разумеется, во Франции, и в случае надобности я ему помогу. Он принадлежит к тому странному обществу, которое начинает становиться грозным — к интернационалам. Это человек умный, решительный, бессовестный… Кто знает, не будет ли он со временем одним из наших полезнейших орудий… Однако, для людей пошлых, я сделал поступок милосердия, который они, может быть, сочтут даже глупостью.
Высказав таким образом самому себе свои мысли, граф вышел из кабинета и пошел в свои комнаты, где и заперся.
Каждую ночь уже несколько лет всемогущий министр короля прусского трудился таким образом над громадной сетью, в которую он хотел запутать всю Францию.
Сцены, пересказанные нами с подробностями, на которых мы обратили ваше внимание, повторялись каждый день с небольшими изменениями в кабинете министра.
Они составляли план, холодно задуманный, медленно вырабатываемый, беспрерывный и тайный труд, начатый в 1806 г., после сражения при Иене, и продолжаемый безостановочно более полстолетия правительственными лицами, сменявшимися в Пруссии.
Цель этого кротового труда состояла, как во Франции поняли слишком поздно, в блистательном возмездии Пруссии, в мщении за ее многочисленные поражения, посредством разбития и раздробления Франции, а в особенности будущего величия прусского народа, основанного на полной погибели нации, которую Пруссия считает своей наследственной неприятельницей и ненавидит за это.
Более чем все государственные люди, предшествовавшие ему, министр Вильгельма IV был способен хорошо повести эти странные интриги.
Без веры, без деликатности, без совести, пожираемый честолюбием, которого ничто не может удовлетворить, заговорщик по инстинкту, он не отступал ни перед чем. Все средства были для него хороши, чтоб достигнуть цели и получить успех, правда обманчивый, но который все-таки был тем не менее блестящим в глазах людей близоруких, привыкших во всяком случае рукоплескать победителям.
Глава III АННА СИВЕРЕ
Всходило солнце.
Жители очаровательной деревеньки Марнгейм начинали отворять и выставлять на утренний ветерок свои любопытные лица и свои глаза, еще опухшие от сна.
Петухи пели; несколько крестьян, более деятельных и вставших раньше соседей, выводили быков под ярмом; другие гнали стадо на пастбище; на единственной деревенской улице слышался стук телег с провизией, направлявшихся к Мангейму, где жители Марнгейма имеют привычку каждый день продавать на рынке свои продукты.
В эту минуту послышалось хлопанье бича и легкий почтовый экипаж въехал в деревню.
Марнгейм простая деревушка, но деревушка кокетливая, почти неизвестная и причудливо разбросанная на пригорке. Ее красные дома с зелеными ставнями возвышаются на покатости довольно высокого холма, а некоторые спускаются до речки Пфрим, которая теряется в Рейне выше Вормса.
Ныне Марнгейм остался таков, как был пятьдесят лет назад.
Лихорадочная промышленность, совершенно изменившая условия жизни в Германии, как будто забыла этот уголок земли, который видел столько достопамятных событий, никогда не вмешиваясь в них.
В Марнгейме патриархальная жизнь пользуется еще почетом. Жители, и рыбаки, и дровосеки, и земледельцы путешествуют мало и почти все умирают на той земле, на которой родились, не теряя из вида смиренной колокольни своей деревни.
В Марнгейме была тогда — вероятно есть и теперь — только одна гостиница в самом центре деревни и она переходила от отца к сыну более десяти поколений сряду.
Гостиница эта, служившая в одно время и пивоварней, и почтовой станцией, состояла из одной комнаты, служившей вместе и кухней, и общей залой, где флегматически председательствовал Ганс Пуфендорф, хозяин гостиницы «Железный Крест».
Так называлось это почтенное заведение, у ворот которого висела железная вывеска, качавшаяся и скрипевшая, на которой ветер и дождь стерли то, что там было намалевано.
Ганс Пуфендорф был низенький толстяк с веселой физиономией, с апоплексическим цветом лица, с круглыми ногами, а лет ему было под пятьдесят. Он походил на бочку в переднике, в бумажном колпаке, на двух низеньких столбиках.
Достойный трактирщик ставил выше всего свою трубку и чарочку.
Как только вставал, он закуривал свою громадную фарфоровую трубку, которую не выпускал изо рта до тех пор, пока сон не смыкал его век.
Он поставил возле своего прилавка у стены небольшую дощечку, нарочно, чтобы класть свой табак и ставить кружку с пивом. Кружка всегда была полна, потому что как только Ганс выпивал ее, он заботился скорее ее наполнить.
Позади дома были конюшня, рига для сена, навозная яма и птичий двор. В первом этаже находилась спальня Ганса и его достойной супруги, о которой мы не будем говорить по той простой причине, что она уже две недели гостила у родственницы в Вормсе.
Возле этой комнаты находилось несколько других, назначенных для путешественников. Прислуга спала на чердаке в мансардах.
Почтовый экипаж остановился перед гостиницей Ганса, который, стоя на пороге двери, раздвинув ноги, заложив руки за спину и с трубкой во рту, смотрел на подъезжающий экипаж с веселой улыбкой.
Ямщик сошел наземь, отворил дверцу и, поклонившись единственному путешественнику, который сидел в экипаже, сказал:
— Мне здесь приказано остановиться.
— Так мы дальше поедем не вместе? — спросил путешественник.
— Нет. Здесь кончается мое путешествие. А ваше вы можете продолжить как вам угодно.
— Очень хорошо; но где мы?
— В Марнгейме, в четырех милях от Вормса и в стольких же от Мангейма.
— Прекрасно. Вот все, что я хотел знать. Теперь сведем наши счеты.
— Какие счеты? Вы ничего мне не должны. Мне заплатили вперед, и порядочно.
— Тем лучше, — сказал, улыбаясь, путешественник.
— Мне заплатили все. Я не жалуюсь, а напротив, хотел бы каждый день иметь такие барыши.
— Это не мешает мне подарить вам два талера на платье вашей невесте.
— Да благословит вас Бог! Как Гредель обрадуется! — весело вскричал ямщик.
Путешественник взял свой чемодан и вошел в гостиницу, в которой готовился его принять Ганс с колпаком в руке.
Ямщик уехал, во все горло распевая песню.
Ганс подал стул путешественнику, которого Господь послал ему так рано, и почтительно ожидал его приказаний.
— Я желаю трех вещей, — сказал путешественник.
— Каких-с? — спросил трактирщик.
— Во-первых, комнату, потому что мне ужасно хочется спать.
— Комната готова. Вы можете лечь, когда вам угодно.
— Прекрасно. Потом плотный завтрак в двенадцать часов. Кстати, в котором часу приезжает в Мангейм поезд, отправляющийся в Страсбург?
— Вот расписание, — сказал трактирщик, снимая его со стены.
Путешественник быстро пробежал его глазами.
— О! — сказал он. — До вечера два поезда, я успею. Есть у вас здесь хорошее вино?
— Да, есть, пиво превосходное.
— Я в этом не сомневаюсь, хозяин, но заметьте, что мы здесь в Баварии, стране хорошего вина и хорошего пива, и что это последнее питье, очень приятное для немецких желудков, совершенно противно моему сложению.
— Как! Разве вы не немец?
— Не имею этой чести.
— Однако вы говорите на нашем языке с таким совершенством!
— В этом нет ничего удивительного: моя кормилица была немка и даже баварка. Я граф Владислав Поблеско, польский дворянин из Праги. Вы можете записать в вашей книге мои имя и звание. Я вас уже спрашивал, какие вина у вас лучшие.
— Погреб «Железного Креста» знаменит, ваше сиятельство. У меня есть клингенбергер, рудесгейм, маркгрёфлер, превосходный афенталер…
— Постойте, постойте… Какой потоп! Для меня достаточно двух первых. Подайте мне по бутылке каждого. Только знайте, что я знаток.
— О! Я упреков не боюсь, ваше сиятельство.
— Итак, мы сказали, плотный завтрак ровно в двенадцать часов с двумя бутылками клингенбергера и рудесгейма. Устроив два пункта, перейдем к третьему. Можете вы достать мне лошадь или повозку в Мангейм?
— Ничего не может быть легче, ваше сиятельство. У меня в сарае стоит повозка собственно для путешественников, останавливающихся у меня.
— Итак, это решено. Только экипаж должен быть готов в два часа пополудни; мне остается только, любезный хозяин, просить вас указать мне мою комнату. Честное слово, я падаю от сна.
— Ваше желание будет исполнено, ваше сиятельство. Не угодно ли вам пожаловать за мной.
Ганс, взяв чемодан путешественника, пошел вперед из большой залы гостиницы в дверь, отворявшуюся возле камина.
Только что эта дверь затворилась, как второй почтовый экипаж, совершенно похожий на первый, лошади которого падали от усталости, остановился перед гостиницей.
Крошечная рука в перчатке высунулась в стекло, отворила дверцу, и женщина, так закутанная, что невозможно было видеть не только ее стан, но даже и лицо, поспешно выпрыгнула из экипажа.
Но по легкости и грациозности ее движений легко было угадать, что незнакомка молода и принадлежала к хорошему обществу.
Не произнося ни слова, она дала ямщику, который смиренно стоял перед ней со шляпой в руке, три золотых монеты, приложила к губам палец с движением, которое, по-видимому, ямщик понял, и легкая как птичка, побежала в гостиницу.
— Подождем, — сказала незнакомка, скорее падая, чем садясь на стул, недавно занимаемый графом. — Он теперь не может ускользнуть от меня. Надо иметь терпение.
Поместив графа в комнате, которая не была лишена удобств, встречающихся в старинных немецких гостиницах, Ганс почтительно поклонился путешественнику и оставил его свободным действовать как ему вздумается, то есть спать или не спать.
Владислав Поблеско, или лучше сказать барон Фридрих фон Штанбоу, потому что мы не станем обижать наших читателей предположением, будто они не узнали его, оставшись один, бросил шляпу на стол и начал ходить большими шагами по комнате, переводя дух полной грудью, как пловец, долго остававшийся под водой и возвращающийся к жизни именно в минуту, когда начинал задыхаться.
Уже пять дней вышел он из крепости Шпакдау, два дня ехал из Эмса в Марнгейм, но не успел еще опомниться.
Он был игрушкой стольких необыкновенных событий, его освобождение казалось ему таким чудом после того, как с ним обращались в крепости, и надзора, который имели над ним, что он с трудом верил действительности случившегося. Его свобода казалась ему мечтой, разговор с министром — кошмаром, поэтому он притворился, будто хочет спать, не для того, чтоб заснуть — он даже и не думал об этом и не имел никакой охоты — но чтоб остаться одному на несколько часов наедине с собой, чтоб дать себе время привести в порядок свои мысли, совершенно расстроенные, удостовериться, что все случилось действительно — словом для того, чтобы определить новый план поведения на будущее время.
Когда в полдень Ганс осторожно постучался в дверь, докладывая, что завтрак подан, достойный трактирщик не мог удержаться, чтоб не вскрикнуть от удивления, приметив, что постель путешественника, уверявшего, будто он хочет спать, даже не тронута.
— Я сейчас иду, любезный хозяин, — сказал барон, — я хочу только сделать вам одно замечание.
— Какое, ваше сиятельство?
— Надеюсь, что вы накрыли мне стол не в общей зале?
— О! Ваше сиятельство, я старый трактирщик и знаю, как следует обращаться со знатными людьми. Вам накрыто в гостиной, где вы будете одни.
— Прекрасно. Пойдемте же когда так, я умираю от голода.
— Если вы умираете от голода так, как падали от сна, ваше сиятельство, я боюсь, что вы не сделаете чести кушаньям, которые нарочно приготовлены для вас.
— Успокойтесь, любезный хозяин, — сказал молодой человек, — сон улетел, но аппетит явился. Вы увидите меня на деле.
Действительно, в гостиной, находившейся почти напротив комнаты, занимаемой бароном, был поставлен прибор со старанием и добросовестностью, свидетельствовавшими в пользу гастрономических познаний трактирщика.
Молодой человек сел за стол и аппетитно принялся за дело.
— Я сам буду иметь честь служить вам, ваше сиятельство, — сказал трактирщик, уходя и запирая за собой дверь.
Через несколько минут в эту дверь послышались два легкие удара.
— Войдите, — сказал барон, даже не оборачиваясь и прихлебывая рудесгейм, вкус и качество которого он уже оценил.
— Ну, войдите же! — повторил он через минуту. — Черт побери! Что это вы там делаете, любезный хозяин?
— Это не хозяин, — ответил кроткий голос тоном слегка насмешливым.
— Кто же это? — ответил барон, оборачиваясь. — Черт побери, я знаю этот голос!
Пока барон фон Штанбоу будто бы спал в своей комнате, в большой зале гостиницы происходила сцена, о которой мы должны сообщить нашим читателям, потому что она прямо связывается с нашей историей.
Проводив барона в свою комнату, Ганс, жадный как подобает всякому доброму немцу и который предвидел, что путешественник сделает у него большие издержки, сходил с лестницы, потирая себе руки и мысленно подсчитывая свои барыши.
Вернувшись в залу и приметив незнакомку, достойный трактирщик до того удивился, что чуть не выронил своей трубки.
— Прекрасно! — сказал он. — Начинается хорошо. Еще путешественник, то есть путешественница, должен бы я сказать.
Он подошел к незнакомке, сняв колпак.
— Вы трактирщик? — спросила она.
— Точно так, сударыня, — ответил он, — я Ганс Пуфендорф, хозяин «Железного Креста», к вашим услугам.
— Вы любите, конечно, деньги? Если так, то выслушайте меня.
— Слушаю обоими ушами.
— А так как они велики, то вы сами будете виноваты, если не услышите меня, а в особенности, если не поймете. Десять минут тому назад у вашей гостиницы остановился почтовый экипаж из Эмса. В этом почтовом экипаже сидел путешественник?
— Точно так, сударыня, — ответил трактирщик.
— Этот путешественник, об имени которого я у вас не спрашиваю, молодой человек с аристократическим обращением. Он и теперь у вас.
— Милостивая государыня! — сказал трактирщик с замешательством.
— А! Понимаю очень хорошо, я забыла… Возьмите эти десять флоринов; я даю их вам за наш разговор и за сведения, которые вы мне сообщите. Разумеется, издержки, которые я сделаю у вас, будут считаться особо.
— Говорите, сударыня, я к вашим услугам.
— Вы мне это сказали. Что происходило между этим путешественником и вами?
— Ничего необыкновенного. Он спросил у меня три вещи — комнату, потому что он падал от сна, завтрак в полдень и экипаж в два часа; он сказал мне, что намерен ехать в Мангейм.
— Это все?
— Решительно все.
— Вы исполните приказания этого человека, только постарайтесь, чтоб прибор его был накрыт не в той зале, где мы находимся, а в особой комнате, возле той, в которой помещусь я. А экипаж пусть будет готов в назначенный час. Теперь помните вот что: какой шум ни услыхали бы вы в той комнате, где я намерена иметь объяснение с этим путешественником — словом, что ни случилось бы, вы останетесь в стороне. Я предупреждаю вас, что этот разговор, который, может быть, будет бурный, во всяком случае не перейдет за известные границы. Чтоб избегнуть всяких предположений со стороны ваших слуг, подайте завтрак вы сами, и чтоб никто кроме вас не заходил в комнату, пока я и приезжий будем там. Вы поняли меня?
— Совершенно.
— И вы будете повиноваться мне?
— Во всем, — отвечал трактирщик, смотря на десять флоринов, которые держал еще в руке.
— Хорошо, отведите меня в комнату, которую мне назначаете, и сохраняйте глубокое молчание. Одно необдуманное слово может стоить вам дорого.
Трактирщик молча поклонился и проводил незнакомку в комнату, в которой оставил ее одну.
— Что все это значит? Что будет происходить? — бормотал трактирщик, закуривая свою трубку, которая может быть в первый раз погасла у него. — Впрочем, что мне за дело? Я без труда получил десять флоринов, а десять флоринов такая сумма, которою не следует пренебрегать. Покойный мой отец, достойный человек, говорил всегда, что прибыль никогда не следует упускать. Что ни случилось бы, глуп был бы я, если б не воспользовался этим.
С этим размышлением, может быть, более благовидным, чем справедливым, Ганс начал погонять своих служанок и серьезно занялся завтраком благородного путешественника.
Мы оставили барона в величайшем удивлении; он стоял с рюмкой в одной руке, салфеткой в другой, не зная, с кем он имеет дело.
— Как! Фридрих, — сказала незнакомка кротким голосом, — разве я уже так далеко от вашего сердца, что даже звук моего голоса сделался вам незнаком? Посмотрите на меня хорошенько; это я, Анна Сивере!..
С грациозным движением она опустила на плечо плотную вуаль, которая до сих пор скрывала ее лицо.
Никогда живописец не успел бы нарисовать более тонкие, более совершенные, более благородные и более грациозные очертания лица, как того восхитительного существа, черты которого завистливая вуаль скрывала до этой минуты от глаз барона.
Анна Сивере была женщина, или лучше сказать девушка лет двадцати, белокурая, как все немки, но по странной особенности, придававшей необыкновенный отпечаток ее физиономии, вместе и мечтательной, и лукавой, ее большие глаза были черные, исполнены огня, окаймленные длинными бархатистыми ресницами и увенчаны каштановыми бровями, точно нарисованными кистью.
Никогда более очаровательная волшебница не ступала более крошечной ножкой по вереску при лунном сиянии в легендах Вагала. Впечатление, которое должна была возбуждать эта женщина с первого взгляда, было непреодолимо. Походила ли нравственная сторона на физическую? Этого мы еще не можем сказать.
— Ну, любезный Фриц, — сказала она с печальной улыбкой, — я вижу, что вы решительно меня не узнаете и забыли, потому что с тех пор, как я стою перед вами, вы не сказали мне ни одного ласкового слова.
— О, извините, извините! — сказал молодой человек, выронив салфетку, поставив рюмку и бросаясь к Анне Сивере.
Он взял ее руку, которую она подала ему, бросив на него взгляд, исполненный томной неги.
Она позволила ему довести себя до кресла, на которое села.
Фридрих фон Штанбоу не был человек пошлый; напротив, у него была могучая организация, высокий ум. Двух минут было для него достаточно, чтобы оправиться от жестокого удара, который он получил, и принять решение.
— Я не знаю, милая Анна, — сказал он, — как мне извинить перед вами поведение, которое вы имеете право находить более чем странным, но моя жизнь до того изменилась в несколько часов, я сделался игрушкой таких необыкновенных происшествий, что нет ничего удивительного, если я не узнал вас, потому что я сам себя не узнаю. Притом я так мало ожидал видеть вас в этой гостинице, где я проездом, в деревне, затерянной в горах и так далеко от Берлина, что я еще спрашиваю себя, действительно ли вы находитесь передо мной.
— О! Что касается этого, любезный барон, вы можете вполне быть спокойны. Вы имеете дело ни с эльфом, ни с сильфом; возле вас сидит смертная, а что касается моего посещения, то ничего нет легче, как дать вам объяснение в двух словах.
— Вот это вполне успокаивает меня. Садитесь же без церемонии напротив меня, милая Анна, и разделите мой скромный завтрак; расскажите мне, каким образом мы встречаемся неожиданно так далеко от домика на Шарлотенской улице в Берлине.
В эту минуту дверь отворилась и Ганс Пуфендорф вошел с блюдами, которые симметрично расставил на столе. По знаку барона, он поставил второй прибор, потом ушел, низко поклонившись и не произнеся ни слова. Оба собеседника остались одни, и завтрак начался.
Барон, хотя ел с аппетитом и ухаживал за своей очаровательной собеседницей, глубоко размышлял.
Он предоставлял молодой женщине одной продолжать разговор, потому что это давало ему время обдумывать принятый им план и принять меры, чтобы не сделать неловкости и действовать, соображаясь с обстоятельствами. В особенности ему не надо было показывать замешательства, потому что он опасался более всего попасть в когти прусской полиции, от которой он избавился так недавно.
— Я слушаю вас, милая Анна, — сказал он вкрадчивым голосом, — слушаю с величайшим вниманием. Вы знаете, как меня интересует все касающееся вас; уверяю вас, что я не только беспокоился о вас, но страдал, даже более чем могу выразить, от нашей разлуки.
— Я так убеждена в истине ваших слов, — ответила молодая женщина насмешливым голосом, — что поспешу исполнить ваше желание. Я не стану напоминать вам, как вас арестовали в ту ночь и увезли, несмотря на мои слезы и мольбы, из домика, которым я была обязана вашим щедротам и в котором уже несколько месяцев мы жили вместе. Но вы не можете знать, какую горесть испытывала я, в каком одиночестве оставил меня ваш отъезд. Несколько дней я была как сумасшедшая, и если б Элена, моя служанка, не ухаживала за мной с испытанной материнской преданностью, кажется, я умерла бы.
— Бедная Анна, — сказал барон, выпивая рюмку рудесгейма с очевидным удовольствием, — как вы должны были страдать!
— Да, я сначала страдала от разлуки с вами, а потом от беспокойства о вашей участи. Более месяца прошло таким образом, а я не могла встать с постели, к которой приковала меня болезнь, и попытаться хоть на какой-нибудь шаг, чтобы узнать, что случилось с вами. Но, наконец, молодость, силы моего сложения восторжествовали, и я начала выздоравливать. Сказать вам, что я сделала тогда и как успела узнать, что вы осуждены на вечное заточение в тюрьме и заключены в крепости Шпандау, взяло бы много времени и было бы не интересно для вас. Достаточно вам сказать, что мои розыски длились целых два месяца и что в конце этих двух месяцев я собрала все необходимые сведения. Я тотчас решилась. Я продала все, что у меня было, все, что вы мне подарили, Фридрих; дом, мебель, вещи, продала все и когда, наконец, собрала довольно значительную сумму, не предупреждая никого, не простившись даже с моими родными, уехала в Шпандау с Эленой, которая не захотела расстаться со мной.
— Бедное дитя! Что могли вы сделать в Шпандау одна, без покровительства?
— Для вас ничего, Фридрих, я знала это заранее; но я была близ вас, я дышала одним воздухом с вами, — продолжала Анна Сивере печально, — я имела надежду увидеть вас, может быть, или угадать за решетками вашей тюрьмы. Я наняла в домике напротив крепости скромную квартиру и каждый день с пяти часов утра садилась у окна, и работая, все смотрела на мрачные стены, за которыми вы страдали. Я была почти счастлива от этой близости, я представляла себе химеры. Надежда — последнее чувство, остающееся в глубине сердца. Я говорила себе, что, может быть, мне удастся когда-нибудь не освободить вас, это было для меня невозможно, но пробраться к вам, дать вам знать, что я возле вас и только в нескольких шагах; что я разделяю ваши горести и все вас люблю. Я думала, что когда вы узнаете, что вы брошены не всеми и что есть еще сердце, оставшееся вам верным, эта мысль оживит ваше мужество и бросит луч света в вашу мрачную тюрьму.
— Анна, — сказал барон, с волнением протягивая через стол руку, которую она пожала, — вы благородное и мужественное создание. Я вас еще не знал. Жертва, которую вы принесли для меня, глубоко трогает меня. Благодарю вас; я не забуду этого никогда.
— Буду помнить это слово, Фридрих, это единственное выходящее из сердца, которое вы сказали мне с тех пор как я здесь. Я продолжаю. Все дни мои проходили таким образом в ожидании события, которого я не смела предвидеть, случайности, которую я призывала всеми желаниями моего сердца. Для того, чтобы быть готовой на все, что могло случиться, и думая, что если вам удастся каким-нибудь образом выбраться из страшной крепости, или побегом, или иначе, то вам нужны будут деньги, я успела, все по милости Элены, достать шитье белья из первых домов Шпандау. Моя материальная жизнь была таким образом обеспечена. Я не только не трогала моего капитала, но еще по милости маленькой экономии успела его увеличить. Элена познакомилась с женою привратника тюрьмы и встречала у него некоторых ваших тюремщиков. Ей удалось, как — я не знаю, заинтересовать вами одного из них. Я имела таким образом известия о вас; я знала, какую жизнь ведете вы, какие жестокие лишения испытываете вы; наконец, я могла пересчитывать одно за другим все ваши страдания.
Месяц прошел таким образом, а мне, несмотря на все мои усилия, не удалось дать вам знать о моем присутствии. В одну ночь около крепости послышался большой шум. Я еще не спала; какое-то предчувствие сказало мне, что это движение относится к вам. Я послала Элену узнать. Я не ошиблась. Кавалерийский отряд выезжал из крепости и конвоировал почтовый экипаж. Говорили, что вас перевозят в другую крепость. Через час, взяв все, что у меня было самого драгоценного, я поехала за вами в экипаже, наскоро нанятом Эленой. Я так спешила, так сыпала золотом на дороге, что догнала почтовый экипаж, увозивший вас. Я приезжала на каждую станцию через четверть часа после вас. Таким образом проехала я Пруссию. Я въехала в Эмс только через несколько минут после вашего экипажа. Я переменила лошадей, дала приказания ямщику ждать меня в том месте, которое ему назначила, и спряталась недалеко от дома, в который вы въехали вместе с конвоем. Я ждала долго; много часов прошло, прежде чем вы вышли. Мое беспокойство и тоска увеличивались каждую минуту. Я находилась в неописуемом страхе, потому что знала, у кого вы, к кому вас привезли, и опасалась всего от страшного человека, который вас призвал. Наконец, немного спустя после полуночи, почтовый экипаж уехал один на этот раз, без конвоя, который так долго окружал его. Сердце мое билось так сильно, как будто готово было вырваться из груди.
Я дрожала, чтобы с вами не случилось несчастья, бросилась вперед и при свете фонарей узнала вас. Я вскрикнула; потрясение, полученное мною, было так сильно, что я отступила шатаясь, и если бы стена не находилась позади меня, я, кажется, упала бы. Но скоро сделалась реакция; силы мои вернулись. Я пошла к моему экипажу, села и через несколько минут услыхала на дороге топот лошадей, увозивших вас передо мной. Что вам сказать еще, любезный Фридрих? Два дня скакала я таким образом позади вас, не смея к вам приблизиться из опасения скомпрометировать вас. Сегодня утром, зная, что вы должны остановиться в этой деревне, я велела остановить свой экипаж в нескольких шагах от первых домов. Скоро я увидала, что ваш экипаж возвращается пустой. Я поняла, что вы остановились в Марнгейме, что вы свободны, что вы не подвергаетесь более никакой опасности, что я могу вас видеть, явиться к вам и сказать, как говорю теперь: Фридрих, я здесь. Я по-прежнему люблю вас и готова разделить ваше счастье и несчастье.
Наступило довольно продолжительное молчание. Молодая женщина устремила пылкий взгляд на барона, который уже несколько минут оставался недвижим с бледным лицом, с расстроенными чертами, с потупленной головой.
— Ну, — продолжала она с легким оттенком грусти в своем кротком голосе, — вы не отвечаете мне, Фридрих. Или вам неприятно, что вы увидались со мной? Верно, я напрасно догоняла вас?
Барон вдруг приподнял голову, провел рукой по лбу, покрытому потом, и стараясь улыбнуться, наклонился к молодой девушке.
— О, вы этого не думаете, Анна! — сказал он. — Но большая радость, все равно, что большая горесть, переполняет сердце, и часто невольно недостает выражений, чтобы выразить свои чувства… Ах, я рад! Очень рад вас видеть, Анна. Изгнание, на которое я осужден, покажется мне менее жестоким, если только я могу разделить его с вами.
— Разве вы изгнаны, Фридрих? Я это подозревала. Палач никогда не помилует вполне. Вы отправляетесь во Францию?
— Нет, Анна, Франция слишком близко. Министр хочет поставить большее расстояние между Пруссией и мной. Мне приказано уехать в Америку, в Северные Соединенные Штаты. Я секретарь прусского посольства в Вашингтоне.
— А! — сказала Анна со странным выражением. — Это изгнание почетное.
— Было бы, Анна, если б я не был осужден проводить всю жизнь в той стране. Министр переменил заточение на ссылку, вот и все.
— Что за беда? — сказала молодая женщина. — Не будем ли мы там вместе и притом одни? Между нами будет связь, которая привяжет нас друг к другу и которая если не усилит нашей любви, то упрочит счастье; связь очень дорогая…
— Что хотите вы сказать, Анна? Я вас не понимаю; о чем говорите вы?
— Это тайна, которую я сохраняла в моем сердце, сюрприз, который я сохраняла для вас, луч солнца, которым я хотела блеснуть на нашем мрачном небе.
— Объяснитесь, Анна, умоляю вас.
— Знайте же, друг мой, болезнь, о которой я говорила вам, эта болезнь… Вы помните, в каком состоянии оставили меня, не правда ли? Я была беременна, горе ускорило срок родов и… У вас есть сын.
— Сын, у меня! Где же этот сын? Говорите, говорите же, Анна…
— Я не могла взять с собой это слабое существо, Фридрих. Ваш сын в Шпандау, с Эленой. Когда мы приедем в тот приморский город, где должны сесть на пароход, мы напишем, чтобы Элена приехала к нам, и тогда вы увидите, поцелуете вашего сына…
— Да, так; вы правы, как всегда, Анна. О, как мне хотелось бы увидать этого милого ребенка, сжать его в своих объятиях, покрыть поцелуями! Он похож на вас, не так ли, Анна?
— Нет, Фриц, на вас.
— Льстивая женщина! — сказал он улыбаясь.
— Итак, это известие доставило вам удовольствие?
— Оно осчастливило меня. Вы сказали правду: очень дорогая связь связывает нас друг с другом теперь навсегда.
— Вы видите, любезный Фриц, несмотря на отдаленность, хотя в чужой земле, мы будем счастливы.
— О! Да, очень счастливы, — прошептал он со вздохом, вытирая лихорадочной рукой своей лоб, орошенный потом.
Глава IV КАК БЛАГОРОДНЫЙ ПРУССАК ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ЛЮБОВНИЦЫ, СТЕСНЯЮЩЕЙ ЕГО
Лед окончательно был проломан. Все тучи рассеялись, по крайней мере по наружности, между собеседниками и завтрак продолжался в самых дружелюбных условиях. Каждый отпускал приятные слова и очаровательные улыбки.
По просьбе своей обольстительной любовницы, барон рассказал с увлечением, которое буквально приковало внимание молодой женщины, свое свидание со всемогущим министром короля. Поспешим сказать, что этот рассказ, очень приукрашенный с помощью воображения барона, не отличался безукоризненной точностью.
Читатель поймет, что барон не упомянул об условиях, на которых министр возвратил ему свободу. Он очень быстро обошел эту довольно щекотливую часть рассказа и приписал министру великодушие и величие души, которых никогда не было в его мыслях.
Эти пункты, оставшиеся темными в рассказе барона, не укрылись от проницательности молодой женщины, но у нее было столько тонкости, что она не показала этого; может быть, она имела на это причины, которых мы не можем еще понять, чтоб делать вид, будто она вполне верит этому рассказу.
Впрочем, какова бы ни была тайная мысль обоих собеседников, она ни разу не отразилась на их лице, и постороннему они показались бы влюбленными, встретившимися после продолжительной разлуки с большей страстью друг к другу, чем прежде.
В конце завтрака, когда удовлетворенный аппетит молодых людей позволил им предаться задушевному разговору, они начали, как всегда бывает в подобных случаях, составлять планы будущего.
Во-первых, они должны были в тот же день вместе уехать из гостиницы «Железный Крест» в Мангейм, взять там место во Францию, проехать ее всю и вместе в Гавре сесть на пароход.
Этот план вдвойне был приятен молодой женщине. Она спешила уехать из Германии; она думала, что пока барон останется в Пруссии, он будет пользоваться ненадежной свободой и что каждую минуту министр может отнять ее у него, что надо было торопиться переехать границу и въехать во Францию, это убежище изгнанников всего света.
Анна Сивере не отпускала почтового экипажа, как читатель помнит. Ямщик, повинуясь, без сомнения, приказаниям прежде данным, поставил свой экипаж на конце деревни и готов был ехать по первому приказанию молодой женщины. Она настояла, чтоб барон поехал с ней.
Но Штанбоу заметил ей, что он приехал один в Марнгейм, что если их случайная встреча в гостинице могла до некоторой степени оправдываться в глазах трактирщика прежними отношениями, более или менее короткими, то она примет размеры скандала, если они вместе уедут из деревни. Можно было подумать, что свидание было назначено заранее, словом, сделать предположения, которые в том трудном положении, в каком находился молодой человек, наверно подстерегаемый тайными агентами министра, могли повредить ему в глазах последнего, чего необходимо следовало избегать, и, может быть, даже быть причиной его немедленного ареста.
Словом, надо было предвидеть все и не компрометировать неосторожным поступком счастливую будущность, обольстительная картина которой восхищала их мысли.
Эти довольно благовидные причины, красноречиво высказанные бароном, убедили молодую женщину, и было решено, что ничто не будет изменено в распоряжениях, принятых бароном по приезде в гостиницу. Барон поедет в экипаже, приготовленном для него, молодая женщина за ним через четверть часа в своем экипаже. Приехав в Мангейм, они возьмут места в Страсбург и потом будут путешествовать под одной фамилией, как муж и жена.
Все эти разговоры и объяснения заняли довольно много времени, поэтому барон очень удивился, когда Ганс вошел с колпаком в руке и доложил, что повозка готова и кучер ждет приказаний.
Барон встал, расплатился за все, простился с молодой женщиной, как будто не рассчитывал увидеться с ней, и через пять минут уехал.
Оставшись одна, Анна Сивере облокотилась о стол, подперла голову рукой и на несколько минут погрузилась в серьезные и глубокие размышления. Вдруг она встала и прошептала:
— Мы увидим!
Потом в свою очередь вышла из комнаты.
Мангейм город совершенно современный, очень однообразный, не представляющий ничего замечательного для глаз путешественников и туристов. Он выстроен в виде шахматной доски, разделяется на большие квадраты, и улицы, не имеющие никаких названий, обозначаются таким образом: квадрат А, квадрат Б и прочее. Основанный в 1606 курфюрстом палатином Фридрихом IV, он долго служил резиденцией Карлу-Филиппу. Замок, разрушенный несколько раз, а особенно в 1795, заключает в себе несколько римских монументов. По милости железных дорог и своему положению на Рейне, доставляющему торговые сношения, Мангейм видит свою важность и его народонаселение увеличивается постоянно. Скоро он сделается одним из самых важных промышленных центров Баденского герцогства.
Вот все, что мы скажем об этом городе, где действующие лица этой истории проведут только несколько минут.
Почтовая карета молодой женщины скоро догнала повозку барона. Оба экипажа вместе въехали в город и вместе остановились у станции железной дороги.
Станция эта, не очень замечательная, была в эту минуту наполнена. Из Кобленца приехал поезд и высадил много путешественников.
Между тем как молодая женщина, не подумавшая об этом ранее, рассчитывалась со своим кучером, барон вышел с чемоданом под мышкой в большую залу, где находилось уже несколько групп и между ними прусские офицеры в мундирах.
Как только барон появился в дверях этой залы, офицер со знаками высшего чина отделился от одной из этих групп, прямо подошел к молодому человеку, вежливо поклонился ему и сказал тоном самого искреннего дружелюбия:
— Барон Фридрих фон Штанбоу?
— Это я, — также вежливо ответил барон, — но я напрасно стараюсь припомнить ваши черты.
— Не трудитесь, — улыбаясь возразил офицер, — я не имею чести быть вам известен. Я полковник фон Штадт.
— Теперь понимаю, — сказал барон, кланяясь.
— Что я исполняю поручение. Действительно, барон, но не тревожьтесь. Я здесь только для того, чтоб удостовериться в вашем отъезде и предложить вам мою помощь, если неравно она понадобится вам.
Молодой человек вздрогнул. Он бросил вокруг тревожный взгляд, и удостоверившись, что Анны Сивере нет еще в зале, с живостью наклонился к офицеру и сказал поспешно тихим голосом:
— Если так, полковник, вы можете оказать мне огромную услугу.
— Говорите. О чем идет дело? Я к вашим услугам.
— Извините меня, полковник, но я боюсь здесь взглядов и ушей нескромных.
— Пойдемте со мной, барон. Я проведу вас в такое место, где мы можем разговаривать свободно. Притом, не к чему торопиться; вам остается еще двадцать пять минут до отхода поезда.
Полковник пошел с бароном в особую комнату, принадлежащую к квартире начальника станции.
— Любезный барон, — сказал полковник, указывая рукой на кресло, — не угодно ли вам садиться. Здесь мы можем разговаривать свободно, не боясь, что нам помешают. Что вы желаете мне сказать? Я вас слушаю и готов, повторяю вам, сделать вам угодное, если это возможно для меня. Во-первых, мне приказано это сделать, а если б даже я не получил такого приказания, то живое сочувствие мое к вам побудило бы меня к этому.
— Я должен, полковник, говорить с вами о предмете очень щекотливом.
— Не затрудняйтесь. Я способен все выслушать и все понять.
— Вы без сомнения знаете, полковник, — сказал барон, по-видимому, вдруг принявший решительное намерение, — зачем я еду во Францию?
— Да, почти, — ответил офицер с тонкой улыбкой.
— А для того, чем я буду заниматься, я должен сохранять строжайшее инкогнито; словом, никто не должен предполагать…
— Что барон фон Штанбоу скрывается под именем графа Владислава Поблеско, не так ли, барон?
— Именно так, полковник.
— Ну, а что же?
— А это необходимое для меня инкогнито подвергается опасности быть нарушенным на первой станции.
— О! О! Это очень важно.
— Не правда ли? Для того, чтобы избегнуть этого, я прошу вашей помощи.
— Повторяю, вы можете рассчитывать на нее. Объяснитесь.
— Боже мой! Это очень просто, полковник. Если вы знаете меня, вам без сомнения известно, что я жил широко, так широко даже, что был арестован…
— И отвезен в Шпандау, где вы были бы и теперь, если б первый министр не даровал вам великодушно свободы в ту минуту, когда вы менее всего ожидали этого.
— Именно, полковник, — сказал он с горечью. — В ту минуту, когда меня арестовали, я могу вам признаться между нами, что я был влюблен в гризетку, которую встретил однажды вечером Под Липами в Берлине. Эта молодая девушка, которая должна была быть для меня предметом мимолетной любви, продолжающейся месяц и не составляющей никакой эпохи в жизни молодого человека, приняла в воображении моей сентиментальной гризетки колоссальные размеры.
— Черт побери! Вы мне рассказываете роман.
— Да, полковник. Когда я был арестован, бедная девушка, преданная своей любви ко мне, продала все, что имела, уехала из Берлина, узнала неизвестно каким образом, что я заключен в Шпандау, и поселилась в комнате напротив тюрьмы.
— Но это очаровательно, знаете ли вы, черт меня побери! Это почти Маргарита Гёте.
— Да, — отвечал барон с сардонической улыбкой, — между ними даже есть большое сходство.
— Потом что случилось?
— Случилось, что должно было случиться, любезный полковник. Моя Ариадна по целым дням не спускала глаз с крепости и надеялась увидать меня в каком-нибудь окне за решеткой. В одну ночь меня повезли в Эмс к министру и я имел с ним свидание, известное вам. Почтовый экипаж, привезший меня в Эмс, высадил меня сегодня утром в пять часов в маленькой баварской деревушке. Судите о моем удивлении, когда в ту минуту, когда я садился завтракать, ко мне явилась Анна Сивере.
— Ее зовут Анна Сивере? Хорошенькое имя. Поздравляю вас.
— Не правда ли? Тогда начались объяснения. Она следовала за мной, она ни на минуту не теряла меня из виду. Словом, мне не нужно говорить вам ничего более, вы сами видите конец.
— Да, да, понимаю. Вы спрягали глагол любовь, поклялись друг другу в вечной любви и обещали никогда не расставаться. Но теперь, когда вы хладнокровны и имели время размыслить, вы смотрите на вопрос с настоящей точки зрения, то есть связь с этой женщиной вам воспрещена по вашему положению и по важности интересов, призывающих вас во Францию. Словом, вы очень обрадовались, встретив меня на станции, чтоб сказать мне: полковник фон Штадт, со мной едет очаровательная женщина, которую я очень люблю, но я буду очень благодарен вам, если вы освободите меня от нее как можно скорее. Так ли?
— Буквально, полковник.
— Успокойтесь, барон, ничего не может быть проще, а в особенности легче. Выйдите в эту дверь, ступайте к вашей любовнице, ничего не показывайте, в особенности сделайте вид будто не знаете меня, и предоставьте мне освободить вас от очаровательного демона. Э! Черт побери! Мужчины обязаны оказывать помощь и защиту друг другу. Какой великий у нас министр! Как он думает обо всем! Посмотрите, однако, что могло бы случиться, если б меня не было здесь?
— Действительно… Итак?
— Все решено, но поспешим, время уходит.
С этими последними словами барон и полковник расстались.
Пока это происходило, молодая женщина, щедро расплатившись с кучером, к великому его удовольствию, пошла в залу, где она тревожно осмотрела все уголки и не нашла, кого искала.
Подозрение как молния промелькнуло в ее мыслях, но почти тотчас не несправедливость, а невозможность измены, по крайней мере в эту минуту успокоила ее и она с радостью и с улыбкой села в уединенном углу залы.
Только что она села, как дверь отворилась и вошел барон. Тревога на его лице, его очевидное беспокойство окончательно успокоили молодую девушку, которая не могла не улыбнуться своим подозрениям.
— Где это вы были, милая Анна? — сказал барон, как только приметил молодую женщину. — Я ищу вас Бог знает сколько времени и не могу найти.
— Извините меня, Фриц. Кучер задержал меня долее, чем я думала, но теперь все кончено, слава Богу, и я свободна так же, как и вы.
— Дай Бог, чтобы мы долго оставались свободными, Анна! — прошептал он со вздохом.
— Что вы хотите сказать, Фридрих? Вы тревожите меня.
— Ничего, милая Анна, но я встретил здесь прусских офицеров и признаюсь, что пока не сяду в вагон, я не стану считать себя в безопасности.
— Но теперь нам нечего бояться.
— Дай Бог, милый друг, но повторяю вам, не знаю, почему я неспокоен.
В ту минуту, когда барон произносил эти слова, дверь вдруг отворилась и вошло несколько прусских офицеров.
Эти офицеры бросили проницательный взгляд в залу, потом обменявшись несколькими словами тихим голосом, подошли к тому месту, где сидели в стороне барон и молодая женщина.
— Это что значит? — прошептала Анна Сивере, вся дрожа.
Барон побледнел. Чувство его дурного поступка, несмотря на его природную развращенность, болезненно сжимало его сердце. Он понял, наконец, всю гнусность своего поведения и какой черной неблагодарностью платил он за столь чистую и столь полную преданность молодой женщины. Но теперь было уже слишком поздно для этих размышлений. Жребий был брошен. Барон вступил на путь, где каждый взгляд назад становился для него невозможен. Он сделал усилие над собой и бесстрастно ждал, что будет.
Офицеры остановились перед молодыми людьми и один из них, поклонившись барону с холодностью и надменностью всех немецких офицеров, каков бы ни был их чин, спросил сухим голосом, он ли барон Фридрих фон Штанбоу.
— Вам какое дело, кто я такой? — надменно ответил молодой человек.
— Это дело для меня важнее, чем вы можете предположить, — ответил офицер, — я полковник королевской гвардии и мне приказано сделать вам этот вопрос.
— Вы намерены меня арестовать?
— Может быть; это будет зависеть от вас; вы барон Фридрих фон Штанбоу или нет?
— Я барон Фридрих фон Штанбоу.
— Я имею приказание отвести вас в отдельный вагон, где находятся два офицера, которым поручено проводить вас до границы.
— Отчего такая строгость ко мне?
— Мне нечего вам отвечать. Офицер не должен рассуждать о приказаниях, получаемых им, а исполнять их.
— Это правда; что я должен делать?
— Следовать за мной.
— Я готов.
Анна Сивере, бледная, дрожащая, встала и, не произнеся ни слова, оперлась о руку барона.
— Кто эта женщина? — спросил офицер.
— Эта дама едет со мной.
— Это невозможно.
— Невозможно? — вскричали молодые люди.
— Мне так приказано. Эта дама слишком молода для того, чтобы быть вашей матерью, она не сестра ваша, потому что вы единственный сын. Она не жена ваша, потому что вы не женаты. Стало быть, она может быть только вашей любовницей.
— Милостивый государь…
— Не станем спорить о словах. Мне все равно кто она, мне до этого нет никакого дела; я должен сказать вам только одно, что так как она ни ваша мать, ни жена, ни сестра, то ей запрещено ехать с вами.
— Милостивый государь, ради Бога!.. — вскричала молодая женщина со слезами на глазах и сложа руки.
— Милостивая государыня, — перебил офицер, смягчив звук своего голоса, — умоляю вас, не делайте мне затруднительнее данное мне поручение. Я повторяю вам, к моему величайшему сожалению, что таково приказание, полученное мной; каковы бы ни были мои личные чувства, приказание это должно быть исполнено и будет.
— Милостивый государь, — вмешался барон, — дайте мне по крайней мере несколько минут, чтобы проститься с нею.
— Я очень желал бы этого, но поезд отправляется через несколько минут, а мне приказано, что бы вы уехали из Германии с этим поездом.
— Если так, — сказал молодой человек, — я не настаиваю.
Наклонившись к молодой женщине, на лбу которой он запечатлел поцелуй, он сказал ей тихим голосом:
— Мы увидимся, Анна; я говорю вам не прощайте, а до свидания.
— До свидания! — прошептала она, опускаясь почти без чувств на стул, с которого она встала за минуту перед тем.
— Пойдемте, господа, — сказал тогда барон, обращаясь к прусским офицерам.
Те тотчас окружили его и вышли вместе с ним из залы.
Сцена эта осталась не примеченной путешественниками, которые все были заняты своими приготовлениями, сидели довольно далеко или были заняты разговорами и не обращали никакого внимания на то, что происходило в конце залы.
Мы сказали, что молодая женщина осталась холодна и неподвижна; вдруг нервный трепет пробежал по всему ее телу. Она сделала движение, чтобы встать.
Послышался свист локомотива. Поезд уехал.
Чья-то рука дотронулась до руки молодой женщины и человек, сидевший позади нее, сказал ей кротким голосом:
— Останьтесь; поздно!
— Это правда, — прошептала она, — Боже мой, слишком поздно!
— Вооружитесь мужеством, — продолжал голос, — соберите ваши силы, не поддавайтесь горести.
Анна Сивере медленно повернула голову к человеку, который говорил таким образом. Это был человек лет пятидесяти, одетый довольно щеголевато, правильные черты которого имели отпечаток изящества; он стоял позади Анны и смотрел на нее с выражением сочувствия. Незнакомец этот, обращение и осанка которого показывали человека высшего общества, имел в петлице орден почетного легиона.
— Кто вы? — спросила молодая женщина. — Вы принимаете участие в несчастной женщине, возле которой, без сомнения, поместил вас случай.
— Не случай, — ответил незнакомец, почтительно кланяясь Анне, — я знал, что будет, и пришел предложить вам мою помощь, если вы удостоите принять ее.
— Да благословит вас Бог за эти доброжелательные слова! Я здесь приезжая, не знаю никого, и вы видели, что того, кто один мог защитить меня, грубо похитили от меня.
— Уверены ли вы, что все произошло таким образом?
— Что вы хотите сказать? — вскричала Анна с изумлением, смешанным с испугом. — Неужели я жертва гнусной комедии, измены?
— Может быть; вы лучше меня можете судить об этом; но я позволю себе заметить вам, что место, в котором мы находимся, дурно выбрано для разговора, который, без сомнения, вы желаете иметь ср мной. Каждую минуту офицеры, которые увели человека, ехавшего с вами, могут вернуться, и кто знает, не будете ли вы иметь каких-нибудь неприятностей с их стороны.
— Вы правы, но что делать? Я не знаю никого. Куда я пойду?
— Успокойтесь. Я вас не оставлю. Вы женщина, следовательно, имеете право на покровительство всякого честного человека. Прежде всего, чтоб внушить вам доверие, позвольте мне сказать вам, кто я. Меня зовут Пьер-Арман де Мутье. Я один из главных директоров общества французских восточных железных дорог. Меня призвали сюда дела, и я намерен через час вернуться в Париж.
— Благодарю вас за сведения, которые вы сообщили мне о себе. Я полагаюсь на вас; руководите мной, я готова следовать за вами.
— Угодно вам взять меня под руку?
Оба вышли из залы.
В ту минуту, когда дверь заперлась за ними, полковник фон Штадт и офицеры, сопровождавшие его, вошли в залу в другую дверь. Они смутились, увидав, что путешественница, которую они искали, исчезла.
Напрасно отыскивали они ее; те, которых они расспрашивали, не могли сообщить им никаких сведений. Анна Сивере не нашлась нигде. Полковник принужден был отказаться от поисков.
Между тем Мутье вышел из залы, как мы сказали вместе с молодой женщиной. У станции ждала его коляска, запряженная парой лошадей.
Он прежде посадил молодую женщину, сам сел возле нее и, наклонившись к слуге, который почтительно стоял у дверей со шляпой в руке, сказал:
— Жан, прикажите кучеру ехать как можно скорее на Лудвингсгафенскую железную дорогу; я тороплюсь.
Слова эти были сказаны по-французски.
— Для чего мы едем в Лудвингсгафен? — спросила молодая женщина.
— А! Вы говорите по-французски, — улыбаясь, сказал Мутье, — тем лучше.
— Моя фамилия французского происхождения, — ответила Анна. — Она эмигрировала вследствие Нантского эдикта и с тех пор поселилась в Баварии.
— О! Когда так, мы почти соотечественники; я вдвойне радуюсь, что мне посчастливилось находиться там так кстати и предложить вам мою помощь.
— Вы очень добры, но вы не ответили на мой вопрос.
— Действительно. Я приказал кучеру ехать в Лудвигсгафен, потому что оттуда, если вы желаете ехать во Францию или предпочитаете вернуться к родным, вам будет это легко, не навлекая на себя подозрений.
— Тысячу раз благодарю вас. А теперь, когда вы мне сказали, кто вы, когда вы так великодушно вмешались, чтоб ободрить меня, позвольте мне в двух словах сказать вам, кто я.
— Меня привлек к вам порыв непреодолимого сочувствия. Стараться узнать вас, это значило бы требовать платы за легкую услугу, которую мне, может быть, посчастливится вам оказать. Сохраните же, если желаете, инкогнито, которое защищает вас от моего любопытства, и будьте убеждены, что я не буду на это жаловаться.
— Вы слишком деликатны, но я желаю сделаться известной вам. Я хочу, чтоб вы знали, что если я несчастна, то, по крайней мере, ваше великодушие не ошиблось и я достойна любезного покровительства, которым вы меня удостоили.
— О! Вы заходите слишком далеко; будьте уверены, что мне никогда не пришла бы мысль судить о вас так строго, как вы того опасаетесь. Достаточно видеть вас одну минуту, чтобы понять, что вы имеете право на уважение всех.
— Я не буду употреблять во зло ваше терпение. Моя история будет коротка. Она похожа на историю многих женщин и может быть рассказана в нескольких словах. Я любила всеми силами души моей человека, который, как я теперь боюсь, был недостоин любви столь истинной, столь чистой. Меня зовут Анна Сивере. Я единственная дочь протестантского пастора в Мюнихе. Однажды отец мой принес к нам в дом раненого молодого человека, которого он нашел умирающим недалеко от города. Этого молодого человека вы видели сегодня. Его зовут Фридрих фон Штанбоу и он принадлежит к одной из первейших фамилий прусского дворянства. Тогда я ничего не знала, даже имя его мне было неизвестно. Два месяца оставался он между жизнью и смертью. Я ухаживала за ним с преданностью и самоотверженностью сестры. Когда он вернулся к жизни, он благодарил меня таким кротким голосом, такими нежными словами, он так энергично уверял в своей любви, взгляд его так хорошо говорил мне, что голос только шептал, что я позволила обольстить себя. Привыкнув жить между отцом и матерью, не зная вовсе жизни, я должна была гибельно поддаться первой любви, которая, как солнечный луч, согрела мою душу, заставила зазвучать все фибры моего сердца и открыла мне существование божественного чувства, которое до тех пор оставалось неизвестно мне. О! Однако в моей слабости я была еще сильна. Я боролась сама с собой с той энергией, которую стыдливость дает наивным душам. Я инстинктивно чувствовала, что делаю проступок, соглашаясь на просьбы моего возлюбленного, и если согласилась принадлежать ему, то не прежде, как он торжественно обещал мне, что я сделаюсь его женой. Увы! Последствия вы предвидите. В одну ночь я оставила родительский дом и последовала за моим обольстителем, бросив отца и мать мою в величайшей горести. Наказание за этот проступок не замедлило. Оно было ужасно. Человек, для которого я все бросила, стал пренебрегать мною и, может быть, скоро совсем бы меня бросил, если б ему не помешала страшная катастрофа. Он был арестован, отвезен в Шпандау и заключен в крепость. Я сделалась матерью. Я все любила человека, который так недостойно обманул меня. Я продала все, что у меня было, и последовала за ним в этот город. В продолжение длинных четырех месяцев заточения я жила как сумасшедшая, постоянно устремив глаза на его тюрьму и молясь Богу, чтобы Он возвратил ему свободу. Эта свобода была ему возвращена два дня тому назад в Эмсе, куда его привезли и куда я последовала за ним. Сегодня утром первый раз после его ареста я увидела его. Он мне сказал, что наказание его переменено в изгнание и что он должен ехать в Америку. Я не колебалась. Я решилась следовать за ним, чтоб утешать его и разделять его скуку. Я сказала ему также, что он отец. Это известие, по-видимому, очень его обрадовало. Он мне сказал, что эта новая связь и… Вы видите, я более печальна и более одинока, чем прежде. Он опять отнят у меня и я опять одна, с моим ребенком, обесславлена в глазах света и проклята моим отцом.
— Бедное дитя! — кротко сказал Мутье, дружески пожимая Анне руку. — Вы еще несчастнее, чем предполагаете. Для чего должен я увеличить еще вашу великую горесть?
— Что вы хотите сказать? Уже в ту минуту, когда происходила ужасная сцена, которой вы были свидетелем, страшное предчувствие сжало мне сердце. Боже мой! Если справедливо то, чего я боялась, мне остается только умереть.
— Нет, вы умереть не можете. Вы должны жить, напротив, жить для вашего ребенка.
— Да, вы говорите правду, я не имею права умереть. Я должна жить для этого милого существа, которое невинно и не должно отвечать за проступки матери. Говорите, скажите мне все, я должна знать все. О! Не бойтесь, я сильна.
— Если вы желаете, я буду вам повиноваться, тем более, что считаю своей обязанностью сообщить вам, что случилось. Поступок этого человека гнусен. Он бросил вас низко, холодно, с намерением.
— Я это знала, — прошептала она, залившись слезами, — я это знала; сердце сказало мне это, а я не хотела этому верить.
— Я писал в комнате, отделенной портьерой от комнаты начальника станции, когда вошли два человека. Один был прусский офицер. Другого вы знаете; это был барон фон Штанбоу. В первую минуту я хотел встать, чтобы предупредить этих людей о моем присутствии и не слушать, о чем они будут говорить; но с первых слов, произнесенных этими людьми, я передумал неизвестно почему и внимательно стал прислушиваться. Вот в двух словах сущность их разговора: барон фон Штанбоу не изгнан; он едет не в Америку, а просто во Францию, с поручением от прусского правительства, которое, как я имею думать, секретное и не совсем честное, потому что барон имеет паспорт, в котором он записан под именем графа Владислава Поблеско. Он будет называться во Франции польским изгнанником. Для того чтобы сохранить строжайшее инкогнито, он настоял, чтобы полковник не допустил вас ехать с ним, даже чтобы он арестовал вас, если это необходимо.
— О, это гнусно!
— Да, очень гнусно. Вы были обмануты самой ужасной комедией; человек, которому вы принесли столько жертв, повторяю вам, бросил вас низко и с намерением.
— Боже мой! Боже мой! — сказала Анна.
— Теперь рассудите, что вам лучше делать, и располагайте мною.
— Мое поведение решено. Этот человек едет во Францию, и я должна туда ехать. Мне надо отыскать его там, принудить признать своего сына и возвратить ему в обществе то место, на которое он имеет право. А мне лично не все ли равно, что назначает для меня судьба? Давно уже я привыкла бороться с горестью. Я имею надежду, что горесть меня не убьет.
— Позвольте мне сделать вам один простой вопрос. Я не оспариваю намерения, принятого вами. Не мое дело предписывать вам образ действий. Вы одни можете судить, что вам следует сделать в том ужасном положении, в каком вы находитесь; только позвольте мне спросить вас, хорошо ли вы обдумали это намерение? Франция, правда, гостеприимна, но во Франции, как и везде, необходимо иметь средства для материального существования. Имеете ли вы средства?
— Случай или, лучше сказать, план барона фон Штанбоу расстаться со мной доставил мне сегодня эти средства. За несколько минут до отъезда из марнгеймской гостиницы он принудил меня принять вексель в сто тысяч талеров на дом Ротшильда в Париже. Сначала я не понимала настойчивости, с какою этот человек уговаривает меня принять эту сумму. Теперь все объяснилось мне. Кроме того, у меня осталось от продажи моего дома, мебели, вещей сорок тысяч талеров, которые со мной в билетах… Видите, — прибавила она с печальной улыбкой, — я богата!
— Действительно, поэтому я настаивать не стану. Но я могу предложить вам вещи, в которых, я надеюсь, вы мне не откажете. Во-первых, мое общество до Страсбурга; оно будет вам покровительством; потом, чтобы избавить вас от поездки в Париж, я выплачу вам всю сумму сполна. Через двое суток, никак не позже, я должен быть в Париже; однако, если вы согласны, прежде чем расстанусь с вами в Страсбурге, я введу вас в дом, где вы будете приняты как родная. Но вот мы приехали на железную дорогу и через несколько минут вы будете на пути во Францию. Неугодно ли вам взять эту карточку, и если когда-нибудь вы будете иметь надобность во мне, напишите мне по этому адресу: 227, улица Риволи, и, может быть, я буду в состоянии доказать вам, что я один из самых преданных ваших друзей. Не благодарите, — прибавил он с кроткой улыбкой, — я поступаю так, как должен поступить. Вы докажете мне вашими поступками, что я не ошибся.
В тот же вечер Анна Сивере приехала в Страсбург и была представлена в один дом, где, как предвидел Мутье, ее приняли с распростертыми объятиями.
Два часа спустя ее покровитель простился с нею как отец с дочерью, отсчитав ей французскими деньгами стоимость векселя на банк Ротшильда.
Через несколько месяцев открылась всемирная вы ставка в Париже.
Император Наполеон III был тогда на вершине своего невероятного счастья, принимал у себя всех государей Европы, разменивался с королем прусским и с его всемогущим министром знаками неизменной дружбы, союза, которого ничто не должно было нарушить. Словом, мир европейский был упрочен навсегда.
Будущее должно было горестно опровергнуть это предсказание, даже прежде чем увяли цветы, служившие украшением таких блистательных празднеств.
Ч а с т ь п е р в а я ВТОРЖЕНИЕ. ОБОРОТЕНЬ
Глава I СТУДЕНЧЕСКАЯ ПИРУШКА В РОБЕРТСАУ
В воскресенье 3-го июля 1870, в день св. Анатолия, длинная и прекрасная аллея из чинаров и грабин, идущая от Рыбацких ворот в Страсбурге к прелестной деревеньке Робертсау, с утра буквально была переполнена едущими в экипажах, и верхом, и пешими прохожими, которые направлялись к деревне или возвращались в город со смехом и с песнями. Эти веселые группы преимущественно состояли из молодых людей обоего пола, сияющие лица которых дышали радостью и весельем.
В то время Страсбург был оцеплен на три мили в окружности целою сетью очаровательных деревушек, кокетливо ютившихся в густой листве, куда по воскресеньям стремилась вся городская молодежь пить пиво, обедать в беседках и танцевать в деревенских трактирах, между тем как более степенная часть городского населения, также иногда увлекавшаяся примером и заманчивостью веселья, обедала на открытом воздухе и смотрела улыбаясь на забавы молодых.
Так ли еще теперь, мы не знаем.
Из числа этих деревень, имя одной в особенности дорого каждому доброму страсбургцу. Это Робертсау, настоящее гнездышко для влюбленных, построенное на острове, образованном Иллем и Рейном.
Нет выражений, способных передать пленительный вид и весеннюю свежесть этого благодатного уголка, неумолчно оглашаемого в летние дни звонким смехом и веселыми песнями.
В тот день, к которому относится наш рассказ, группа молодежи обоего пола расположилась в беседке из зелени перед трактиром поблизости от обелиска, воздвигнутого патриотизмом страсбургцев в честь их соотечественника Клебера. В беседке горячо обсуждали расписание обеда, так как с утра уже решили обедать вместе.
Мужчин было четверо, от восемнадцати до двадцатидвухлетнего возраста. По небрежной свободе костюма и по общему виду легко было узнать в них студентов.
Из дам, равных числом кавалерам, премиленьких, белокурых гризеток-хохотушек, младшей не было восемнадцати, а старшей двадцати.
Молодой человек, говоривший в эту минуту, имел не более двадцати двух лет. Он был высокого роста и хорошо сложен; обращение его отличалось изяществом; белокурые волосы, голубые глаза, высокий лоб, нос с легкой горбинкой и тонкими ноздрями, рот довольно большой и с пухлыми губами, из-за которых иногда виднелись чудные зубы, и, наконец, четырехугольный подбородок — все вместе придавало ему наружность самую симпатичную, дышавшую в одно и то же время прямотою, твердостью и прямодушием.
Замечательно маленькие руки и ноги изобличали хороший род.
По-видимому, он пользовался значительным влиянием на товарищей, так как те слушали его не только внимательно, но и в некоторой степени почтительно.
— Господа, — говорил он в ту минуту, когда мы выводим его на сцену, — сегодня не простая студенческая пирушка, какие у нас обыкновенно бывают по воскресеньям. Я рассчитываю на двух гостей, из которых одного вы знаете уже, а другого наверно примете радушно.
— Послушай, Люсьен, — перебил один из слушателей, которого наречие слегка отзывалось местным произношением, — ты здесь не в суде, и не на кафедре. Не связывай же предложение с предложением нескончаемою цепью.
— К порядку! К порядку! — вскричали хором остальные, шутливо стуча по столу кулаком.
— Господа, — сказала одна из девушек чистым и приятным голосом, — я со своей стороны нахожу, что оратор говорил очень хорошо и очень разумно. Потому я полагаю присудить Петруса Вебера за то, что он прервал его, к штрафу в две кружки пива, которые мы сейчас и разопьем.
— Одобрено! Одобрено!
— Я протестую.
— Любезный Петрус, — возразил тот, которого называли Люсьеном, — протестовать твое право, но тем не менее штраф-то подавай и мы разопьем пиво.
— Именно! Именно! Подавай сюда две-то кружки! Трактирщик, вероятно, стоявший настороже, явился почти мгновенно с двумя кружками, увенчанными аппетитною белою пеною.
— Делать нечего, — согласился Петрус, — когда пиво нацежено, надо его пить. Подставляйте ваши стаканы, да чу! не давать улетучиваться великолепной манишке, которая, по моему мнению, самою лучшее, что есть в пиве.
— За здоровье Петруса! — провозгласили в один голос присутствующие, весело чокаясь своими стаканами.
— Господа, — заговорил опять Люсьен, — я приступлю к продолжению моей речи с того места, где она была прервана. Но прежде позвольте мне выразить признательность нашему другу Петрусу; я сильно подозреваю, что он с намерением заставил себя оштрафовать, дабы словно невзначай смочить нам горло, а вы сознаетесь, что оно становилось у нас чертовски сухо.
Петрус вынул изо рта огромную трубку, точно привинченную к его губам, и раскланялся перед компаниею с комическою важностью.
— Ну, продолжай, болтун! — прибавил он.
— Позволь тебе заметить, друг любезный, что ты бессовестно ограбил в эту минуту знаменитого актера, виденного мною в Париже, не помню в котором из театров. Ты перебил меня, чтоб пригласить продолжать.
— К делу! К делу! — нетерпеливо закричали все в один голос.
— К вашим услугам, милостивые государи и государыни. Итак, я предлагаю, чтоб на этот раз, в виде исключения, наша пирушка, вместо трех франков с человека, обошлась в баснословную сумму шести франков.
Зловещий ропот перебил оратора.
— Это безумие!
— Просто верх умопомрачения!
— Такой балтазаров пир заходит за все пределы!
— Минуточку, господа; позвольте, пожалуйста, договорить, потом вы вольны будете принять или отвергнуть мое предложение.
— Молчать! — протянул Петрус гнусливо и с невозмутимым хладнокровием.
Водворилась тишина.
— Я вам заявлял уже, что у нас будет двое гостей. Несправедливо было бы заставить вас платить за них, когда они приглашены мною; вследствие чего я обязываюсь внести громадную сумму в двадцать франков, которая и пойдет на вина к вкусному обеду.
— Прошу слова, господа, — сказал молодой человек лет девятнадцати с бойким выражением лица и слегка насмешливою улыбкою, который не прочь был пожуировать.
— Говори, Адольф, но как можно короче.
— Вот что, господа, — начал новый оратор, — для меня очевидно, что нас хотят провести. Безумное предложение почтенного оратора, которого место я занял на этой трибуне, явно служит прикрытием западне. Даром не швыряют золотой монеты, какую наш друг теперь вставил себе в глаз.
— Вопрос уже решен! — вскричали товарищи. — Двадцатифранковая монета налицо. Мы видели ее.
— Он богат и хочет подкупить нас! Пусть себе подкупает!
— Как! — воскликнул с жаром Адольф. — Вы продадите себя за одну монету презренного металла? Еще будь их две!
— И за тем не постоим, милостивые государи, — величественно молвил Люсьен, вставив другую золотую монету в левый глаз.
— Браво! Браво! — раздалось со всех сторон.
— Господа, я побежден, — молвил Адольф. — Это не человек, а галион. Разумеется, мы должны пасть перед всесильным золотом. Теперь для меня ясно, что мы будем обедать с иностранными дипломатами.
— С банкирами-евреями, — поправил другой.
— С кохинхинскими посланниками, — добавил третий.
— Если не с министрами, — значительно произнес Петрус могильным голосом.
— Милостивые государи и государыни, вы все находитесь в заблуждении.
— Послушай-ка, Люсьен, — обратился к нему Петрус, — будь добрым малым и скажи, могу я не расставаться с трубкой?
— Еще бы! Разумеется, будут курить!
— Так эти благородные иностранцы выносят табачный дым? О! В таком случае они не дипломаты и не посланники.
— Надеюсь, Люсьен, — заметил глубокомысленно Петрус, — надеюсь для тебя и для вас, что таинственные гости не окажутся пруссаками.
— Вы с ума сошли, господа. Чтоб помирить вас между собой, я вам скажу, что один не кто иной, как мой брат…
— Поручик зуавов? — вскричали все в один голос.
— Именно; вы его знаете уже.
— Браво! Браво! Какая приятная неожиданность!
— Люсьен, ты заслужил мое уважение, — решил Петрус.
— Вот славная-то мысль, Люсь! — вскричала, показав прелестнейшею улыбкою все тридцать две жемчужины, служившие ей зубами, девушка, которая уже говорила.
— Однако, — прибавил Петрус серьезно, — in coda venenum, как говорится в школах.
— Что означает? — с любопытством спросили девушки.
— То, — ответил Петрус с видом все более и более мрачным, — что Люсьен нам бросил на наживу имя брата, чтоб залепить всем глаза и тайно ввести в наше общество другого гостя, по моему убеждению, наверно миллионера.
— Особенно неприятного я в этом не вижу, — заметила одна из девушек, пленительно надув губки. — Как ты думаешь, Мария?
— Петрус такой мрачный, — ответила та, — у него вечно какие-то мысли с того света, от которых мороз продирает по коже.
— Бедная кошечка! — произнес Петрус могильным голосом.
— Господа, — заявил Люсьен, — другой гость, которого я буду иметь честь представить вам, не только лучший друг моего брата, но и всего нашего семейства, а мой в особенности. Мишель ему обязан жизнью. Это отличный рубака, фельдфебель в той же роте, где и брат, и также с крестом почетного легиона. Вы примете его, смею надеяться, со свойственным вам радушием, когда вы находите стоящим труда оказывать его.
— Господа, — заговорил четвертый из молодых людей, который до тех пор более молчал и только курил, осушивая стакан за стаканом, — я предлагаю выразить признательность нашему другу Люсьену за лестное к нам доверие, и так как всякое доброе дело заключает в себе свою награду, то я бы думал принять его предложение, чтоб пирушка обошлась в шесть франков с человека, и величественно выставленные им напоказ два луидора употребить на хорошие вина, предназначенные украсить этот семейный праздник.
— Любезный Жорж, я говорил об одном.
— Однако показал два.
— А так как намерение равносильно делу, — подтвердил Петрус, который становился все мрачнее, — то эти два луидора, если не фальшивые…
— О, как можно! — вскричал Люсьен.
— Принадлежат нам, — заключил Петрус. — Передайте мне табак, Адольф, у меня погасла трубка.
— Уже? — смеясь, возразил тот. — Ты закурил ее всего только с час назад.
— Правда, но волнение от этих прений заставило меня докурить ее скорее, чем я бы хотел.
С этими словами он принялся пускать вверх громадные клубы дыма.
— У меня к вам еще просьба, господа, — сказал Люсьен.
— Этот человек ненасытен, — пробурчал Петрус, пожимая плечами, — он нас ограбить хочет.
— Я далек от подобных притязаний. Прошу я только вашего разрешения заказать обед и быть распорядителем.
— О, разумеется, согласны! — вскричала Мария, хлопая в ладоши. — Люсь был в Париже; он знает толк во вкусных вещах; надо все предоставить ему.
— Мария, дитя мое, — наставительно молвил Петрус между двух клубов табачного дыма, — жадность погубила вашу прародительницу Еву и мне сильно сдается, что вы идете по ее стопам.
— Оставьте меня в покое, зловещий филин! Только неприятное говорить и умеет.
— Я заявляю факт, дитя мое, и ничего более. Вам это не нравится? Ну так и по боку всю историю. Дорогие друзья, — прибавил он, возвысив голос, — я поддерживаю предложение Люсьена. У него губа не дура, и если он будет распорядителем, мы наверно пообедаем превосходно. Но между тем не разделяете ли вы моего мнения, — жалобно произнес он, — что стол перед нами являет печальную пустоту?
— Действительно, — подтвердил Адольф, — ощущается сильная жажда.
— Пива! Пива! — закричали все хором.
Вмиг все пустые кружки исчезли и заменились полными.
— Это дело другое! — заметил Петрус. — Вот еще зрелище, которое веселит душу.
Чокались и пили.
Разговор принял другое направление; молодые девушки вскоре запели, а там уже поднялся содом, который изображал довольно верно в малых размерах, что вероятно происходило на столпотворении вавилонском в минуту смешения языков.
Пользуясь тем, что внимание от него отвлечено, Люсьен встал и после короткого совещания с трактирщиком удалился незаметно и пропал из виду за деревьями.
Люсьен принадлежал к одному из самых богатых и древних мещанских родов в Страсбурге. Отец его, Филипп Гартман, владел одною из значительнейших фабрик серебряных и золотых изделий в Нижне-Рейнском департаменте, и подобно большей части своих собратьев негоциантов, он имел в Страсбурге свои магазины.
На фабрике, находившейся в Альтенгейме, в двух милях от города, он держал до двухсотпятидесяти работников, которые и жили с семействами в домах, нарочно для этой цели построенных им вокруг фабрики. Большая часть работников жили у него уже очень давно и любили его как отца.
У Филиппа Гартмана было трое детей: два сына и дочь. Старший сын, Мишель, около двадцать восьми лет, разительно походил на младшего брата, с тою разницею, разумеется, которая существует между взрослым и юношей. Он был высок и хорошо сложен; бороды он не брил и она падала веером на его широкую грудь, украшенную крестом почетного легиона. Его загорелое лицо, твердый и проницательный взор и немного резкие движения с первого взгляда изобличали в нем военного, если б даже он и не носил мундира поручика зуавов, надо сказать, с особенным изяществом и свободою.
Кроме двух сыновей, Филипп Гартман, как уже сказано, имел дочь, прелестную девушку, едва восемнадцати лет и белокурую, как все чистокровные эльзасски. Описать ее можно бы в двух словах, сказав, что она пленяла и что никогда более кроткого и нежного выражения не встречалось в женском взоре. Она носила имя Мелании, но в семейном кружке ее обыкновенно называли уменьшительным именем Ланий.
В тот день, к которому относится наш рассказ, Гартман был намерен прокатиться в Робертсау со всем семейством.
Итак, коляску запрягли парою и к трем часам Гартман, белые волосы которого придавали его наружности особенно кроткий и вместе почтенный вид, сидел в экипаже, где уже поместились жена его, дочь и мать, достойная старушка без малого восьмидесяти лет, но еще бодрая, спокойное лицо которой сохраняло всю правильность главных очертаний со строгостью линий, почти напоминающих мрамор.
Госпожа Гартман, мать, жила с сыном и никогда с ним не расставалась.
Коляска крупною рысью выехала из Страсбурга в Жидовские ворота, обогнула прекрасное гулянье Контад и повернула в сосновую аллею, которая ведет в Робертсау. Ее сопровождали двое всадников на горячих лошадях, которыми они управляли с удивительным искусством. Один из всадников, Мишель Гартман, нам уже знаком. Что же касается другого, призванного играть довольно значительную роль в этом рассказе, мы набросаем его портрет в немногих строках.
Это был молодой человек не старше двадцати семи лет, в котором с первого взгляда сказывался бретонец до мозга костей. Звали его Ивоном Кердрелем.
Родом из Кемпера, он принадлежал к семейству, которое занимало одно из первых мест в высшей буржуазии по своему богатству и древности.
Роста выше среднего, он не лишен был известной доли врожденного изящества. Круглая, отчасти маленькая голова, твердо сидевшая на короткой, но мускулистой шее, широкие плечи, высокая грудь и плотного сложения члены изобличали необычайную силу. Его темные, коротко остриженные волосы, невысокий лоб, маленькие живые глаза с магнетическим взором, прямой нос, довольно толстые губы, осененные шелковистыми усами, и густая черная борода, покрывавшая всю нижнюю часть его лица, придавала ему вид истого военного. Словом, это был один из тех людей, которые, не отличаясь условною красотою, с первого взгляда, однако, очаровывают, привлекают и возбуждают сочувствие. Он носил фельдфебельский мундир одного полка с Мишелем Гартманом и подобно ему имел крест почетного легиона.
Хотя и пехотинцы, молодые люди, как мы уже говорили, управляли своими лошадьми с необыкновенным искусством, просто весело было смотреть, как они гарцевали вокруг экипажа.
В начале железного проволочного моста, который соединяет шоссе с островом Робертсау, коляска остановилась, когда к ней подошел молодой человек с шляпою в руке. Это был Люсьен, который, заказав трактирщику обед, пошел навстречу своим гостям.
— Здравствуйте, папа, — улыбаясь молвил он, пожимая в то же время руки Ивону и Мишелю. — Здравствуйте, бабушка; здравствуйте, мамаша; здравствуй, крошка Лания.
— Ага! Ты тут, негодник, — шутливо сказал ему Гартман, — я был уверен, что встречу тебя здесь.
— Странно бы мне не быть; вы же знаете, папа, что наш друг Ивон завтра отправляется по требованию в полк и я пригласил его с Мишелем отобедать в обществе нескольких студентов, моих приятелей, которые и ждут нас здесь поблизости.
— А! Помню. Только смотри, Люсьен, не делай глупостей.
— Я-то, папа? Как вы можете этого опасаться, зная мою степенность?
— Потому именно, что хорошо знаю ее, я и предостерег тебя. Сегодня, однако, благодаря побудительным причинам, которые руководят тобою, я отложу в сторону наверно уж непрошеные нравоучения. Веселитесь, дети; это свойственно вашим годам. Я не хочу помрачать ваше удовольствие скучною предусмотрительностью. Идите, господа, я не удерживаю вас более. Лошадей отдайте Францу и забавляйтесь от души. Послушай-ка, Люсьен, — прибавил он, знаком подозвав к себе сына, пока всадники сходили с лошадей, — возьми что находится в этом портмоне; когда приглашаешь к обеду, надо, чтоб все было прилично, а твой студенческий кошелек едва ли набит туго.
— Вы всегда добры, папа; не знаю, как вас и благодарить. Но у меня в кармане залежалось два, три луидора; этого достаточно, полагаю.
— Бери на всякий случай, мой мальчик; нельзя знать, что может встретиться, а я не хочу, чтоб ты находился в затруднении. Но смотри только, веди себя умно. Где же ты думаешь устроить свою пирушку?
— В трактире «Великий Король Гамбринус», папа.
— Так я и полагал; это обычное место сходки студентов. Я велел положить в коляску бутылок двенадцать хороших вин из моего погреба: шато-марго, кортон и шампанское; они с выгодою для вас заменят молодое белое винцо, которое служило бы столовым, и напитки более или менее поддельные, которые трактирщик подавал бы вам под пышными, но ничем не оправдываемыми названиями.
— Ах! Папа, какая приятная неожиданность! Я должен поцеловать вас.
И прежде чем Гартман успел остановить его, молодой человек вскочил в коляску, бросился ему в объятия и расцеловал его, потом облобызал мать, бабушку, сестру и прыгнул на дорогу, совершив все вышеизложенное с такою быстротою, что четыре лица, с немного помятыми костюмами не могли опомниться.
— Ну, прощай, сумасброд, и веди себя умно! — крикнул ему вслед отец.
Ивон и Мишель также простились с семейством Гартман и три молодых человека, взявшись под руки, пошли своею дорогою, между тем как экипаж поехал далее.
Когда приятели пришли в трактир, их встретили троекратными ура. Прибытие корзины с винами уже было известно, так как Гартман велел отдать ее, когда проезжал мимо «Великого Короля Гамбринуса».
Люсьен представил Ивона Кердреля своим товарищам, и те оказали молодому фельдфебелю самый радушный прием. Не прошло десяти минут, как о стеснении помину не было и с двумя зуавами обращались, как будто их знали целых десять лет.
Обед оказался, как и следовало ожидать, обильным и вкусным; мы только вскользь упомянем о громадном блюде жареной рейнской рыбы, рагу из зайца с аппетитным запахом и узаконенной преданиями колбасе, этих основных блюдах каждого хорошего обеда в Робертсау, которые, однако, Люсьен обставил некоторыми гастрономическими лакомствами, чисто парижскими.
Все это было полито надлежащим образом белым винцом с розовым отливом, которого вкус отзывался кремнем. В конце обеда весело распили дюжину бутылок, подаренных отцом Люсьена.
Считаем долгом заявить, что в самый разгар этого пира тост за здоровье Гартмана был провозглашен Петрусом Вебером. Только голос его так показался грозен его соседке Марии, что она с перепугу, невзначай выпив свой бокал шампанского, подхватила бокал соседа и залпом осушила его. Разумеется, Петрус скорчил преглупую физиономию, когда увидал перед собою пустоту.
Ни один праздник в Робертсау не обходится без танцев.
При первых звуках местного оркестра — надо сознаться, довольно дикого — у молодых девушек запрыгали ноги; они так завертелись на стульях, что студенты, сами, впрочем, радуясь движению после продолжительной неподвижности, согласились на их просьбы. Парами направились к месту танцев со смехом и с песнями. От хорошего вина были немного навеселе, что составляет необходимое условие удачного пикника.
Несмотря на все усилия над собою, Ивон Кердрель не принимал живого участия в общем веселье. Когда он задумывался или полагал, что на него не обращали внимания, брови его сдвигались и выражение беспокойства, почти грусти помрачало его лицо. Но возле него были два бдительных приятеля. Люсьен с одной стороны, Мишель с другой, ни на минуту не теряли его из вида; как только они замечали, что он хмурится, тотчас же они и принимались отвлекать от тяжелых дум дорогого гостя и друга. Скажем тут кстати, что братья питали один к другому живейшую привязанность, отчасти сыновнюю со стороны Люсьена и в некоторой степени отцовскую со стороны Мишеля, и оба они любили Ивона Кердреля, как будто он их третий брат.
Люсьен увлек за собою веселое общество, оставив с намерением позади Мишеля с Ивоном, чтоб они могли переговорить между собою на свободе.
Отсутствие двух военных возбудило неудовольствие пленительных гризеток. Шалунья Мария даже заметила это Петрусу, но тот ответил ей жалобным тоном, что поведение ее находит почти неприличным, и девушка не решилась настаивать.
Итак, Ивон и Мишель медленно следовали за веселыми товарищами на расстоянии ста шагов.
— Что с тобою, любезный друг? — внезапно спросил Мишель, чтоб как-нибудь начать разговор. — Куда девалась твоя обыкновенная веселость? Я просто не узнаю тебя эти дни; ты смотришь сущим сентябрем.
— Правда, Мишель, я действительно грустен; более даже чем в силах тебе высказать.
— Отчего же?
— Не знаю. Мне очень тяжело на сердце. Я привык к приятной жизни здесь, с тобою и твоими родными, которые оказывали мне столько доброты. Приказ явиться в полк застиг меня врасплох, когда я только что собирался принять надлежащие меры для выхода в отставку.
— В отставку, Ивон?
— А почему же нет? Мои родители богаты, как тебе известно, и давно желают видеть меня дома.
— Плохая отговорка, дружище. Под этим кроется что-то еще, чего ты мне говорить не хочешь. Когда, подобно тебе, молод, богат, пользуешься общим уважением, заслужил крест почетного легиона и ожидаешь с минуты на минуту производства в офицеры, карьеры своей не бросают из пустяков, какие ты мне ставишь на вид. Повторяю тебе, тут кроется что-то другое.
— Но уверяю тебя…
— Есть что-то другое, говорю тебе. Ты таишься от меня. Ты упорно молчишь. Хорошо, как тебе угодно, я настаивать не буду, но тайна, которую не хочешь мне поверить…
— Тайна?
— Разумеется, тайна. За ребенка что ли меня принимаешь, Ивон? Разве ты не знаешь, как я тебя люблю? Тайна, которую ты считаешь скрытою в глубине твоего сердца, я угадал ее; хочешь, скажу?
— О! Ради Бога ни слова! — вскричал Ивон, крепко сжимая руку приятеля.
— Видишь, безумец. Ей-богу, это было бы уморительно, если б не приводило в отчаяние со стороны друга. Все влюбленные на один лад.
— Влюбленные! Я влюблен?
— Да, ты. Не корчи же невинного. Ты влюблен, и до безумия в придачу; осмелься уверять меня в противном!
— О! Мой друг, мой друг…
— Видишь, духу-то и не хватило. Упрямый бретонец. Говорят, мы эльзасцы упорны. И Боже мой! Куда нам угнаться за вами, бретонцами! Ну можно ли так ребячиться, я спрашиваю? От тебя без ума и отец, и мать; даже бабушка смотрит на тебя благосклонно. Слуги считают тебя членом семейства, а мы с Люсьеном любим как брата…
— Все так, но есть еще особа, — промолвил Ивон вполголоса.
— Действительно, есть еще особа, и та…
— Меня не любит!
— Ты почем знаешь? Спрашивал ты ее?
— О! Я скорее умер бы, чем осмелился задать ей этот вопрос.
— Стало быть, ты ничего об этом не знаешь.
— По крайней мере, она совершенно ко мне равнодушна.
— Как же ты это можешь знать, повторяю? Разве ей следует говорить первой?
— Возможно ли?
— А когда говорить надо тебе, то отчего же ты не объясняешься?
— Пожалуй, она ответит отказом.
— Сестра девушка благовоспитанная, любезный Ивон, и этого не сделает, — смеясь, возразил приятель.
— Ты надо мной смеешься?
— Ничуть, мне только хотелось бы уяснить тебе, что женщина цитадель, которую надо уметь брать. Не удерживает ли тебя, чего доброго, мысль, что мне это будет неприятно? Напрасное опасение. Могу тебя заранее уверить, что мы с Люсьеном видели бы этот брак с величайшим удовольствием; мы лучшего ничего не желаем.
— Спасибо, спасибо, Мишель; но родители твои…
— Уж будто они так строги и неприступны? Ответь мне, положа руку на сердце, на вопрос, который я тебе сделаю.
— Ты этого желаешь?
— Я даже требую твоего честного слова, что ты ответишь прямо, без обиняков.
— Так спрашивай, я готов.
— Любишь ты мою сестру?
— Люблю, — едва слышно промолвил Ивон с опущенными глазами.
— Обязуешься ли ты просить руки ее перед отъездом?
— Ни за что на свете, хоть бы умирать приходилось с отчаяния.
— Хорошо же; на что ты не решаешься, то исполню я. Руку сестры я попрошу за тебя.
— О, друг сердечный, ты спасаешь мне жизнь! — вскричал Ивон, бросаясь приятелю на шею.
— Следовательно, ты рассчитываешь на благоприятный ответ, лицемер?
Молодой человек молча поник головой.
— Полно, развеселись, Ивон. Я дал тебе слово и, кто знает, не придется ли мне самому привезти тебе ответ, которого ты ждешь, если оправдаются слухи, разнесшиеся о войне. Надейся, друг, и уезжай спокойно; что бы ни случилось, в неведении я тебя долго не оставлю. Однако, нас, кажется, зовут; надо вернуться к веселым товарищам и теперь уже ни о чем более не думать, как о том, чтобы забавляться вместе с ними.
— Спасибо, Мишель; более чем жизнью, счастьем, буду я тебе обязан, если ты доставишь мне благоприятный ответ.
— Не говори об этом, Ивон.
Бал был в самом разгаре. Студенты и студентки вальсировали и прыгали с увлечением просто отчаянным. Пиво лилось разливанным морем. Крики, песни и смех сливались со звуками, все более и более резкими, деревенского оркестра.
Мишель и его друг вмешались в группы танцующих и вскоре не уступали в воодушевлении никому. Мишель потребовал от приятеля этой последней жертвы. А тот, с сердцем, исполненным надежды, не долго сопротивлялся его убеждениям.
Часам к одиннадцати вечера веселые посетители Робертсау не менее весело отправлялись обратно в Страсбург по образу пешего хождения.
На другое утро в пять часов Люсьен и Мишель провожали Ивона Кердреля на станцию железной дороги.
— Я полагаюсь на твое слово, — сказал Ивон, обнимая Мишеля.
— Будь спокоен.
Пора было расставаться. Раздался свисток, поезд тронулся и вскоре скрылся из глаз двух братьев, которые медленно направились домой, опечаленные разлукой с другом.
Когда Мишель подходил к дому отца, он увидал ожидавшего его вестового дивизионного генерала. Взяв бумагу, которую подал ему солдат, он пробежал ее глазами и быстро передал брату, не говоря ни слова.
Это был приказ из военного министерства, которым Мишелю Гартману предписывалось явиться в полк, из отпуска по болезни, к 20-му июля.
Было 4-е число и молодому офицеру оставалось провести не более трех дней в кругу родных.
— Видно, я привезу Ивону обещанный ответ скорее, чем сам это думал, — пробормотал он, складывая приказ, который ему возвратил Люсьен.
— Какой ответ?
— Скоро узнаешь, брат. Они вошли в дом.
Глава II КАК МИШЕЛЬ ГАРТМАН НАУЧИЛСЯ ЯЗЫКУ ЦВЕТОВ
Филипп Гартман пользовался в Страсбурге большим почетом.
Его высокое положение в коммерческом мире было приобретено долголетним трудом. Основание его фирмы относилось к началу XVII века, и с той поры она не выходила из их рода. Строгая честность, чистота нравов, обширный кругозор и сила ума давали ему полное право на одно из первых мест между самыми уважаемыми гражданами города.
Он был председатель коммерческой палаты, муниципальный советник и, так сказать, отец всех бедных города, которых не только с чванством, но даже тайно наделял каждый год через посредство жены щедрым подаянием.
Его дом принадлежал к небольшому числу тех, которые устояли против систематического развращения наполеоновского правления. В нем сохранились древние обычаи и строгие нравы минувшего. Слуги жили из поколения в поколение, считая себя членами семьи. На их глазах родились дети, они же их вырастили; можно было положиться на их беспредельную преданность, увы! явление редкое в наше время.
То же было с работниками, служащими на фабрике. Гартман построил на свой счет больницу, где раненых или больных работников пользовал с величайшим тщанием домашний врач семейства Гартман, а несколько сестер милосердия наперерыв одна перед другой ходили за больными, кто бы ни были они, протестанты или католики. Этого требовал Гартман, хотя сам был католик.
Кроме того, он основал богадельню для фабричных, которые или по годам, или по болезни не в состоянии были работать. Дети их обучались безвозмездно в школе, которую госпожа Гартман приняла в свое исключительное ведение.
Итак, мы, разумеется, не преувеличивали, говоря, что все находившиеся в зависимости от этого великодушного человека любили и уважали его как отца.
Весть о скором отъезде поручика распространила глубокое уныние. У всех сердце сжималось от мрачного предчувствия.
Действительно, положение политических дел становилось очень натянуто. Каждый сознавал, а Гартман, благодаря своему высокому положению, более других, что политический горизонт становится с каждым днем грознее.
Императорское правление, вынужденное против воли даровать народу права, все-таки неудовлетворительные, прибегло к опасному всегда средству плебисциста, для восстановления своей плохой популярности.
Хотя плебисцист и дал правительству в деревнях, вследствие принятых мер ограничения свободы воли, а в особенности средств к подкупу, которыми располагала власть, громадное большинство голосов, он потерпел самую плачевную неудачу в Париже и во всех больших городах, где население, более развитое умственно, начинало усматривать вырытую скандальным правлением империи под их ногами бездну, которая грозила поглотить в одно и то же время благосостояние Франции и ее перевес в Европе.
Все люди со смыслом, а их везде находится немалый процент, понимали, что императору для утверждения на троне своей династии оставалось одно средство — победоносная война против сильной державы.
Войдя во вкус ужасающей резни и успехов неполитичных военных действий в Италии, преемник брюмерского героя, которому подражал во всем, твердо решился прибегнуть к оружию. В его одностороннем уме, уже расслабленном и чахлом, одно упорство и гордость сохранились во всей силе. Словом, император Наполеон жаждал войны во что бы ни стало. Только предлог ему был нужен. Пруссия позаботилась ему доставить.
Со времени войн первой империи и жестокого поражения под Иеною пруссаки питали к французам неумолимую ненависть и втайне готовили блистательную месть.
Сознавая себя не в силах открыто напасть на неприятеля, они тщательно с кошачьим терпением скрывали свою вражду, не переставая работать исподтишка над замышляемыми кознями.
С каждым днем они усиливали свою власть; то поглощали одно за другим маленькие владения; то отнимали у Дании часть ее земель, чтоб иметь гавани и создать себе флот; то ласкали Австрию, чтобы вернее задушить ее, и успевали в этом благодаря явной неспособности нашей дипломатии; то грабили Гановер; то попирали ногами Германский Союз и во имя германского единства, о котором в сущности нимало не заботились, создавали себе самую громадную феодальную державу, какую видел девятнадцатый век. Наконец, они уже стали с худо скрываемым нетерпением ждать только последней ошибки того, кто недостоин был держать в своих руках судьбу Франции, чтоб напасть на нее, схватиться грудь с грудью, уничтожить ее единство и на развалинах воздвигнуть германскую империю.
Целый год Испания требовала у Европы короля, но та не отзывалась. Пруссия предложила одного из Гогенцолернов.
Некоторые, быть может, не знают, что Гогенцолерн, о котором шла речь, не принадлежал ни с какой стороны к царствующему в Пруссии роду и что он, напротив, был близкий родственник Бонапартам.
Эти семейные соображения, которые не лишены важности с династической точки зрения, однако не тронули императора Наполеона; он жаждал войны, повторяем, и всякий повод для него был хорош.
Пруссия, выставив ловушку, сумела искусно воспользоваться глупостью мнимого Кесаря. Она так ловко вела свои подкопы, что хотя и способствовала войне изо всех сил, однако успела заставить противника объявить ее и тем привлечь всю Европу на свою сторону; Франция так и осталась отчужденною от всех.
В страшном волнении находились Эльзас и Лотарингия, которые первые должны были пострадать от неприятеля, если, как это легко было предвидеть, вспыхнет война между двумя великими державами. К волнению примешивался и страх, потому что вера в империю совершенно исчезла; далеко уже было то время, когда одно слово властителя Франции привлекало на его сторону общественное мнение и возбуждало всеобщий энтузиазм.
Между 1859 и 1870 годами легла бездна. Франция открыла глаза; она хладнокровно обсуждала положение дел и пришла в ужас; она чувствовала себя обессиленною именно тем, кто приносил клятву сделать ее великою и счастливою, а между тем недостойно изменил всем клятвам.
Великодушный Эльзас, этот верный страж французских Фермонил, как будто предчувствовал, что его коварно выдадут неприятелю и, в его доблестном населении дрогнула струна геройского патриотизма. Если ему и суждено пасть, то он, по крайней мере, подобно древним жертвам, ляжет костьми с улыбкою на губах, исполнив свой долг.
В портерных, на площадях, в домах — везде обсуждали политические известия. Везде жали друг другу руки, говоря:
— Умрем, но не сдадимся. Разве мы не передовые стражи отечества?
К этому общему воодушевлению уже примешивалось не одно частное горе. Много семейств поражено было тяжелыми утратами.
Все военные, находившиеся в отпуске или в резерве, внезапно призваны были к своим частям и направлены к корпусу, к которому причислялись. В городах, местечках, селениях и до самых маленьких деревушек пронесся слух, что вызовут подвижную гвардию, как это уже было в Сенском департаменте.
Разумеется, везде царствовала грусть.
Война, это магическое слово, которое обыкновенно вызывало такой энтузиазм в французах, теперь напротив леденило ужасом и граждан, и солдат. Самые храбрые не сочувствовали войне, не видя в ней ни малейшей необходимости или пользы, тогда как при настоящем положении Франция могла только пострадать и ничего не выиграть.
Семейство Гартман было глубоко огорчено. Брат Гартмана командовал бригадою императорской гвардии. Два сына этого генерал находились при нем ординарцами. Мишель Гартман, как уже сказано, только что получил приказ немедленно явиться в полк. Оставался один Люсьен, да и тот по своим годам входил в состав подвижной милиции и мог в скором времени быть призван к оружию.
Спокойствие и мирное счастье этого патриархально-дружного семейства сменились унынием и жгучею тоскою, еще усиленною мрачными предчувствиями. Последние два-три дня перед отъездом Мишеля прошли в слезах.
Несмотря на твердость духа и патриотическое самоотвержение, Гартман едва сдерживал горе, которое переполняло его сердце; он тщетно силился обманывать самого себя, проводя целые дни в ратуше, где муниципальный совет находился в постоянном заседании для принятия надлежащих мер, чтоб городом не овладели врасплох, и когда объявлена будет война, граждане могли оказать сопротивление.
Люсьен не отходил от брата. Обычная молодому человеку беспечность сменилась сильнейшим беспокойством. Это уже не был тот беззаботный юноша, с которым мы познакомили читателя. Грусть наполняла теперь молодое сердце, где прежде царствовала одна радость, и веселая пирушка в Робертсау стояла выше всего. Печаль родных отразилась в нем; легкомысленный и миролюбивый студент вдруг замечтал о боях и сражениях.
Не было сердца, которое не откликнулось бы на призыв отчества, и студенты уже глухо волновались, придумывая, как бы и им в минуту грозившей опасности иметь свою долю в опасностях или, вернее, в славе.
В Страсбурге существовало два совершенно противных направления мыслей; люди рассудительные хладнокровно обсуждали положение дел и предвидели поражение; молодые люди, не зная ничего, рассчитывали на победу и отвечали на вопли стариков криками восторга и радостными песнями. Страсбургская молодежь призывала всеми силами души начало борьбы, исход которой, по ее мнению, только мог покрыть Францию славой.
Люсьена опечаливала грусть близких и дорогих ему существ: матери, сестры, отца, бабки; но стоило ему выйти из дома, как, окруженный товарищами, студентами училищ прав и медицины, он уже составлял с ними планы кампании и от души присоединялся к их восторженным крикам ура и проклятиям, которыми они наделяли Пруссию за ее честолюбие и завоевательные притязания. Мишель улыбался юношеской восторженности брата. Он знал настоящее положение дел, но ничего не говорил, чтоб не усилить возрастающей озабоченности отца и горя матери и сестры, еще более жгучего, так как оно было безмолвно и сосредоточенно.
Словом, Эльзас не вполне закрывал глаза на вероятный исход борьбы, однако принимал ее, если не восторженно, то, по крайней мере, с хладнокровной решимостью. Эльзасцам сильно надоели хвастливые выходки и презрительная надменность народа, с которым они то и дело приходили в столкновение вследствие близкого соседства, и не без тайного удовольствия видели они приближение той минуты, когда им, наконец, будет дозволено проучить задиристых соседей-фанфаронов, дерзость которых они переносили с трудом.
Приближалась минута отъезда. Мишель отправлялся на следующее утро с пятичасовым поездом. Гартман созвал для прощального обеда родственников и коротких друзей, да нескольких товарищей Люсьена и Мишеля.
Двадцать восемь человек сидело вокруг стола, заставленного сытными кушаньями; обед вообще имел характер пантагрюэлевских пиров, тайну которых, по-видимому, сохранил один Эльзас. Жители его много едят и пьют, как это свойственно всем сильным и живым натурам, но к чести их надо отнести, что они редко доходят до пьянства.
Хозяин исполнял свою обязанность с пленительной любезностью и с истинным радушием; но все усилия его оставались тщетны. Гости ели мало. Обстоятельства были так невеселы, причина собрания так грустна, что, разумеется, все находились под тяжелым впечатлением.
Даже слуги и те исполняли свою обязанность с безучастною и машинальною покорностью. Можно было прочесть на их лицах, что они в душе разделяли общее настроение духа.
Десерт только что поставили на стол, когда старшая из служанок, кормилица Гартмана, которая имела только надзор над остальными слугами, а сама, по старости лет, уже не исполняла никакой обязанности, подошла к хозяину дома и сказала ему несколько слов на ухо.
— Пусть войдут, — ответил Гартман вслух с улыбкой, которой старался придать выражение веселое.
Дверь столовой отворилась, и вошло пять человек, одетых просто, но чрезвычайно опрятно. Им могло быть от тридцати пяти до сорока пяти лет. Черты их, довольно резкие, носили отпечаток энергии. Это явились работники с фабрики.
— Здравствуйте, дети мои, — обратился к ним хозяин, протягивая каждому руку. — Доротея, дайте стулья этим честным малым. Садитесь возле меня и выпейте по стакану доброго французского вина.
— Очень охотно, — ответил старший, уже десять лет служивший помощником мастера на фабрике.
— Меня не удивляет, что вы пришли; я вас ожидал сегодня.
— Мы так и думали. Разве могли вы предположить, чтобы мы отпустили старшего сына дома, не пожелав ему доброго пути? Не правда ли, господин Мишель, вы знали, что мы явимся к вам на прощанье?
— Не только знал, но и желал вас видеть. Мне было бы грустно уехать, не пожав вам руки.
— О! Вы, кажется, не со вчерашнего дня нас знаете; вот мы к вам и явились, — молвил подмастерье. — Итак, — продолжал он, обращаясь к Гартману, — с вашего позволения, сударь, я скажу, что мы очень опечалены на фабрике отъездом господина Мишеля. Вчера по окончании работ мы собрались и решили с общего согласия, что пятеро из нас пойдут сегодня в Страсбург проститься с вами, господин поручик, от имени всех и передать вам наши пожелания успеха во время кампании, чтоб вы вскоре вернулись к нам с густыми эполетами. На нас пятерых и пал жребий исполнить поручение товарищей. В три часа мы пришли к старшему управляющему, господину Поблеско, который заменяет вашего батюшку в его отсутствие, отпросились у него, и вот мы тут.
— Спасибо, Людвиг, спасибо, добрый друг, — ответил Мишель. — Скажите вашим товарищам, что я глубоко тронут чувствами, которые вы мне выразили от их имени и от своего. Вынужденный к временной разлуке с теми, кого люблю, я ценю ваше сочувствие. Пожелания ваши, я уверен, принесут мне счастье, и я вернусь вскоре если не с густыми эполетами, то, по крайней мере, очень счастливый тем, что нахожусь опять посреди вас.
— С вашего позволения, господин Мишель, если объявлена будет война, как говорят, уже вы задайте добрую трепку этим пруссакам. Они стоят того.
— Постараюсь, — ответил Мишель, смеясь.
— О! Я полагаюсь на вас. Если же они пожалуют сюда, будьте спокойны, они найдут, с кем переведаться; эти толстые швабы, мы их посадим на их каски с острыми верхушками.
Немного рискованная острота старого подмастерья вызвала улыбку на всех лицах. Грустно начавшийся обед был кончен со смехом, с шутками и обильными возлияниями, в которых Людвиг и его товарищи приняли значительное участие, прежде чем вернулись на фабрику, слегка выписывая мыслете и весело распевая старые застольные песни.
Часам к десяти вечера гости разошлись. Мишель простился с отцом и с матерью, и, сказав несколько слов сестре, вышел с Люсьеном пройтись по городу.
Гартман и жена его, которые в присутствии дорогого сына имели твердость сдерживать свое горе, тотчас ушли к себе, чтобы без свидетелей дать волю душившим их слезам.
Молодые люди гуляли недолго. Они скоро вернулись домой и распростились. Мишель сократил прощание под предлогом, что надо еще уложить чемодан; Люсьен пошел лечь и не замедлил заснуть со свойственной молодости беззаботностью, которую никакое событие, как важно бы ни было оно, потревожить не может.
Когда же Мишель удостоверился, что все в доме спят, он вышел из своей комнаты со свечою в руке, прошел коридор и, дойдя до двери, смежной со спальней родителей, остановился и слегка постучал два раза.
Дверь немедленно отворилась и сестра его появилась на пороге.
— Входи, Мишель, — сказала она, — я ждала тебя с нетерпением.
Молодой человек вошел, тщательно затворил за собою дверь, задул свою свечу, теперь не нужную, и сел на кресло возле сестры.
— Как я тебе благодарна, Мишель, что ты мне уделяешь свое последнее посещение и последние минуты перед отъездом! Ты не можешь представить себе, как я признательна за такое предпочтение с твоей стороны.
— Полно, так ли, сестрица, и не другая ли у тебя мысль на уме? — улыбаясь, возразил Мишель.
— Какую же другую мысль могу я иметь?
— Как знать! Кто может льстить себя убеждением, что читает в сердце девушки? Самая невинная и прямодушная имеет тайны, которые часто скрывает от непосвященных и даже иногда силится скрыть от самой себя.
— Что ты хочешь этим сказать, брат?
— Ничего более, кроме того, что сказал.
— Признаюсь, я тебя не понимаю.
— Будто бы? Ну, Лания, сознайся откровенно, разве я не подстрекнул твоего любопытства, когда сказал тебе сегодня по уходе гостей, что мне надо поговорить с тобою о важном деле, которое должно остаться между нами?
— Однако…
— Без изворотов, пожалуйста! Ответь мне откровенно, сестра.
— Да ведь я же не была бы женщиною, если б не чувствовала любопытства.
— То есть, что твоя головка заработала, стараясь угадать, что бы я мог тебе сказать.
— Правда, Мишель, я не вижу причины скрывать этого.
— И ты, пожалуй, угадала? — прибавил он, плутовски улыбаясь.
— Ну, уж этого-то нет! — с живостью вскричала она, вспыхнув как маков цвет. — Клянусь, что я не подозреваю!
— Берегись, сестренка! — шутливо погрозил он ей пальцем.
— Зачем ты меня так мучишь? — вскричала она с движением досады.
— Вот тебе на, теперь! Я ее мучу, а еще ничего не говорил!
— Ну да, потому и мучишь, что ничего не сказал. Говори скорее, зачем ты пришел?
— Ты в самом деле не угадываешь?
— Нет, нет, тысячу раз нет! — ответила она, краснея все сильнее и сильнее.
— Если так, то я должен тебе во всем сознаться. Я пришел…
Она наклонилась к нему с напряженным вниманием.
— Ты уже заинтересовалась?
— Ах! Ты несносен, Мишель. Не знаю, право, что с тобою сегодня, — заключила она и вдруг откинулась назад, пленительно надув губки.
— Однако, ведь это не так легко, Лания! Если б еще ты мне немного помогла…
— Как же мне помочь, злой ты этакий, когда я ничего не знаю?
— Скажи, пожалуйста, как странно наше положение! Ты ничего не знаешь и я ничего, а между тем мы оба хотели бы знать.
— О, Господи! — пробормотала она и с досадою стала кусать свои розовые ноготки.
— Престранно, право, — повторил он как бы сам с собой, — именно то же говорил мне бедный Ивон, обнимая меня, когда прощался.
— Что ты там бормочешь о господине Кердреле?
— Вот как! Ивона мы теперь уже величаем господином Кердрелем!
— Ты решительно сегодня невыносим, Мишель.
— Ну, ну, успокойся, сестренка, и смени гнев на милость. Ты знаешь, как я тебя люблю. Если тебе неприятно, чтоб я говорил с тобою об Ивоне, я не скажу ни единого слова, хотя мне это, право, будет тяжело. Ведь он мой лучший приятель, почти брат.
— Ничего подобного я не высказывала, Мишель, напротив. Ты упомянул об Ивоне и я спросила, по какому поводу ты о нем говоришь.
— Видно, я не так тебя понял, виноват.
— Что ж тебе сообщал Ивон?
— Да точно то же! Что ничего не знает, а очень желал бы знать.
— Знать что?
— В том-то и заключается вся суть. Я также не знаю. Вот и пришел я к тебе в той мысли, что может быть…
— Может быть что? — спросила она, потупив взор.
— Видишь ли, Лания, — сказал Мишель, взяв ее руку и нежно пожимая ее в обеих своих, — пораздумай хорошенько; быть может, ты и найдешь в глубине души ответ, которого мы доискиваемся. Тебе восемнадцать лет, сестра, ты чиста как ребенок, ты хороша, даже красавица; много мужчин подходят к тебе с трепетом и удаляются со вздохом сожаления. Спрашивала ли ты когда-нибудь свое сердце?
— Ах, брат, пожалуйста!
— Прости меня, если я вынужден настаивать. Обстоятельства так сложились, что мне не хотелось бы расстаться с тобою, не объяснившись. Кто может предвидеть будущее? Кто знает, что нам готовит судьба?
— Не произноси таких ужасных слов!
— Увы! Моя милочка, небосклон заволокло грозными тучами. Я уезжаю. Вернусь ли еще? А если меня не станет…
— О! — вскричала она в ужасе.
— Все возможно, Лания; но я не хочу расстаться с дорогою моею сестрою, не прочитав в ее сердце или, вернее, не заставив ее прочитать в своем сердце при моей помощи то, в чем она никогда не имела бы духа сознаться самой себе. Будь же со мною откровенна как с братом и единственным человеком, которому ты скорее даже, чем отцу, можешь все сказать, не опасаясь дать ему прочесть в глубине твоих мыслей тайну, повторяю, тебе самой, быть может, неизвестную. В числе молодых людей, которых ты видела в это время и дома у нас, и у добрых друзей, нет ли кого-нибудь, кем бы ты безотчетно интересовалась более других?
Молодая девушка потупила глаза, постояла немного в задумчивости, потом бросилась на шею брату и, прижавшись лицом к его плечу, пролепетала дрожащим голосом:
— Ты разве угадал, что я люблю его? С минуту назад я сама этого не подозревала.
— Отчего ты вся дрожишь, Лания? В том, что ты мне доверяешь, нет ничего такого страшного.
— О! Я ни за что на свете не хотела бы…
— Чтоб он знал, что любим? А почему же, позвольте спросить? Прошу поднять голову, сударыня, и улыбнуться мне; если б тот, о ком мы говорим, был не так далеко, а здесь, слово, которое у вас вырвалось, сделало бы его счастливейшим из смертных.
— Разве ты думаешь, что он угадывает? Если б он узнал что-нибудь, я умерла бы со стыда.
— Вы с ним оба, честное слово, один безумнее другого. Он любит тебя безнадежно и уехал, твердо вознамерившись скорее умереть, чем выдать свою тайну. Ты решила ни дать, ни взять то же самое. Послушай-ка, не взять ли мне на себя роль посредника? Полагаю, тебе трудно было бы найти человека преданнее и бескорыстнее; я, видишь ли, прежде всего желаю твоего счастья.
— Так ты не осуждаешь во мне этого чувства, против которого я устоять не могла?
— Я осуждаю его! Напротив, я ничего так не желаю. Можешь ли ты это думать? Однако, нам хорошенько надо объясниться, — прибавил он лукаво, — между нами не должно оставаться недоразумения. Еще ни одного имени произнесено не было, а насколько мне известно, существует на белом свете некий прекрасный молодой человек с задумчивым лицом и томным взглядом, который сильно смахивает на поклонника моей любезной сестрицы.
— Знаю, знаю, о ком ты говоришь, — засмеялась она. — Этот прекрасный господин со своими томными позами успел только в одном — сделаться мне невыносим.
— Бедный Владислав! — насмешливо сказал брат. — Уж и невыносим?
— Да, именно; ты представить себе не можешь, какое отвращение я имею к этому человеку. Мне кажется, что в нем что-то змеиное и вместе ехидное. Взгляд его не прямой. Никогда он не останавливается на ком-нибудь. Речь его сладкая, но в голосе иногда звучит странная нота. Не будь он несчастен, лишен состояния и осужден на смерть в своем отечестве, почему, подобно многим другим своим соотечественникам, искал убежища во Франции, кажется, я настояла бы, чтоб папа его удалил из нашего дома.
— А между тем ты лично ни в чем упрекнуть его не можешь.
— Решительно ни в чем. Это человек с изящным обращением и вполне изысканной учтивостью; он всячески угождает мамаше и мне. Папа им очень доволен. Он, говорят, исполняет свою обязанность с удивительным умом и примерной ревностью. И при всем том, я сама не знаю почему, мне так и сдается… предчувствие какое-то говорит мне, что он роковым образом вотрется в мою судьбу.
— Полно, Лания, ты бредишь. Это уж слишком. Что может тебе сделать этот человек? И вперед он никогда не будет в состоянии нанести тебе вред, будь спокойна. Впрочем, я-то на что же? Или если б меня не было, отец, а не то Люсьен, разве мы допустим оскорбить тебя безнаказанно? Но довольно об этом; извини, что я заговорил о человеке тебе противном. Вернемся теперь к тому, что для тебя интереснее. Завтра я еду. Через несколько дней я увижу моего бедного товарища. Что мне ему передать?
— Ничего.
— Немного. Неужели ты потребуешь, чтоб я молчал, когда одним словом могу если не возвратить ему счастье, то, по крайне мере, дать ему некоторую надежду?
— Ничего, говорю тебе. Но, — прибавила она, вставая, — я не запрещаю тебе передать, что ты видел. Смотри…
Она отворила ящик своего комода, достала из него молитвенник, тщательно спрятанный под массою кружев, открыла его и показала брату высушенные между листами великолепную махровую розу и троицын цвет.
— Ты помнишь, — сказала девушка, положив руку на плечо брата и приблизив свое прелестное личико к его лицу, — что два дня до отъезда твоего друга праздновали мое рождение?
— Понял! — весело вскричал Мишель, взяв ее обеими руками за голову и поцеловав раза четыре в лоб. — Эту розу и троицын цвет тебе подарил Ивон, и ты тщательно сохранила их.
— Это ты сказал, — ответила она, смеясь, но отвернувшись, чтоб скрыть смущение.
— Ладно, этого мне достаточно, шалунья. Какие слова могут стоить подобной памяти!
Молодой человек встал, взял свою свечку, зажег ее и подошел к сестре со словами:
— Доброй ночи, Лания. Оставляю тебя под охраной твоего ангела, который навеет на тебя золотые сны. Не хочу долее мешать тебе спать. Доброй ночи и прощай, моя милочка; завтра ты еще будешь в постели, когда я уже уеду далеко.
Девушка тонко улыбнулась и молча подставила брату лоб для поцелуя. Потом они разошлись, и Мишель вернулся в свою комнату.
В четыре часа утра весь дом был на ногах. Слуги сновали по коридорам. Люсьен и Мишель, чемодан которого, туго набитый и плотно застегнутый, стоял на стульях, закусывали на скорую руку.
Мишель с опытностью военного, который знает, сколько случайностей может повстречать дорогой, пожелал позавтракать перед отъездом. Молодые люди только что осушили последнюю рюмку вина, когда вошли господин и госпожа Гартман.
— Любезный Мишель, — сказал Гартман, протягивая ему объятия, — я не имел духу отпустить тебя, не обняв еще раз.
— Батюшка! Мама! Какое счастье поцеловать вас перед отъездом!
Это трогательное прощание длилось всего несколько минут, потом господин Гартман поднял голову, лицо его приняло выражение строгое и, протянув сыну руку, он сказал:
— Будь мужчиной, исполни свой долг. Прощай, Мишель!
— До свидания, сын мой! — вскричала госпожа Гартман сквозь рыдания.
И старики вышли рука об руку.
— Бедный отец! Бедная мать! — прошептал молодой человек, отирая непрошенную слезу.
— Все ли готово? — спросил Люсьен. — Нам остается только полчаса.
— Да, кажется, все, — ответил Мишель, озираясь вокруг, — ничего не забыто.
— Прошу покорно, неблагодарный! — послышался веселый голос, и Лания показалась в дверях.
— Лания! — вскричали молодые люди с изумлением.
— А почему же нет? — возразила она, очаровательно надув губки. — Будет вам известно, господа большие братья, что я встала в одно время с вами и обошла уже мой сад; я успела побывать в оранжерее, а теперь пришла в свою очередь проститься с вами.
— Вот милое-то внимание, за которое я тебе сердечно признателен, душечка Лания, — с живостью сказал Мишель.
И обняв за талию, он нежно расцеловал ее.
— Да какой у тебя чудный букет, сестренка! — прибавил он, не выпуская ее из рук.
— Ты находишь? Для тебя я и набрала его, Мишель. Но постой!
Она вынула два цветка из букета и подала его брату.
— Вот, возьми, — сказала она.
— Благодарю, дружок; только позволь узнать, почему ты оставила себе эти два цветка, троицын цвет и махровую розу; что бы это означало?
Не отвечая, молодая девушка поднесла к губам цветки, каждый из них поцеловала, отвернувшись, и, наконец, подала их брату, шепнув ему на ухо едва слышно:
— Для него!
И прежде чем молодой человек успел опомниться от изумления, она высвободилась из его рук, порхнула с легкостью птички и скрылась со звонким смехом.
— О, о! Тут что-то не чисто! — заметил насмешливо Люсьен. — Что это значит?
— А то, любезный друг, — сказал Мишель, тщательно укладывая два цветка в бумажник, — что теперь без четверти пять и мы едва поспеем к поезду.
— Иными словами, что ты отвечать не хочешь, — смеясь сказал Люсьен. — Хорошо же, я спрошу у Ланий. Я уверен, что она мне ответит.
— Может быть, — также со смехом молвил Мишель. С этими словами они вышли из дома, провожаемые всеми слугами, которые буквально осыпали своего молодого барина благословениями и желаниями благополучного пути.
В конце улицы Голубого Облака, где находился их дом, они едва повернули на набережную Келерман, когда на них наткнулся было человек, идущий большими шагами; но, вероятно, узнав их и не желая, чтоб они могли рассмотреть его, он тщательно закутался в свой плащ, надвинул на глаза шляпу с широкими полями, бросился в сторону и быстро удалился по направлению к предместью Пьер, бормоча сквозь зубы что-то, чего братья не могли расслышать.
— К черту влюбленного, — вскричал Мишель, — он чуть было нас с ног не сшиб!
— Влюбленного! Я этого не думаю, — сказал Люсьен, пожав плечами. — Он опять ускользнул от меня, но пусть побережется впредь. Если это именно тот, кого я подозреваю, у нас с ним будет объяснение, которое удовольствия ему не доставит.
— Что ты хочешь сказать?
— Ничего! — ответил Люсьен, смеясь. — Это дело касается одного меня. У тебя свои тайны, не так ли? Ну, и у меня также свои.
— На здоровье, упрямец. Но помни, что если б твои тайны оказались для тебя тяжелым бременем, я требую в нем своей доли.
— Будь спокоен, я не заставлю себя просить, чтобы довериться тебе.
Спустя немного минут они были на станции.
Глава III ПРОФИЛИ ШПИОНА ВЫСШЕГО СВЕТА
Для того чтоб растолковать читателю смысл выражения Люсьена Гартмана, когда незнакомец так неосторожно наткнулся на углу улицы Голубое Облако и набережной Келерман, мы должны вернуться назад к предшествовавшему вечеру, когда в доме на площади Брогли происходила сцена, которую необходимо сообщить читателю для полного уразумения фактов, составляющих эту историю, гораздо более правдивую, чем сначала можно было бы предположить.
В ту минуту, когда полночь пробила на колокольне собора, два человека, шедшие с противоположных сторон, с концов площади Брогли, остановились почти в одно время перед одним из красивейших домов на этой площади и молча поклонились друг другу.
Тот, кто первый дошел до дома, позвонил.
Тотчас дверь отворилась и оба человека вошли. Они очутились в большой передней, прекрасно освещенной, в которой у большой лестницы с мраморными ступенями неподвижно стаяли два лакея в ливрее.
При виде пришедших один лакей поднялся на лестницу, оставляя между собою и безмолвными посетителями пространство по крайней мере в три ступени.
В первом этаже лакей приподнял тяжелую портьеру, прошел не останавливаясь в приемную, богато меблированную и ярко освещенную, и, отворив настежь боковую дверь, доложил:
— Граф Владислав Поблеско. Господин Ульрик Мейер.
Пришедшие вошли. Лакей ушел, опустил портьеру и затворил дверь.
Пришедшие очутились тогда в кабинете, меблированном с тем богатством, более пышным и наружным, чем хорошего вкуса, которое обыкновенно отличает богатых промышленников и капиталистов.
Более способные считать цифры, чем выказывать настоящий вкус, они стараются только, по выражению довольно пошлому, но исполненному истины, бросать пыль в глаза, но что, мы должны признаться, успевают почти всегда, до того на свете много дураков.
В этом кабинете, за столом, или лучше сказать за громадным столом, заваленным бумагами и реестрами, сидел человек, который при докладе о посетителях с живостью отодвинул свою документацию и подошел к ним с улыбкой на губах. Человек этот, тогда очень известный в Страсбурге, происходил из первых банкиров в городе.
Его состояние слыло колоссальным, и его сношения простирались до самых отдаленных областей обоих полушарий.
Мы прибавим только для памяти, что он пользовался уважением, которое обыкновенно дают мешки с золотом.
Это был человек пожилой, с чертами несколько смятыми; толстый нос, губастый рот, лоб, начинавший обнажаться у висков, серые маленькие глаза, впалые, но хитрые, белокурые бакенбарды, обстриженные котлеткой, придавали ему физиономию, где фальшивое добродушие промышленника постоянно боролось с жадным двоедушием делового человека.
Хотя он выдавал себя за лотарингца, люди, уверявшие, что знают это наверно, утверждали, что это просто немецкий жид из Познанского герцогства.
Несмотря на это уверение, он пользовался громадным влиянием на бирже, где его подпись имела большое значение.
В эту минуту он был в черном платье, в белом галстуке, как нотариус, и в петлице красовалась розетка всех цветов радуги.
Этого почтенного банкира звали Тимолеон Жейер.
— Милости просим, господа, я ждал вас с нетерпением, — сказал он, пожимая руки, протянутые ему графом Поблеско и Мейером. — Садитесь и поговорим.
Когда оба гостя сели каждый на кресло, он подал им сигары и продолжал:
— Ну что у вас нового, господа?
— Мне кажется, — ответил граф, — что никто лучше вас не может знать того, что происходит.
— В финансовых делах, — ответил он небрежно, — но в политике?
— Ничего не знаю, — сказал Мейер, — а вы, граф?
— И я также.
— Как! В городе ничего не говорят?
— Нет, — сказали оба вместе.
— Вот это странно, однако, обстоятельства важны. Вы, граф, по доверию Гартмана, находясь во главе его фабрики, должны слышать разговоры работников, знать намерения их; а вы, господин Мейер, слишком деятельный барышник, чтоб не собирать известий в деревнях, через которые вы постоянно проезжаете.
— А, очень хорошо! — сказал граф, улыбаясь. — Я вижу, куда вы метите, любезный Жейер; вы нас спрашиваете, какова оборотная сторона?
— Словом, карточный кран? — подтвердил барышник с громким смехом.
— Именно, господа, вы знаете так же хорошо, как и я, что всякое положение, каково бы оно ни было, имеет две стороны; а то, в котором мы находимся, должно иметь, по крайней мере, четыре или пять. Эти-то стороны нужно мне знать. Посмотрим, Мейер, когда приехали вы в Страсбург?
— Два часа тому назад. Четыре месяца проезжал я весь Эльзас и всю Лотарингию, останавливаясь везде, во всех городах, во всех деревнях, даже во всех самых отдаленных местечках.
— Вы должны были заметить много, слышать множество разговоров.
— Да, всякого сорта.
— Выведя заключение из всего этого, зрело об этом размыслив, какое мнение составили вы себе о положении умов в этих двух провинциях?
— Вот точная моя оценка. Эти народонаселения с радостью ожидают войны. Они глубоко ненавидят пруссаков. Особенно в Эльзасе чувство ненависти доведено до степени невероятной. Я говорю не о деревенских жителях, а о горцах; у них эта ненависть такова, что одно имя пруссаков нагоняет на них дрожь и считается оскорблением. Лотаринщы спокойнее, или лучше сказать, не так высказываются. Вы лотарингец, любезный Жейер, — прибавил он с двусмысленной улыбкой, — вы знаете, как ваши соотечественники лукавы и как трудно узнать, что они думают действительно. Однако, я должен прибавить, отдавая должную дань истине, что есть чем тревожиться, с французской точки зрения, разумеется, в некоторой части этого народонаселения, если правительство не обратит на это внимания.
— Э, э! Это начинает становиться интересным. Что вы хотите сказать?
— Вы знаете, — продолжал барышник, — что религиозные войны недолго продолжались во Франции, но как коротки ни были они, ни в одной европейской стране не обнаружили столько ожесточения и жестокости.
— О! — сказал Жейер, качая головой. — Во Франции теперь равнодушие к религии таково, что правительству нечего заботиться о том, что может прельщать несколько восторженных умов.
— Да, вот что думают вообще. Ну, любезный мой, по моему мнению, правительство очень ошибается; если война начнется, как это вероятно, оно очень хорошо приметит его к своему вреду.
— Объяснитесь яснее.
— Я сам этого желаю. Вы знаете, что в Эльзасе господствуют два догмата, или лучше сказать, две религии: католическая и протестантская. Я смело утверждаю вас, что если Франция объявит войну Пруссии, то последняя держава может найти без большого труда помощь тайную, это правда, но преданную и готовую на величайшие жертвы…
— В рядах католиков?
— Нет. Католики имеют только одну цель: первенство своей церкви и влияние на тех, кем им поручено управлять. Всякий чистый католик есть признанный партизан деспотизма. А самый твердый партизан деспотизма в Европе император Наполеон. Он сделал громадные уступки духовенству и делает их каждый день; стало быть, католическое духовенство за него и поддержит его всеми силами.
— Так вы говорите о протестантах?
— Именно о протестантах; но поймем хорошенько друг друга, о самом ничтожном протестантском меньшинстве. Во всех религиях есть заблудшие сыны, пылкие головы, ставящие хорошие или дурные идеи выше всего, и для торжества этих идей жертвующие всем и прежде всего собой. В Эльзасе, особенно в горах, остается еще несколько пуританских фамилий; заметьте, я не говорю протестантских, которые, не имея внешних сношений, постоянно живут между собой, преувеличенно занимаясь обрядами своей веры, и считают врагами всех, кто не думает так, как они; словом, это эпимениды, словно спавшие с XVI столетия и ныне одушевленные тем свирепым фанатизмом, который одушевлял солдат Кромвеля и их предков, когда они защищали против католиков Монтобан и Ла-Рошель. Эти семейства по своему одиночеству не имеют определенной национальности. Политические вопросы умеренно занимают их, они поглощены вопросами религиозными. Везде, в городах, деревнях, равнинах и на горах, семейства эти уединяются, составляют особую касту и без решительной необходимости никогда не примешиваются к католикам, а еще менее к умеренным протестантам, которых считают ренегатами. В этом меньшинстве пиетистов — так их называют — Пруссия может найти помощников очень полезных в данную минуту. Многие живут в лесу Гленау. На границе, особенно от Зельца, Лаутербурга, Висембурга до Нидерброна, их очень много. Эти фанатики скорее одних мыслей с немцами, чем с французами, нравы которых они находят слишком распущенными; это доказывает, что они имеют торговые сношения предпочтительно с иностранцами, а не со своими соотечественниками. Словом, я думаю, что немногое нужно для того, чтоб привлечь их на свою сторону.
— Хорошо. В случае надобности между ними и другими протестантами можно будет сделать соглашение, — сказал Жейер, потирая себе руки.
— Не думайте этого; вы сделаете ошибку чрезвычайно опасную. Большинство протестантов одушевлено величайшим патриотизмом. Они любят Францию и будут сражаться за нее с полнейшей преданностью. Будьте убеждены, что они, не колеблясь, не только примешаются к католикам, потому что вам уже известно, что здесь католики и протестанты заодно, но до такой степени сольются с ними, станут действовать так согласно, что никто не будет в состоянии принудить их сохранить нейтралитет. Притом они уже внимательно наблюдают за пиетистами и горе тем, если они осмелятся изменить французам, они найдут в протестантах самых жестоких врагов.
— Знаете ли, любезный Мейер, что все сказанное вами очень тревожит меня. Я надеялся, по вашим словам, что протестанты могут сделаться в данную минуту если не союзниками, то безмолвными друзьями, а я вижу, что мы не имеем никакой надежды добиться такого результата. Неужели вы искренне думаете, что эти пиетисты, как вы их называете, имеют так мало влияния?
— Вы меня не поняли. Вам надо знать всю правду. Против Пруссии все католики, все протестанты; они ни за что на свете не захотят вступить в переговоры с неприятелем своей родины, и даже в этом ничтожном меньшинстве, которое я назвал пиетистами, Пруссия найдет очень немногих, которые согласятся помогать ей втайне. Другие останутся нейтральны.
— Это неприятно. Однако, хотя часть дурного очень велика, в том, что вы мне сказали, есть и хорошее. Я поспешу указать на это хорошее кому следует, чтоб можно было действовать немедленно. А ваши сведения, граф, так же ли дурны, как сведения Мейера?
— Это судя по тому, как вы их оцените, любезный Жейер. Не рассчитывайте на рабочий класс в Эльзасе более, чем на остальное народонаселение. Я внимательно изучил его. Кроме северных провинций Франции, нет провинций более патриотических как Эльзас и Лотарингия. То, что вам сказал Мейер о пиетистах, совершенно справедливо. У нас они есть даже в Страсбурге, и совершенно таковы, как их описал Мейер. Но меня удивляет в том ясном и пространном отчете, который он вам сделал, что он забыл одно сословие, которое находится повсюду в обеих провинциях, которое втерлось во все деревни, во все города, даже в самые маленькие местечки, пробирается и в знатные дома, и в хижины; эти люди стараются остаться как можно более непримеченными, а если уметь воспользоваться ими, то это в данную минуту может быть очень важно для Пруссии.
— О каких это людях говорите вы? — спросил Жейер.
— Я не вижу, что вы хотите сказать, — прибавил барышник.
— Выслушайте меня, господа. Я прошу у вас только нескольких минут терпения и думаю, что скоро вы сознаетесь, что я прав, что в эту минуту в особенности надо во что бы то ни стало привязать к себе этих людей или, по крайней мере, наиболее влиятельных между ними.
— Но какие же это люди?
— Вот уже около четырех лет как я в Эльзасе. Дела фабрики, которою я управляю, принудили меня часто ездить в семь департаментов и даже в Люксембург. В этих путешествиях я мог изучить с удивлением, смешанным с любопытством, странные нравы людей, о которых я хочу говорить. Эти люди не кто иные, как жиды. Но поймем друг друга хорошенько, господа, эти жиды вовсе не похожи на всех тех, которых вы могли видеть в какой бы то ни было стране. Я назвал их жидами, по неимению лучшего названия, и по наружности, по крайней мере, они исповедуют жидовскую религию, но в действительности и на сколько я мог удостовериться в этом после серьезных изучений и больших разысканий о них, я думаю, что они столько же жиды, сколько христиане, и что они не имеют никакого отношения ни к одной из пород, населяющих нашу старую Европу.
— Полноте! Вы шутите! — вскричал банкир.
— Не мешайте, не мешайте, — сказал барышник, внимательно прислушивавшийся, — я думаю, что Поблеско говорит очень хорошо и очень серьезно. Продолжайте, граф.
— Эти люди, которые многочисленны в Эльзасе, как я говорил вам, — продолжал граф, — разделяются на две очень различные категории: кочующих, то есть тех, которые постоянно рыскают по горам и по долам, которые исполняют ремесло странствующих медников, барышников, разносчиков, точильщиков, мало ли еще чего, и тех, которые ведут сидячую жизнь. Эти сгруппированы в деревушках, местечках и больших деревнях, по большей части на французской границе, так что они одною ногой во Франции, а другою за границей. В этих деревнях живут исключительно люди, о которых я вам говорю; они занимаются разного рода недозволенными ремеслами. Контрабанда составляет главный способ их существования. Они закоснели в самом гнусном невежестве и самой отвратительной нечистоте, говорят на наречии понятном только им, управляются особыми обычаями и, в сущности, не имеют никакой национальности. Тип их скорее азиатский, чем европейский. Посмотреть на них, когда их видишь у них дома, то подумаешь, что находишься среди тех кочующих шаек, которые в средние века явились в Европу, налетели на нее как тучи саранчи и никто не знал, откуда они взялись и куда идут, которые прошли все страны, не приняв обычаев ни от одной, и наконец исчезли, оставив за собою несколько семейств, никогда не участвовавших в общем движении окружавшей их цивилизации. Странная особенность примечается в жизни этих жидов — мы так называем их за неимением лучшего названия — эльзасцы, снисходительные и гостеприимные по характеру, никогда не хотели знаться с ними; они их ненавидят и, так сказать, отстраняют их в их деревни, около которых общественное презрение как будто провело чумную цепь. Заметьте хорошенько, господа, что когда я говорю: эльзасцы — скорее в Эльзасе, чем в Лотарингии встречаются эти парии цивилизации — я говорю обо всем народонаселении, без исключения религий: о католиках, протестантах и даже, весьма необыкновенное обстоятельство, об эльзасских израильтянах, тех, которые признали французские законы, примешались к цивилизации, которые, правда, все-таки исповедуют свою религию, но тип которых значительно изменился от скрещения пород. Вот почему я сейчас вам говорил, что называю этих людей жидами, за неимением другого названия, потому что для меня, как и для всех в этой стране, эти люди не принадлежат ни к какой секте, в сущности, язычники и живут, как их предки в средних веках, воровством и грабежом.
— Это так, — подтвердил барышник. — Граф прав во всех отношениях; он пополнил важный пропуск. Сам не понимаю, как я пропустил такие драгоценные сведения.
— Итак, вы думаете, граф, — продолжал банкир, — что в случае надобности этими людьми воспользоваться можно?
— Это мое убеждение; особенно теми, которые живут на границе. Повторяю вам, они не признают никакой национальности. Они ведут жизнь бродячую и, следовательно, нет ни одной козьей тропинки в лесу, которая была бы им неизвестна. Единственная страсть их — золото. Для приобретения этого драгоценного метала нет измены, нет гнусности, которая заставила бы их поколебаться. Притом, нравственное чувство до того помрачено у них, что они, так сказать, не сознают своих поступков, не делают разницы между преступлением и добродетелью, не понимают ни того, ни другого, и находят хорошим только тот поступок, который приносит им денежную прибыль.
— Ну и прекрасно! — вскричал банкир, потирая себе руки. — Вот честные люди, с которыми легко будет сговориться и которые при случае сделаются драгоценными помощниками.
— Я записал, — продолжал граф, подавая бумагу банкиру, — имена людей самых влиятельных в этих странных племенах, так же как и деревни, в которых они живут, и географическое положение этих деревень.
— Прекрасно сказано, — сказал банкир, — а вы, Мейер, разве не дадите мне каких-нибудь отметок?
— Извините, я записал имена некоторых пиетистов, фанатиков разумеется, и некоторых анабаптистов, которые могут сделаться полезными нашему делу… Я так же как и граф, отметил напротив их имен места, в которых они живут.
— Очень хорошо, господа. Все эти отметки будут переданы министру в самом коротком времени. Теперь, когда предмет этот кончен, перейдем к донесению. Прежде посмотрим Эльзас.
— Я обещал вам, — продолжал граф, — в вашем последнем свидании вручить вам как можно скорее последнюю часть карты, начатой десять лет тому назад агентами, посланными сюда министром. Карта эта, сделанная чрезвычайно старательно, где ни один куст, ни один пригорок, ни ручей не были забыты, наконец, кончена. Я имел честь уже вручить вам сорок листков. Вот десять последних, что составляет пятьдесят. С этой картой невозможно заблудиться ни в каком эльзасском местечке, как бы ни было оно неизвестно. Я сомневаюсь, чтоб у французского правительства была карта такая подробная и такая точная. Вот еще тетрадь, которую министр спрашивал так настоятельно. Вы найдете тут каждый город, каждую деревню, каждое местечко, село, точную цифру народонаселения, мэров, помощников их, сборщиков податей, нотариусов — словом, всех влиятельных людей, с точною цифрою их состояния, потом список податей, число лошадей, ослов, лошаков, скота разного сорта, экипажей и даже телег. Словом, самые полные сведения, какие только можно было достать.
— Очень хорошо.
— Теперь вот подробные отчеты, доставленные мне инженерами, артиллеристами, которые из патриотизма согласились служить слугами, управляющими, поварами, генералами, интендантами и даже маршалами. Эти донесения, которые я старательно проверил, содержат только точную цифру людей, оружия, боевых снарядов и прочее. Вы увидите тут также подобные планы крепостей верхнего и нижнего Эльзаса и Лотарингии. Эта работа, чрезвычайно трудная, потребовала пять лет стараний и розысков. Ныне, слава Богу, она кончена.
— Благодарю вас, граф. Я убежден, что его сиятельство министр сумеет быть признательным за ваши великодушные усилия, как они заслуживают того. Уже несколько раз передавал он вам через меня выражение своего удовольствия. Надеюсь, что на этот раз вы получите доказательство еще сильнее. Теперь ваша очередь, Мейер.
— Я кроме карты, которой мне не нужно было заниматься, сделал для Лотарингии то, что граф сделал для Эльзаса. Эта тетрадь, очень небольшая, потому что она написана цифрами, заключает в себе все требуемые сведения. Я собрал и соединил все донесения наших агентов. Как граф, я старательно проверил их, нашел точными и принес вам.
— По милости способов, употребленных его сиятельством министром, — сказал Жейер с улыбкой, опуская руку на документы, отданные ему, — эти драгоценные сведения сжаты в такое небольшое пространство, что один человек может отвезти их, не возбуждая ни внимания, ни подозрения. Завтра полковник фон Штадт, находящийся в Келе, отвезет их в Берлин. Я сам отвезу их ему. Я должен завтра быть в Келе, вместе с военным интендантом осмотреть дом, купленный мною несколько дней тому назад. Вы видите, случай найден.
— В самом деле, — сказал граф, — шуточка хорошая.
— Что же делать, господа, действуешь как знаешь. Теперь я должен вам сообщить под печатью тайны, что война решена. Пруссия хочет войны. Император Наполеон, чувствующий, что престол ускользает от него, еще больше желает войны, надеясь так же расправиться с Пруссией, как с Австрией, и успеть, по милости удачной войны, утвердить свой трон и упрочить свою династию. Одно останавливает еще войну: вопрос о форме. Пруссия, всеми силами способствующая войне, очевидно хочет casus belli, чтоб оставить на ответственности императора всю гнусность объявления войны и лишить его сочувствия Европы; словом, король хочет, чтоб войну объявила Франция. Удастся ли ему? Все заставляет меня думать это. В эту минуту идут чрезвычайно живые прения в палате парижских депутатов. Левая сторона почуяла засаду. Она знает, что Франция не хочет войны, что правительство не готово для войны; Тьер, Жюль Фавр, Гамбета энергично говорили против войны, но вы знаете, — прибавил он с сардонической улыбкой, — у Пруссии есть друзья повсюду. Люди, держащие в руках власть во Франции, в эту минуту стоят выше предрассудков. Они чувствительны к некоторым трогательным, а в особенности звонким, заявлениям и, кажется, я могу положительно уверить вас, что левая сторона будет проповедовать в пустыне. Война будет объявлена и не пройдет месяца, как обе армии померяются своими силами. Когда Франция увидит, до какой степени довел ее император, она бросит его, и, конечно, будет провозглашена республика. Тогда-то борьба сделается серьезною. Нам надо остерегаться, быть готовыми на всякий случай. Что намерены вы делать, господа, если завяжется борьба? Министр поручил мне спросить вас об этом.
— Моя роль начертана, — сказал граф. — Я польский дворянин, нашедший убежище во Франции. Я ненавижу Пруссию и Австрию. Франция дает мне великодушное гостеприимство; не я брошу ее в той опасности, в какой она будет находиться. Я буду служить ей всеми моими силами, советами и моей рукой, если окажется нужным. Давно уже я все приготовил около себя на тот случай, если будет то, что занимает нас в эту минуту. Я подружился с людьми передовых партий. Мои мнения известны, и когда настанет пора действовать, меня горячо будут поддерживать люди, знающие меня.
— Министр весьма основательно хвалил мне ваши способности и ваш выходящий из ряда обыкновенного ум, — смеясь сказал Жейер. — А вы, герр Мейер, что так задумались? О чем думаете вы?
— Любезный Жейер, — ответил барышник со своим насмешливым добродушием, — вы знаете, я человек не политический. Я ничего не понимаю в правительственных делах. Говорите со мною о лошадях. Вот это мне известно: бедные люди должны зарабатывать себе пропитание. Притом я люксембургец, голландец, почти француз. Я люблю Францию за ее либеральные учреждения и сердечно ненавижу Пруссию. Я это показываю каждый раз, как бываю в деревнях, при малейшем удобном случае. Не бойтесь, я известен везде. Дядя Мейер! Друг бедных! Добрый патриот! Неумолимый враг пруссаков! Не скрою от вас, герр Мейер, у меня скоплено кое-что. Ну, если война будет объявлена, я сделаюсь поставщиком. Я буду продавать лошадей французскому правительству. Словом, я буду служить ему всеми способами.
— Вот это решено. Я убежден, любезный Мейер, что вы будете полезны Франции так же, как и Поблеско.
— Да, я это предчувствую, — сказал, смеясь, барышник. — Притом, не скрою от вас, что с тех пор как разъезжаю по деревням, я тружусь в этом смысле. Только меня затрудняет одно.
— Что такое, любезный Мейер?
— Вы знаете, всякий имеет свои привычки. Так, например, я посещаю вас время от времени; мы говорим о том и о другом. Я кроме вас навещаю и других; если война будет объявлена, надо прервать эти приятные привычки, потому что без сомнения эти люди уедут отсюда. А вы, Жейер, разве останетесь здесь?
— Ах! Вы спрашиваете у меня то, чего я сам не знаю. Теперь я могу только уверить вас, что пока останусь в Страсбурге, насколько это будет возможно. Меня удерживают здесь слишком важные финансовые интересы для того, чтобы я мог удалиться отсюда. Только исключительные обстоятельства могут заставить меня уехать. И то я поеду недалеко. Я всегда буду находиться под покровительством французской армии…
— Хорошо, хорошо; я вижу, что вы также приняли меры. Человек благоразумный должен быть готов на всякий случай. Я не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что мы скоро увидим очень важные события.
— Истинно! — сказали, смеясь, Жейер и Поблеско.
— Одно последнее слово прежде чем мы расстанемся, господа. Оно особенно обращается к вам, граф.
— Слушаю вас, Жейер.
— Я только просто предупреждаю вас и этим предостережением может воспользоваться и Мейер, потому что хотя он не знает той особы, о которой я хочу говорить, может представиться такое непредвиденное обстоятельство, которое сведет вас с нею и вам хорошо знать о ней кое-что.
— Это предисловие предвещает вещи очень важные, — сказал граф.
— Важные до некоторой степени; вы молоды и если не будете предупреждены, то без сомнения увлечетесь далее, чем хотели бы.
— Во всяком случае объяснитесь; признаюсь, я не умею отгадывать загадки.
— Будьте спокойны, я объяснюсь ясно.
— Я слушаю вас.
— Полтора года тому назад молодая женщина, очень хорошенькая, очень богатая и называвшая себя вдовою какого-то французского генерала, умершего два года тому назад в Африке, поселилась в Страсбурге. Дама эта, называющаяся графиня де Вальреаль, купила один из самых красивых домов в улице Тусен, выписала из Парижа великолепную мебель и начала принимать с замечательной роскошью и пышностью. Она великолепная брюнетка, и кокетливость ее принимает иногда странные и утонченные размеры. Ее ясный, проницательный взгляд имеет что-то магнетическое, и уязвляющее, и прельщающее в одно и тоже время. Точно ли она графиня и называется ли она де Вальреаль? Я в этом сомневаюсь; все это мне кажется именем и титулом из комедии; но верно для меня то, что эта женщина, кто бы она ни была, сирена самая обольстительная для молодого человека. Всякий, попавший в сети этого милого создания, невозвратно погибнет. Поэтому с горестью и почти с испугом вижу я, как часто вы бываете в доме этой опасной чародейки. Вы мне ответите, может быть, что вы не пользуетесь никакой короткостью в ее доме; что вы входите в ее залы, когда там бывает самая тесная толпа; что часто, когда вы уходите к двум часам утра, вас никто не приметил. Вы ошибаетесь: эта женщина, которая не говорит с вами и четырех раз в неделю, и то разменивается только какими-нибудь пошлыми приветствиями, эта женщина имеет взгляд, который говорит непреодолимым языком. Осмелитесь ли вы уверять меня, что не находитесь под всеобщими чарами, что вы устояли от кокетства этой Армиды, которая приобрела себе кучу обожателей?
— Милостивый государь, позвольте заметить вам, что вы входите в порядок идей, не имеющий ничего общего с поручением, которым удостоил меня министр и которое, кажется, я исполняю со всею преданностью, к какой только способен.
— Граф, поверьте, что я не имею никакого намерения оскорбить вас. Одно участие к вам побуждает меня говорить с вами таким образом; но я оставляю вам свободу не следовать моим советам, если они вам не нравятся. Только я замечу вам, граф, что мы играем партию очень серьезную. Дело идет о нашей голове, если мы будет открыты. Французы не понимают чести так, как мы понимаем ее. Их утонченность и щекотливость смешны. Для них патриотизм имеет границы, за которые он не должен переступать. У нас не так. Все способы хороши для нас, когда дело идет о том, чтоб служить нашему отечеству. Если нас откроют, мы будет считаться шпионами и подвергнемся смерти изменника. Совесть оправдывает нас, соотечественники уважают, но здесь мы будем обесславлены и опозорены. Этого быть не должно. Не будем терять время на высокопарные фразы. Для успеха того поручения, которое вам дано и которое приняли и мы, ваши сообщники, важнее всего, чтоб никакое подозрение, как бы слабо оно ни было, не могло коснуться нас. Я не знаю, любите ли вы эту женщину, я не хочу этого знать, это не мое дело, но повторяю вам, она чародейка. Те, которые видели ее один раз, навсегда поддаются ее очарованию; они должны без надежды подчиниться железному игу, которое она налагает на них. Я, как и другие, не избегнул этого могущества, которое уничтожает всякую волю. Невольно я был привлечен к ней, но я устоял, потому что в этой женщине есть что-то мрачное, таинственное, пугающее меня. Ничто не доказывает мне, что это не искательница приключений. Ах, Боже мой! Мы это знаем лучше других. Кто может сказать, не для того ли эта женщина поселилась здесь в Страсбурге, на самой границе Франции, чтоб наблюдать за врагами своего отечества? Кто может сказать, не дано ли ей тайное поручение от ее правительства? Разве Пруссия не послала во Францию множество знатных дам, которым поручено наблюдать за ее интересами?
— Это правда; я сознаю справедливость того, что вы сказали мне. Замечание, сделанное вам, я делал сам уже несколько раз. Вы думаете, что я люблю эту женщину? Ничуть не бывало. Успокойтесь. То, что я чувствую к ней, скорее похоже на ненависть, чем на любовь. Тайна, окружающая ее и невольно проглядывающая в ее поведении, именно и привлекает меня к ней.
— Я вас не понимаю, любезный граф.
— Однако это очень просто. Как вы, я угадал в ней неприятельницу Пруссии, но не такую, как полагаете вы. Поверьте, эта женщина трудится для себя. Хотя она называет себя француженкой, иногда, когда она не наблюдает за собою, в ее словах слышится довольно заметное баварское произношение. Я пойду дальше. Хотя я не могу ничем доказать моих слов, я утверждаю, что эта женщина моя личная неприятельница; если вы видите меня часто на ее собраниях, это оттого, что я стараюсь открыть тайну, сильно подстрекающую мое любопытство.
— Берегитесь, любезный граф, задача ваша трудна. Ваша неприятельница очень хитра. Вспомните, что от ненависти до любви только один шаг, за который переступить легко. Впрочем, вы предупреждены, поступайте, как хотите. Если можете избегнуть сетей графини де Вальреаль, я буду в восторге; если вы попадете туда, постарайтесь, по крайней мере, чтоб она не знала, кто вы и какие причины требуют вашего присутствия здесь.
— Вот именно где вопрос становится серьезным, любезный господин Жейер. Если эта женщина та, которую я подозреваю, она знает меня. Она знает, кто я, знает все подробности данного мне поручения. Каким образом она добилась этих сведений, мне неизвестно, но для меня очевидно, что она как нельзя лучше знает обо мне все.
— Вы меня пугаете.
— Если мы уже говорим друг с другом откровенно, я предпочитаю сказать вам прямо все. У меня была любовница, которую я очень любил. Когда разошелся с нею, я должен сознаться, что вся вина была на моей стороне. Словом, я дурно поступил с нею, потому что эта женщина любила меня самой преданной любовью; она дала мне доказательства.
— И вы предполагаете…
— Я еще не знаю ничего. Иногда мне кажется, что это она, потом я убеждаюсь в противном.
— Разве графиня де Вальреаль очень похожа на вашу бывшую любовницу?
— Похожа ли! — повторил граф. — Это ее голос, движения, даже черты. Будь она вместо брюнетки блондинка, я сказал бы, что это она. Два дня тому назад она разговаривала с кем-то в своей гостиной. Я стал позади нее так, что она меня не видала, и спрятавшись среди окружавших ее особ, тихо шепнул ей на ухо ее имя: «Анна Сивере». Графиня де Вальреаль осталась неподвижна, даже не вздрогнула, не повернула головы и продолжала разговаривать, как будто не слыхала. Однако была ли это мечта, не знаю, но в зеркале напротив нее, в котором отражались ее черты, я вдруг увидал, что лицо ее покрылось смертельной бледностью, а потом вдруг вспыхнуло; но это продолжалось не долее блеска молнии и не было примечено никем.
— Это важно, очень важно, граф; что вы думаете об этом, Мейер?
— Я думаю, — прямо ответил барышник, — что граф напрасно сделал опыт, который, по моему мнению, решил все. Эта женщина не простит ему, что он сорвал с нее маску. Для меня очевидно, что отказавшись от мщения, о котором она очевидно мечтала, она должна выбрать другое, более быстрое. Во всяком случае ее надо предупредить. Не забывайте, господа, что было сказано несколько минут тому назад: мы играем страшную игру, в которой дело идет о наших головах.
— И вы заключаете из этого…
— Что эта женщина должна исчезнуть.
— Она должна умереть! — сказал граф.
Наступило минутное молчание.
— Хорошо, господа, — продолжал банкир отрывистым голосом, — я беру на себя это дело. Уходите ибудьте спокойны, эта женщина умрет.
Глава IV ПОСЛОВИЦА «ПОЙТИ ЗА ШЕРСТЬЮ И ВОРОТИТЬСЯ ОСТРИЖЕННЫМ» НАХОДИТ ПРИМЕНЕНИЕ
Улица Тусен одна из самых спокойных и наилучше обитаемых в Страсбурге. Для тех из наших читателей, которые не знают этого города, мы скажем, что она начинается от улицы Гор и кончается улицей Пьер.
В улице этой находятся несколько монастырей, община, похожая на фландрский бегинский монастырь, куда уединяются люди, которых лета, мизантропия или несчастья заставляют находить потребность в уединении. В этом доме, находящемся под покровительством св. Варвары, пансионерки, по большей части пожилые, получают за плату довольно дорогую попечение самое разумное и самое внимательное.
Несколько богатых особ выстроили себе в улице Тусен очаровательные дома между двором и садом, что заставляет эту улицу походить на Сен-Жерменское предместье в Париже, еще не захваченное лавочной промышленностью.
В один из этих домов введем мы читателя через несколько дней после разговора, рассказанного в предыдущей главе.
Было около двух часов пополудни; жара стояла бы удушливая, если б довольно сильный ветерок, пробегая по ветвям деревьев, листьями которых тихо шелестел, не освежал атмосферы.
В глубине довольно густого боскета, пропускавшего солнечные лучи, умеряя их блеск, сидела молодая женщина на дерновой скамье с открытой книгой на коленях, давая урок чтения очаровательному шестилетнему ребенку, белокурые волосы которого смешивались иногда с шелковистыми черными локонами его очаровательной учительницы.
Эта дама была графиня де Вальреаль. Мы не будем писать ее портрета, а только скажем, что в эту минуту на лице ее, обыкновенное выражение которого отличалось меланхолией, была разлита большая бледность; что глаза ее иногда наполнялись слезами; что эти слезы еще дрожали как жемчужины на конце ее длинных ресниц и медленно текли по ее щекам, а она и не думала вытирать их.
Ребенок внимательно следил в книге за крошечным пальчиком своей матери и складывал, смеясь и распевая, слоги попеременно представлявшиеся его глазам.
Ничего не могло быть и грациознее, и вместе с тем печальнее этой картины, которой боскет служил рамкой, а солнечные лучи ласкали золотистыми оттенками.
Урок чтения, или лучше сказать, игра матери с ребенком, продолжалась уже около получаса, когда легкие шаги заставили захрустеть песок в соседней аллее и явилась молодая девушка.
Мы говорим: молодая девушка, потому что ей было лет двадцать не больше. Она была высока, хорошо сложена и представляла во всей своей наружности совершенный тип тех щеголеватых субреток восемнадцатого столетия, порода которых теперь совершенно исчезла.
Девушку эту звали Элена. Она была служанка, или лучше сказать, преданный друг графини, которая не имела для нее тайн.
Элена была несколькими годами моложе своей госпожи, выросла возле нее, была, так сказать, воспитана матерью госпожи де Вальреаль; графиня никогда не теряла ее из вида; поэтому, повторяем, Элена была скорее другом, чем служанкой своей госпожи, к которой она питала глубокое уважение и непоколебимую преданность.
Услышав шум приближавшихся шагов, графиня с живостью выпрямилась, покачала головой как бы для того, чтоб прогнать печальные мысли, осаждавшие ее, и украдкой отерла слезы; но опоздала, потому что это движение не укрылось от молодой девушки.
— Я уверена, — сказала она тоном упрека, — что вы опять плакали.
— Ах! — прошептала графиня, покрывая сына судорожными поцелуями. — Неужели это удивляет тебя, Элена? Разве ты не знаешь, что я плачу всегда?
— Именно потому-то я и упрекаю вас. Я желала бы видеть в вас твердость против горести.
— На что ты жалуешься? — отвечала графиня с меланхолической улыбкой. — Я плачу только когда я одна, когда никто не может меня видеть, застать меня в слезах. Разве во мне нет твердости, когда я нахожусь среди толпы, наполняющей мои комнаты? Разве у меня не находится для каждого слов, любезных улыбок, живых возражений? Милое дитя, поверь, маска, которою я закрыла свое лицо, привязана крепко. Никто кроме тебя, от которой я ничего не скрываю, никогда не застигнет во мне минуты слабости. Я слишком долго изучала мою роль для того, чтоб не знать ее. Я похожа на тех артисток, любимых публикой, которые перед зрителями, аплодирующими им, кажутся веселы и счастливы, но когда занавес упадет, когда они вернутся за кулисы, они часто дорого платят за эти краткие минуты упоения, которыми пресыщена их гордость. Тогда, как и мною, ими овладевает печаль и они плачут. Я теперь нахожусь за кулисами. Не упрекай меня в слабости; пусть слезы мои текут свободно; они облегчают меня; если я стану удерживаться, они падут мне на сердце.
— Вы делаете вид, будто не понимаете меня, сударыня, — сказала молодая девушка, садясь возле своей госпожи, руку которой она взяла с нежностью, между тем как ребенок, которому мать возвратила свободу, валялся на траве с великолепным водолазом, который прибежал вместе с молодой девушкой.
— Что ты хочешь сказать? — небрежно спросила графиня, устремив глаза на ребенка и следя за ним с той материнской заботливостью, которая не засыпает никогда.
— Я хочу сказать, что вы считаете меня слепой.
— Я тебя не понимаю, Элена.
— Напротив, вы меня понимаете слишком хорошо и вот почему не хотите мне ответить. Для чего вы оставили Париж, где мы вели жизнь такую приятную, такую спокойную? Для чего вернулись сюда?
— Для чего? — повторила графиня, и молния промелькнула в ее взгляде.
— Я вам скажу: потому что человек этот здесь и вы любите его.
— О! Нет. Это невозможно, — прошептала графиня дрожащим голосом, — я приехала сюда, потому что он здесь, это правда, но не потому что его люблю.
— По какой же причине, когда так?
— Потому что приближается час моего мщения.
Молодая девушка покачала головой, и насмешливая улыбка мелькнула на ее губах.
— Мщения? Ах! Вы обманываете сами себя. Вы говорите о мщении, а внутренне думаете о любви.
— Ты ошибаешься, Элена, клянусь тебе.
— Ах! Боже мой, не я ошибаюсь, а вы; вы не ясно читаете в своем сердце. К счастью, я здесь; пока вы спите и убаюкиваете себя приятными мечтами, я бодрствую над вами.
— Что ты хочешь сказать?
— Признаться вам во всем, что я знаю? Вы не сделаете из этого оружия против меня?
— О! Можешь ли ты предполагать…
— Знайте же: вы думаете, что вы очень переменились, не правда ли, что вас узнать нельзя?
— Но мне кажется…
— Вы ошибаетесь, моя добрая госпожа. Человек, для которого вы вернулись в Страсбург и которого успели привлечь к себе в дом, этот человек если не узнал вас, то угадал, знайте это; как вы ни переменили себя, одно нельзя в себе переменить — взгляд. А человек этот так хорошо уловил ваш взгляд на последнем вечере, на котором он присутствовал, что осмелился назвать вас по имени. Вы сами мне говорили это.
— Что делать? — прошептала графиня. — Как теперь его обмануть?
— Я сама все думаю об этом с тех пор, как вы сказали мне. Но это еще ничего, а есть кое-что гораздо важнее.
— Что еще?
— Знаете ли, как человек этот отвечает на вашу любовь? Замышляя вашу смерть.
— Мою смерть! Он? — вскричала графиня с удивлением, смешанным с испугом. — О! Ты с ума сошла, Элена, этого быть не может.
— Это так, — настойчиво возразила молодая девушка. — Я это знаю наверно; я имею на это доказательство.
— Нет! Это невозможно.
— Ну! Выслушайте же меня, если уж все надо вам сказать. Когда мы приехали сюда, я случайно встретилась с человеком, отца которого вы знаете, потому что он был почти нашим соседом в Мюнихе. Человек этот теперь камердинер Жейера, богатого банкира, у которого, сказать мимоходом, часть вашего капитала, и если бы вы меня послушались, вы сегодня же взяли бы ее от него.
— Оставим это, оставим, — сказала графиня с нетерпением.
— Этот молодой человек, которого зовут Карл Брюнер…
— Как, это сын старика Брюнера, столяра?
— Он. Я всегда нравилась ему. Когда я встретилась с ним, он выразил мне, с каким удовольствием видит меня опять, наконец; он прибавил, но я этому не верю, что с отчаяния, зачем я уехала из Мюниха, и не зная где меня найти, он бросил свой родной город, сделавшийся нестерпимым для него. Увидев меня опять, Карл сделал мне формальное объяснение, на которое я, разумеется, ответила громким хохотом. Он клялся мне в вечной любви, в неограниченной преданности, а я ответила ему, что служу у графини де Вальреаль, которая очень добра ко мне и которую я очень люблю; потом, так как разговор грозил продолжиться нескончаемо, я бросила Карла и ушла.
— Какое же отношение имеет ко мне любовь этого молодого человека к тебе, милое дитя?
— Подождите! Подождите! Это касается вас больше, чем вы думаете.
— Кончай же.
— Не я останавливаюсь, а вы прерываете меня, я вам отвечаю. Но не выходите из терпения, я продолжаю. Четыре дня тому назад я получила записку, подписанную «Карл Брюнер». Можете ли вы представить себе, что он имел смелость просить у меня свидания под предлогом, что желает сообщить мне какие-то важные вещи! Я девушка честная и свиданий молодым людям не назначаю. Разумеется, я ему не отвечала. Я думала, что отвязалась от него, когда час тому назад привратник прислал мне сказать, что какой-то человек желает говорить со мною в его комнате о важных делах. Я, ничего не подозревая, пошла к Фрицу и кого же приметила входя! Карла Брюнера, без церемонии развалившегося в большом кожаном кресле Фрица, который был так глуп, что стоял перед ним. Я хотела порядком побранить моего смелого обожателя, но тот не дал мне времени. Он приложил палец, взглянув на меня, и, обернувшись к привратнику, спокойно попросил его оставить нас одних на пять минут, что Фриц послушно исполнил, заперев за собою дверь. Понимаете ли вы?
— Милая, я понимаю, что ты болтаешь, болтаешь разный вздор.
— Вы увидите, — сказала Элена, надувшись. — Как только Фриц исчез, Карл встал и, не позволив мне сказать ни слова, заговорил:
— Вы знаете, что я вас люблю как сумасшедший; я буду любить вас всю жизнь; я знаю, что вы равнодушны ко мне; это приводит меня в отчаяние, которое сократит мою жизнь; но не об этом идет речь теперь.
— О чем же? — спросила я.
— Вы уже знали бы это, если б пришли на назначенное мною свидание.
— Я не хожу на свидания с молодыми людьми.
— Ах! Я это знаю и имею на это доказательство.
— Чего вы хотите от меня? Кончайте скорее.
— Сказать вам в двух словах о вашей госпоже.
— О моей госпоже? — вскричала я.
— Да, о вашей госпоже; выслушайте меня.
Вот что он рассказал мне. Несколько дней тому назад, в полночь, Карл находился в спальне своего барина, где все приготовлял на ночь, как он делает это каждый вечер, когда услыхал, что его барин произнес громким голосом в своем кабинете, где он сидел около часа, запершись с какими-то людьми:
— Графиня де Вальреаль похожа на вашу бывшую любовницу.
Разговор продолжался шепотом и Карл, внимание которого это имя возбудило — он знает, что я у вас служу — не мог ничего понять. Жейер и его друзья разговаривали с некоторым одушевлением. Вдруг банкир вскричал громко:
— Что ж вы заключаете из этого?
— Что эта женщина должна исчезнуть, — сказал незнакомый голос.
— Она должна умереть, — прибавил другой.
— Хорошо, господа, — продолжал банкир, — эта женщина умрет.
В кабинете сделался шум, отодвигали кресла; верно, гости уходили. Карл боялся, что его застанут в спальне, поспешно вышел и воротился только по звонку барина. Теперь, в свою очередь, я вас спрошу: что вы из этого заключаете?
— Я заключаю, что ты сумасшедшая, — ответила графиня, пожимая плечами с презрительной улыбкой. — Твой Карл Брюнер шутник, который, не зная, как тебя видеть и как добиться свидания, сочинил эту басню, чтоб принудить тебя выслушать его.
— О! — вскричала молодая девушка, обидевшись. — Карл Брюнер совсем не таков. Он родился в Баварии, это правда, но вы знаете так же, как и я, что он французского происхождения. Его дед был из Франшконте. Карл не способен обманывать меня таким образом. Нет, нет, все это справедливо.
— Ты помешалась, говорю тебе. Твой Карл Брюнер не так расслышал или не так понял. Хотя мы соседки с черным лесом, милая моя, Шиндеранес давно умер, не оставив преемников. Полиция очень искусна. Этот достойный Жейер расхохотался бы как сумасшедший, если б знал, что его превратили таким образом в атамана разбойников. Он капиталист, это правда, — прибавила графиня с насмешливой улыбкой, — но это не причина, чтоб сделать из него разбойника. Уведи Анри, который уже слишком долго валяется с Дардаром, приди одеть меня и вели заложить коляску, я выеду.
— Мне ехать с вами?
— Нет, не нужно; я хочу сделать несколько визитов. Только я возьму с собою Анри.
Графиня пошла в дом в сопровождении Элены, которая не смела раскрыть рот, но вознаграждала себя, целуя ребенка и стараясь его рассмешить.
Не прошло и десяти минут, как графиня вошла в свою комнату, как Элена доложила ей, что приехал Жейер.
Молодая девушка была бледна и дрожала. Несмотря на то, что сказала ей госпожа, она более прежнего была убеждена в справедливости слов своего простодушного обожателя. Поэтому она буквально была поражена изумлением, когда ее госпожа приняла это известие с веселым видом.
— Попроси Жейера подождать в розовой гостиной, — сказала графиня.
Субретка ушла, ничего не ответив.
Через четверть графиня, прелестнее и восхитительнее прежнего, вошла в гостиную. Одета она была с изящным вкусом, просто, но чрезвычайно богато. На ней была шляпка, и она держала в руке зонтик.
— Боже мой! Графиня, — вскричал Жейер, приметив ее, — я просто в отчаянии, что так дурно выбрал время. Я видел у крыльца ваш заложенный экипаж. Вы, верно, выезжаете?
— Это правда, — ответила молодая женщина, указывая ему рукой на кресло, — я должна сделать визит, которого отложить не могу. Однако, если вы хотите сказать мне несколько слов, — прибавила она с улыбкой, — я к вашим услугам и готова выслушать вас.
— Я не хотел бы употреблять во зло ваше снисхождение, графиня; дело, о котором я желаю говорить с вами, хотя довольно важно, может быть отложено; не угодно ли вам назначить мне, в котором часу можете вы меня принять, и я поставлю себе долгом исполнить ваше желание.
Графиня подумала, потом, вернувшись к банкиру с очаровательной улыбкой, сказала:
— Сделаем лучше; свободны вы теперь? Можете располагать часом или двумя?
— О! Вполне, графиня. Я на минуту показался на бирже и прямо приехал к вам. Я могу свободно располагать остатком дня.
— Когда так, любезный Жейер, — продолжала графиня своим кротким и гармоническим голосом, улыбаясь банкиру с самым любезным видом, — это решено, я вас увезу. Отошлите ваш экипаж и поедемте со мною. Хотите?
— О! Графиня, милость, которою вы удостаиваете меня, навлечет мне много завистников.
— Итак, вы соглашаетесь?
— С признательностью, графиня.
— Когда так, поедемте.
Они встали и вышли из гостиной.
— Разве ваше сиятельство не возьмете сына? — спросила Элена, стоявшая в передней и державшая ребенка за руку.
— Нет, я передумала. Пусть он лучше останется.
— Но, графиня…
— Ступайте, Элена, — перебила графиня, возвращая ей ребенка, которого поцеловала два, три раза.
Воспользовавшись отсутствием банкира, который отдавал приказания своему слуге, графиня наклонилась к молодой девушке и приложила палец к губам.
— Ты сомневаешься во мне, — сказала она вполголоса, — ну, ты скоро узнаешь, на что я способна.
Оставив молодую девушку, которая в полном изумлении смотрела на нее с испуганным видом, графиня спустилась легко как птичка со ступеней крыльца и села в свою коляску, дверцу которой отворил лакей.
— Я вас жду, господин Жейер, — сказала она.
— Я здесь, графиня, я здесь, — ответил банкир, покраснев от радости и гордости. Когда банкир сел возле графини, она наклонилась к лакею, стоявшему неподвижно и без шляпы у дверцы, и произнесла небрежно эти слова:
— Велите ехать в Кель.
Она откинулась в глубину коляски, приютившись среди волн кружев, как колибри в цветах.
— Как, графиня, мы едем в Кель? — с изумлением спросил банкир.
— Мы поедем даже дальше, мы переедем границу. Вы видите, это похищение во всей форме.
— Вы осыпаете меня милостями, графиня.
— В каком отношении? — спросила она, жеманясь.
— Позволив мне сопровождать вас.
— Вы повторяете одно и то же; остерегайтесь, вы уже говорили мне это.
— Это правда, графиня, но я до того ослеплен, до того удивлен, что откровенно признаюсь вам, я сам не знаю, что делается со мною.
— О! — сказала графиня, бросая на него сквозь длинные ресницы взгляд странного выражения. — Неужели вы уже боитесь? А я думала, что вы, господа капиталисты, закалены против обольщений всякого рода.
— Пощадите меня, графиня, мы более ничего как мужчины и часто поступаем как трусы, которые поют, чтоб придать себе мужество.
— То есть, если я вас понимаю, вы громко кричите, что вы непобедимы, для того, чтоб никому не пришла охота на вас нападать. Так?
— Почти, графиня.
— Ну, успокойтесь, любезный Жейер, — сказала она, расхохотавшись хрустальным смехом, от которого по жилам банкира пробежал трепет, до того этот смех был насмешливо-коварен, — вы в безопасности возле меня. Я не стану проводить траншей перед вашим сердцем.
— Это меня успокаивает только вполовину, графиня.
— Как это?
— Может быть, уже слишком поздно.
— Любезный Жейер, — продолжала графиня, все насмешливо смеясь, — пожалуйста, не принимайте такого томного вида. Заметьте, что мы едем в эту минуту по самым многолюдным кварталам города, и если вы будете продолжать, вы выставите нас напоказ.
— Вы злы, графиня, — пробормотал банкир, с досадой откинувшись в угол коляски.
— Вы думаете? — сказала она язвительно.
Коляска приближалась к Аустерлицким воротам и скоро должна была въехать в великолепную аллею, кончавшуюся у Кельского моста, этого образца французского искусства, который стоит так дорого и должен был продолжаться так недолго.
Экипаж графини беспрестанно встречался с другими экипажами и всадниками, и на каждом шагу, так сказать, графиня разменивалась улыбками и поклонами.
— Вы долго будете дуться на меня таким образом? — льстивым голосом продолжала молодая женщина через минуту.
— Дуться на вас, графиня! Имею ли я на это право? — сказал банкир, сжав губы.
— Вопрос о праве, на которое вы намекаете, очень трудно решить.
— Как это, графиня?
— Мужчины имеют привычку присваивать себе столько прав, не считая тех, которые по их мнению у них уже есть, что, кажется, лучше не касаться этого вопроса.
— Когда так, графиня, я не знаю уже, что говорить и как вам отвечать.
— Послушайте, любезный Жейер, позвольте мне быть откровенной с вами. Вы в настоящую минуту мой гость, я обязана не допускать вас становиться в безвыходное положение, из которого, если я вам не помогу, вы скоро не будете в состоянии выбраться. Вы меня знаете мало и, следовательно, судите обо мне как все. Вы воображаете, будто имеете дело с кокеткой, которая находит лукавое удовольствие мучить приближающихся к ней. Вовсе нет. Напротив, я женщина очень простая; я молода, люблю удовольствия, движение и немножко эгоистичную светскую жизнь. Я ношу знатное имя, муж мой оставил мне большое состояние и я пользуюсь им как могу. Оставаясь глуха к любезностям, которые упорно нашептывают мне на ухо, к предложениям, которые иногда осмеливаются мне делать, я имею возле себя двойную защиту против всех нападений: воспоминание о моем муже и любовь к моему сыну. Итак, забудьте мои лета, забудьте, что я недурна, пусть не будет любезностей между нами, смотрите на меня как на женщину добрую, простую, без претензий, которая готова принять вас как друга, и будем разговаривать, как будто эта дружба уже существует.
Слова эти, произнесенные кротким, немножко дрожащим голосом, с легкой краской на лице и с улыбкой довольно тонкой, взволновали банкира.
Человек этот, все способности которого до сих пор сосредоточивались на цифрах, жизнь которого до сих пор была продолжительным расчетом, не был приготовлен сопротивляться такому жестокому нападению. Как все капиталисты, он привык все сводить к вопросу о цифрах. Самые чистые, самые честные чувства оставляли его равнодушным или заставляли пожимать плечами.
— Полноте! — говорил он, когда в его присутствии упоминали о бескорыстии, о честности или о добродетели. — Все это очень мило, но стоит только употребить на это деньги.
Но тут вопрос переменялся. Он находился возле женщины молодой, прекрасной, обольстительной во всех отношениях и очень богатой, как показывали суммы, положенные у него. Эта женщина говорила ему прямо, голосом обольстительным, это правда, с очаровательной улыбкой, но говорила, что все попытки, какие он может сделать для того, чтоб приобрести ее любовь, будут совершенно бесполезны, и советовала ему с насмешкой отказаться ухаживать за нею.
Может быть, если б она не подала ему этого сострадательного предостережения, он не вздумал бы разыгрывать роль ее обожателя и ограничился бы несколькими обыкновенными и незначительными любезностями, но она напала на него врасплох, посадила его возле себя в своем экипаже, показывала его как нечто любопытное изумленным взорам своих знакомых, и когда таким образом компрометировала его перед своими знакомыми, она небрежно предлагала ему свою дружбу; это было слишком.
Банкир не расположен был даром выставлять себя напоказ. Его гордость возмущалась при мысли, что над ним так издеваются.
Всего страшнее для него было то, что по наружности ему следовало покориться своему поражению и показывать не только удовольствие, но и восхищение при ироническом предложении вероломной графини.
Все эти мысли вертелись в голове банкира; то, что мы объясняли столько времени, промелькнуло как молния в его расстроенном мозгу.
— Графиня, — ответил он с бешенством в сердце и с улыбкой на губах, — ничто не могло сделать меня счастливее произнесенных вами слов; только позвольте мне заметить вам, что принимая с радостью титул друга, так любезно предложенный, я обязан упомянуть, что вы ошиблись относительно того чувства, которое заставило меня говорить таким образом. Есть светила столь блестящие и так высоко стоящие над нами, что смертные, как бы ни были они смелы, никогда не осмеливаются смотреть на них прямо; они знают наверно, что ослепнут. Это случается со мною, когда я с вами, графиня. Чтобы я имел смешное притязание привлечь ваши взоры на мою ничтожную личность! О! Вы этого не думайте, графиня, это было бы дерзостью с моей стороны.
— Почему же это? — перебила графиня, жеманясь. — А в особенности почему вы говорите о смешных притязаниях? Что в вас может не нравиться женщине? Вам лет сорок пять, не больше; это возраст великих страстей.
— Графиня…
— Не краснейте, любезный Жейер; вы знаете, человечество, к несчастью, так создано, что именно когда молодость проходит и мужчина считает себя безопасным от страстей, получаемое им потрясение становится ужаснее и непреодолимее.
— Признаюсь вам, графиня, мне невозможно рассуждать об этих вещах. Я всю жизнь был так поглощен делами, что страсти скользили по мне, не трогая меня.
— Берегитесь же, берегитесь! — сказала графиня, мило грозя ему пальцем. — Предсказываю вам, что если вы влюбитесь в какую бы то ни было женщину, эта любовь сведет вас с ума.
— О! О! — сказал банкир с громким смехом. — Какое зловещее предсказание, графиня! Знаете ли, что вы внушаете мне желание попытаться?
— Попытаться влюбиться в женщину?
— Нет, заставить ее полюбить меня.
— Не советую.
— То, что вы говорите мне, вместо того, чтоб остановить меня, напротив, обязывает сделать попытку.
— С кем? Боже мой! — сказала она, смеясь.
— С вами, если вы позволите, графиня, — сказал он, поклонившись.
— Напрасно.
— Почему?
— Потому что ваше поражение было бы слишком легко и не принесло бы вам никакой чести.
— Это объявление войны, графиня?
— Почем знать? — сказала она, смеясь.
— Берегитесь в свою очередь, графиня; вы играете огнем. Не предсказывали ли вы мне, что если я влюблюсь, то эта любовь сведет меня с ума?
— О, Боже мой! Кто приписывает важность этим предсказаниям, сказанным на ветер? Мало ли что предсказывали мне!
— Без сомнения, волшебница, присутствовавшая при вашем рождении, предсказала вам, что бы будете красавица и любима всеми.
— Я не знаю, присутствовала ли волшебница при моем рождении, но могу только вам сообщить то, что предсказали мне лично, но очень давно.
— Что же это такое? Вы пугаете меня, графиня.
— Остановитесь, Франсуа, — обратилась графиня к кучеру, который тотчас придержал лошадей. — Извините, любезный Жейер, — прибавила она, наклонившись к банкиру, — мы почти приехали в то место, куда я ехала. Я немножко устала так долго сидеть; если вы согласитесь, мы выйдем из экипажа, я возьму вас под руку, и мы вместе пройдемся пешком.
— Ах! Милая графиня, где же мы здесь? Боже, да мы проехали Кель, мы просто в поле!
— Я вижу, что дорога показалась вам не длинна.
— Возле вас может ли быть иначе? Скажите, что время прошло с быстротою молнии; я не знаю даже, где мы.
— А вот видите в пятистах шагах эту группу красных домов? Эти дома составляют деревню, а деревня эта называется Ньюмюль.
— Так мы едем в Ньюмюль?
— Нет. Примечаете вы прелестный домик, приютившийся между деревьями и которого видны только трубы?
— Вижу очень хорошо, графиня.
— Мне сказали, что тут живет доктор очень искусный, Якобус.
— Я его знаю понаслышке, графиня. Вы желаете посоветоваться с ним?
— Да, не о себе, но о моем сыне, здоровье которого слабеет без очевидной причины, что, признаюсь, начинает серьезно тревожить меня. Согласны вы идти со мною туда?
— Я буду очень рад.
— Пойдемте же.
Оставив экипаж на краю дороги, графиня взяла под руку банкира и пошла с ним по узкой тропинке, извивавшейся в лесу.
— Как это очаровательно! — говорила она весело. — Не находите ли вы, что мы похожи на влюбленных?
— Ах! Графиня, это нехорошо.
— Что такое? — спросила она с простодушным видом.
— Это вы начинаете атаку.
— О, опять! Оставим это, пожалуйста. Мы за городом, воздух теплый, лес душистый, птицы поют под листвой. Разве это ничего вам не говорит? Не волнует вас? А, я признаюсь вам, чувствую себя помолодевшей на десять лет.
— На десять лет это слишком много, графиня, потому что вам осталось бы только десять.
— Вы негодный льстец! — вскричала графиня, грозя ему зонтиком.
— Ну хорошо, если этот предмет разговора вам не нравится, будем говорить о другом, я согласен. Послушайте, графиня, в ту минуту, когда вы приказали остановить экипаж, вы хотели рассказать мне о каком-то предсказании, сделанном вам.
— Это правда, — прошептала графиня, вдруг задумавшись и остановившись у сосны, к которой она машинально прислонилась. — Это правда, я хотела вам рассказать об этом предсказании. Можно бы подумать, что в этом есть что-то роковое: лес, в котором мы находимся, поздний час, совершенное уединение, царствующее около нас…
— Что хотите вы сказать, графиня? Вы меня пугаете…
— Ну, если уж я начала, так кончу. Притом я возле вас, мне нечего опасаться; не правда ли?
— О! Конечно нечего, графиня.
— Знаю; в случае надобности вы даже защищали бы меня. Однако, я невольно дрожу. Боязнь женская, сумасбродная и беспричинная. Простите меня. Знаете ли что мне было предсказано? Но прежде всего я скажу вам, что верю этому предсказанию, как оно ни мрачно.
— Не известие ли это о несчастье? — сказал банкир, чувствуя, что бледнеет.
— Лучше того, — возразила графиня с печальной улыбкой, — мне предсказали, что я умру молодая, насильственной смертью, в той стране, где мы находимся, и очень скоро.
— Графиня, графиня! Что вы говорите?
— Я пересказываю вам предсказание, как вы меня просили.
— И вам ничего больше не предсказали?
— Ах, вот хорошо! — сказала графиня с серьезным смехом. — Позвольте мне найти этот вопрос наивным. Что можно мне предсказать больше смерти? Но прибавили вот что: «Вы будете убиты тремя мужчинами, из которых один уверяет, будто был любим вами, а это неправда, из которых второй вам совершенно незнаком, а третий…»
Графиня остановилась.
— Третий? — спросил банкир задыхающимся голосом.
— «Третий, которого вы знаете и которому доверяете, сделается орудием убийства, потому что смертельно ненавидит вас».
— О, графиня, графиня! — вскричал банкир, падая на колени и закрывая голову руками.
— Боже мой! Что случилось? Что с вами, любезный Жейер? Зачем вы стоите на коленях?
— Зачем, зачем? — вскричал он задыхающимся голосом. — За тем, что вы сказали правду, графиня; я с ума сошел. Я не понимаю, что случилось со мною; голова моя горит! О, графиня, графиня! Сжальтесь надо мною; я у ваших ног, побежденный и раскаивающийся… Я люблю вас!
Он закрыл голову руками и зарыдал.
Молодая женщина смотрела на него несколько минут с выражением сострадания, презрения и удовлетворенной ненависти, потом тихо наклонилась к нему, медленно положила руку на его плечо и сказала голосом кротким и гармоническим, как пение птицы:
— Господин Жейер!
— Что вам угодно, графиня? — сказал он, приподнимая к ней свое бледное лицо, омоченное слезами. — Вы сжалитесь надо мною?
— Я сама не знаю.
— О, если б вам было известно, как я страдаю и как я вас люблю!
— Любовь иногда бывает угрызением, — прошептала молодая женщина, как бы говоря сама с собой.
Банкир потупил голову и не отвечал.
— Встаньте; могут прийти. Дайте мне вашу руку и будем продолжать наш путь. Может быть, я соглашусь забыть.
— О, я не забуду, графиня, — вскричал банкир страстно, — повторяю вам, я вас люблю!
Доктор Якобус был в отсутствии. Отдохнув несколько минут, графиня и банкир вернулись в Кель.
Они ни слова не говорили во весь переезд. Графиня велела остановить свой экипаж на площади Брогли перед домом банкира.
— Ради Бога, графиня, одно слово! — сказал банкир прежде, чем вышел из экипажа.
— Говорите.
— Могу я видеться с вами?
— Я всегда дома для моих друзей, — сказала графиня с двусмысленной улыбкой.
После этой фразы они расстались. Элена ждала с беспокойством свою госпожу.
— Ну что? — спросила она, как только увидала ее.
— Твой Карл Брюнер сумасшедший, — ответила, смеясь, графиня, — а ты еще больше помешана, чем он. Жейер обожает меня.
— Что это вы из него сделали?
— Моего невольника.
Глава V ИЗВЕСТИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ В СТРАСБУРГЕ
В понедельник 18 июля 187 °Cтрасбург представлял странный и довольно поразительный вид.
Перед каждым домом стояли груны, разговаривавшие с некоторым одушевлением, к которым беспрерывно присоединялись любопытные мещане, праздные работники или прогуливающиеся солдаты.
Ожидание, нетерпение, беспокойство изображались на лицах всех.
Каждую минуту разменивались вопросами гуляющие и те, которые стояли у своих дверей.
— Ну!
— Еще ничего?
— Ничего неизвестно?
— Ничего!
— Телеграф молчит!
— Однако уверяют, что это сегодня.
— Еще не поздно.
В тысяче других вопросов в том же роде сосредоточивалась одна и та же мысль.
Вдруг к пяти часам страшный крик двадцати тысяч голосов поднялся на площади Брогли, перешел во все кварталы города и как будто гальванизировал все народонаселение.
Война была объявлена; это известие пришло в Страсбург.
Описать энтузиазм, вдруг вспыхнувший в массах, порыв, внезапно одушевивший все это несчастное народонаселение, выразить невозможно. Крик: «Да здравствует Франция!» вырвался из груди всех с таким выражением, что надо его слышать, чтоб хорошенько понять. Никогда, ни в какую эпоху истории, известие об объявлении войны не принималось с большей радостью и с большим увлечением в пограничном городе.
Это потому, что доблестное народонаселение Эльзаса давно сдерживало столетнюю ненависть к своим зарейнским соседям, молча переносило оскорбления, которыми они осыпали его; сверх того, воспоминание о 1814 и 1815 годах еще жило во всех сердцах; все эти чувства воспламеняли умы и веселили сердца надеждою возмездия, так давно ожидаемого.
Пожимали друг другу руки, обнимались, разменивались уверениями в геройской преданности к отечеству. Словом, радость и восторг были неописуемые и увеличивались каждую секунду.
Впрочем, все соединилось, чтоб увеличить пылкость народонаселения; сама природа как будто сделалась сообщницей общего чувства. День был великолепный, жара чрезмерная, атмосфера весенняя.
Был понедельник. Работники бросили мастерские и фабрики и расхаживали по группам рука об руку, распевая патриотические песни.
Богатые и бедные, знатные дамы и работницы, простолюдины и богатые торговцы, все пели, смеялись и кричали:
— Да здравствует Франция!
Потом вдруг наступило молчание, внезапная тишина и поднялся страшный крик, и восемьдесят тысяч голосов закричали как раскат грома:
— Смерть пруссакам!
Кофейные, ресторации, особенно портерные были наполнены народом. Пиво лилось потоком, до того высохшие горла после пения, крика и воя чувствовали потребность освежиться.
Но чем больше они пили, тем сильнее становилась жажда и восторженность их принимала грандиозные размеры.
В улице Братья, на углу улицы Пюсель, находилась тогда и находится еще и теперь портерная «Город Париж», одна из самых красивых в Страсбурге.
К пяти часам вечера эта лавочка, обыкновенно посещаемая студентами, была буквально заполнена посетителями.
Портерные эльзасские имеют только одно сходство с парижскими в том, что там продают пиво, и то еще это сходство очень неопределенно, потому что противный напиток, который продают в Париже под названием страсбургского пива, часто делается из буксового корня и заставил бы лакомок эльзасских опрометью убежать.
Пусть себе представят громадную залу продолговатой формы, с большими столами, разделенными скамейками, довольно похожими на те, которые стоят на публичных гульбищах.
Направо от этой залы находится огромная чугунная печь, окруженная круглыми столами посредственного размера. Тут обыкновенно собираются студенты, чтоб курить, пить, разговаривать и рассуждать обо всем, исключая, разумеется, того, чему они учатся.
В глубине, налево, возвышается прилавок, приставленный к стене и окруженный деревянной решеткой, совершенно отделяющей его от всего. Около этого прилавка, за которым председательствовала прелестная молодая женщина, стояли симметрически большие фаянсовые блюда, окорока, сосиски, кислая капуста, мозги, колбаса и сыр всякого сорта.
Возле этого прилавка находилась отдельная комната, почти всегда занимаемая отставными офицерами, которые взаимно рассказывали друг другу свои кампании, чокаясь стаканами.
Посетители, попивая пиво, курили огромные трубки, и дым, поднимаясь к небу, образовывал над головами их густые облака, которые каждый раз, как отворялась дверь, перекатывались с одного конца залы до другого со всеми признаками бурного моря.
Среди этой атмосферы, которая задушила бы слона и где люди являлись призраками, ходили медленно и бесстрастно толстые Гебы, которым было поручено разносить коричневый нектар преданным адептам короля Гамбринуса.
В этот день хозяйке портерной «Город Париж» понадобился бы рупор, чтоб заставить слуг услыхать ее: до такого высокого диапазона дошел разговор посетителей.
Надо заметить впрочем, что пьющие пиво, наоборот, против своих собратьев, пьющих вино, поглотив известное количество своего любимого напитка, погружаются в самих себя, отделяются от толпы, окружающей их, и разговаривают для собственного удовольствия, не заботясь, отвечают ли им, и не слушая тех, с кем они говорят; это производит тот приятный результат, что не только этот процесс необыкновенно упрощает разговоры, а часто не допускает неприятностей. Следовательно, это очень выгодно.
Мы должны упомянуть, что в портерных Верхнего и Нижнего Эльзаса все звания смешиваются. Посетители, несмотря на их общественное положение, равны перед кружкой пива.
Когда за столом одно место делается свободным, всякий имеет право занять его, знает он или нет тех, кто сидит у этого стола, и это нисколько не нарушает приличия.
Человек двадцать, не успевших поместиться, стояли около большой чугунной печки, осушая кружки, которые заставляли подавать себе, пуская в лицо громадные клубы дыма.
Хромой, горбатый, безрукий и слепой, один со скрипкой, другой с кларнетом, третий с трубой, четвертый с контрабасом, без сомнения, предчувствовавшие хорошую прибыль, пробрались в портерную, импровизировали концерт и играли с жаром, истинно плачевным для ушей слушавших, знаменитый Фремерсберг, известный всем страсбургцам.
Эта страшная разладица, к которой примешивались непрерывные звуки разговоров, увеличила шум в таких размерах, что и пушечных выстрелов никто не услыхал бы.
В половине шестого, в ту минуту, когда шум достиг крайней степени, дверь отворилась и вошли четыре молодых человека, держась за руки.
Этих четырех молодых людей, которые казались очень веселы, читатель уже знает. Они разговаривали с большим одушевлением.
Вдруг один из них остановился и, ударив себя по лбу с отчаянным видом, обернулся к двери, вскричав мрачным голосом:
— Боже мой! Куда девались наши нежные подруги? Неужели их уже похитили свирепые пруссаки?
— Успокойся, добрый Петрус, — ответил один из его товарищей, — невероятно, чтоб пруссаки уже знали, что мы объявили им войну. Наши нежные подруги, как ты их называешь, не подвергаются, по крайней мере теперь, никакой опасности.
— Благодарю, друг, — ответил Петрус, сделав вид, будто вынимает из кармана платок, а между тем вытащив огромную трубку, — благодарю, мне было нужно это доброе слово.
— А! Вот они! — продолжал молодой человек, который был не кто иной, как Люсьен, приметив очаровательных гризеток, милые личики которых показались в полуотворенной двери.
— Пожалуйте, сударыни! — закричал Жорж, третий из пришедших. — Ваше продолжительное отсутствие могло быть причиною ужасного несчастья. Петрусу приходила мысль о самоубийстве.
Молодые люди расхохотались, и веселая толпа решительно вошла в портерную.
Четверо молодых людей, разумеется, в сопровождении молодых девушек, с трудом пробрались до огромного стола, занимавшего весь конец залы и совершенно занятого посетителями.
Люсьен тихо положил руку на плечо крестьянина, важно и молчаливо курившего великолепную фарфоровую трубку.
— Извините, — сказал Люсьен с самой изящной вежливостью.
— Чего вы желаете? — спросил крестьянин, повернув голову.
— Чтобы вы немножко посторонились.
— Как! Немножко посторонились? Вы шутите, — возразил крестьянин, — мы так тесно сидим, что булавке нельзя упасть на землю.
— Ты думаешь? — спросил Люсьен с простодушным видом.
— Посмотрите.
Молодой человек окинул глазами стол.
— Ну, вы убеждены теперь, что места нет? — сказал с насмешкой крестьянин.
— За столом, правда, а на столе?
— Как на столе?
— Да, я желаю встать на стол на несколько минут.
— Какая странная мысль! Для чего это?
— Вы это скоро узнаете, если согласитесь пропустить меня.
— Вы, кажется мне, охотник посмеяться; это может сделаться смешно. Поступайте как знаете.
По милости необыкновенных усилий, крестьянин оставил между собою и самым близким своим соседом пространство в несколько сантиметров. Больше было и не нужно для Люсьена. Тот поставил ногу на скамью и в одну секунду очутился на столе, среди кружек и стоп. Разумеется, его появление приветствовали криками, от которых стены дрожали.
— Молчать! — закричал Люсьен, так сильно топнув ногою по столу, что все кружки заплясали.
— Молчать! — повторил Петрус своим могильным голосом.
Действительно, от удара ногою Люсьена и погребального голоса Петруса полная тишина восстановилась в зале. Даже музыканты прекратили свой гвалт.
Один слепой, под предлогом, без сомнения, что он не видит, продолжал несколько минут пиликать на своем контрабасе.
— Я желаю сообщить вам важную и славную новость! — вскричал Люсьен самым громким голосом.
— Что такое? Говорите! Говорите! — закричали со всех сторон.
Тишина восстановилась как бы по волшебству.
— Добрые жители Страсбурга, вы все, французы, слушающие меня, — продолжал Люсьен, — по телеграфу получено официальное известие: война объявлена Пруссии.
— Да здравствует Франция! — закричали все присутствующие, вскакивая и поднимая свои кружки.
— Смерть пруссакам! — повторили хором все присутствующие.
— Господин Люсьен Гартман, — сказал, кланяясь молодому человеку, мужчина с белыми усами, в котором по его костюму можно было узнать отставного военного, — это известие верно ли? Имеете ли вы доказательства того, что сообщаете нам?
— Я слышал это известие от моего отца. Он находился в ратуше, где уже несколько дней заседает муниципальный совет, когда из главного штаба принесли телеграмму.
— Если так, господа, — сказал отставной офицер, снимая шляпу, — дай Бог, чтобы мы остались победителями и отомстили за прежние оскорбления!
— Да здравствует Франция!
— Смерть пруссакам!
Эти слова были приняты с неистовым ура и несколько минут шум и беспорядок были так велики в портерной, что невозможно было ничего расслышать.
Эффект, произведенный Люсьеном, до того превзошел его надежды, что молодой человек не знал, каким образом заставить себя выслушать.
Вдруг возле него явился Петрус с трубой, которую он взял у безрукого музыканта.
Долговязый, худощавый и бледный студент, видя замешательство своего друга, решился помочь ему. Он поднес трубу к своим губам и с талантом, которого никто в нем не подозревал, заиграл любимую арию эльзасцев.
Тогда началась суматоха, составились группы. Люсьен и Петрус все со своей трубой были схвачены сильными руками, посажены на плечи самых близких своих соседей, поставленных во главе главной группы, и все присутствующие вышли из «Города Парижа» и направились к ратуше, распевая бравурную арию с аккомпанементом трубы Петруса, кларнета и других инструментов, взятых у музыкантов студентами, которых, конечно, они щедро вознаградили.
Почти тотчас, неизвестно каким образом, к первой толпе присоединилась новая толпа и через четверть часа десять тысяч человек собралось на площади Брогли; смеялись, пели без малейшей мысли о беспорядках.
Воспользовавшись той минутой, когда толпа сделалась теснее и внимание было отвлечено от них, Люсьен и его товарищи, обрадовавшись полученному результату и будучи уверены, что теперь ничто не остановит действия, произведенного ими, ловко ускользнули к площади Клебер.
На этой площади есть портерная под вывеской «Аист», служащая местом сборища гарнизонным унтер-офицерам, что не мешает и буржуазии посещать ее.
— Будьте внимательны, господа, — сказал Люсьен своим товарищам, — праздник должен быть полный.
Они вошли в портерную, в которой находилось в эту минуту множество барабанщиков, кларнетистов и других музыкантов из егерского батальона, тогда стоявшего гарнизоном в Страсбурге.
Велев подать себе пива, Люсьен поднял свою кружку, и обратившись к унтер-офицерам и солдатам, сказал:
— Господа, война объявлена Пруссии; пью за ваши успехи! Страсбургское народонаселение приняло это известие с живейшим энтузиазмом; не присоединитесь ли вы к нему?
— А что? — сказал трубач. — Этот молодой человек говорит хорошо; сегодня понедельник, день нашего отпуска. Докажем нашим друзьям страсбурщам, что мы не хотим отставать от них и что нас одушевляют такие же патриотические чувства.
С этими словами он вышел из портерной в сопровождении своих музыкантов и всех посетителей.
Всю ночь по городу раздавались звуки музыки и пения. Сельское население поспешило в город и веселие длилось несколько дней.
Однако у этой картины была тень. Люди холодные, люди серьезные, внимательно следившие за ходом императорского правительства, видели с тайной горестью, несмотря на пылкий энтузиазм, это объявление войны.
В пограничных городах лучше знают, чем в центре страны, что происходит за границей.
Богатые страсбургские торговцы, находившиеся в постоянных сношениях с Германией, видели быстрое возвращение могущества Пруссии, приготовления, делаемые этой державой на случай войны с Францией. Главные эльзасские негоцианты спрашивали себя, удачно ли выбрано время и действительно ли Франция готова войти в борьбу с Германией.
Притом, надо сказать, Страсбург, эти Фермопилы французские, этот город, предназначенный, как только будет объявлена война, перенести первый натиск и самое страшное усилие неприятеля, Страсбург вовсе не был приготовлен для борьбы. Валы находились в плохом состоянии, даже амбразур не было. Пушки, поставленные на бастионах, были старинного образца и почти негодны к употреблению, гарнизон слаб, в арсеналах во всем был недостаток, национальной гвардии не существовало, а гвардия мобилей находилась только на бумаге.
Следовательно, положение было самое критическое.
Сверх того, майский плебисцит, это последнее усилие издыхающего империализма, это непомерное безумство коронованного идиота, дало нашим врагам точную цифру солдат, составляющих нашу армию, и цифра эта доходила до двухсот пятидесяти пяти тысяч человек против пятисот тысяч, которых Пруссия могла бросить на нас.
Каким образом удалось бы в несколько дней набрать многочисленную, хорошо выдержанную армию под командою способных начальников?
В этом заключалась проблема — проблема, разрешения которой невозможно было найти.
Однако Франция имеет такую простодушную веру в будущее, она так глубоко убеждена, что необходима для прогресса, что несмотря на все эти черные точки и много еще других, которые мы проходим молча, люди, наименее убежденные в успехе, невольно надеялись.
Ах! Будущее должно было жестоко доказать им, что всякая надежда была безумством.
Но 18 июля энтузиазм был так велик на наших восточных и северных границах, самых близких к неприятелю, что кто осмелился бы предсказать не поражение, а только неуспех, был бы сочтен дурным гражданином.
Скажем всю правду, если уж мы описываем ее. Для того, чтобы урок был полный, все должны знать правду, для того, чтобы возмездие было блистательное; да, энтузиазм был большой, всеобщий, но по большей части притворный.
Мы видели в Париже, как полицейские агенты Пьетри кричали:
— В Берлин! В Берлин!
Мы видели в Палате, с каким ожесточением правая сторона отвечала на софизмы и оскорбления тех наших депутатов, которые осмеливались говорить, что Франция не готова и что результатом войны будет катастрофа.
Но над нами тяготел рок. Мы должны были заплатить за двадцать лет наполеоновского правления, правления чудовищного, которому мы покорялись без ропота, и с трудом должны были удержаться на краю бездны, в которой это гнусное правление должно было исчезнуть.
Это не был уже энтузиазм итальянской войны. Тогда у нас были старые отряды, наши африканские солдаты; мы шли возвращать национальность народу.
А 18 июля Франция сражалась только для обеспечения династии деспота, притеснявшего ее двадцать лет, для оправдания всех лихоимств, всего воровства, всех беззаконий и всех нелепостей императорского правления.
Солдаты шли без убеждения и без порыва. Генералы, пресыщенные золотом, с досадой смотрели на борьбу.
На поле битвы солдаты наши сражались как гиганты, падали на своем посту геройски, но как очистительные жертвы.
С раздирающимся сердцем возвращаешься к этим несчастным дням, проводишь кровавую борозду, в которой несколько месяцев была погребена вся слава Франции.
Но Бог справедлив. У льва отрезали когти; они могут вырасти опять; его считают умершим, а он только спит. Его пробуждение будет ужасно.
Достаточно останавливаться на этих раздирающих душу воспоминаниях. Слава Богу! Мы не историки, а только романисты.
Задача наша начертана: среди всех этих горестных остатков, мы вызовем, по крайней мере мы так надеемся, несколько славных фактов, забытых историей, и покажем всем живые и обливающиеся кровью раны нашего милого и несчастного Эльзаса, чтобы увеличить еще, если возможно, пылкую любовь, заключающуюся у всех нас в глубине сердца, для этих геройских братьев, которые были разлучены с нами.
Пусть читатель простит нам это излияние нашего сердца. Теперь мы будем продолжать наш рассказ, не прерывая его.
Глава VI РАДОСТЬ ПУГАЕТ, НО НЕ ДЕЛАЕТ ВРЕДА
Мало-помалу энтузиазм утих; через несколько дней Страсбург опять принял почти вою прежнюю физиономию.
Мы говорим почти, потому что некоторое лихорадочное одушевление продолжало волновать народонаселение; вот по какой причине.
Правительство утвердило образование рейнской армии. Со всех частей Франции отряды являлись на места, назначенные им. Резервы возвращались под свои знамена. Полки почти беспрерывно прибывали в Страсбург.
За городом был раскинут временный лагерь на полигоне, сделавшийся постоянной целью прогулок народонаселения, спешившего угощать солдат и предлагавшего им то щедрое гостеприимство, которое составляет одну из выдающихся сторон эльзасского характера, всякому человеку носящему французский мундир.
Но кроме этого одушевления, возбужденного присутствием войск, обычная жизнь продолжала идти своим чередом и все вернулись к своим делам.
Люсьен Гартман, в качестве студента, праздный больше прежнего, делал постоянные прогулки в лагерь. Его беспрестанно встречали на дороге, разумеется, вместе с его короткими друзьями, мрачным Петрусом, Адольфом Освальдом и Жоржем Цимерманом.
Эти юные патриоты под благовидным предлогом угощения достойным образом наших храбрых солдат как будто дали себе задачу спаивать их; они обливали их потоками пива. Скажем к похвале солдат, что они не отказывались от тостов ни за чье здоровье, а напротив, все принимали с благодарностью.
Люсьен до того расхваливал в своем семействе свои прогулки в лагерь, что возбудил любопытство матери и сестры и они также решились посетить лагерь.
Госпожа Гартман и госпожа Вальтер сговорились вместе сделать прогулку в лагерь.
Госпожа Вальтер, отдаленная родственница Гартманов, была вдовою уже несколько лет и имела дочь, очаровательную брюнетку, живую и грациозную как андалузянка, по имени Шарлотта, одних лет с Ланией Гартман, с которой она была воспитана.
Молодые девушки очень любили друг друга.
Следовательно, никакое удовольствие не могло быть устроено госпожею Гартман без того, чтобы Шарлотта и мать ее не были приглашены.
Условились, что 23 июля четыре дамы отправятся в экипаже в лагерь и возьмут с собой Люсьена, который должен служить им проводником, потом по окончании прогулки воротятся все вместе обедать у Гартмана.
Муж госпожи Вальтер был одним из первых банкиров в Страсбурге. Он оставил после смерти около сорока тысяч франков годового дохода своей вдове, прекрасный дом на площади Брогли в Страсбурге и прелестную виллу в Робертсау.
Госпожа Вальтер обыкновенно проводила лето в Робертсау, а зиму в Страсбурге. Но в этот год, к большой радости обеих девушек, госпожу Вальтер удержали в городе большие поправки, которые она принуждена была сделать в своем деревенском доме.
Итак, 23 июля все произошло так, как устроили. После превосходного завтрака четыре дамы сели в коляску, Люсьен ухарски с сигарою во рту поместился возле кучера, и коляска большой рысью покатилась к лагерю.
Дорога, которая ведет от Страсбурга к полигону, одна из живописнейших в окрестностях города.
Выехав из Аустерлицких ворот, едешь несколько времени недалеко от валов, по великолепной дороге, осененной высокими деревьями, которая ведет в Кель.
В пятистах метрах от города дорога разделяется, в Кель продолжается налево, а направо ведет к полигону.
Это разделение обозначено высокой колонной из белого мрамора.
Время от времени по дороге к полигону встречаются веселые кабачки. Из окон, всегда отворенных и точно будто с любопытством смотрящих на проезжих, несутся песни и веселый хохот пирующих.
Почти у самого въезда в полигон надо проехать по хорошенькому мостику, над ручьем довольно широким, свежим и тенистым, берега которого заняты прачками, пение которых смешивается со стуком вальков.
Ничего не могло быть приятнее и веселее этой дороги, постоянно усеянной всадниками, экипажами и пешеходами, отправляющимися в полигон и возвращающимися оттуда.
При въезде в лагерь дамы вышли из экипажа. Обе молодые девушки под руку весело и легко шли впереди матерей за Люсьеном, который придал себе важный вид, но лицо которого радостно сияло.
Дамы, хотя жили в укрепленном городе, ничего не понимали в военной жизни и никогда не видали лагеря.
Живописный вид палаток, этот полотняный город, вдруг импровизированный, солдаты, стряпавшие на воздухе, все эти подробности лагерной жизни поразили их удивлением и сильно заинтересовали.
Солдаты были веселы, беззаботны; они занимались чрезвычайно деятельно своими обыкновенными обязанностями.
Одни в мундире стояли на часах, другие в полотняном платье носили дрова, воду, чистили овощи, мешали дрова, снимали пену с котла, другие опрятно убирали лагерь. Рекруты занимались экзерцициями, но солдаты по большей части лежали в своих палатках, спали или играли, куря трубку.
В тех местах, где находилась кавалерия и артиллерия, вид переменялся, становился еще живописнее и поразительнее.
Эти длинные линии лошадей, привязанных в два ряда за веревки, фуры и пушки, симметрически расставленные, все возбуждало любопытство посетительниц.
Люсьен не пощадил их от малейших подробностей, водил их повсюду, все им показывал, поэтому посещение было продолжительно и только около половины шестого дамы сели в коляску, чтобы вернуться в Страсбург.
В половине седьмого сели за стол. Обед был веселый. То была эпоха иллюзий; рассчитывали на успех, если не легкий, то, по крайней мере, верный. Притом, как сомневаться в этом успехе, когда видели наших солдат, таких веселых, беззаботных, решительных и исполненных увлечения?
Иногда Гартман качал головой с задумчивым видом, но почти тотчас туча, помрачавшая его лицо, изглаживалась и он разделял без тайной мысли, по крайней мере по наружности, радость своих собеседников.
Обеды продолжаются долго в Эльзасе. Этот обед кончился в половине девятого.
Гартман и сын его ушли, фабрикант в ратушу, где муниципальный совет был созван на чрезвычайное заседание к девяти часам, а Люсьен прямо отправился в «Город Париж», где, наверно, надеялся встретиться со своими верными товарищами, с которыми и приготовлялся осушить большее или меньшее количество кружек пива за славу французской армии и за ее будущие успехи.
Госпожа Гартман и госпожа Вальтер остались в гостиной, где начали большое рассуждение о поваренном искусстве, очень интересном для них и которое должно было продолжаться весь вечер.
Лания увела Шарлотту в свою комнату, и обе приятельницы начали весело болтать, как певчие птички.
Ничего не может быть очаровательнее, как прислушиваться к разговору молодых девушек. Ничего не может быть свежее, наивнее и в тоже время восхитительнее для мыслителя откровенных признаний семнадцатилетних девушек, в глазах которых отражалась до сих пор только лазурь небесная и которые знают жизнь только сердцем матери.
В этот вечер много было признаний между Шарлоттой и Ланией. Они должны были многое рассказать друг другу.
Однако, надо заметить, что самая чистая, самая простодушная девушка уже женщина в одном отношении, — даже самой короткой, самой преданной, самой дорогой приятельнице она не скажет некоторых вещей, не откроет некоторых ощущений своего простодушного сердца, до того справедливо, что во всяком возрасте самая откровенная женщина сохраняет тайную мысль, часто не подозревая этого, или лучше сказать, не смея признаться самой себе.
Хотя по своей нервной организации женщины всем жертвуют внезапному порыву и часто увлекаются первым движением, они почти никогда не высказываются вполне и в самых важных, самых критических обстоятельствах, там, где мужчина, считающий себя твердым, теряет всякое хладнокровие и всякую меру, женщина обдумывает, скажу даже более, рассчитывает.
Впрочем, это-то и делает ее опасной и дает ей над мужчиной то непреодолимое могущество, которое она всегда употребляет во зло, которое оспаривать было бы ребячеством и которое было, есть и будет причиною стольких треволнений и несчастий.
Итак, молодые девушки разговаривали.
Когда семнадцатилетние девушки разговаривают, они политикой не занимаются. Их политика — любовь.
Лания говорила о своем брате Мишеле, потому что, может быть, не смела говорить о другом, имя которого беспрестанно готово было сорваться с ее губ.
Шарлотта отвечала с улыбкой и иногда краснела. При последнем замечании своей приятельницы она разразилась серебристым смехом.
Надо заметить, что женщины, чем более сконфужены, тем больше смеются; смех — маска, которую они надевают на свое очаровательное лицо, чтоб отвлечь любопытство своего собеседника или обмануть его. Эта женская тактика стара как свет; но она всегда удается.
— Боже мой! — сказала Лания. — Как я была бы рада, если б полк моего брата прошел через Страсбург.
— Это мне кажется очень трудно, — ответила Шарлотта, — ведь он в Африке.
— Был, но сегодня папа получил от Мишеля письмо из Марселя.
— Точно?
— Конечно.
— Что же он говорит в этом письме?
— Он сообщает папа, что его полк уехал из Африки, приехал в Марсель, но что он еще не знает, к какому корпусу армии будет он причислен.
— И он ничего больше не говорит?
— Он кланяется всем. Кажется, в его письме есть несколько слов к твоей матери.
— А! — сказала Шарлотта, надувшись. — Так господин поручик не совсем о нас забыл?
— Прошу называть его капитаном.
— Как капитаном?
— Да, он уведомляет нас, что получил этот чин по приезде в Марсель.
— О! Я буду очень рада видеть его. Как он должен быть мил в своем новом мундире!
— Но он, я полагаю, не переменился. Между мундиром поручика и капитана, кажется, разница в одном галуне.
— О! Душечка, как ты сведуща в военном костюме!
— Злая! — сказала Лания, целуя Шарлотту.
— Почему ты говоришь мне это?
— Так, чтоб сказать что-нибудь. Скажи мне, Шарлотта, будешь ли ты рада увидеть Мишеля?
— И его друга? — сказала молодая девушка, отвечая вопросом на вопрос. — Этого красавца фельдфебеля, этого дикаря-бретонца, которого твой брат так любит?
— О ком ты говоришь? — спросила молодая девушка, слегка покраснев.
— Притворяйся немогузнайкой! Ты его знаешь гораздо лучше меня, потому что он жил здесь с твоим братом.
— А! Ивон… то есть, — поправилась она, — господин Кердрель. Ты говоришь, конечно, о нем?
— Для чего ты назвала его по фамилии? — лукаво сказала Шарлотта. — Разве я не знаю, что вы очень хороши между собой?
— Что хочешь ты сказать?
— То, что ты сама повторяла мне сто раз: что он был принят здесь как родной и что ты обращалась с ним как с братом.
— О! С некоторой разницей однако.
— Да, — сказала Шарлотта, смеясь, — с той разницей, которая существует между красивым молодым человеком не родственником и братом, как сильно ни любили бы его.
— Не знаю, что с тобой сегодня, Шарлотта, — сказала Лания, надувшись, — но я, право, нахожу тебя несносной с твоими коварными намеками.
— Полно, не сердись, душечка. Вместо того, чтоб играть в прятки, как две девочки, и стоять в оборонительном положении друг против друга, не лучше ли поговорить откровенно? Если б даже ты чувствовала некоторое расположение к этому господину Кердрелю, как ты его называешь, что же в этом дурного?
— Конечно, ничего. Кердрель спас жизнь моему брату. Мы все искренне любим его. Это человек с благородным сердцем, с избранной натурой. Притом, он принадлежит к прекрасному семейству и теперь также офицер.
— Он?
— Конечно. Почему же не быть ему офицером? — с живостью вскричала Лания.
— Не сердись, милочка; я не вижу в этом ничего дурного; это мне очень нравится напротив. Как! Неужели? Он офицер? А! Тем лучше!
— По крайней мере так пишет нам Мишель. Кажется, он был произведен в подпоручики в тот самый день, когда Мишель сделан капитаном.
— Вот это упрощает многое.
— Что ты хочешь сказать?
— Ничего; я понимаю, что говорю. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что довольно скучно, когда принадлежишь к известному обществу, идти под руку с фельдфебелем, как бы ни был он очарователен. Но когда этот фельдфебель делается подпоручиком, тогда уж совсем не то. Тогда с гордостью видишь его возле себя, опираешься на его руку.
— А еще более гордишься, когда вместо подпоручика оказываешь эту милость капитану. Не правда ли, душечка? — хитро сказала Лания, бросая на Шарлотту насмешливый взгляд.
Несмотря на всю силу женского притворства, Шарлотта смутилась на секунду от этого прямого нападения. Но, оправившись почти тотчас, отвечала:
— Ну, так что ж! Ты хотела меня ужалить, злая оса, но твое жало не попало в меня, и я хочу выказать себя откровеннее тебя. Да и почему мне не сказать тебе правды? Ведь ты самый дорогой мой друг. Должна ли я иметь от тебя тайны? Ты можешь секретничать, если хочешь. А я скажу тебе всю правду. Притом, и большой заслуги не имею. Ты угадала уже. Да, ваш брат мне нравится, сударыня; я его люблю, хотя никогда ему этого не говорила; я люблю его глубоко, искренне, потому что, воспитанная возле него, я могла изучить его, узнать, как его характер благороден и великодушен. Притом я люблю вашего брата, злая! Я знаю, что вы будете счастливы этой любовью, и что вместо того, чтоб осуждать меня, вы будете меня благодарить. Теперь мое признание сделано по всем правилам; довольны ли вы теперь?
Молодая девушка ответила тем, что обвилась руками вокруг шеи своей приятельницы и поцеловала ее горячо.
— Ты рада, что я люблю твоего брата?
— О! Да, очень рада, возлюбленная Шарлотта, я угадала твою любовь.
— Ну, теперь я сделаю тебе вопрос.
— Какой, душечка?
— Мне хотелось бы знать, будешь ли ты теперь называть красавца подпоручика Кердрелем, когда мы будем вдвоем?
— Бедный Ивон! — прошептала Лания.
— А! Наконец. Ты очень любишь его?
— Да, — ответила Лания голосом тихим как дыхание, — но я не так счастлива, как ты.
— Как! Разве он не любит тебя?
— Я этого не говорю! — вскричала Лания с живостью.
— Ну так что же? Если уж ты начала, скажи мне все. Кому тебе довериться как не мне? Притом, не подала ли я тебе пример откровенности?
— Это правда; я не стану запираться перед тобою. Я люблю Ивона, как ты любишь Мишеля, только мы с ним находимся в странном положении, из которого не смеем выйти оба.
— Объяснись; ты мне рассказываешь почти роман.
— Роман! Разве ты читала романы, Шарлотта? — наивно спросила молодая девушка.
— Ну, да, некоторые; мама любит их без ума. На ее ночном столике всегда лежат романы, особенно Александра Дюма.
— Разве романы очень интересны?
— О! Ты не можешь себе представить; там рассказывается история молодых людей, которые любят друг друга против воли своих родителей.
— Как против воли?
— Ну да! Понимаешь, любовь чувство невольное. Часто случается, что такая любовь не нравится родителям. Но что это я говорю? Воротимся к нашему разговору, который гораздо интереснее всех романов на свете. Точно ли ты любишь Ивона?
— Да, но ты должна знать, что Ивон до того робок…
— Как! Он, такой храбрый солдат?
— Это невероятно, не правда ли, однако это так. Он так робок, что предпочел бы напасть на десять врагов, чем признаться мне в любви. Ты понимаешь, что я со своей стороны не могу же…
— Только не доставало бы того, чтоб ты была принуждена заговорить первая, — сказала Шарлотта, смеясь. — Итак, вы на этом и остановились?
— Не совсем, — возразила Лания, потупив глаза. — Перед отъездом мой брат говорил со мною. Он пришел в мою комнату, вот сюда; мы имели с ним продолжительный разговор… не знаю, как удалось Мишелю…
— Ну?
— Он заставил меня против воли признаться в моей любви к Ивону.
— А! Я узнаю Мишеля. Всегда добрый, всегда преданный, он узнал затруднительность твоего положения и великодушно поспешил к тебе на помощь.
— Так. Действительно, ты права. Но теперь я боюсь…
— Чего?
— Ах, Боже мой! Ты знаешь, каковы мужчины между собой, особенно когда они дружны, как Мишель и Ивон; я боюсь, что мой брат рассказал Ивону все, что происходило между нами.
— В этом ты можешь быть уверена. Для меня, так же как и для тебя, должно быть очевидно, что если Мишель вырвал у тебя твою тайну, то непременно для того, чтобы немедленно сообщить ее твоему другу.
— О! Ты думаешь это?
— Не только думаю, но даже уверена в том. Но на что жалуешься ты? Твой брат оказал тебе огромную услугу — спас от положения чрезвычайно затруднительного, из которого ты не знаешь сама как выйти.
— Но что подумает обо мне этот молодой человек?
— Что он подумает? Что ты ангел, душечка, и он будет обожать тебя на коленях как мадонну. О! Если б кто-нибудь мог оказать мне у Мишеля такую же услугу, какую брат оказал тебе у Ивона, я не стала бы жаловаться, клянусь тебе; напротив, я была бы ему признательна всю жизнь.
— Стало быть, ты очень любишь Мишеля?
— Сколько ты любишь Ивона.
— О, это невозможно! — вскричала Лания.
В эту минуту дверь отворилась с шумом и Люсьен показался на пороге, крича:
— Победа!
Обе молодые девушки оторопели, побледнели, покраснели и слезы выступили у них на глазах.
Люсьен отошел от двери. За ним явились Мишель и Ивон в походной форме.
— Поблагодари Шарлотту за меня, милая Лания, — сказал Мишель с волнением, прижимая сестру к своей широкой груди. — Скажи ей, что вся моя жизнь, употребленная на то, чтобы сделать ее счастливою, недостаточно заплатить ей мой долг.
В это время Ивон Кердрель, любезно поцеловав руку Шарлотты, испуганной и дрожащей, сказал самым кротким голосом:
— О! Вы так добры и прекрасны, удостойте быть моей посредницей у вашего друга, повторите ей то, что я никогда не посмею ей сказать, а именно, что я из любви к ней готов пожертвовать моею жизнью по одному ее слову, по одному знаку, и что сильный ее любовью, как я ни ничтожен ныне, я сумею сделать достойным ее.
— Вот благородные и честные слова, господа! — сказал Гартман, входя в свою очередь в комнату. — Подите, подите сюда, сударыни, — прибавил он, оборачиваясь в коридор, — придите насладиться счастьем ваших детей. Ивон, любезный сын, вы исполняете мое желание и я горжусь, что вы будете моим зятем. Теперь, — продолжал он, целуя Шарлотту в лоб, — я буду счастливейшим отцом, потому что у меня будут две дочери.
Шарлотта и Лания, вне себя от смущения, не были в состоянии произнести ни одного слова и рыдая бросились на шею к своим матерям; но ошибиться было нельзя: они плакали от радости.
Когда первое волнение утихло и действующие лица этой сцены мало-помалу возвратили свое хладнокровие, Люсьен рассудил, что ему пора выступить на сцену.
— Все это очень мило, — сказал он, — только если вы не знаете, то я вам скажу, что уже полночь. Я велел подать ужин, и если вы согласны, то это будет обручальный пир.
— Ты прав, негодный мальчик, — ответил его отец, улыбаясь, — будем счастливы, пока можем. Не будем думать о заботах, ожидающих нас в будущем. Пойдем в столовую и отпразднуем по старинному эльзасскому обычаю, с рюмками в руках, это событие, которое осчастливило всех нас.
— Ну, любезные рыцари, — сказал Люсьен, смеясь, — берите под руку ваших невест и отправимтесь в столовую.
Сердца были так переполнены, что аппетит не мог быть хорош. Дамы особенно едва дотрагивались до кушаньев; поставленных перед ними, и клевали как птички.
— Теперь, — сказал Гартман, отодвигая свою тарелку, — расскажите нам, господа, каким образом вы сделали нам так неожиданно такой приятный сюрприз.
— Извините, папа, — сказал Люсьен, — говорить желаю я.
— Для чего?
— Чтоб рассказать вам этот сюрприз. Устроил его я.
— Это правда, — сказал Мишель, весело ударив брата по плечу, — мы обязаны ему, папа, тем, что увидали вас несколькими часами ранее.
— Да, — хитро сказал Люсьен, — и что вы узнали вещи, весьма для вас приятные, которых вы не ожидали.
— Ну, говори, болтун, расскажи нам твою историю, — сказал Гартман, увидев внезапную краску обеих девушек.
— О! Это будет недолго; представьте себе, папа, что когда я вошел в «Город Париж», Петрус весело подбежал ко мне. Вы знаете Петруса, папа?
— Да, да; продолжай.
— Ну, так как у него всегда надгробная наружность, я был до того испуган этой необычайной радостью, что счел его помешанным. Но он скоро успокоил меня, сообщив, что 3-й полк зуавов должен прибыть в десять часов в Кенигсгофен. Я знал, как вы будете рады увидеть моего брата и Ивона, разумеется; я не мог терять ни минуты. Я прибежал домой, велел Жану заложить коляску, а Жан, как только узнал, для чего она мне нужна, повиновался мне с понятною для вас поспешностью. Я поехал на станцию. Не пробыл я там и десяти минут, как услышал свист машины, и поезд пришел. Я бросился на набережную, скоро узнал Мишеля, который обнял меня так, что чуть не задушил, до того рад был видеть меня. Я хотел тотчас увести его, но ему надо было сделать распоряжения; он не мог оставить свою роту, начальство над которой поручил своему поручику, и не прежде как по получении позволения своего начальника, согласились эти господа сесть в коляску со мною. Едва успели мы въехать в город, ворота заперли. Но все благоприятствовало нам сегодня: вы были в ратуше, папа, матушка и госпожа Вальтер разговаривали о стряпне в гостиной; я не хотел мешать такому интересному разговору. При этой выходке все засмеялись.
— Притом я люблю эффекты, — продолжал он. — Какое-то предчувствие сказало мне, что моя сестрица и прелестная кузина Шарлотта не очень станут сердиться, если я сделаю им сюрприз; не правда ли, Лания?
— Молчи ты, злой. Напротив, я очень на тебя сержусь, — сказала Лания, восхитительно надув губки.
— О! Ты можешь это говорить. А вы, милочка Шарлотта, также сердитесь на меня?
— Должна бы, может быть, — отвечала она с обольстительной улыбкой, — но не имею сил; я слишком счастлива.
— А! Браво! Вот это откровенно; это тебе урок, Лания! — вскричал Люсьен, смеясь.
— Но каким образом, любезный Мишель, — спросил Гартман, — ты не предупредил меня о твоем приезде?
— По очень простой причине, батюшка: нам вдруг дано было приказание уехать из Марселя, и только дорогою объявили нам, что наш полк составляет часть корпуса Мак-Магона и что пока мы должны отправляться в Страсбург. Бесполезно было бы писать к вам; я приехал бы прежде моего письма.
— Это правда. Теперь, по крайней мере, ты знаешь наше взаимное положение. Недоразумений между нами не может быть. Дети, вы помолвлены, но вы понимаете, так же как и я, не правда ли, что в тех важных обстоятельствах, в каких мы находимся, немедленный брак невозможен.
— К несчастью, это справедливо, батюшка, мы не должны думать об этом теперь.
— О! — сказал Ивон. — Теперь, когда я уверен, что меня любят, ожидание моего счастья, вместо того, чтобы опечалить меня, даст мне мужество.
— Нам оно нужно, дети мои, нам нужно много мужества, чтобы исполнить обязанность граждан и солдат. Слава и счастье отечества должны стоять выше личных чувств. Будем людьми, взглянем прямо на обязанность, выпавшую нам на долю, чтобы выполнить ее со всей энергией и со всей преданностью, с каким мы способны. Когда война будет кончена, спокойствие восстановлено, когда наконец Франции мы не будем нужны, мы успеем насладиться счастьем. Теперь мы должны быть одушевлены любовью к отчизне. Дети, — прибавил он, наполняя бокал и вставая, — пью за ваше здоровье, пью за ваш близкий союз, но прежде всего пью за славу и успех Франции!
Эти слова были повторены с волнением всеми собеседниками.
Наступило минутное молчание, печальное и тревожное; у матерей и дочерей глаза были наполнены слезами; мужчины, несмотря на свою твердость, побледнели.
— Не будем унывать, — продолжал Гартман с энергией, — приготовляющаяся война предвещает грозу. Но много ураганов обрушивалось на Францию с тех пор, как она существует; много бурь мучили ее и грозили поглотить; помните, что каждый раз она выходила выше, могущественнее и прекраснее из этих страшных потрясений, которые хотели уничтожить ее, а напротив оживляли.
— Да здравствует Франция! — вскричали молодые люди.
— Мы сумеем умереть за нее, — сказал Мишель. — Вся кровь наша ей принадлежит. Это наша мать. Наша любовь, закаленная в битвах, увеличится, если возможно, от опасностей, которым мы будем подвергаться; когда мы увидимся с нашими невестами, мы будем гордиться, что защищали их.
— Если мы падем, — продолжал Ивон, — нас будут оплакивать. Чего можем мы, чего мы должны требовать более?
— Ивон, — сказала Лания, — с нынешнего же дня я считаю себя вашей женой. Уезжайте без опасения; если вы падете, я останусь верна вам и в могиле.
— Для чего нам печалиться, — с живостью вскричала Шарлотта, — и увенчивать себя кипарисами? Я имею предчувствие, что вы не на век прощаетесь с нами. Господь, защищающий нас, не позволит, чтобы любовь наша была разбита. После дней ужаса и тоски наступят дни спокойствия и счастья. Исполняйте вашу обязанность, господа, у нас еще будут солнечные часы.
Эти последние слова вызвали радость на лицах всех собеседников и собрание, на мгновение опечаленное, возвратило в эти последние минуты всю свою веселость.
Было поздно; прошла почти вся ночь.
Пробило четыре часа утра; начинало рассветать. Встали из-за стола и условились, что вся семья проводит госпожу Вальтер и дочь домой.
Отправились в путь, и хотя требовалось не более шести минут, чтобы дойти от улицы Голубое Облако до площади Брогли, путь длился около получаса.
Это понятно: Мишель подал руку Шарлотте, Ивон Кердрель — Лании.
Четверо молодых людей столько желали сказать друг другу, им оставалось так мало времени для этого, что они поспешно воспользовались несколькими минутами, остававшимися у них. Отец и обе матери улыбались между собой и делали вид, будто не примечают этого.
Однако надо было расстаться. Как медленно ни шли, дошли, наконец, до двери. Прощание было продолжительное, печальное, точно будто не должны были увидаться опять, а между тем свидание было назначено в тот же день через несколько часов. Но влюбленные все одинаковы: для них существует одно настоящее, а будущее точно будто не настанет никогда.
Глава VII КАК СОСТАВИЛСЯ В ЭЛЬЗАСЕ ПЕРВЫЙ ОТРЯД ПАРТИЗАНОВ
Страсбург построен среди громадной равнины; но когда удаляешься от города по направлению к Соверну, чувствуешь, что почва нечувствительно возвышается под ногами. Мало-помалу она становится гористою и за пять лье от города доходит до первых уступов Вогезов.
Вогезы — цепь гор, простирающаяся от северо-востока Франции и проходящая к юго-востоку Бельгии, прирейнскую Пруссию и прирейнскую Баварию.
Они направляются от юга к северу и к северо-востоку, от источника Мозеля до Лаутера, составляя с левой стороны Рейна линию параллельную от Шварцвальда направо, и отделяя бассейны Мозеля и Рейна, департаменты Вогезский, Верхнего Рейна, Мерты и Нижнего Рейна.
Горы эти никогда не достигают большой высоты. Вершины их вообще округлены, что заставило дать им название «шаров». Шар Гуэбвилер, самый высокий пункт французских Вогезов, имеет только 4398 футов.
Вогезы покрыты громадным сосновым лесом, гигантские деревья которого, старые как мир, видели под своими тенями варварские орды средних веков.
Там и сям находятся развалины старых замков, в самом живописном местоположении, старинные берлоги тех страшных вогезских баронов, которые не уступали в свирепости мрачным бурграфам рейнских берегов.
Множество рек берут свой исток из этих гор. Мы упомянем только о Мозеле, Саре, Мерте, Мезе на западном склоне, Соне на южном склоне, Иле, Брюше, Цорне, Лаутере на восточном склоне.
К северу Вогезы связываются с Гундеруком, к юго-востоку соединяются с Юрой Бельфортскими холмами. Наконец, к юго-западу считаются отраслями Вогезов горы Фосильские, связывающие их с Арденскими, Лангрскис и Кот-д'Орские.
У эльзасского шара, по направлению от востока к западу, Фосильские горы отделяются от цепи Вогезских гор и присоединяются к Лангрским. Они составляют нечто вроде дуги, впадина которой обращена к югу, и отделяют бассейны Мезы и Мозеля от Сонского. Самый высокий пункт их называется Фурш и имеет 1476 футов высоты.
Мы попросим читателя простить нам эту географию, но она необходима для того, чтоб вполне понять самые важные происшествия в этом рассказе.
Деревня Альтенгейм, о которой не упоминается ни на одной карте, была бедной и жалкой деревушкой, народонаселение которой, состоявшее из сотни человек, не больше, прозябало в самом страшном неведении, умирало с голода, когда отец Гартмана решился основать там фабрику.
Эта великодушная мысль важного эльзасского промышленника решила участь деревни и, так сказать, вызвала ее к цивилизованной жизни.
Примеру Гартмана-отца последовали другие значительные торговцы и несколько фабрик в несколько лет было выстроено около его фабрики, пильная, кузнечная и другие, так что Альтенгейм, совершенно преобразованный ныне, насчитывает около двух тысяч пятисот жителей и сделался центром большого промышленного движения.
Положение этой деревни очаровательно. Она расположена на полтора километра влево от железной дороги, идущей от Страсбурга к Саверну, на три километра от этого города и на двадцать пять от Страсбурга.
Она выстроена в долине у подножия горы, на первой покатости которой возвышаются ее кокетливые дома с громадными кровлями, а другие находятся возле хорошенькой речки Цорн, притоке Рейна, окаймляющем деревню и начинающем в этом месте становиться судоходным.
Невозможно представить себе ничего живописнее этой деревушки, совсем затерянной в горах. Со всех сторон над нею возвышается сосновый лес, старый как мир, пробиваемый время от времени гигантскими скалами странной формы и темно-красного цвета.
На крайнем пункте этих скал, на гигантской высоте, пасутся козы, с испугом и любопытством смотрящие на многочисленные суда, покрывающие Цорн и спускающиеся к Рейну, оживляя пейзаж.
В тот день, с которого мы продолжаем наш рассказ, то есть в воскресенье 31 июля, большое одушевление господствовало между альтенгеймским населением. С утра жители в самом нарядном платье наполняли уже трактиры, пили и рассуждали с чрезвычайной живостью.
В этот день был большой праздник в Альтенгейме.
Общества стрелков из всех соседних деревень на пять лье в окружности должны были собраться для ежегодного состязания, происходившего в Альтенгейме в последнее воскресенье июля каждый год.
В этот год состязание принимало почти политическую важность по случаю объявления войны и приготовлявшихся событий.
С восхода солнца по всем дорогам тянулись многочисленные толпы горцев, с ружьем на плече, с трубачами впереди, выступающие военным шагом.
Их сопровождали женщины, девушки и дети в очаровательных и живописных эльзасских костюмах.
По прибытии в деревню каждую толпу народонаселение принимало с шумными криками; ружья становились пирамидой на площади и пиво текло потоками в честь прибывших.
К восьми часам утра ворота фабрики Гартмана, находившейся в центре деревни, с шумом отворились и множество работников, предводительствуемые Поблеско, по четыре в ряд, с карабинами на плечах, вышли оттуда и направились ко входу в деревню.
Пройдя первые дома, они вышли на дорогу, сопровождаемые большей частью народонаселения, которое провожало их радостными криками. Толпа эта, состоявшая из людей в полной силе возраста и почти вся из бывших солдат, имела в своей походке что-то решительное и таинственное, на что приятно было смотреть. Все шли ускоренными шагами, под такт трем трубачам, которые трубили самые воинственные арии.
В двух километрах от деревни Поблеско закричал:
— Стой! Становись во фронт!
Толпа стала на одной стороне дороги. Вдали показалось густое облако пыли, быстро приближавшееся, и скоро можно было различить экипаж, окруженный несколькими всадниками.
— К оружию! — закричал громкий голос Людвига, мастера. — Вот едет господин Гартман!
Когда экипаж остановился перед маленькой колонной, его приветствовали громкими ура.
В этом экипаже находились господин и госпожа Гартман, Лания, Шарлотта и госпожа Вальтер.
Мишель, Ивон, Люсьен, Петрус Вебер, Адольф Освальд и Жорж Цимерман весело скакали у дверец.
Гартман, поклонившись Поблеско, сказал несколько горячих слов мастеру и работникам фабрики, потом, сделав знак слуге, сидевшему на запятках, прибавил:
— Дети мои, прежде чем вернемся в Альтенгейм, я хочу выпить с вами утреннюю чарочку. Воздух гор свеж и притом у нас с вами сделалась жажда от нашей прогулки.
Это предложение было принято с единогласными криками радости.
Мишель и другие всадники сошли с лошадей и примешались к работникам.
Эти добрые работники, видевшие Мишеля ребенком, носившие его на руках, не помнили себя от радости, увидев его опять. Они пожимали ему руку, осыпали бесконечными приветствиями, на которые молодой капитан отвечал весело, с улыбкой на губах, и всегда находил любезное слово для этих людей, столь преданных ему и его родным.
— Сегодня большое состязание, — сказал он работникам. — Хотя я жду каждую секунду приказания к отъезду, я непременно желал явиться на ваше приглашение. Я знал, что без меня праздник будет неполон; притом мы здесь все одна семья. Надеюсь, что мы отличимся, милые мои, и что работники фабрики Гартмана покажут, что прежде чем сделались работниками, они были солдатами и не забыли управляться с ружьем.
— Будьте спокойны, господин Мишель, — сказал Людвиг, — не доставало бы только того, чтоб мы сделали перед вами какую-нибудь глупость. Пусть другие хорошенько держатся.
Экипаж был окружен этими добрыми людьми, которые наперерыв толпились около него, кланяясь дамам и отвечая на их вопросы о своих семействах и детях.
— Капитан, — сказал Поблеско, — не окажете ли вы нам чести стать во главе нас вместе с господином Ивоном, чтобы вернуться в Альтенгейм? Мы все были бы рады идти за вами хоть несколько минут.
Все работники присоединились к управляющему фабрикой, чтобы просить Мишеля оказать им милость, которой они добивались от него.
Молодой офицер, довольный приемом этих добрых людей, не имел мужества устоять против их просьбы и согласился с улыбкою, что удвоило общую радость.
Когда все выпили по чарочке, так любезно предложенной Гартманом, всадники сели в седла. Мишель и Ивон поехали впереди за трубачами, и колонна двинулась по правую и левую сторону экипажа.
Ко всем этим добрым людям как будто вернулись молодые годы и эти старые африканские солдаты шли также весело и с таким же увлечением, как в то время, когда гнались за арабами и кабилами.
Все народонаселение, мужчины, женщины и стрелки из соседних деревень, вышли к ним навстречу и приветствовали их радостными криками.
Мишель лучше всякого другого, как военный, знал, как надо вести таких людей. Дойдя до площади, вместо того чтобы просто распустить свою колонну, он обнажил саблю, стал в центре своего импровизированного отряда и тем внятным и резким голосом, который дает привычка распоряжаться, заставил исполнить свой маленький отряд разные военные движения.
Эти старые солдаты вдруг навострили уши. Лица их просияли; электризованные звучным голосом своего молодого начальника, они превратились в воинов в одно мгновение, исполнили все движения с точностью поистине изумительной, что привело всех жителей в энтузиазм.
По окончании маневров, Гартман, его семейство и друзья пошли на фабрику, оставив работников на свободе располагать своим временем как они хотят, но обещав присутствовать на стрельбе.
Гартман, а в особенности дамы чувствовали потребность отдохнуть после такого жаркого приема и поездки за шесть миль.
Впрочем, по стараниям Поблеско, все было приготовлено для гостей, столь нетерпеливо ожидаемых.
В гостиной Гартман нашел альтенгеймского мэра и его товарища, которые пришли поблагодарить его за то, что он удостаивает своим присутствием состязание в стрельбе. Он пожал руку этим достойным людям и пригласил их завтракать; они без сомнения рассчитывали на это приглашение, потому что поспешно согласились и не заставили себя просить. Притом это случалось каждый год с тех пор, как фабрика была основана в деревне, которая считала Гартмана своим благодетелем.
Пока Гартман, дамы, мэр и товарищ его садились за стол, Мишель, Ивон, Люсьен и три студента поместились за одним столом с работниками возле Поблеско.
Каждый год в день состязания в стрельбе член семейства Гартмана должен был присутствовать за обедом, который хозяин фабрики давал своим работникам.
На этот раз важность приготовлявшихся событий придавала этому семейному празднику печать исключительной важности.
Поблеско очень любезно распоряжался за столом.
Начало обеда было очень серьезно, однако мало-помалу, при помощи хорошего вина, собеседники одушевились, разговоры сделались живее и за десертом радость сияла на всех лицах.
— Работники вашего отца, — сказал Поблеско Мишелю, — желают обратиться к нему с просьбою. Они надеются, что вы не откажетесь служить им посредником.
— Конечно, нет, любезный Поблеско, — ответил Мишель, улыбаясь, — я очень хорошо знаю людей, среди которых нахожусь; я так уверен в их преданности нашему семейству для того чтоб отказываться от просьбы, с которою они обращаются ко мне в убеждении, что эта просьба не может не быть достойной внимания и не переходит за границы влияния, которое я имею над моим отцом. Пусть же они говорят. Я готов выслушать их.
— Людвиг, — сказал тогда Поблеско мастеру, — я исполнил поручение, которое вы дали мне; теперь вы должны объясниться, потому что я решительно не знаю, о чем идет дело.
— Благодарю вас, — продолжал мастер. — Мы знаем, что вы всегда готовы быть полезным нам, и поверьте, что мы признательны за ваше доброжелательство ко мне.
Сказав эти слова управляющему, мастер встал и, поклонившись Мишелю, продолжал:
— Капитан, вы уроженец Эльзаса и поймете важность просьбы, с которою мы желаем обратиться к вашему отцу через вас. Прежде всего я должен вам сказать, что из всего, о чем я вам буду говорить, я ничего не беру на свой счет. Я говорю от имени моих товарищей. Я только служу им отголоском; не правда ли, эй, вы?
— Да, да, — отвечали работники, — не бойся, Людвиг.
— Говори прямо.
— Господин Мишель наш друг, с ним нечего бояться.
— Хорошо, хорошо, — отвечал мастер с хвастливым видом, — довольно бы и половины всего этого. Прикусите язычок, ребята. Если вы поручили мне рассказать, в чем дело, уткните нос в стакан и предоставьте мне говорить.
Работники засмеялись и тишина, на минуту нарушенная, сделалась глубже прежнего.
— Итак, — продолжал мастер, — я скажу, господин Мишель, что мы все здесь французы, исключая господина Поблеско; но это все равно. Поляки — северные французы, — сказал он, кланяясь управляющему, который наклонил голову с улыбкой. — Вы знаете, что мы, эльзасцы, — продолжал мастер, — а особенно горцы, все охотники. Наши общества стрелков по большей части составлены из отставных солдат и устроены почти по-военному. Одно из наших обществ ездило даже на выставку в Париж в 1867 году, где получило ухарский успех, не в похвальбу нам будь сказано. Вот объявлена война. Не так ли? Никто не может предвидеть, что выйдет из нее. Я знаю, что французы по природе победители и что в конце концов супу хлебнут пруссаки; правительство, очень хитрое, так говорят по крайней мере, должно быть, приняло предосторожности для этого; а если неравно правительство забыло принять предосторожности или не успело старательно позаботиться о нашем крае, может быть, не худо бы нам самим позаботиться о нем и охранять наши горы. Что вы думаете об этом, господин Мишель?
— Я думаю, храбрый товарищ, — отвечал молодой офицер, — что все сказанное вами справедливо. Вы люди храбрые, преданные, отставные солдаты, превосходные патриоты, и я не сомневаюсь, что вы можете, как партизаны, оказать очень большие услуги.
— Я знал, что вы согласитесь с нами. Вот что мы положили: мы, гартманцы, составим роту. Если к нам желают присоединиться товарищи, милости просим. Мы выберем себе начальников, офицеров, унтер-офицеров, возьмем старых африканцев, которые так же мало будут бояться стрелять в пруссаков, как и в бедуинов. Потом мы будем защищать нашу деревню, фабрику, где так давно находим хлеб для наших семейств. Если дела пойдут дурно, мы перетащим материалы, мебель, машины, инструменты, чтоб пруссаки не воспользовались этим. Мы все перетащим в горы, пусть приходят туда к нам, мы славно их примем. Что вы скажете на это, господин Мишель? Не правда ли, хорошая мысль?
— Я говорю, добрый Людвиг, — ответил капитан с волнением, — что это мысль великодушная и прекрасная, какой я ожидал от вас и от ваших товарищей. Вы следуете инстинкту вашего сердца, давая доказательство подобной преданности. Вы понимаете, что спасая фабрику и то, что в ней заключается, вы трудитесь не только для нас, но и для себя, для ваших жен, детей, потому что принадлежащее нам принадлежит и вам. Но, любезный друг, что вы мне сказали, может быть только предисловием к просьбе, с которою вы желаете обратиться ко мне, потому что вам не нужно никакого позволения для того, чтобы составить отряд. Это касается вас самих, и ни я, ни мои родные ничего не можем сделать тут.
— Это правда, господин Мишель, вы коснулись пальцем именно того места, где нам щекотно. Вот в двух словах в чем дело: у нас есть ружья, это правда, но недостаточно. Нам нужны сабли, картузники, сапоги, подбитые гвоздями, порох и пули. Не можем же мы стрелять в пруссаков ореховой шелухой, и хотя вы знаете, господин Мишель, что мы употребим все усилия и истратим все скопленные деньжонки, чтобы достать то, в чем у нас недостаток, но…
— Понимаю, Людвиг, не нужно больше говорить. Не тревожьтесь из-за такой безделицы; мне не нужно говорить с моим отцом, чтобы дать вам ответ; я заранее уверен в его согласии. Его тревожит не потеря фабрики. Как ни была бы велика эта потеря, его состояние не очень пострадает, но прежде всего надо поберечь и спасти ваших жен, матерей и детей, а в особенности честь нашей родины, которую мы все так любим и которую чужеземцы не должны безнаказанно осквернять своим присутствием. Чего у вас нет, отец мой вам даст. У вас будут снаряды, оружие, съестные припасы — словом все, что правительство дает войскам, выступающим в поход. Сверх того, так как надо предвидеть все и так как вам, может быть, придется спрятать в горах дорогие для вас существа, отец мой даст вам теплую одежду, одеяла, и вы можете располагать всеми кроватями, тюфяками, находящимися на фабрике. Это все, что вам нужно?
Все работники ответили радостными восклицаниями.
— Теперь выслушайте меня, — продолжал капитан, — вас, если я не ошибаюсь, двести двадцать один человек работают на фабрике; это точная цифра?
— Да, — ответил Поблеско, — но у нас есть кроме того жены и дочери работников, которые, как вам известно, занимаются работами понежнее.
— Я говорил о мужчинах. Из этих двух сот двадцати одного есть несколько пожилых, очень способных работать, но которые не могут переносить утомления такой суровой кампании, которая приготовляется. Сверх того, есть много детей, не достигших и шестнадцатилетнего возраста; следовательно, ни эти старики, ни дети не в состоянии нести деятельной службы. Они окажутся полезными, перенося на носилках раненых, ухаживая за ними или служа лазутчиками, чтоб предупреждать вас о движениях неприятеля, но большего содействия они не могут вам оказать. Требовать от них более было бы безумством. Стало быть, для службы вас остается не больше сотни.
— Извините, капитан, — сказал мастер, — нас сто тридцать три, все отставные солдаты, сильные, проворные, привыкшие к усталости.
— Хорошо, сто тридцать три. Делали ли вы предложение другим обществам стрелков? Надеетесь вы получить согласие некоторых?
— Надеемся, капитан, по крайней мере, на полтораста решительных молодцов, браконьеров и контрабандистов, знающих малейшие тропинки и тайники в горах.
— Хорошо; положим, что всех вас круглым числом будет триста человек. Ваши ружья, очень хорошие для охотников и для упражнения в стрельбе, совсем не годятся для войны. Вам нужны шасно. В нескольких лье отсюда находится большой оружейный завод в Муциге. Сегодня же выберите комиссию, которая займется всеми подробностями вооружения вашего отряда. Потом завтра ваши депутаты, в сопровождении моего брата Люсьена, отправятся в Муциг и немедленно сделают все необходимые закупки. Итак, это решено, не правда ли, ребята?
Описать радость и энтузиазм работников было бы невозможно; мы отказываемся от этого. Когда восстановилась тишина, Мишель встал.
— Я ухожу, — сказал он, — чтоб предоставить вам свободу выбрать депутатов и начальников. Я советую вам только одно — отложить в сторону все частные интересы и смотреть только на интерес общий, выбрать в начальники тех, кто вам внушает наибольшее доверие и кого вы считаете наиболее способным предводительствовать вами.
— Извините, капитан, — возразил мастер, — но мы намерены, чтоб доказать вашему отцу, как мы ему преданы и признательны за то, что он делает для нас, просить господина Люсьена быть нашим начальником; мы будем очень рады повиноваться ему.
— Друзья мои… — сказал Мишель.
— Извини, брат, — перебил Люсьен, — на это должен отвечать я.
— Это правда, — сказал капитан, садясь. — Говори, Люсьен.
— Мои добрые друзья, — начал молодой человек, — я не знаю как вам выразить, какую гордость и счастье внушила мне неожиданная честь, которую вы оказали мне; это мне доказывает вашу преданность к моим родным, вашу признательность за то немногое добро, которое отец мой сделал вам.
— Да здравствует господин Люсьен! — вскричали работники. — Да здравствует наш новый господин командир!
— Подождите, я еще не кончил, — продолжал молодой человек, смеясь, — не торопитесь приветствовать меня.
— Говорите, говорите!
— Конечно, я чрезвычайно гордился бы, сделавшись вашим начальником и предводительствуя вами, — продолжал молодой человек, все смеясь, — но позвольте мне напомнить вам справедливые, здравомыслящие слова, произнесенные моим братом. Он сказал вам: «Кампания будет трудна; отложите в сторону все частные интересы, а смотрите только на интерес общий, выберите начальников из тех, кто вам внушает наиболее доверия и которых вы считаете наиболее способными предводительствовать вами». Я — молодой человек, почти еще ребенок, ничего не понимаю в войне, а особенно в партизанской, самой трудной из всех. Я могу только предложить вам мою добрую волю, мое мужество и мою преданность. Этого недостаточно; если вы меня сделаете вашим командиром, мое неведение будет вам вреднее, чем полезна добрая воля. Благодарю вас за честь, которую вы желаете мне оказать, я должен отказаться от нее. Но если не могу быть вашим начальником, я хочу остаться вашим товарищем. Бесполезный как солдат, я могу оказать вам большие услуги в качестве хирурга. Три друга, окружающие меня, и я решаемся составить часть вашего отряда и следовать за вами повсюду до конца войны. Мы устроим походный лазарет, станем ухаживать за больными, перевязывать раненых, и поверьте мне, друзья, эту горестную обязанность и преданность, которую мы наложим на себя, я считаю еще почетнее той обязанности, которую от излияния вашего сердца вы назначили мне. Когда, мы будем в горах, станем выдерживать жестокие битвы, будем терпеть холод, голод, все бесчисленные бедствия, которые война влечет за собою, вы меня поблагодарите за то, что я не хотел принять никакой другой обязанности, кроме той, которую выбрал сам, потому что я чувствую себя способным исполнять только ее одну.
— Обними меня, брат! — с излиянием вскричал Мишель. — Ты именно таков, каким я тебя считал. Благодарю тебя от имени всех этих добрых людей.
— А мы, господин Мишель, — вскричал мастер с волнением, — не находим слов, чтоб отблагодарить вас! Но не бойтесь, когда представится случай доказать вам нашу признательность, мы не пропустим его. Да благословит вас Господь, так же как и Господь, сопровождающий вас, за вашу благородную мысль! Притом, во всяком случае не будете ли вы нашим начальником? Мы всегда будем поступать как вы захотите, господин Люсьен.
Пошли пожатия рук, уверения в преданности — словом, размен тех добрых слов, которые исходят из сердца и которые на несколько минут сделали счастливыми всех членов этого собрания. Мишель и Ивон ушли, чтоб предоставить работникам свободу действия для выборов, которыми сейчас хотели заняться.
В полдень трубачи и барабанщики ходили по деревне и возвещали, что состязание в стрельбе начинается.
Скоро явился мэр в своем шарфе в сопровождении своего товарища и муниципального совета. Возле него шли Гартман и несколько других фабрикантов, имевших фабрики в деревне, семейство Гартмана, несколько дам и все народонаселение Альтенгейма и соседних деревень. Все заняли места.
Состязание было блистательное. Призы — их было пять — были горячо оспариваемы. Все эти добрые горцы были искусные стрелки.
Два, три приза, из которых самый главный достался Людвигу, были выиграны работниками фабрики Гартмана, третий работником другой фабрики в деревне, а два остальных обществом вольных стрелков из окрестностей.
По окончании церемонии трактиры наполнились снова, чарочки начали ходить кругом и устроились танцы.
Известно, что в Эльзасе праздник не в праздник, если не танцуют.
Работники Гартмана все вернулись на фабрику и увели с собою множество родных и знакомых. Потом они заперлись в мастерскую, где около двух часов рассуждали с большим одушевлением.
К пяти часам вечера Людвиг пришел просить у капитана Мишеля позволения поговорить с ним.
Мастера ввели в гостиную и он объявил капитану, что комиссия была назначена, начальники выбраны и работники были бы очень рады, если б господин Гартман и капитан Мишель удостоили пожаловать в собрание и утвердить сделанные выборы.
— Нам нечего утверждать, мой добрый Людвиг, — сказал Гартман, — ведь сын мой сказал вам, что вы совершенно свободны. Но так как я считаю вас всех своими детьми, я приду к вам с моим семейством, не для того, чтоб утвердить сделанные вами выборы, а чтоб выразить вам мое удовольствие и поблагодарить за вашу великодушную мысль.
Действительно, через несколько минут Гартман в сопровождении всего своего семейства входил в мастерскую.
Радостный трепет пробежал по рядам работников. Они почтительно сняли шляпы и водворилась величайшая тишина.
— Милостивый государь, — сказал Людвиг, подавая Гартману листок, — как вы увидите на этой бумаге, написанной собственноручно господином Поблеско, отряд альтенгеймских вольных стрелков составлен. Он будет состоять из двух сот девяноста человек, не считая офицеров, которых будет десять. Все подписали. Отряд разделяется на два отделения; в каждом будет капитан и поручик. Отрядом будет начальствовать командир и офицер, смотрящий за вооружением, снарядами, провизией. Господин Поблеско, которого мы все очень уважаем, изъявил желание вступить в наш отряд. Была речь о том, чтоб избрать его начальником, но, по зрелом размышлении, мы решили, что в такой войне и с такими врагами, как пруссаки, выбрать начальником иностранца, как ни был бы он достоин начальствовать над нами, значило бы осудить этого иностранца на смерть, если он попадет в руки неприятеля. Господин Поблеско понял наше замечание и отказался от кандидатства, обещав нам свое содействие каждый раз, как мы этого пожелаем.
— Это очень справедливое рассуждение, — ответил Гартман.
— Кого же выбрали в начальники? — спросил Мишель.
— Капитан, — отвечал Людвиг, — мои товарищи вспомнили, что я отставной унтер-офицер зуавов и что служил в вашем полку; они выбрали начальником меня.
— Они не могли сделать лучшего выбора, — сказал молодой офицер, горячо пожимая руку Людвига, — теперь ты выше меня чином, — прибавил он, смеясь.
— А все-таки останусь вашим подчиненным, капитан, и если вы приедете сюда когда-нибудь во время кампании, я сейчас уступлю вам место.
— Никто не может предвидеть будущего, — сказал Мишель, качая головой с задумчивым видом.
— Будем надеяться, что этого не случится, — сказал Гартман, — потому что это служило бы доказательством, что наши дела находятся в дурном положении. Но не будем рассуждать об этом и воротимся к вопросу, занимающему нас; кого же вы выбрали еще?
— Имена других офицеров вы увидите здесь, — продолжал Людвиг, — я убежден, вы найдете, что мы выбрали кого следует, как нам советовал капитан. Это все такие же отставные солдаты, как и я. Они все были в армии или капралами, или сержантами.
— Милостивый государь, — сказал тогда Поблеско, — признаюсь вам, что я с истинной горестью вижу себя принужденным расстаться с этими добрыми людьми, с которыми живу уже несколько лет и которых научился ценить как они заслуживают того. Я понимаю, сколько есть деликатного в моем положении как иностранца и как мне было бы неловко, если б я, будучи начальником, попался в руки неприятеля. Но нет ли возможности обойти это затруднение? Нельзя ли найти какой-нибудь способ, который позволил бы мне не оставлять тех, кого я теперь считаю почти товарищами, и быть им полезным?
— Я сам думал об этом, — ответил Гартман. — Альтенгеймские вольные стрелки выбрали офицера, который будет заниматься внутренними делами отряда. Но этого недостаточно. Должна быть связь между мною и этими добрыми людьми, которая позволила бы мне и издали как вблизи заботиться беспрерывно об их потребностях и их благосостоянии. Этой связью будете вы, если вы согласны на это. Не будучи офицером и не сражаясь, вы будете следовать за батальоном, наблюдать за его интересами и сообщать мне о его потребностях. Вы будете как бы необходимым посредником между вольными стрелками и мною. Удобно для вас это? Принимаете вы это положение, как оно ни скромно?
— Принимаю с радостью, и скажу даже с признательностью, потому что, позволяя мне наблюдать за благосостоянием этих добрых людей, это положение доставит мне возможность выказать мою преданность не только вам, но и Франции, которую я считаю вторым отечеством.
— Вот это решено, и я, в свою очередь, благодарю вас, господин Поблеско. Теперь, дети мои, — продолжал Гартман, обращаясь к работникам, — так как вы нисколько не виноваты в наступающих событиях и так как было бы в некоторой степени несправедливо заставлять вас подвергаться последствиям этих событий, я объявляю вам, что сделавшись вольными стрелками, вы остаетесь моими работниками, то есть, что во все время продолжения войны вы будете получать плату как бы во время мира. Каждые две недели, по фабричному обычаю, все равно где бы вы ни находились, господин Поблеско будет выдавать вам плату. Кроме того, я беру на себя опеку о вдовах и сиротах тех из вас, которые падут в битвах. Те же, которые по своим ранам сделаются неспособны к работе, не должны тревожиться, мы устроим для них убежище.
— Этими словами, — ответил Людвиг, — вы осуждаете нас на смерть. Теперь, когда мы уверены, что нашим семействам нечего бояться нищеты, мы будем сражаться с веселым сердцем и каждый из нас будет стоить двоих.
Гартман с трудом избавился от изъявлений признательности своих работников.
Вечером он захотел присутствовать на банкете и посадил Людвига по правую свою руку. До восьми часов пили за благосостояние Франции, за успехи нашей армии, а в особенности за будущие подвиги альтенгеймских вольных стрелков.
Без четверти одиннадцать Гартман и его семейство, включая Люсьена и трех студентов, вернулись в Страсбург вместе с Поблеско, которого Гартман просил ехать с ним.
Глава VIII КАКИМ ОБРАЗОМ МЕЙЕР ПОЗНАКОМИЛСЯ С ГОСПОЖОЮ ДЕ ВАЛЬРЕАЛЬ, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО
Въехав в город, Гартман приметил, что большое одушевление господствовало на улицах, обыкновенно почти пустых в этот час ночи.
Жители стояли в полуотворенных дверях, разговаривали между собою и расспрашивали друг друга.
Там и сям виднелись группы, рассуждавшие очень живо, а вдали слышался стук барабанов и звуки труб.
Туркосы, стоявшие в лагере с разными другими полками за Савернскими воротами, складывали палатки, как будто получили приказание выступать.
Не была ли это фальшивая тревога, приказанная дивизионным генералом, это было необходимо узнать Мишелю и Ивону. Вследствие этого велено было кучеру немедленно направиться к главному штабу их полка.
Только что экипаж выехал на набережную, как встретился с шестью офицерами верхом, среди которых Мишель узнал полковника и подполковника своего полка. Полковник, со своей стороны, также узнал его и остановил свою лошадь, чтобы подождать его.
— Извините, полковник, — сказал Мишель, — я сейчас приехал в город и не знаю, что случилось. Не соблаговолите ли сообщить мне, что нового?
— Это вы, капитан Гартман, — ласково сказал полковник, — со своим неразлучным подпоручиком Кердрелем? Добро пожаловать, господа. Мы, действительно, получили немедленные приказания. В четыре часа утра полк должен выйти из города и присоединиться к дивизии. Поезжайте со мною до Финкмата, где стоит полк, чтоб нам сделать необходимые распоряжения для того, чтоб быть готовыми выступить, как только получим приказ.
— Полковник, дадите ли вы мне пять минут на то, чтоб проститься с моими родными, которые сидят в этой коляске?
— Да, но не секунды более. Вы догоните меня.
Он поехал шагом в сопровождении других всадников. Мишель и Ивон воротились к коляске; оба были печальны, но спокойны и решительны.
— Вы слышали, батюшка? — сказал Мишель.
— Да, сын мой, — ответил старик, делая усилие, чтоб не обнаружить своей горести. — Час разлуки настал. Думайте о нас, дети. Я не скажу вам: исполняйте вашу обязанность; я знаю, что вы будете исполнять ее. Только вспомните, что вы эльзасцы; эта провинция дала Франции Клебера, Келермана, Нея и множество других великих воинов. Следуйте их примеру и умрите, если понадобится, для защиты отчизны.
Он раскрыл объятия обоим молодым людям и прижал их к сердцу.
Госпожа Гартман обняла сына, не произнося ни слова. Горесть и слезы, которые она удерживала, душили ее. Обе молодые девушки плакали.
— Прощайте! — прошептали они только. Молодые люди убежали, сдерживая рыдания.
— После того, что случилось, после сцены, которой вы были свидетелем, — обратился Гартман к Поблеско, — вы должны понять, что горесть не позволит мне заняться чем бы то ни было. Располагайте вашей ночью как желаете. Завтра, в восемь часов утра, я вас приму и мы долго будем разговаривать о наших добрых работниках, интересы которых я хочу поберечь…
Поблеско сошел с лошади, отдал поводья слуге, почтительно поклонился семейству Гартмана и медленно удалился, оставив экипаж направляться на набережную Келерман.
Когда стук колес затих вдали, Поблеско осмотрелся вокруг и пошел быстрыми шагами к площади Брогли. Этот длинный переход занял не более десяти минут.
Четверть двенадцатого пробило на соборных часах в ту минуту, когда Поблеско пришел к дому Жейера. Он заметил с удивлением, что все окна первого этажа были освещены и множество теней обрисовывалось за занавесками.
У банкира был большой прием. Молодой человек знал об этом, но забыл.
Он бросил тревожный взгляд на свой костюм. К счастью, для приема Гартмана он принарядился. Он был во фраке, в черных панталонах и лакированных сапогах, в белом жилете и белом галстуке. Следовательно, его костюм был безукоризнен. Вынув перчатки из кармана и пробираясь между карет, стоявших перед домом, он вошел в комнаты неприметно.
В эту минуту две оперные певицы, недавно прибывшие в Страсбург, пели знаменитый дуэт Рауля и Валентины из четвертого акта «Гугенотов», вот почему Поблеско мог пробраться в залы без доклада.
Быстрым взглядом удостоверился он, что Жейера тут нет, но приметил с удивлением, почти с испугом, графиню де Вальреаль, сидевшую между другими дамами, взгляд которой, как бы привлеченный магнетическим током, встретился с его взглядом с видом угрозы и вызова, и принудил его потупить глаза.
С тем знанием света, которым Поблеско обладал в высшей степени, он, не мешая никому, не делая ни малейшего шума, успел обойти залу, добраться до портьеры, за которую проскользнул, и отворил дверь, которую тихо запер за собою.
Он очутился в очаровательной будуарной гостиной, слабо освещенной одной люстрой с матовыми стеклами.
Но Поблеско знал расположение дома банкира. Он подошел к камину, дотронулся до пружины, спрятанной в нежной резьбе рамки зеркала. Тотчас потайная дверь отворилась, обнаружив лестницу, по которой Поблеско быстро пошел. Дверь затворилась за ним без малейшего шума.
Молодой человек, руководимый лампой, которая слабо освещала лестницу, поднялся на пятнадцать ступеней и остановился у двери, в которую постучался пять раз, два раза очень скоро один за другим, а три последние в равных промежутках, потом тихо поцарапал дверь ручкою перочинного ножа, который вынул из своего жилета. Дверь тотчас отворилась и явился Жейер.
— Вы не могли явиться более кстати! — вскричал банкир. — Добро пожаловать, я вас ждал.
— Вы меня ждали? — спросил молодой человек, входя в комнату, где находились уже пять человек.
— Да, — сказал банкир, улыбаясь. — Обстоятельства довольно важны, кажется, для того, чтобы мы имели надобность вас видеть.
— Это правда, — сказал он, садясь на кресло, придвинутое ему банкиром.
Эта комната имела вид кабинета, но стены обиты таким образом, что невозможно было слышать в другой комнате, что говорилось в этой.
Поблеско знал этот кабинет, где уже несколько раз Жейер принимал его.
Он осмотрелся вокруг, поклонился Мейеру, который сидел у стола, и немало удивился, что в числе присутствующих находилась женщина, очень красивая, лет двадцати шести, по крайней мере на вид, и в бальном наряде. Эту женщину ему представил Жейер как баронессу фон Штейнфельд.
— Мы начнем, если вы позволите, — сказал банкир, садясь, — разговор с того пункта, на котором он был прерван приходом графа Поблеско; притом торопиться не к чему, мы можем разговаривать свободно. Артистки, приглашенные мною, пропоют еще несколько пьес; это нам даст часа полтора или два спокойствия. Потом будут танцевать и я поставлю себе за долг, — сказал он, кланяясь баронессе, — возвратить вас вашим многочисленным поклонникам, но прежде прошу вас продолжать.
— Я вам говорила, — сказала баронесса фон Штейнфельд, — что важные события приготовляются в Париже. Как вам известно, Франция подчиняется войне, предписываемой ей императором. Правительство приметило слишком поздно, что война с Пруссией посерьезнее войны с Австрией, где оно получило такое легкое торжество, и сожалеет, что зашло так далеко. К несчастью, слишком поздно. Потребны большие усилия для того, чтобы пересоздать армию на прочных основаниях, но это нелегко, особенно в том положении, в каком находится ныне французская армия. Я была принуждена оставить Париж, как многие из моих соотечественников, но прежде приняла все предосторожности. Наша система шпионства прекрасно устроена в Париже и действует при таких условиях, что если б даже правительство успело захватить некоторых наших агентов, оно не могло бы узнать ничего важного. Самые ловкие шпионы разделили кварталы. Люди, находящиеся в их распоряжении, каждый вечер отдают им отчет в том, что они видели и слышали. Наняты дома в верхних пунктах города, в окрестностях укреплений, и не выходя из Парижа, посредством очень простого освещения, агенты будут сообщаться с внешними агентами, а те таким же способом с другими, поместившимися дальше. Словом, господа, устроено нечто вроде телеграфа, который обманет все предвидения и всю хитрость французской полиции, такой зоркой однако, на тот случай, если наши войска дойдут до Парижа и станут осаждать его. Положено много оружия и боевых снарядов в различных местах города, и прусская армия будет иметь двадцать или двадцать пять тысяч человек, готовых отворить ей ворота.
— Но вы, кажется, сказали, — заметил Жейер, — что все пруссаки были прогнаны из Парижа. Мы сами уже несколько дней видим их проезжающими через Страсбург. Мне кажется, что это делает довольно затруднительным и почти нестерпимым положение наших агентов в Париже.
— Ошибаетесь; вы сейчас поймете меня. Я скажу вам прежде всего, что изгнание немцев скоро будет, но еще не настало. Только люди, принадлежащие к ландверу, уехали из Парижа к своим знаменам. Другие не замедлят последовать за ними. Меня удостоили заподозрить и я получила приказание уехать из Парижа в двадцать четыре часа, а из Франции через неделю. Вот почему я здесь. Перейдем теперь к положению наших агентов, которое вы считаете очень затруднительным и почти невыносимым во время войны. Это ваши собственные выражения, не правда ли? Я повторяю вам, вы ошибаетесь вот почему: вы знаете, что по прусскому закону всякий пруссак имеет право, если его принуждают к этому выгоды, когда он находится за границей, вступить в сословие граждан той страны, где он живет; но закон прибавляет: «Так как это вступление имеет целью охранять торговые интересы того, кто решается на это, он не лишается звания пруссака, а напротив, сохраняет все права, приобретенные своим рождением, и обязан, что ни случилось бы, служить своему отечеству во всем, чего оно потребует от его патриотизма».
Французам неизвестен этот закон, которого их гордость не поняла бы. Они так ослеплены собою, что воображают, будто все иностранцы желают быть французами, и с горделивой радостью принимают это вступление в гражданство, которого немцы просят, нисколько не стесняясь. А все агенты, оставшиеся в Париже, видя то, что случилось, приняли французское гражданство. Бедняки, не сделавшие этого, служат по железным дорогам в Париже; это люди безвредные по наружности; их считают вообще эльзасцами и никогда не будут иметь к ним недоверия.
— О, о! — сказал банкир. — Я очень хорошо знал прусский закон об этом ложном вступлении в чужеземное гражданство, которым, впрочем, я воспользовался сам; но не знал, что Бисмарк довел предосторожность до того, что заставил сделаться французскими гражданами всех агентов, которых так давно содержит Париж.
— Не только в Париже, но во всей Франции.
— Решительно, Бисмарк великий человек. Он создал нам вторую армию, хотя тайную, но тем не менее опасную, которая, я надеюсь, поможет нам справиться с фанфаронами французами, которые воображают себя непобедимыми.
— Вы знаете, любезный господин Жейер, что я уезжаю завтра, или лучше сказать сегодня, в пять часов утра. Я прямо еду к министру. Я надеюсь, что он поблагодарит меня за труд, которым я занималась во Франции пять лет. Если вам надо отправить к нему что-нибудь, я возьму с удовольствием.
— Все будет у вас в нынешнюю ночь. Потрудитесь, пожалуйста, сказать министру, что я сосредоточил в своих руках все агентства Эльзаса и Лотарингии; так же как вы сделали в Париже, я устроил все в большом размере. Каждый день утром и вечером я принимаю и распределяю сведения, доставленные мне. Положение мое здесь хорошо. Я принял французское гражданство; я слыву превосходным патриотом и сегодня же препроводил двадцать пять тысяч франков в муниципалитет для помощи жертвам войны. Притом я любим, уважаем, и если не встретится непредвиденной случайности, я не подвергаюсь никакой опасности возбудить подозрения и всегда буду в состоянии доставлять его сиятельству все сведения, в которых он нуждается об обеих провинциях, за которыми надзор он удостоил мне поручить. Все меры приняты для того, чтобы в случае осады Страсбурга мои сношения с прусским правительством не были прерваны.
— Ваши слова будут буквально повторены графу Бисмарку и я не сомневаюсь, что после войны черный орел первого разряда или железный крест присоединится на вашей груди к другим орденам, которые вы приобрели также благородно.
Комплимент этот до того походил на эпиграмму, что банкир два раза посмотрел на свою очаровательную собеседницу, чтобы удостовериться, серьезно ли говорит она.
— Я, право, не знаю, как вас благодарить, баронесса, — ответил он, наконец, и тотчас обратился к Поблеско. — Теперь мне остается выслушать вас. Лица, прибывшие прежде вас, сообщили мне свои донесения. Потрудитесь, пожалуйста, отдать мне ваше.
— В эту минуту я так неожиданно был застигнут событиями, что у меня недостало времени написать донесение. Я словесно отдам вам отчет происшествий, которых был свидетелем. Я отдал вам только донесения, полученные мною сегодня утром от подчиненных мне агентов. Вот они.
Он вынул из бокового кармана фрака несколько пачек бумаг, которые положил на стол.
— Очень хорошо, — ответил банкир, — говорите, пожалуйста, я внимательно слушаю.
— Большое движение началось в эту минуту в эльзасском народонаселении. Порыв патриотический чрезвычайно велик. Повсюду, заметьте это хорошенько, несмотря на бездействие правительства, которое нисколько этому не помогает, люди, способные носить оружие, организуют отряды партизан, решившихся защищать ущелья своих гор и погибнуть всем до последнего скорее, чем позволить чужеземцам занять их страну.
— Это очень важно.
— Сегодня же в Альтенгейме, где было состязание в стрельбе, работники с фабрики Гартмана, где я управляющим, составили отряд партизан из трехсот человек, все из отставных африканских и крымских солдат, привыкших к военной дисциплине и научившихся к войне из-за кустов с арабами. Не пройдет и недели, как этому примеру последуют все горцы вогезские. Вы будете иметь этому доказательство в донесениях, которые я вам передал. Я говорю вам только о партизанах, составившихся в Альтенгейме, потому что это случилось при мне сегодня же, так что я никак не мог воспротивиться этому Они так приняли предосторожности, так сохраняли свою тайну, что я узнал о ней только, когда было уже слишком поздно воспротивиться их намерению. Я старался сделаться начальником этого отряда, но мне не удалось, по наружности вследствие моего польского происхождения, но в действительности я думаю от того, что работники имеют против меня подозрения, еще неопределенные, но которые я употребил все силы уничтожить, прежде чем они примут большую важность. Итак, мне нужна очень большая свобода действия, а не то мое положение сделается не только опасным для меня, что не значило бы ничего, но бесполезным для интересов короля.
— Самая полная свобода будет вам предоставлена, Поблеско. Вас знают; известно, как вы преданы вашей родине.
— Благодарю вас. Надеюсь, скоро дам вам доказательства, что эта преданность не знает границ. Не имев возможности сделаться начальником этого отряда партизан, я искусно обошел затруднения и довел Гармана, имя которого, сказать мимоходом, я советую вам отметить тремя красными крестами…
— Да, да, — перебил Жейер, — я знаю мнения Гартмана. Это отъявленный противник Пруссии.
— Скажите, ожесточенный враг. Гартман истратит свое состояние до последнего сантима, чтоб помочь победить Пруссию. Сегодня, не колеблясь, он истратил больше полтораста тысяч франков для устройства партизанского отряда, о котором я вам говорил.
— Полтораста тысяч! — сказал банкир, сложив руки.
— Да, и он этим не ограничился. К несчастью, не один он в Эльзасе показывает такую ненависть к нашей стране. Не обманывайте себя, все главные торговцы против нас.
— Это правда, я это знаю. Богатые промышленники не поколеблются принести всякие жертвы. Сверх того, мы имеем дело с народонаселением чрезвычайно воинственным, сердечно привязанным к Франции, и я боюсь, что Пруссии никогда не удастся привлечь его к себе, какие бы средства ни употребила она. Но продолжайте объяснение, начатое вами.
— Я вам говорил, что обошел затруднение, так что не делая вида, будто я этого желаю, я заставил Гартмана предложить мне пристать к отряду партизан, который он организовал, в качестве волонтера. Вы понимаете, что это позволит мне оказать большие услуги.
— Действительно. Вам нечего больше прибавить?
— Нечего. Вы, вероятно, знаете, так же как и я, о выступлении войск, стоявших лагерем за Савернскими воротами?
— Да, приказ получен в девять часов вечера. Я получил его в одно время с дивизионным генералом.
Потом, обернувшись к баронессе, Жейср прибавил:
— Вы видите, баронесса, мы готовы здесь исполнять нашу обязанность. Все предосторожности приняты нами. Мы ждем с уверенностью прибытия прусских войск.
— Извините, — перебил Поблеско, — я забыл подробность очень интересную и очень важную в настоящую, минуту: один из моих агентов сошелся с двумя семействами пиетистов, имеющих некоторое влияние в горах. Он сделал этим двум семействам предложения, которые были приняты недурно. Я не распространяюсь об этом предмете, потому что не знаю еще подробностей, но надеюсь через два дня быть в состоянии сообщить вам лучшие сведения. Я сам займусь этими переговорами.
— Не пренебрегайте ничем; время не терпит. Для нас очень важно приобрести сообщников в горах.
— Я употребляю все старания.
В дверь постучались особенным образом.
— Господа, — сказал банкир, — этот сигнал сообщает нам, что начинаются танцы и нам пора показаться в залах. Не угодно ли вам пожаловать за мною, баронесса? Я провожу вас в будуар, куда ваша мигрень принудила вас удалиться. А вы, господа, спуститесь по большой лестнице. Для вас ничего не может быть легче примешаться к толпе. Через минуту я присоединюсь к вам.
Присутствующие встали, и между тем как банкир и баронесса фон Штейнфельд скрылись по потайной лестнице, другие заговорщики, или лучше сказать шпионы, вышли с другой стороны.
— Очень рад вас видеть, любезный Мейер, — сказал Поблеско, приближаясь к барышнику, на котором бальный костюм сидел изящно и грациозно, — каким образом я встречаю вас на этом празднике?
— Что же делать, мы должны покоряться странным требованиям; мне не нужно говорить вам, не правда ли, что я здесь инкогнито; я слыву отдаленным родственником хозяина дома, что для меня большая честь, — прибавил он с лукавым видом.
— Вы вернетесь в залы?
— Конечно, а вы?
— Я также. Если вы идете туда, советую вам внимательно рассмотреть одну даму.
— Для чего это? Я не знаю здесь ни одной дамы.
— Знаю, но это не значит ничего. Вы эту даму узнаете с первого взгляда. Это великолепная брюнетка с большими черными глазами, глубокими как ночь. Сказав вам, что она самая красивая из всех дам, украшающих этот бал, я сообщу вам самые точные приметы.
— Любезный Поблеско, признаюсь вам между нами, что по принципу, а может быть, также и по моим летам, я мало забочусь о дамах, какие бы они ни были красавицы. Я предпочитаю свидания с бутылкой рудгейсмера самой обольстительной из всех сирен, наполняющих в эту минуту залы нашего хозяина.
— Это все равно, смотрите внимательно на женщину, о которой я вам говорю.
— Хорошо; к чему это поведет?
— А вот к чему, любезный Мейер: вы будете иметь доказательство, что наш хозяин не так равнодушен, как уверяет, не так непобедим, как хвастается.
— Теперь вы даете мне угадывать загадки?
— Нет.
— Извините, я обязан предупредить вас, что никогда не чувствовал ни малейшей наклонности отгадывать ребусы.
— Я не задаю вам ни ребуса, ни шарады. Я просто обращаюсь к вашей памяти.
— А! Это другое дело. Объяснитесь.
— Вы помните графиню де Вальреаль?
— Конечно, и признаюсь вам между нами, после всего сказанного вами, я ужасно ее боюсь.
— Вы помните, не правда ли, в чем мы условились и какое обязательство принял на себя Жейер?
— Помню очень хорошо. Надеюсь, что он выполнил это обязательство.
— Вы надеетесь неосновательно.
— Как?
— Да. Это обязательство, столь серьезно принятое, на исполнение которого мы имели право полагаться, он вовсе не исполнил.
— Вы шутите?
— Сохрани меня Бог глумиться над подобным предметом! Войдите в залу, любезный Мейер, и вы увидите там, как солнце среди звезд, графиню де Вальреаль прелестнее и обольстительнее прежнего.
— Знаете ли, если вы мне говорите правду…
— Поблеско сказал правду, — сказал Жейер, появившись в эту минуту между обоими.
Банкир вышел из двери на площадку, где остановились собеседники, и на несколько времени невидимо присутствовал при их разговоре.
— Черт вас побери! — вскричал Мейер. — Как вы меня испугали! Разве можно заставать людей врасплох?
— Извините, но иногда хорошо подслушать у дверей; как вы видите, можно узнать вещи важные.
— Я сказал правду, — заметил Поблеско.
— Признаю это. Я обязался заставить замолчать графиню де Вальреаль, а в случае надобности освободиться от нее всеми возможными способами.
— Ну?
— Разве я обещал вам, что исполню это немедленно и без всяких предосторожностей? Разве я дурак? Или гнусный убийца? Неужели я пойду убивать или заставлю убить эту женщину? Неужели вы думаете, что смерть ее не потревожит никого, что не станут разыскивать причин? Дело это не может идти так скоро, как вы предполагаете, господа. Эта женщина должна исчезнуть и исчезнет, в этом я клянусь и сдержу свою клятву; но она исчезнет так, чтоб никакое подозрение не могло коснуться нас. Мы еще не владеем Страсбургом. Французская полиция самая проницательная во всей Европе; если я буду действовать легкомысленно, не приняв предосторожностей, мы все можем в этом раскаяться. Партия, которую мы играем, серьезна. Малейшая ошибка может нас погубить.
— Я понимаю, — отвечал Поблеско, — но присутствие этой женщины в вашем доме…
— Это присутствие доказывает вам совершенно противное тому, что вы предполагаете. Все должны знать, для отвращения подозрения, вежливые отношения мои к ней. Сверх того, я ее банкир; я сделал ей визит, она отплатила его мне. Мало-помалу я успел войти с нею в связь, которая, не будучи короткой, достаточно ставит меня в такое положение, которое отдалит от меня все недоброжелательные предположения. Вы молоды, Поблеско, вы слишком легко увлекаетесь. Поверьте мне, прежде чем судить о поступках людей, соберите доказательства против них. Скоро, надеюсь, вы убедитесь, что обвинили меня слишком поспешно.
— Это мое живейшее желание. Простите мои суровые слова, но я чувствую к этой женщине такую глубокую ненависть, что вид ее леденит мое сердце и мне становится почти дурно. Я вас подозревал, виноват. Теперь я в этом сознаюсь. Объяснений, данных вами, достаточно для меня.
— Не будем об этом говорить; события оправдают меня лучше всяких слов. Но войдем в залы, прошу вас. Наше отсутствие может быть замечено. Оно гораздо продолжительнее, чем следовало бы. Пойдемте.
Все трое спустились с лестницы, внизу которой банкир оставил своих гостей.
— Любопытно мне однако посмотреть на эту очаровательную сирену, — сказал Мейер, наклоняясь к молодому человеку, — вы мне покажете ее, не правда ли?
— Нет, — ответил тот смеясь, — напротив, я хочу, чтобы вы сами узнали ее.
— Попробую, но не отходите от меня.
— Будьте спокойны.
В свою очередь они вошли в залу.
Там господствовало чрезвычайное одушевление. Танец кончился. Лакеи разносили мороженое; приход наших действующих лиц остался непримеченным. Они прошли первую залу, вошли во вторую, а оттуда в великолепный зимний сад, куда удалилось множество дам вздохнуть свободнее.
Хотя все окна были отворены, жар был удушливый. Только что Поблеско и Мейер вошли в зимний сад, последний судорожно сжал руку молодому человеку.
— Вот она! — сказал он задыхающимся голосом.
Он указывал ему на молодую женщину, которая сидела одна в боскете, слабо освещенном, и думая, что никто за нею не наблюдает, грустно и задумчиво осматривалась вокруг.
— Это она, не правда ли, это она? — продолжал он.
— Да, — с горечью ответил молодой человек. — Это, действительно, она. Что вы думаете о ней?
— Что я думаю? — прошептал Мейер слегка дрожащим голосом. — О! Вы правы; эта женщина, если мы не остережемся, убьет нас, если мы ее не убьем. Мы погибли!
— А! — возразил молодой человек. — Вы понимаете теперь?
— Да, — прибавил Мейер с мрачной решимостью, — я понимаю это так хорошо, что буду действовать сообразно с этим.
— Что намерены вы делать? — спросил молодой человек, бросая на него удивленный взгляд.
— Ничего, ничего, — ответил Мейер холодно.
— Но все-таки? — настаивал Поблеско.
— Вы это узнаете после. Прощайте!
Не занимаясь более своим спутником, Мейер повернулся, быстро удалился и исчез среди толпы, наполнявшей залы.
Напрасно Поблеско погнался за ним, он не мог догнать его.
Барышник поспешно вышел из дома банкира.
Глава IX МНЕНИЕ ЛЮСЬЕНА ГАРТМАНА О ПОБЛЕСКО
Как ни был велик стоицизм Гартмана, горестные удары, полученные им один за другим, наконец поспешный отъезд старшего сына и Ивона Кердреля, человека, которому он обещал руку дочери и к которому чувствовал истинно родительскую привязанность, все это обрушилось на голову его в такое короткое время, что почти уничтожило его силы и уменьшило мужество.
Целую ночь, запершись в своей комнате, раздираемый самыми мрачными предчувствиями, один с женой, этой кроткой и праведной подругой своей жизни, он дал полную волю своей горести и горько оплакивал молодых людей, так внезапно оторванных от его родительской любви, которые уехали с такой решимостью, с таким благородным рвением, и о страшной смерти которых на поле битвы, может быть, он скоро услышит.
На другой день бедный отец находился в таком унынии, что не велел никого принимать, и хотя Поблеско настаивал, чтоб его приняли, ссылаясь на свидание, назначенное ему Гартманом, он был принужден уйти и отложить до завтра свое посещение.
День прошел, а Гартман не выходил из своей комнаты.
Он боролся, как говорил он сам, с горестью, решившись преодолеть ее, чтоб возвратить свободу ума и посвятить себя вполне интересам своей страны, которая, как он предвидел, не замедлит обратиться к его просвещению, а в особенности к его патриотизму.
К девяти часам вечера Люсьен, бывший в отсутствии, как читатель уже знает, вернулся в Страсбург.
На этот раз молодой человек, оставивший своих товарищей в Альтенгейме, вовсе не думал о портерной «Город Париж», где он имел обыкновение проводить большую часть своих вечеров, а прямо направился к улице Голубое Облако, то есть к родительскому дому.
Мать тотчас сообщила ему о поспешном отъезде Мишеля и Ивона, о горести Гартмана и в какой он находился слабости.
Молодой человек, нежно обняв мать и отерев ее слезы своими поцелуями с нежностью избалованных детей, послал спросить у отца, согласен ли он его принять.
Против ожидания Люсьена, Гартман отвечал, что он может войти. Молодой человек не заставил повторить этого позволения. Слова матери очень растревожили его; он обожал своего отца, и если б вход в его спальню был ему воспрещен, вероятно, несмотря на уважение к отцу, он нарушил бы запрещение.
Гартман сидел в большом кресле, откинувшись назад; голова его лежала на подушках. Лицо его носило отпечаток горестей, которые в несколько часов надломили его. Физиономия его была печальна, но спокойна. Силы начинали возвращаться мало-помалу и, по милости своего энергичного характера, старик успел, наконец, запрятать в глубину своего сердца горе, терзавшее его.
Он кротко улыбнулся, приметив сына, поцеловал его горячо и посадил возле себя.
Гартман нежно любил Люсьена. Эта нежность заставила его оставлять без внимания многие недостатки молодого человека и часто он упрекал себя в этом, как в слабости.
— Ну что? — спросил он. — Ты воротился? Что сделал? Как все было? Доволен ты своей поездкой? Говори, я хочу знать все.
— Не опасаетесь ли вы, папа, что этот рассказ вас утомит? Поздно, вам нужен покой. Может быть, лучше…
— Нет, — перебил старик улыбаясь, — ты можешь говорить без опасения, милое дитя; удар, поразивший меня, был жесток, я в этом сознаюсь; горесть, испытанная мною, была ужасна; на одно мгновение я почувствовал себя разбитым, но слава Богу, рассудок пришел ко мне на помощь, и хотя рана все обливается кровью, ко мне вернулось мужество, а с мужеством сила, в особенности же безропотность. Повторяю тебе, Люсьен, ты можешь говорить без опасения утомить меня, тем более, что моим мыслям не надо устремляться постоянно на один и тот же предмет. Не должен ли я отвлекать свое горе?
— Если вы желаете, батюшка, я вам скажу, что, как мы условились, я ездил сегодня утром из Альтенгейма в Муциг. Я исполнил поручение, которое вы дали мне, так разумно, как только мог. Я думаю, что вы останетесь довольны мною. Альтенгеймские вольные стрелки имеют теперь все необходимое: платье, провизию, оружие, снаряды и лекарства. Вот на этой бумаге подробная опись всего, что я истратил. Вы увидите, что цены гораздо ниже сделанной вами оценки. Я думал, что исполню ваше намерение, батюшка, если не воспользуюсь этим остатком, а напротив, увеличу количество снарядов, провизии, одежды в значительных размерах.
— Ты хорошо сделал, Люсьен; действуя таким образом, ты совершенно понял мои намерения. Я вижу с удовольствием, — прибавил Гартман с кроткой веселостью, — что ты становишься мужчиной и что я могу иметь к тебе доверие.
— Вырастаешь с обстоятельствами, батюшка, а те, в которых мы находимся, так серьезны, что в несколько часов заставляют человека возмужать.
— Мне приятно слышать от тебя это, сын мой, но скажи мне, не узнал ли ты чего нового в Муциге?
— Хотя первые пушечные выстрелы еще не раздавались, все заставляет предполагать, что сражение неизбежно. До сих пор войска еще сосредоточиваются; и с той, и с другой стороны только делают рекогносцировки. Вот что я узнал положительного. Двадцать шестого июля, следовательно, шесть дней тому назад, граф Цепелин, офицер виртемберского главного штаба, в сопровождении трех баденских драгунских офицеров и восьми кавалеристов, сделал очень смелую рекогносцировку через Лаутербург до Сульца. Этот офицер заехал слишком далеко. Лошади его падали от усталости. Он был принужден против воли остановить свой отряд на ферме между Вёртом и Нидерброном, чтобы дать отдохнуть лошадям. Только что всадники спешились, как на них напал патруль французских егерей, которых генерал Бернис, начальник кавалерии, по указаниям, полученным от жителей, отправил в погоню за ними. Борьба была сильная, сражение ожесточенное; оба отряда были почти одинаковой силы. Один из баденских офицеров, англичанин по происхождению, и четыре всадника были убиты или ранены. Два другие офицера, также раненые, и солдаты принуждены были сдаться и отведены в главную квартиру в Мец. Граф Цепелин один успел бежать. Вот что я узнал, батюшка.
— Начало недурно, но ты сам говорил, что это была только рекогносцировка.
— Это правда, батюшка, но заметьте, что этот неприятельский отряд был совершенно уничтожен. Это известие, полученное в Муцинге вчера, возбудило там большое волнение. Это начало, как ни ничтожны результаты, служит хорошим предвещанием для войны.
— Дай Бог, чтобы мы не ошибались, сын мой! — ответил Гартман, печально качая головой. — Ты ничего более не скажешь?
— Извините, батюшка, я скажу вам еще несколько слов. Как я вам сообщил, сражение неизбежно, последствия предвидеть невозможно. Сегодня вечером офицеры отряда альтенгеймских вольных стрелков собрались под председательством Людвига, их начальника. Решили, что отряд немедленно выступит в поход, что сегодня ночью, в час, первое отделение выйдет из деревни для рекогносцировки, потому что весь отряд должен через два дня занять пост на границе или, по крайней мере, как можно ближе к неприятельскому авангарду, чтобы наблюдать за всеми движениями пруссаков. Одобряете ли вы это распоряжение, батюшка?
— Да, дитя мое, во всех отношениях; но зачем ты остановился?
— Если вы видите, что я колеблюсь, то потому, что я примечаю несколько поздно, что несмотря на важность обстоятельств, мне следовало бы, может быть, подождать несколько часов прежде, чем сообщить вам…
Старик тихо положил руку на плечо своего сына и сказал, покачав головою с грустным видом:
— Тебе нечего сообщить мне, милое дитя, я знаю все. Но я сказал уже тебе, что я теперь тверд и могу выслушать все. Притом, — прибавил он печально, — разве жертва не должна быть полная? После старшего младший, так и следует; я и твоя мать теперь старики и думали иметь в вас подпору, а вместо того должны остаться одни; так угодно Богу, да будет воля Его! Первый отряд твоих товарищей выступает нынешнюю ночь. Ты понял, Люсьен, что твое место в авангарде, что сын Гартмана не может оставить работников своего отца, когда эти работники идут сражаться за него. Ты прав, сын мой, эта мысль благородна и великодушна; благодарю тебя за нее. Я прибавлю только одно: исполняй твой долг. Твоя мать и я станем молиться за тебя. Если ты умрешь, мы будем оплакивать тебя.
— Батюшка, добрый батюшка!..
— Да, дитя мое, тяжело и печально в мои лета в несколько дней видеть себя покинутым вдруг всеми детьми, остаться одному со своей горестью, в доме, где протекло столько счастливых дней. Но долг повелевает, надо повиноваться. Что ни случилось бы с твоим братом и с тобою, я не ослабею; до конца я останусь непоколебим; а если и паду, то унесу с собою в могилу великое утешение, что я, не колеблясь и не сожалея, пожертвовал моему отечеству не только своим состоянием, что не значило бы ничего, а всеми существами, дорогими для меня. Не говори ничего твоей матери о твоем отъезде в эту ночь; предоставь мне сообщить ей это печальное известие.
— Батюшка, благодарю вас за то, что вы говорите со мною таким образом; я чувствую, что становлюсь взрослым мужчиной, слушая вас; мне кажется, что между вчерашним днем и сегодняшним лежит громадное расстояние; мысли мои совсем не те, стремления мои увеличились; верьте мне, батюшка, что ни случилось бы, я останусь достойным вас.
— Благодарю, дитя мое, но разве ты сейчас оставишь меня? Не можешь ли ты остаться еще несколько минут со мною?
— Я не хочу расстаться с вами до последней минуты, батюшка, и если вы согласны, потому что мне остается еще час, я воспользуюсь этой отсрочкой, данной мне случаем, чтоб поговорить с вами о человеке, которому вы оказываете слишком большое доверие, а по предчувствию или инстинкту, человек этот внушает мне непреодолимое недоверие.
— На кого ты намекаешь, милое дитя?
— На Поблеско, батюшка.
— На Поблеско? Ты ошибаешься, Люсьен. Этот молодой человек во всех отношениях достоин моего доверия. С тех пор, как я поручил ему управление фабрикой, я очень внимательно наблюдал за ним, я ни на минуту не терял его из вида; поведение его кажется мне самым благородным, честность выше всяких подозрений. Однако, ты знаешь, Люсьен, у него в руках часто бывают значительные суммы.
— О! В этом отношении, батюшка, я совершенно разделяю ваше мнение. Да, господин этот честен, он никогда не присвоит себе не принадлежащей ему суммы. Его поведение благородно или, по крайней мере, кажется таким. Не об этом я говорю.
— О чем же, сын мой? Объясни. Признаюсь, я совсем тебя не понимаю.
— Я сам желаю объясниться, батюшка, только не знаю хорошенько, каким образом человек этот вошел в наш дом.
— Очень просто, сын мой. Однажды, четыре года тому назад, ты был тогда с твоею матерью и сестрой в Париже; однажды, говорю я, является ко мне незнакомый человек с письмом от Ксавье Калбриса, нашего корреспондента в Мюнихе. Ты знаешь Калбриса; он наш соотечественник, родился в этом городе, сверх того один из лучших и самых старинных моих друзей. Я приказал принять незнакомца и поспешно распечатал письмо, которое он подал мне. В этом письме заключалась очень горячая рекомендация графу Владиславу Поблеско, польскому дворянину, который принужден был удалиться из своего отечества, чтоб спастись от смерти, на которую он был осужден австрийским правительством; все его состояние было конфисковано и поэтому он был принужден искать должности, которая позволила бы ему жить честным образом. Поблеско показал мне свои бумаги, я благосклонно принял его и обещал заняться им, назначив ему свидание через неделю. Я хотел оказать должную честь рекомендации Калбриса. Однако долг предписывал мне собрать все сведения, какие только мне возможно будет получить. Сведения эти могли мне доставить поляки, поселившиеся в Страсбурге. Сверх того, я тотчас же написал Калбрису. Все сведения, собранные мною, были превосходны. Письмо моего корреспондента дополнило эти сведения и прекратило всякую нерешимость с моей стороны. Поблеско поступил ко мне. Через год я поручил ему управление фабрикой; я должен тебе признаться, милое дитя, что не только не могу нахвалиться его поведением и честностью, но его ум и деятельность были мне очень полезны; большею частью ему я обязан благоденствием моей фабрики. Поблеско человек скромный, не говорливый, но разум у него большой, взгляды возвышенны; он понимает чрезвычайно быстро самые затруднительные вопросы и немедленно находит им разрешение. У него очень редкая способность усваивать идеи тех, с кем он говорит, или, лучше сказать, тех, кого он заставляет говорить при себе, и извлекает из этих идей, если они хороши, наилучший результат. Вот, любезный Люсьен, каков человек, к которому, как ты говоришь, ты чувствуешь непреодолимое недоверие. Надеюсь, что это объяснение, немножко длинное, но которое я не колебался дать тебе, достаточно докажет, что ты ошибся.
— Нет, батюшка, извините. Напротив, я держусь моего мнения; я с почтительным вниманием выслушал слова, произнесенные вами; позволите ли вы мне теперь открыть вам всю мою мысль?
— Ты должен это сделать, сын мой, тем более, что ты нападаешь при мне на человека, которого я считал до сих пор и буду считать до положительных доказательств в противном достойным всего моего уважения.
— К несчастью, батюшка, я могу дать вам доказательства только нравственные, но которые тем не менее имеют для меня силу.
— Посмотрим на твои нравственные доказательства, — сказал Гартман, улыбаясь.
— Вот они, батюшка; я начну по порядку. Во-первых, Поблеско очень мало бывает в обществе своих соотечественников. Напротив, он удаляется от них; два или три раза, когда говорили при нем о событиях в его отечестве, Поблеско хранил благоразумное молчание, отвечая двусмысленными фразами и стараясь всегда отклонить разговор, даже когда дело шло о таких событиях, при которых, по уверению его, он присутствовал; но это еще бы ничего. Перейдем к другому. Поблеско говорит по-польски очень легко, но все его соотечественники, люди светские, принадлежащие к знатным польским фамилиям, удивляются, что он говорит на каком-то наречии, на котором говорит только низший класс крестьян. Вы качаете головою, батюшка; очень хорошо. Перейдем к вещам более важным. Каким образом Поблеско, поведение которого по наружности так благородно, имеет в Страсбурге две квартиры?
— Две квартиры?
— Да, батюшка; настоящая его квартира, которую знаете вы и все мы, находится в улице Мерсьер, а другая, неизвестная никому, на конце предместья Пьер; заметьте, батюшка, в двух шагах от городских валов.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Вы увидите, батюшка. В этой квартире, которая состоит из двух небольших и самых скромных комнат, живет не Поблеско, управляющий фабрикою Гартмана, а нечто в роде амфибии, не то художник, не то работник, иногда странствующий музыкант, по имени Феликс Папен, имя чисто французское, как вы видите, батюшка.
— Ты наверно знаешь это? Заметь, Люсьен, что это обвинение очень важно.
— Действительно, батюшка, оно очень важно. Я имею на это материальное доказательство. Я видел… Но все это еще бы ничего; мне остается сообщить вам обстоятельство гораздо серьезнее всего, что вы слышали. К несчастью, в этом вы должны совершенно положиться на меня. Человек, от которого я получил это последнее сведение, взял с меня слово, что я назову его только тогда, когда он сам даст на это позволение.
— Кто же этот человек? Разумеется, я говорю только о том положении, которое он занимает в обществе.
— Человек этот принадлежит к высшему обществу, батюшка; я прибавлю даже, что вы его знаете и имеете к нему величайшее уважение.
— О! О! Что же сказал тебе этот человек?
— Этот человек уверял меня, батюшка, что он знал Поблеско несколько лет тому назад за границей, что там он слыл пруссаком, носил звание барона и имя совсем не такое, под каким он выдает себя теперь. Сверх того, он, по-видимому, имел значительное состояние.
— И ты не можешь мне сказать…
— Это мне запрещено, батюшка; простите мне, если я буду молчать.
— Все эти обстоятельства, если б были доказаны, были бы очень важны, сын мой; теперь же я не скажу, чтобы они не возбуждали большого предубеждения против того, кого ты обвиняешь; но я спрашиваю тебя, для каких выгод, или лучше сказать, для какой цели Поблеско решится вследствие намерения, очевидно задуманного давно, обманывать нас всех? Для коммерческих ли интересов? Или чтоб узнать тайну нашей фабрикации? Если так, то он давно уже знает все и мог бы оставить нас. Это также не для того, чтобы присвоить себе деньги, которыми он распоряжается. Он имел в руках суммы довольно значительные, для того чтобы искусить жадность нечестного человека, и никогда в его кассе я не находил недостатка ни в одном сантиме. Признаюсь, милое дитя, я отказываюсь разгадать эту загадку.
Люсьен несколько раз покачал головой.
— Нет, батюшка, — сказал он, — Поблеско назвался ложным именем не для того, чтобы узнать тайны нашей фабрикации; цель его гораздо более низкая.
— Берегись, сын мой, ты заходишь слишком далеко.
— Нет, батюшка, я уверен, что узнал эту цель.
— Какая же она?
— Узнайте же, батюшка, Поблеско — прусский шпион.
— Полно! Ты с ума сошел, дитя! Он прусский шпион, когда все время проводит на фабрике?
— Нет, батюшка, напротив, он остается там очень недолго. Под предлогом фабричных дел Поблеско вечно рыскает по горам и по окрестным городам. Это я знаю наверно; это я узнал из хорошего источника.
— Полно, Люсьен, будь рассудителен, дитя; я не знаю, какое неистовство овладело всеми вами после объявления войны; нам везде грезятся прусские шпионы. Это у вас перешло в состояние мании. Послушать вас, так в Страсбурге шпионы так и кишат.
— Э! Э! Батюшка, признаюсь, что это мое мнение и его разделяют здесь многие.
— Полно, ты с ума сошел, дитя!
— Не столько, сколько вы предполагаете, батюшка. Вот факт, в справедливости которого я могу вам поручиться: в той квартире, в которой Поблеско живет под другим именем, он получает множество писем, с берлинским, эмским, баденским, парижским штемпелем. Что значит эта корреспонденция под чужим именем, корреспонденция обширная и, должно быть, очень важная? Он должен называться или Поблеско, или Феликс Папен, а я утверждаю, что оба эти имени фальшивые. Еще одно: все письма, получаемые им в его тайной квартире, приходят из-за границы или из Парижа, но на фабрике он получает множество писем из Эльзаса и Лотарингии. Заметьте, батюшка, что это не донос с моей стороны; у меня недостает на это доказательств. Я только сообщаю вам подозрения. Я принужден уехать из Страсбурга, где вы останетесь один, и я стараюсь предостеречь вас против человека, которому вы оказали громадные услуги и который, если вы не будете предупреждены, может в данную минуту заплатить вам не только самой черной неблагодарностью, но еще самой низкой изменой.
— Да, да, — сказал Гартман, задумавшись, — в твоих словах есть некоторая доля правды, сын мой; благодарю, что ты предупредил меня. Дай Бог, чтоб ты ошибался, а то я буду безжалостен к негодяю, которого я принял в свою семью, с которым разделял хлеб и который таким недостойным образом обманул меня. Все это ужасно, я не могу этому поверить. Если это правда, какую войну будем мы вести? С какими чудовищами, с какими злодеями будем мы иметь дело? Американские дикари, океанийские людоеды, ведущие между собой неумолимую войну, сохраняют однако некоторую добросовестность в своих поступках; неужели человек в сущности хищный зверь? Слишком обширное и дурно понятое воспитание неужели делает из него чудовище, ставящее принципом отречение от всякого человеческого чувства, которое не различает добра от зла, правду от неправды, для которого жизнь не имеет другой цели, кроме удовлетворения материальных и грубых инстинктов? Нет, это невозможно. Пруссаки наши соседи. Мы ненавидим их и они нас ненавидят; чувство это естественно, но это народ просвещенный, образованный, из которого вышли величайшие философы нашего века. В этом народе есть врожденное семейное чувство. Подумай, сын мой, для того, чтоб вести шпионскую войну, которую ты предполагаешь, надо, чтоб всякое чувство чести, достоинства, всякое уважение к человечеству умерло у этого народа. Шпионство самая гнусная и самая низкая ступень, до которой может спуститься человек. А эти пруссаки, так надутые своим благородством, своими феодальными правами и своими привилегиями, согласятся обесславить себя таким образом! Хладнокровно, умышленно они запечатлеют у себя на лбу это постыдное клеймо! Как, во второй половине девятнадцатого столетия, самого просвещенного и самого великолепного из всех столетий, может существовать такой народ! Это значило бы вернуться к тринадцатому столетию, вернуться к варварским временам — нет, повторяю тебе, я не хочу этому верить.
— Вы правы, вы всегда правы, батюшка. Однако, позвольте мне повторить вам, я также не ошибаюсь. Вы честны, великодушны во всем, вы не можете подозревать такого унижения нравственного уровня. Это должно быть так; как мы, французы, можем это понять? Мы слывем тщеславными, легкомысленными, но у нас есть в глубине сердца чувство, тотчас выводящее нас на хороший путь, если неравно мы с него сойдем. Это чувство собственной и национальной чести. Будучи сами добросовестны, мы не допускаем недобросовестности в наших врагах, и это большое несчастье для нас, батюшка, потому что мы всегда будем обмануты нашим чувством и нашим сердцем. Как в былое время, Франция и теперь еще довольно богата, чтобы заплатить за свою славу. Победив неприятеля, мы протягиваем ему руку и он становится самым дорогим нашим другом. Если, чего я надеюсь, Господь не допустит, нам угрожает новое сражение при Навии, мы останемся велики в поражении, и если изнеможем в приготовляющейся борьбе, мы можем все потерять, но честь сохраним.
— Мы еще до этого не дошли, сын мой.
— И надеюсь, не дойдем никогда, но надо предвидеть все. Позвольте мне оставить вас с этой радостью в сердце, что сказанное мною заставит вас остерегаться человека, который, как я внутренне убежден, обманывал вас до сих пор и более ничего как негодяй и лицемер.
— Хорошо, сын мой, ничем нельзя пренебрегать в настоящую минуту. Осторожность первая добродетель, которую мы должны иметь. Уезжай спокойно, я буду осторожен.
— Вы обещаете мне это, батюшка?
— Даю тебе слово; будь убежден, что как ни хитер этот человек, я его принужу, если он обманул меня, снять свою маску.
— Благодарю, о! Благодарю, батюшка! Это обещание возвращает мне все мое мужество; несмотря на горесть разлуки с вами, я почти счастлив теперь.
Дверь отворилась. Вошла госпожа Гартман с дочерью. Она подошла к мужу и, опираясь о спинку его кресла, сказала:
— Прошу извинения, господа, что прерываю ваш серьезный разговор, но уже половина одиннадцатого и пора ложиться спать.
— Действительно, я немножко устал, — отвечал Гартман, — и, кажется, нынешнюю ночь я усну.
— А я, — сказал Люсьен, переглянувшись с отцом, — прошу позволения бежать.
— Как бежать? — вскричала госпожа Гартман. — Разве ты не ляжешь спать, сын мой?
— Нет, матушка, по крайней мере теперь. Я должен быть в Альтенгейме в полночь; батюшка дал мне важное поручение, которое я обязан исполнить.
— Да, и я полагаюсь на тебя, что оно будет исполнено хорошо.
— Но ты вернешься завтра? — спросила госпожа Гартман.
— Не смею обещать. Может быть, я буду принужден остаться несколько дней в Альтенгейме. Не так ли, батюшка?
— Конечно, наши работники устраивают теперь отряд. Ты понимаешь, милая моя, что Люсьен должен остаться в Альтенгейме несколько дней, а то наши добрые работники наделают промахов; но будь спокойна, он вернется так скоро, как только может.
— О! Это я обещаю вам, как только сделаюсь свободен, прискачу сюда.
— Ты нас обманываешь, Люсьен, — сказала ему сестра, наклонившись к его уху, — и ты также едешь, ты оставляешь нас.
— Полно, любопытница! Тебе хотелось бы знать, для чего я еду в Альтенгейм, но я тебе не скажу; это будет тебе наказанием. В особенности, не сообщай своих подозрений нашей матери, ты ее огорчишь.
— За кого ты принимаешь меня? Разве я ребенок? Я только хочу знать правду.
— Ну, да, я еду, это необходимо, но умоляю тебя, не говори ни слова, сестрица.
— Хорошо, хорошо; вы увидите, милостивый государь, как женщина умеет хранить тайну.
— Да, — сказал Люсьен, смеясь, — когда для нее это удобно или выгодно.
Молодая девушка мило погрозила ему пальцем.
— Ты мне поплатишься за эти слова, злой! — сказала она.
Люсьен встал и почтительно поклонился Гартману.
— Батюшка, я еду исполнить ваше поручение, — сказал он.
— Поезжай, сын мой, — отвечал старик, раскрывая ему объятия, — поезжай и увези с собой благословение твоего отца; его молитвы последуют за тобою, — прибавил он, прижимая его к сердцу.
Молодой человек подошел к матери.
— Прощайте, матушка, — сказал он, целуя ее, — да пошлет вам Господь спокойную ночь!
— Прощай, сын мой!
— Не говорите прощай, а до свиданья, матушка, потому что я скоро вернусь.
— Да, до свидания, мой возлюбленный Люсьен, — сказала госпожа Гартман, удерживая свои слезы, — но теперь когда расстаешься, не знаешь, увидишься ли когда-нибудь.
— Полно! Полно! — вскричал Гартман, с притворной веселостью. — Не к чему приходить в уныние, черт побери! Люсьен едет не на войну.
— Возвращайся скорее, — сказала молодая девушка, — ты видишь, в каком состоянии мама, — прибавила она шепотом, целуя брата.
— Постараюсь. Но ведь ты остаешься утешать ее. Теперь у наших родителей осталась ты одна, бедная сестра!
— Исполняй твою обязанность, брат, а я сумею исполнить свою.
Люсьен пожал руку сестре, простился в последний раз с родителями, потом вышел из дома и направился большими шагами к железной дороге.
Половина одиннадцатого пробило на соборных часах, когда он садился в вагон.
Глава X КАК И ПОЧЕМУ АЛЬТЕНГЕЙМСКИЕ ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С УЛАНАМИ
Цепь Вогезов, самые высокие вершины которых достигают посредственной высоты, представляет глазам туристов самые живописные виды и повсюду принимает грандиозные и поразительные размеры.
Бока их, покрытые густым лесом, где преобладают дуб, альпийские сосны, перерезываемые там и сям многочисленными ручьями, падающими с вершины хребтов каскадами в долины, площадки, на краю которых красуются еще грозные развалины старых феодальных замков, веселые деревеньки с кокетливыми красными и белыми домиками, полузакрытыми зеленью, синеватый дым которых виднеется над деревьями — словом, все дает этим странным горам печать странности, составляющую им, так сказать, совсем особенную физиономию, о которой ни Альпы, ни Пиренеи со своими обнаженными вершинами, покрытыми вечным снегом, не могут дать понятия.
На Вогезах вид и движение; на Пиренеях и Альпах, напротив, молчание и смерть.
Ночью с 3 на 4 августа 1870, в первом часу утра, путешественник на превосходной лошади, тело которой, покрытое потом, запыхавшиеся бока и красные ноздри показывали большую усталость, ехал так скоро, как только было возможно, по утесистой дороге, которая идет от Страсбурга к Саргемину.
Этот путешественник уже оставил за собою крепость Бич, как орлиное гнездо, прикорнувшую к утесистому боку горы.
Доехав до того места, где находится род перекрестка, составленного несколькими дорогами, путешественник, о котором мы говорим, остановил свою лошадь, осмотрелся вокруг и задумался на минуту, как будто не знал наверно, по какой дороге ему ехать.
Но эта нерешимость продолжалась недолго; через минуту он поднял голову и решительно въехал на одну из тех узких каменистых и глубоко впалых тропинок, которые, вероятно, ничто иное, как высохшее ложе какого-нибудь потока.
Чем дальше путешественник подвигался, тем дорога становилась труднее. Лошадь пыхтела и шла с трудом, от галопа перешла в рысь, от рыси к шагу.
Путешественник продолжал, однако, около получаса следовать по извилинам тропинки, все суживавшейся. Наконец, после усилий и неслыханных затруднений, он успел доехать до платформы, где деревья, реже росшие, делали ночь менее темною, пропуская сквозь листья свет луны.
Путешественник остановился, но на этот раз сошел наземь, снял узду с лошади, старательно отер ее, потом привязал к дереву потрепал по шее.
— Отдохни, Ролан, ты очень в этом нуждаешься, — сказал он, — по крайней мере, для тебя путешествие кончено.
Сказав эти слова, незнакомец спрятал узду и седло под кучу листьев, насыпал на землю возле лошади меру овса, потом оставив лошадь валяться на земле, старательно завернулся в плащ и пошел далее.
Скажем сейчас, что незнакомец сделал хорошо, отказавшись продолжать путь на лошади. Тропинка становилась все круче и приняла наконец размеры гигантской лестницы.
Чтоб отважиться подняться по ней в этот час ночи и в темноте, необходимо быть горцем, козой или серной.
— Экая собачья страна! — бормотал путешественник на смешанном наречии французском с немецким. — Славную задачу задали мне! Я преспокойно оставался бы в Страсбурге, если б мне не приказали отправляться. Я спал бы очень приятно на моей постели. Но самое главное сделано, теперь остается только вооружиться мужеством.
Ворча таким образом, путешественник продолжал подниматься, цепляясь руками и ногами за камни и траву.
Наконец, после самого трудного восхождения, продолжавшегося более трех четвертей часа, путешественник добрался до площадки, покрытой гигантскими соснами. Сделав большое усилие, он прыгнул вперед и очутился на площадке.
— Наконец! — закричал он со вздохом облегчения. В ту же минуту чья-то рука грубо ударила его по плечу и насмешливый голос сказал ему на ухо, между тем как несколько ружей направилось на него из-за сосен:
— Э! Любезный друг, поздравляю вас, вы можете поспорить со многими козами, знакомыми мне.
— А! — сказал путешественник, оторопев.
— Да, — ответил тот, кто с ним говорил, становясь перед ним и опираясь обеими руками на дуло своего шаспо, — да, вы прыгаете очень хорошо, но позвольте мне заметить вам, что, верно, у вас дело очень важное, если вы приходите в такое время и по такой дороге.
— Действительно, у меня дела очень важные, — ответил незнакомец, рассматривая своего странного собеседника.
Это был высокий, худощавый человек, грубое, безбородое лицо которого довольно приятно напоминало классическую физиономию полишинеля. Это был один из тех людей, так странно созданных, что с которой стороны ни смотреть на них, все видишь только профиль.
Длинные белокурые пряди выбивались из-под его шляпы и падали на плечи, покрытые серой блузой, стянутой кожаной портупеей, за которой висели два картузника. На рукавах у него был серебряный галун, большие штиблеты доходили до колен, и с совершенно военной развязностью носил он на себе сумку, в которой, без сомнения, заключалось все его имущество.
Мы прибавим, что большая жестяная горлянка, обтянутая серым холстом, висела на левом боку, на кожаном ремне, под пару огромной фарфоровой трубке, заткнутой за пояс возле длинного револьвера.
Вид этого фантастического человека был вовсе не успокоителен.
Однако, незнакомец не смутился и ждал, по наружности бесстрастно, чтоб его собеседник продолжал разговор, так странно начатый. Тот почти тотчас заговорил тем могильным и насмешливым тоном, который был ему свойствен.
— Позволите ли вы мне, милостивый государь, — сказал он, улыбаясь, — спросить вас, в какую сторону направляете вы ваши шаги?
— Милостивый государь, — ответил незнакомец, кланяясь в свою очередь, — я прямо направлялся сюда.
— Ну, так вы и пришли.
— Кажется.
— А я так знаю это наверно. Но извините, мой вопрос может быть нескромен; вы пришли не на любовное свидание?
— Нет, не совсем. Я привез письмо, которое обещал отдать в собственные руки одному из ваших офицеров.
— Вы как будто нас знаете?
— Очень мало. Вы, кажется, принадлежите к отряду альтенгеймских вольных стрелков?
— Я имею честь служить сержантом в этом отряде, который я не считал столь известным. Как зовут офицера, к которому у вас письмо? — продолжал он серьезнее.
— Люсьен Гартман.
— О! О! Наш хирург! Если б я знал это ранее, письмо давно было бы отдано.
— Это как?
— Наши лазутчики следуют за вами с той минуты, как вы остановились на перекрестке. Мы видели, как вы позаботились о вашей лошади, и это, признаюсь, внушило мне к вам некоторое уважение.
— Как, вы следили за мною? А я ничего не слыхал!
— Ремесло наше состоит в том, чтоб нас никогда не видали и не слыхали, если мы этого не захотим.
— Это правда.
— Присядьте на этот бугорок, дайте мне ваше оружие и подождите меня минуту.
— Я очень желаю присесть. Оружия у меня нет, я приехал как друг.
— Вы мне нравитесь, товарищ, и мне хотелось бы покороче познакомиться с вами, хотя ваше произношение мне не совсем нравится.
— Я родился в Баварии от французских родителей и сердцем француз.
— Тем лучше для вас; если так, я вас не оставлю.
— Мне непременно нужно видеть Люсьена Гартмана сию минуту; повторяю вам, вопрос идет о чрезвычайно важном деле.
— За этим дело не станет, мой новый друг, вы увидите его сию минуту. Кстати, как вас зовут?
— Карл Брюнер, к вашим услугам.
— Подождите.
Он поднес к губам инструмент странной формы, висевший у него на шее на стальной цепочке, и послышался три раза крик совы.
Ружья исчезли. Никакой шум не нарушал тишины; наши два собеседника казались одни на прогалине.
— Какое прекрасное у вас дарование! — сказал Карл Брюнер.
— Какое дарование?
— Вы с таким совершенством закричали как сова.
— Что же делать, любезный друг, мы ведь ночные птицы, — продолжал он могильным голосом, — и поем как они. Любезный Карл Брюнер, решительно вы мне нравитесь все более и более; если вам придет когда-нибудь охота сделаться вольным стрелком, вспомните обо мне. Меня зовут Петрус Вебер.
— Благодарю, сержант. Но для чего вы говорите это таким мрачным голосом?
— Ах! Милый друг, у меня есть сердечные горести домашние печали.
— У вас?
— Боже мой, да!
— Вы шутите?
— Нет, это так. Жизнь, которую мы ведем, имеет ужасные требования; нам запрещено курить ночью и у нас совсем нет пива. Мы должны утолять жажду чистою водою из ручья, а в этом напитке совсем нет вкуса, — прибавил Петрус, печально качая головой. — Мною овладела страшная тоска. Ах, когда я увижу портерную «Город Париж»! Но оставим это. К чему думать о том, чего не существует более? Метастазий говорит — вы не знаете по-итальянски и я переведу вам: «Не может быть большей горести, как вспоминать в нищете о счастливом времени».
— Знаете ли, что вы говорите мне невеселые вещи? Часто вами овладевает такая печаль?
— Я всегда такой, — ответил Петрус погребальным голосом.
— Ну, мой новый друг, я вовсе не нахожу вас забавным.
— Благодарю; у вас нет ничего, чтоб выпить?
— Нет, и уверяю вас, что я сожалею об этом.
— А я-то! — сказал Петрус, поднимая глаза к небу. В эту минуту послышался шум и почти тотчас явился Люсьен.
На молодом человеке был почти такой же костюм, как на Петрусе. Он поспешно подошел к своему другу.
— Что тебе нужно? — спросил он.
— Мне ничего. А вот этот господин привез к тебе письмо.
— Письмо, ко мне? — сказал Люсьен, рассматривая Карла Брюнера.
— Да, — ответил тот, который тотчас встал.
— Кто вы, друг мой? Я вас не знаю.
— Это правда, но я имел честь видеть вас несколько раз; я служил у господина Жейера.
— Богатого страсбургского банкира?
— У него.
— Это он вас послал?
— Нет. Я могу даже вас уверить, что если б он подозревал, что я еду к вам, то я был бы убит на дороге.
— О! О! Господин Жейер…
— Да, но дело теперь идет не о нем.
— Но кто же вас послал?
— Ваш отец.
— Итак, письмо, которое вы должны мне отдать…
— Это письмо от него. Я прибавлю даже, что время не терпит отлагательства, каждая минута, которую мы теряем, может быть причиною непоправимого несчастья.
— Дайте это письмо, друг мой.
— Пожалуйте мне ножик.
— Ножик! Это для чего?
— Вы увидите.
Петрус вынул ножик из кармана и подал Карлу Брюнеру.
— Вот, милый друг, — сказал он, — он не велик, как вы видите, но режет хорошо.
— Благодарю, — отвечал молодой человек.
Он расстегнул жилет, распорол подкладку во всю длину и вынул бумагу, старательно запечатанную, которую подал Люсьену.
— Вот ваш нож, — отвечал он, подавая его Петрусу, который положил его в карман.
Люсьен вертел письмо в руках.
— Как быть, — прошептал он, — как достать огня? Нам запрещено разводить огонь.
— Не тревожься, сказал Петрус, — я отведу тебя в такое место, где ты можешь читать сколько хочешь; а вы, товарищ, — обратился он к Карлу Брюнеру, — идите возле меня. Моя дружба к вам так сильна, что если вы удалитесь на секунду, я думаю, черт меня дери! что мое ружье само выстрелит в моих руках.
— О! Я не намерен бежать, будьте спокойны; притом мое поручение еще не исполнено.
— Может быть, любезный друг, но предосторожности хорошо принимать всегда.
Люсьен и Карл Брюнер пошли за Петрусом. Он повел их через прогалину во всю длину, и около десяти минут идя по лесу, они остановились у одного места, где развалины белелись при лунном сиянии.
Петрус, сделав знак товарищам, чтоб они последовали его примеру, начал деятельно расчищать землю и скоро обнаружились первые ступени лестницы.
— Здесь есть, — сказал он, приподнимаясь, — на десять футов под землей пещера, довольно обширная, которую я нашел сегодня, обходя дозором, и которая, без сомнения, в прежнее время служила тюрьмой в каком-нибудь феодальном замке. Спустимся.
— Спустимся! Это легко сказать, — возразил Люсьен, — но что мы выиграем, когда будем в пещере? Ничего, кроме того, что очутимся в совершенной темноте.
Петрус пожал плечами.
— У меня есть свечи в сумке, — сказал он.
— Вот прекрасный поступок, Петрус; я при случае выражу тебе мою признательность.
— Это зависит от тебя, — сказал Петрус мрачнымголосом, — случай представился.
— Как это?
— Пока ты будешь читать письмо, я буду курить трубку.
— Хорошо.
— Так поспешим. Я не скрываю от тебя, что эта пещера, кроме пива, заменяет мне портерную «Город Париж». Сюда я хожу курить трубку, когда найдется свободная минута.
Они спустились. Петрус спичкой зажег свечу, которую держал Карл Брюнер, потом серьезно и методически начал набивать свою громадную трубку.
Люсьен распечатал письмо, которое жадно пробежал глазами.
По мере того, как он читал, брови его нахмурились и он казался в сильном волнении. Но Петрус не примечал ничего; трубка поглощала все его внимание. Когда он набил ее, он протянул руку к Карлу Брюнеру и сказал с очевидным удовольствием:
— Дайте мне на минуту эту свечу, любезный друг.
— Эту свечу? Что ты хочешь с нею делать? — с живостью вскричал Люсьен.
— Как! Что я хочу с нею делать? Хорош вопрос; я хочу закурить трубку.
— До трубки ли твоей теперь?
— Как! До трубки ли моей? Но я хочу курить, мы условились в этом.
— Отправляйся к черту с твоей трубкой! Будешь курить после! — вскричал Люсьен, с гневом комкая письмо, которое держал в руках.
— Что там такое? — спросил Петрус, бросив печальный взгляд на свою трубку.
— А вот что: если мы не поспешим, страшное несчастье случится по нашей милости.
— Несчастье! Объяснись.
— Некогда. Сколько с тобою людей?
— Где это?
— Разумеется, здесь.
— Двенадцать, не больше.
— Хорошо. Пока я побегу к Людвигу и объясню ему, что хочу сделать, ты их собери. Когда я ворочусь, вы должны быть готовы идти.
— А моя трубка? Не могу ли я покурить немножко? Самую крошечку?
— Если ты скажешь еще слово, если ты будешь колебаться, я схвачу твою поганую трубку и раздавлю ее под каблуком.
— А вот так уж нет! Нет! Я лучше буду повиноваться. Мою трубку! Что меня утешит, если у меня ее не будет?!
Люсьен не мог удержаться от смеха.
— Я у тебя прошу дружеской услуги, — сказал он, ударив его по плечу. — Мы должны решить вопрос о жизни и смерти. По окончании экспедиции ты будешь курить сколько хочешь.
— Ты мне обещаешь?
— Клянусь твоей трубкой.
— Надо делать, что ты хочешь; пойдем, — и Петрус печально заткнул трубку за портупею.
— Я возьму Карла Брюнера с собой. А ты будь готов, как только я вернусь.
— Слышать это значит повиноваться. Судьба решила, что нынешнюю ночь я курить не могу.
Все трое поднялись на лестницу, закрыли камнями отверстие пещеры, потом расстались. Люсьен и Карл Брюнер пошли в одну сторону, а Петрус гигантскими шагами удалился в противоположную сторону. Почти тотчас пение совы раздалось так громко в лесу, что можно было подумать, будто все ночные птицы назначили друг другу свидание в прогалине, где происходил краткий разговор Петруса с Карлом Брюнером.
Через час человек двадцать, в которых по костюму можно было узнать вольных стрелков, перепрыгивали со скалы на скалу и спускались с головокружительной быстротой по направлению к перекрестку, где Карл Брюнер остановил свою лошадь, прежде чем пошел по каменистой тропинке, известной нам.
Этими вольными стрелками предводительствовал Людвиг. Достойный мастер захотел лично распоряжаться экспедицией, важность которой он, без сомнения, понимал.
Возле него находились Люсьен и Петрус, два неразлучных друга. Люсьен был взволнован и растревожен, Петрус еще мрачнее и печальнее обыкновенного; Карл Брюнер остался аманатом в бивуаке вольных стрелков.
Когда все волонтеры собрались на перекрестке, по знаку своего начальника, они спрятались за кусты, за стволы деревьев, таким образом, что почти тотчас исчезли все, и перекресток сделался так пуст, как будто на нем не было никого.
Было четыре часа утра. Звезды угасали одна за другою на темной глубине небес; широкая полоса опалового цвета начинала оттенять крайнюю линию горизонта; от первых лучей рассвета побелели вершины деревьев. Глубокая тишина царствовала в спящей природе, только изредка таинственное дуновение пробегало по ветвям, потом все умолкло.
Прошло полчаса.
Пробило половина пятого на часах отдаленной колокольни. Звук, повторенный отголоском, замер в ушах вольных стрелков, все притаившихся в засаде.
Птицы начали петь под листвой, и хотя солнце едва показалось на горизонте, его лучи, еще очень слабые, отражались уже на листьях, усыпанных, как жемчугом, росой.
Вдруг Людвиг крепко сжал руку Люсьена и, растянувшись на земле, приложился ухом к земле и прислушался.
— Едут, — сказал он через минуту. Он принял свое первое положение.
— И она также, — продолжал он, приподнимаясь, — решительно место выбрано хорошо и засада ловко устроена; они от нас не ускользнут.
Людвиг подражал крику совы, чтоб велеть своим солдатам остерегаться.
Прошло еще десять минут, потом послышался стук кареты по направлению к Бичу, между тем как со стороны Саргемина раздавался галоп нескольких лошадей.
Скоро на краю дороги показалась дорожная коляска, запряженная тройкой и ехавшая чрезвычайно быстро.
Почти тотчас, по направлению противоположному, показалось пятнадцать всадников, в которых по мундирам и длинным пикам легко было узнать прусских уланов. Два лазутчика ехали впереди с пистолетами в руках.
Очень далеко за ними ехали мелкой рысью четыре всадника в костюме эльзасских крестьян. Уланы мчались как ураган.
Вдруг послышался крик совы и десять ружейных выстрелов раздались залпом.
Двадцать человек, выскочив из-за кустов, устремились на всадников, крича:
— Да здравствует Франция! Смерть пруссакам!
Началась неописуемая схватка, продолжавшаяся минуты три и больше ничего. Наступила глубокая тишина.
Тишина эта почти тотчас была прервана громкими криками:
— Победа! Да здравствует Франция!
Девять уланов были убиты наповал. Шестеро остальных лежали на земле опасно раненые. Лошади разбежались во все стороны.
— Ну, ребята! — закричал Людвиг, потирая себе руки. — Вот, надеюсь, хорошее начало для кампании. И ни одного раненого!
— Ни одного! — повторили все вольные стрелки в один голос.
— Хорошо вам говорить, — сказал Петрус плачевным голосом, указывая на трубку, от которой остался один только чубук.
Один из лазутчиков, выстрелив наудачу, попал в Петруса, которому трубка, вероятно, спасла жизнь.
— Бедная подруга! — прибавил он. — Вот, однако, как мы тленны!
— Утешься, Петрус, — сказал Люсьен, смеясь, — ты лишился одной трубки, а нашел пятнадцать. Посмотри-ка на этих молодцов, они все с трубками; тебе остается только выбирать.
— Я возьму все, — вскричал Петрус, — это будет моим мщением!
При этой последней выходке все расхохотались.
Пока эти происшествия происходили на перекрестке, коляска, очень растревоженная при виде уланов, остановилась в нерешительности в почтительном расстоянии. Оттуда кучер и путешественники присутствовали при быстром поражении уланов.
Но когда на перекрестке остались только вольные стрелки, путешественники как будто посоветовались между собою и, вероятно, успокоенные знаками, которые им делали волонтеры, махая шляпами и платками, кучер ударил по лошадям и помчался вперед.
В противоположном направлении, крестьяне, о которых мы говорили, также остановились, вероятно, ожидая исхода битвы. Они столпились на стороне дороги и, насколько можно было судить по их жестам, рассуждали с некоторым одушевлением.
Потом, в ту минуту, когда все заставляло предполагать, что они станут продолжать свой путь, они вдруг повернули лошадей и поскакали в галоп к Саргемину.
— Что это значит? — спросил Люсьен. — Неужели эти люди изменники?
— Мы это узнаем, — спокойно ответил Людвиг, — я принял предосторожности.
Действительно, почти тотчас раздались два ружейных выстрела, упала лошадь и увлекла всадника в своем падении; его товарищи, вместо того, чтоб помочь ему, бросили его и поскакали еще шибче.
Бедняга, страшно контуженный, был поднят двумя вольными стрелками, выпрыгнувшими из кустов с каждой стороны дороги, и завязав ему руки за спиной, они привели его на перекресток.
Въехав в середину вольных стрелков, коляска остановилась. Один из слуг, сидевших на запятках, сошел и отворил дверцы.
Из коляски вышла дама, а за нею ее горничная.
— Графиня де Вальреаль! — вскричал Люсьен с величайшим удивлением.
— Да я, — отвечала графиня с волнением, — вы спасли мне жизнь, честь, может быть, и я не знаю, как вас отблагодарить за громадную услугу, которую случай позволил вам оказать мне.
— Это не случай, графиня, — отвечал молодой человек, почтительно кланяясь перед нею, — мы засели здесь, чтоб помочь вам, спасти вас, если будем в состоянии.
Все вольные стрелки стояли на одной стороне дороги с открытыми головами. Они оставались неподвижны и почтительны.
— Вы были здесь для меня, говорите вы? — спросила графиня. — Но извините, волнение, может быть, опасность, которой я подверглась, не позволяют мне хорошенько понять ваши слова; я не понимаю вас.
— Двух слов будет достаточно, чтоб разъяснить все ваши сомнения, графиня. Не вас положительно ждали мы; мои товарищи и я не знали, что именно вам окажем мы эту услугу, которая совсем не так важна, как вам угодно уверять. Курьер, приехавший два часа тому назад из Страсбурга, привез мне письмо от моего отца.
— От вашего отца? Простите мне, если я опять вас прерву. Ваша физиономия не совсем незнакома мне. Я уверена, что видела вас. Но где и когда, этого я определить не могу.
— Притом, странный костюм, в котором мы меня видите, спутывает ваши воспоминания, не правда ли? — сказал молодой человек, улыбаясь. — Я имел честь бывать на ваших вечерах. Меня зовут Люсьен Гартман.
— О! Это правда. Теперь я вас узнаю; куда это девалась моя голова? Но продолжайте, прошу вас. Я желаю поскорее знать, каким образом вы так кстати могли оказать мне помощь.
— Мне остается прибавить только два слова, графиня. В том письме, которое мне привез надежный человек, отец мой писал мне, или лучше сказать предупреждал меня, что одна дама, которую он имеет честь знать настолько, что принимает в ней живое участие, хотя не коротко знаком с нею, сделалась жертвою заговора скрытных и неумолимых врагов, едет в Саргемин вследствие ложного уведомления; что дама эта проедет в четыре часа утра у перекрестка Восьми Дорог, где будут ждать ее враги, поклявшиеся погубить ее. Отец мой прибавляет, что рассчитывает на меня и моих товарищей, чтобы расстроить этот гнусный заговор. Вы знаете остальное, графиня; просьба моего отца была для нас приказанием, и если вы увидите его, благоволите сказать ему, с какой радостью исполнили мы поручение, возложенное им на нас.
— Если я его увижу, господин Люсьен, неужели вы сомневаетесь в этом? Как только приеду в Страсбург, прежде всего отправлюсь к нему поблагодарить его, моего спасителя, и сказать, как вы были великодушны и добры. Господин Люсьен, хотите быть моим другом? — прибавила она с одной из тех улыбок, которые привлекали к ней сердца всех.
— О, графиня! — ответил молодой человек, краснея. — Я не смел добиваться такого счастья.
Графиня обернулась к Людвигу. Добрый мастер очень затруднялся, как держать себя перед такой знатной дамой.
— Таких людей, как вы, — любезно сказала ему графиня, — значило бы обижать, предлагая им деньги. Я не знаю, как мне расквитаться с вами и вашими товарищами. Хотите меня поцеловать?
— Ах, сударыня! — вскричал мастер. — За такую награду мы все умрем, когда вы захотите.
— Благодарю, ваша жизнь слишком драгоценна для того, чтобы рисковать ею таким образом, — сказала графиня и подставила свои щеки Людвигу, свежие и бархатистые как персик, на которых достойный командир добросовестно запечатлел два звучных поцелуя при веселом хохоте вольных стрелков.
— А вы забываете того, кто привез письмо, — сказала Элена, до сих пор скромно стоявшая позади своей госпожи, — где он? Я его не вижу.
— Разве ты его знаешь? — с любопытством спросила графиня.
— Еще бы! Это мой жених Карл Брюнер.
— Ты объяснишь мне все это, милочка? — сказала ей графиня.
— К чему? — лукаво отвечала Элена. — Господин Гартман расскажет вам это лучше меня.
Через несколько минут коляска повернула к Страсбургу. Вольные стрелки ушли в горы и увели с собою пленника. На перекрестке остались только трупы уланов и их лошадей, над которыми начали уже вертеться хищные птицы со зловещими криками.
Глава XI РЕЙСГОФЕНСКИЕ РАНЕНЫЕ
Теперь, когда события толпятся под пером нашим, мы не захватывая прав истории и не забывая положения романиста, скажем в нескольких словах, каковы были для Франции, с первых дней, последствия объявления войны, сделанного так легкомысленно императорским правительством, на которое одно должна падать ответственность в несчастьях, почти тотчас обрушившихся на нашу несчастную страну.
Лилась кровь. За театральным и незначительным делом при Саарбрюкене последовало сражение при Висембурге, где дивизия генерала Абеля Дуэ так геройски пала, подавленная числом.
Дня два спустя, седьмого августа, происходило сражение при Рейсгофене. Это сражение было ужасно.
После отчаянного сопротивления, гигантских усилий, армия маршала Мак-Магона была принуждена отступить перед превосходящими силами. Правый фланг был перерезан; тогда произошло одно из тех обстоятельств, которые предвещают самые страшные бедствия.
Как при Ноатье, как при Азепкуре, как при Ватерлоо крик: «Спасайтесь!», произнесенный, вероятно, изменниками, пробежал по рядам и оледенил мужество всех.
Паника была страшная, беспорядок ужасный. Скоро земля задрожала под ногами лошадей, которых тысячи всадников направляли во все стороны.
Гусары, артиллеристы, туркосы, кирасиры, егеря, зуавы, солдаты всех линейных полков смешались в неописуемом хаосе. Каждый прыгнул на первую лошадь, какую мог захватить, и эта испуганная стая разлетелась во все стороны, крича по дороге испуганным жителям:
— Пруссаки! Пруссаки!..
Эти беглецы проскакали Гагенау, не замедляя своего бега, все с воем, не зная даже, где они; потом, по выезде из города, одни пустились по полям, другие свалились от истощения на краю дороги, а некоторые доскакали до Страсбурга, куда привезли известие о поражении.
Неописуемое волнение тотчас овладело народонаселением, которое разбежалось по улицам в лихорадочном трепете.
Почти в то же мгновение потянулись по предместьям повозки с ранеными при Висембурге. Страшное зрелище этих людей, покрытых кровью и грязью, этих искалеченных тел, довершило горесть жителей и распространило по Страсбургу траурное покрывало.
Тотчас лавки и дома закрылись, солдаты побежали в казармы, подняли подъемные мосты, и в семь часов вечера город был весь заперт. Думали, что пруссаки стоят у ворот.
Многие из жителей, оставшиеся за воротами, умоляли, чтобы им отворили, и могли добиться этого только через несколько часов.
До сражения при Рейсгофене в Страсбурге жили в совершенном спокойствии. Виновная непредусмотрительность, скажем мы, употребляя вежливое выражение, в приготовлениях к этой войне господствовала и тут, как повсюду.
Город не находился еще в оборонительном положении, когда неприятель уже стоял у ворот его.
Генерал Ульрих, приняв начальство над городом, получил приказание не делать ничего для защиты Страсбурга. Он должен был ограничиться тем, чтоб передавать боевые снаряды, в которых могли нуждаться войска, действующие в Германии.
Известие о поражении маршала Мак-Магона было для города громовым ударом. По всем кварталам пошла неописуемая суматоха, панический страх овладел жителями. Надо было наскоро организовать оборону. Тогда-то жители столицы Эльзаса гордо подняли голову и, забыв всякую слабость и всякое пустое опасение, приготовились храбро встретить неприятеля.
Гарнизон состоял из 11 000 человек, из которых не более пяти тысяч могли собственно назваться войском. Другие были подвижные гвардейцы без всякого военного обучения, которые не были даже экипированы, и национальные гвардейцы, которых организовали наскоро и вооружили ружьями с пистонами.
Но порыв был дан. Энтузиазм к защите был всеобщий и страсбурцы решились сопротивляться до последней минуты и быть погребенными под дымящимися развалинами своего города.
Дело было кончено; вместо того, чтоб внести войну на неприятельскую землю, мы были принуждены выносить ее на нашей.
После поражения при Рейсгофене немецкие войска вошли во Францию с двух сторон: по Сааре и через Вогезы.
Французские генералы, приготовившиеся нападать, забыли приготовиться к защите. Они теперь были не в состоянии сопротивляться немецким ордам, которые как волны, вечно поднимающиеся, разливались на наши границы и стремились вперед, крича:
— В Париж! В Париж!
Печальное возмездие за крики: «В Берлин! В Берлин!» полицейских агентов за несколько месяцев перед тем на улицах нашей столицы.
На следующих страницах мы исполним горестную задачу, которую предписали себе, рассказав много неизвестных эпизодов этого вторжения, где война велась на самых варварских условиях и право человеческое так гнусно презиралось.
Теперь мы кончим это продолжительное отступление и будем продолжать наш рассказ с того места, где остановились.
В воскресенье, 7 августа, за несколько времени до восхода солнца, в проливной дождь, безмолвная, угрюмая, уныла толпа присутствовала при длинном шествии побежденных накануне, искавших убежища в городе.
Солдаты эти составляли по большей части правое крыло французской армии, перерезанной неприятелем.
Они шли один по одному, потом группами, потом отрядами, в десять, в двадцать, в тридцать человек, грязные, оборванные, утомленные усталостью.
Многие были ранены. Они опирались о палку, о разбитое ружье или лежали на повозках. Туркосы, угрюмые и согнутые, едва тащились. Офицеры, очень немногочисленные, были в глубоком унынии и шли поддерживаемые солдатами.
На площади Клебер человек сорок туркосов, страшно грязные, оборванные и покрытые кровью, остановились.
У одного туркоса было знамя полка, спасенное Бог знает ценою каких опасностей.
Внезапный энтузиазм овладел толпою и пробежал как электрическая искра по всем сердцам.
— Да здравствует Франция!
— Да здравствуют туркосы! — закричали тысячи голосов.
Но восклицания еще удвоились, когда полковник Дюкас взял знамя, повесил на него лавровый венок и показал толпе с балкона главного штаба.
В этой толпе, тревожно присутствовавшей при шествии рейнсгофенских раненых и побежденных, много сердец волновалось и трепетало, много глаз искало друга, родственника.
Вдруг послышался шум и из толпы, почтительно расступившейся перед ним, выбежал человек.
Это был Гартман.
В одном фургоне, в котором лежало много раненых, он узнал бледных, покрытых кровью и грязью, два существа, очень для него дорогие. Один был капитан Мишель, другой поручик Ивон Кердрель.
По знаку Мишеля фургон остановился.
Молодой человек улыбнулся отцу как бы для того, чтобы успокоить его, и сделал движение, чтоб сойти с фургона.
Тогда в этой толпе, присутствовавшей при горестном зрелище этого старика, который нашел ранеными своего сына и будущего зятя, произошел высокий порыв.
Неизвестно, кто их принес и как они тут очутились, двое носилок явилось из толпы; оба раненые офицера были положены туда с самыми деликатными и внимательными стараниями; незнакомые люди понесли носилки, Гартман показывал им дорогу, и они перенесли раненых к нему в дом.
Вход Гартмана в дом был печален.
Раненых отнесли в комнаты, которые они занимали обыкновенно, когда приезжали в Страсбург. Эти комнаты были для них готовы.
По просьбе Мишеля, на которую его отец поспешил согласиться, вместо того чтобы разлучить молодых людей, их положили в одной комнате.
Позвали доктора. Этот доктор был старый друг Гартмана, врач очень талантливый, любимый и уважаемый в Страсбурге, имя которого мы скроем под псевдонимом, чтобы не пробуждать тягостных воспоминаний. Он был членом муниципального совета, так же как и Гартман… Мы назовем его доктором Кузианом.
Он был в ратуше, когда Франц, слуга Гартмана, прибежал предупредить его, что молодого барина и одного из его друзей привезли раненых в Страсбург и что его с нетерпением ждут.
Доктор встал, схватил шляпу и, не прощаясь ни с кем, побежал к своему другу.
Он нашел всю семью в слезах.
Молодые люди, раны которых почти не были перевязаны, лишились чувств.
Первым делом доктора было выслать дам, он оставил возле себя только Гартмана и Франца.
— О, доктор! — вскричала госпожа Гартман, сложив руки и залившись слезами. — Спасите моего сына!
— Спасите их обоих, добрый доктор! — прибавила Лания, пожимая ему руки.
— Да, да, — отвечал он, — ободритесь. Обморок ничего не значит; усталость, потеря крови… успокойтесь. Надеюсь скоро доставить вам приятные известия.
— Да услышит вас Бог! — закричали обе женщины! рыдая, и вышли, опираясь друг о друга.
Гартман был холоден и бесстрастен по наружности, но лицо его было покрыто смертельной бледностью, слезы текли по щекам, а он и не думал отирать их.
— Имейте мужество, друг мой, — сказал доктор, поджимая ему руки.
— У меня мужество есть, — отвечал старик разбитым голосом, — но это мой сын, доктор, мой возлюбленный сын лежит на этой кровати!
— Мы спасем его, Гартман! Наука совершает иногда чудеса. Дайте мне время осмотреть раны; может быть, они не опасны.
— Да услышат вас Бог, Кузиан! — ответил Гартман, печально качая головой. — Но я очень боюсь, — прибавил он тихим голосом, отирая, холодный пот, орошавший его лицо.
Доктор оставался с минуту в задумчивости, потом обратился к слуге:
— Франц, мой милый, помогите мне раздеть этих молодых людей; я должен видеть, в каком положении они находятся.
У Мишеля левая рука была пробита пулей, но кость не тронута. Еще несколько прорезов, правда, не очень глубоких, виднелись на его груди.
Потеря крови и волнение при виде отца, без сомнения, были причиною его обморока, но в сущности его раны были нисколько не опасны, хотя требовали больших попечений и полного спокойствия.
Доктор поспешил сообщить Гартману это приятное известие.
— Благодарю, — отвечал старик, — теперь осмотрите этого. Ах! Любезный доктор, этот раненый почти так же дорог мне, как и мой сын; это жених моей дочери!
Мишель пришел в себя. Хотя очень слабый, он пытался заговорить.
— Доктор, — сказал он прерывающим голосом, — спасите Ивона; он из-за меня получил эти раны; без него и одного бедного солдата, бывшего при мне в качестве вестового и не оставлявшего меня ни на минуту, я умер бы, батюшка, — прибавил он, обращаясь к старику. — Но где же мой бедный Паризьен? Верно умер? Он такой веселый, такой преданный!
— Молчите, молчите! — сказал доктор. — Не надо говорить; а относительно вашего друга будьте спокойны; все, что только возможно сделать, я сделаю.
Раны Ивона были опаснее, чем Мишеля. Несколько раз, несмотря на свое самообладание, доктор, рассматривая и зондируя их, качал головою и хмурил брови.
Вдруг раненый нервно вздрогнул и горестно вздохнул.
— Боже мой! Что это такое? — закричал с беспокойством Гартман и его сын.
— Ничего, безделица, — ответил доктор, показывая пулю, которую держал в руке. — Этот кусок свинца очень мешал вашему другу, и я вынул его из правого бока.
Внимательно осмотрев пулю в продолжение нескольких секунд, он осторожно положил ее на камин.
Потом продолжал перевязку, которую скоро кончил.
Ивон Кердрель был ранен выстрелом в правый бок, двумя ударами штыка в правую лядвею и имел несколько разрезов на груди и на руках.
Удары штыком и царапины были не очень серьезны, но рана в правом боку была гораздо опаснее. Надо было сделать в ране разрез. Но, к счастью, как говорил доктор, пуля, вероятно, летевшая издалека, лишилась почти всей своей силы.
Она сделала рану неглубокую и, без каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, выздоровление раненого было несомненно; тем более, что все чуждые вещества были извлечены из раны, то есть пуля и кусок сукна, который она внесла вместе с собою в тело.
Обморок Ивона продолжался еще несколько минут, но, наконец, он раскрыл глаза и, напрасно стараясь произнести несколько слов, успел однако поблагодарить доктора за оказанные ему попечения.
Потом почти тотчас он впал в глубокое усыпление.
Мишель также закрыл глаза.
— Пусть они заснут, — сказал доктор, уводя своего друга и сделав Фрицу знак выйти, — им нужны отдых и спокойствие. Притом, лучше на несколько часов предоставить действовать природе. Это добрая мать и лучший врач.
Все трое вышли на цыпочках, но в коридоре встретились с дамами; только вместо двух их было четыре.
Лания дала знать госпоже Вальтер и ее дочери, все поспешили приехать.
Все четверо находились в сильном беспокойстве. Они с тоской ждали осмотра доктора.
Как только он появился, они хотели расспросить его, но он приложил палец к губам, предписывая молчание, и тихо увел их в гостиную, позаботившись запереть за собою дверь.
Там он успокоил дам насчет двух интересных раненых, не скрыв однако важности ран, особенно Ивона Кердреля, состояние которого, не будучи серьезно опасно, прибавил он, требовало однако самых старательных попечений.
— О, будьте спокойны, мой добрый доктор! — вскричала Лания. — Они не будут иметь недостатка ни в чем; мы станем ухаживать за ними; не так ли, Шарлотта?
— О! Да, — сказала молодая девушка, — мы одни.
— Эгоистки! — сказала госпожа Гартман, улыбаясь сквозь слезы. — А я не гожусь ни к чему?
— О! Да, моя добрая матушка, — вскричали обе очаровательные девушки, бросаясь к ней на шею, — мы все трое будем ухаживать за ними!
— А! Вот уж вранье! — сказал хриплый голос в коридоре. — Простите, извините, сударыни, господа и вся честная компания, это я; не беспокойтесь; я увидал, что дверь отворена, и воспользовался этим.
На пороге двери явился зуав, покрытый кровью и грязью. Он отдал честь по военному ружьем, которое держал в руке.
— Разве вы меня не узнаете? Это я, Паризьен, вестовой господина Мишеля Гартмана.
— Э! Да это, действительно, Паризьен! — закричали дамы.
— Войдите, войдите, мой друг! — с живостью сказал Гартман.
— Извините, только я одет немножко неряшливо…
— Войдите, войдите; разве вы не домашний? Мой сын будет очень рад вас видеть. Он боялся, не убиты ли вы в этом страшном поражении.
— Я убит! А! Спасибо. Не так глуп. С вашего позволения, хозяин, я буду ходить за моим капитаном и поручиком; это моя обязанность.
Он начал смеяться, кокетливо крутя свои усы.
— Этот человек ранен! — с живостью вскричал доктор.
— Вы это думаете? Может статься, какая-нибудь царапина.
— Что это за повязка у вас на голове? Снимите ее.
— О! Это безделица. Не стоит и говорить. Какой-то разбойник цапнул меня саблей. Но с ним уж покончено. Он других цапать не будет.
Говоря таким образом, зуав снял тряпку, покрывавшую его голову, и обнаружилась рана страшного вида. Вся надчерепная плева была содрана с одной стороны и половина левого уха.
Сабля, вероятно, повернулась в руке прусского солдата, а то у бедного Паризьена голова была бы разрублена до плеч, потому что череп был буквально обнажен и даже слегка задет.
— А что, как вы думаете, крепкая у меня голова? — сказал зуав, переваливаясь с ноги на ногу с довольным видом, между тем как доктор велел принесли таз с водой и перевязывал зуава старательно.
— Отец говорил мне это; я думал, что это неправда, но вижу теперь, что он прав.
— Не говорите так много, — улыбаясь, перебил его доктор. — Эта рана гораздо опаснее, чем вы полагаете.
— Полноте! Вы знаете так же хорошо, как и я, что удары по голове, если не убьют сейчас, это известно, излечиваются через неделю.
Доктор не мог удержаться от улыбки.
— Есть у вас другие раны? — спросил он.
— О! — ответил зуав голосом все более хриплым. — Какие-нибудь царапины, может статься, но ничего важного.
— Для чего же вы опускаете голову? Зачем у вас шея завязана платком?
— Это ничего, это безделица. Пуля оцарапала. Представьте себе, эти разбойники хотели перерезать мне глотку.
Доктор внимательно осмотрел эту новую рану, правда, не опасную, действительно царапину, сделанную пулей. По знаку доктора дамы вышли из гостиной.
— Мне не хотелось бы заставить краснеть этих дам; зачем они уходят? — спросил зуав.
— Потому что я хочу осмотреть ваши другие царапины, как вы их называете, — сказал доктор, улыбаясь, — а не совсем прилично…
— Понимаю, доктор. Пожалуйста, не настаивайте. Не стоит труда. Я, кажется, получил множество ударов в спину и в другие части департамента нижнего Рейна; лошади немножко потоптали меня, но я не очень чувствительно затронут.
— Все равно покажите, — возразил доктор, затворяя дверь гостиной.
Зуав стыдливо осмотрелся вокруг и, успокоенный, вероятно, отсутствием дам, менее чем в две минуты очутился в костюме Адама до грехопадения.
Тело несчастного буквально было черно от ударов. Его можно было принять за негра. Ему потребно было все мужество, чтобы стоять на ногах.
— О! О! — сказал доктор.
— Не правда ли? — заметил зуав с кокетливой улыбкой. — Порядком отделали, надо отдать им справедливость. Но все равно, поплатятся они мне за это. Они имели дело не с неблагодарным. О! Позвольте, вы немножко сильно щекочете меня. Впрочем, если это доставляет вам удовольствие…
— Право, — сказал доктор, ощупав его повсюду, — надо признаться, мой милый, что вам очень посчастливилось.
— Только в этом счастье и есть, а что касается коки с соком, так таковой не имеется.
— Ну, друг мой, у вас ничего не сломано, ничего не повреждено; натирайтесь камфарной водкой…
— Внутри? Знаю, это очень хорошо.
— Нет, нет, снаружи.
— А вы думаете, что внутри будет не одно и то же? Впрочем, как вам угодно.
— Я говорил, что если будете натираться, то все пройдет.
— Видите, я правду говорил, что у меня ничего нет такого… Стало быть, я могу ходить за моим капитаном и поручиком. Они ранены и мне было прискорбно ничего не делать.
— Вы такого странного сложения, мой милый, что я принужден предоставить вам действовать по-своему. Всякий другой с половиною полученных вами ударов остался бы на месте, а вы, прости Господи, стали как будто здоровее.
— Это привычка; видите, отец мой не был нежен и когда я был мальчишкой, он подшофе колотил меня куда попало, так что другой раз искры сыпались из глаз.
Говоря таким образом, зуав оделся; Франц отворил дверь и дамы вернулись в гостиную.
— Милый мой, — сказал Гартман Паризьену, — ступайте за Францем; я поручаю ему ухаживать за вами. Вы оба знаете друг друга; надеюсь, вы сойдетесь хорошо. Ступайте, отдохните несколько часов; вы должны нуждаться в этом. Как только проснется мой сын, я вам скажу и вы повидаетесь с ним. Франц, ухаживай хорошенько за этим бедным малым; поручаю тебе его.
— Благодарю, хозяин; я воспользуюсь вашим гостеприимством, но не употреблю его во зло. Мы вежливость знаем. До свидания, господа, сударыни и вся честная компания!
По-видимому, очень довольный сам собою, зуав отдал честь, повернулся налево кругом и вышел, кокетливо переваливаясь с ноги на ногу.
— Это не человек, а бык, — не мог удержаться, чтобы не сказать доктор, смотря ему вслед. — Какая сильная натура! Когда подумаешь, что с такими людьми можно было сделать столько хорошего!
— Да, да, — ответил Гартман с задумчивым видом, — наши солдаты храбры, но этого недостаточно. Армия должна иметь начальников, умеющих ее вести.
Разговор продолжался еще несколько минут.
Условились, что дамы будут ухаживать за ранеными офицерами, а Паризьену, преданность которого к Мишелю была известна, предоставят поступать, как он хочет.
Потом Гартман, совершенно успокоенный на счет участи своего сына словами своего друга, пошел с ним в ратушу, где заседал муниципальный совет и где присутствие их среди важных обстоятельств было необходимо.
Глава XII ГАРТМАН И ПОБЛЕСКО ОБЪЯСНЯЮТСЯ
Когда Гартман и Кузиан вышли на улицу, печальное шествие раненых и беглецов продолжалось.
Оно длилось всю ночь и часть следующего дня.
Толпа, все увеличивавшаяся, наполняла улицы и обнаруживала самое горестное сочувствие к этим несчастным, которых все спешили принимать в свои дома и даже в лавки.
Хотя начальством не было дано никаких приказаний, народонаселение, увлекаемое высоким порывом преданности, толпилось около несчастных, у которых в городе было много родственников или друзей.
Когда два муниципальные советника вошли в ратушу, совет рассуждал с одушевлением.
Он устраивал помощь и принимал меры для устройства походных лазаретов.
Однако в эту минуту военные власти и муниципальные советники не допускали возможности, чтобы прусская армия пошла на Страсбург.
Они считали возможными кое-какие стычки, но один мэр и дивизионный генерал предчувствовали осаду и близкое обложение города.
Деятельность военных властей была чрезвычайна. Надо было наверстывать потерянное время и как можно скорее устроить защиту, и, повторяем, это делалось против всеобщего мнения.
Мы говорим совершенную правду: почти все наши линейные войска вышли из города с маршалом Мак-Магоном.
Даже 87 линейный полк, оказавший столько услуг во время осады, получил приказание к отъезду. Он приготовился к выступлению, и только неожиданное обложение города заставило его остаться в Страсбурге.
Невольно разговор, который Гартман имел со своим младшим сыном за несколько минут до его отъезда в Альтенгейм, беспрестанно приходил в голову старику.
Он мысленно рассуждал с собою, истинны или ошибочны предположения молодого человека.
Несколько слов, произнесенных в совете его другом, доктором Кузианом, еще увеличили его неизвестность, утвердив, так сказать, опасения, начавшие возрождаться в его уме, и превратив их в подозрения.
Однако, он еще колебался; одно неожиданное обстоятельство заставило его прекратить свою нерешительность.
По случаю мер, которые необходимо было принять для безопасности города, один из членов муниципального совета, опираясь на то, что восточные департаменты с некоторого времени находятся в осадном положении, и на меру, принятую в Париже относительно иностранцев, то есть саксонцев, баварцев, виртембергцев и вообще всех уроженцев конфедеральных штатов Германии, предложил, чтобы все немцы, пруссаки и другие, временно жившие в городе, были принуждены выехать как можно скорее.
Тогда-то доктор Кузиан заговорил:
— Я поддерживаю всеми моими силами предложение моего собрата; я настаиваю, чтобы это изгнание было немедленное и распространилось не только на немцев, временно проживающих в Страсбурге, но на всех мужчин и женщин этой нации, постоянно живущих в городе, каково бы ни было их звание и положение. Вспомните, господа, что Пруссия давно подготовила нынешнюю войну, что всякое оружие хорошо для битвы. Пруссия давно учредила систему шпионства, действующую между нами самым правильным и действительным образом. Это началось давно, и доказательством служит то, что когда в 1866 г. Пруссия в первый раз грозно встала перед Францией, генерал Дюкро, командовавший шестой военной дивизией, написал правительству письмо, где находится одно место, которое вы выслушаете с благодарностью; слушайте внимательно; я привожу его буквально:
«С некоторых пор прусские агенты в большом числе странствуют по нашим пограничным департаментам, особенно между Мозелем и Вогезами. Они разведывают дух народонаселения, действуют на протестантов, многочисленных в тех местах, которые совсем не такие французы, как думают вообще. Это сыновья и внуки тех самых людей, которые в 1815 году посылали многочисленные депутации в неприятельский главный штаб просить, чтобы Эльзас был возвращен немецкой отчизне. Это обстоятельство следует заметить, потому что оно основательно может считаться как имеющим целью узнать планы неприятеля. Пруссаки действовали точно также в Богемии и в Силезии за три месяца до открытия неприязненных действий в Австрии».
Некоторые фразы в письме доктора Куизана раздражили патриотический фибр совета; поднялись сильные возражения.
— Господа, — продолжал доктор, улыбаясь и требуя молчания движением руки, — я чувствую не менее вас, сколько в словах генерала Дюкро было бы оскорбительного для наших эльзасских сердец, если б они были справедливы, но генерал Дюкро дурно знает Эльзас и Лотарингию. Он принимает исключение за правило; он судит с точки зрения военного и с жалким легкомыслием о населении, с которым никогда не приходил в прикосновение, следовательно, и знать его не может. Если б он написал, что пиэтисты и жиды, которые кочуют в наших краях, отделились от общественного движения, не хотят принимать никакой национальности и готовы, отчасти из-за вопросов совести, ложно истолкованных, отчасти из жажды к золоту, изменить родине; если б он прибавил, что эти пиэтисты и эти жиды составляют предмет ненависти и презрения жителей, которые отшатнулись от них и не признают в них ни сограждан, ни единоверцев, то генерал Дюкро сказал бы правду, и мы все разделили бы его мнение.
— Да, это справедливо! — вскричали с увлечением члены совета.
— Итак, — продолжал доктор, — откинуть употребленные генералом, неприятно звучащие для Эльзаса выражения, которые никто из нас не одобрит, указанный им факт шпионства существует. Уже много лет у нас кишит прусскими шпионами. Наплыв их все становится сильнее и принимает более грозные размеры; они втираются повсюду, пролагают себе доступ во все семейства, умеют заручиться местом у домашнего очага и под личиною дружбы эти презренные агенты правительства, действия которого заставляют бледнеть политику древней Венеции, выведывают наши сокровеннейшие тайны, возбуждают наш гнев, злоупотребляют нашим патриотизмом, попирают ногами священный долг гостеприимства и продают нас своему господину, презреннее и недостойнее их самих, так как подкуплены они им. В силу всего сказанного, я предлагаю, чтоб каждый, кто рожден на немецкой земле, принял он французское гражданство или нет, был изгнан из города в двадцать четыре часа с предписанием немедленно выехать за границу.
— Я поддерживаю это предложение, — с живостью сказал Гартман, — мы знаем, что значит для пруссаков выражение: принять гражданство. И тем упорнее требую я немедленного решения, чтобы пруссаки сами подали нам пример, изгнав в двадцать четыре часа по объявлении ими войны самым варварским и грубым образом из своих пределов всех французов, живших на их земле, не щадя даже больных, которым переезд при этих условиях мог стоить жизни.
Предложение было принято с единодушными криками одобрения и решено немедленно исполнить его.
Часам к семи Гартман вернулся домой грустный и еще более опечаленный мрачным видом города. На улицах все так же, как и утром, народ толпился в тоскливом ожидании.
Послав осведомиться о раненых, которых состояние не более прежнего давало повод к опасениям, Гартман прошел в свой кабинет и велел подать себе ужин. Но он ел мало и скорее по рассудку, чтоб поддержать свои силы, чем потому, что чувствовал голод.
Старик был сильно озабочен; его волновало тяжелое предчувствие.
Он все более и более задумывался над мельчайшими подробностями своего разговора с Люсьеном и прениями совета, на котором присутствовал. Сердце его отказывалось верить в возможность измены со стороны человека, которого он облагодетельствовал и, с тех пор как принял в дом, скорее держал как друга или родственника. Такая чудовищная неблагодарность, глубокая безнравственность и страшный цинизм казались ему выше всего, что может допустить ум человеческий, и потому немыслимы.
Спустя мгновение, он отодвинул от себя тарелку, едва коснувшись пищи, и впал в глубокое раздумье.
Вывело его из задумчивости появление слуги. Франц пришел доложить, что господин Поблеско просит позволения переговорить с ним, если ему угодно будет принять его.
— Пусть войдет, — ответил Гартман.
И он прибавил про себя со вздохом облегчения:
«Наконец-то я узнаю, при чем я».
Франц ввел Поблеско, убрал со стола и ушел.
Гартман бросил на посетителя взгляд, которым хотел, казалось, проникнуть в глубину души его.
Поблеско держал себя, как всегда, холодно, спокойно, церемонно-вежливо и отчасти натянуто. Лицо его было бледно и осунуто, темные круги легли вокруг глаз, тусклый взор которых свидетельствовал о чрезвычайном утомлении.
Он держал под мышкой кожаный сверток. Когда он поклонился фабриканту, тот пригласил его сесть движением руки.
Минуты две длилось молчание; точно будто оба не решались заговорить.
Это безмолвие становилось тягостным, когда Гартман наконец прервал его словами:
— Вы желали говорить со мною и, несмотря на позднюю пору, я принял вас тотчас, предположив, что неизвестные мне важные причины побудили вас искать со мною свидания.
— Позвольте поблагодарить вас за снисхождение, — ответил Поблеско с поклоном, — мне было невозможно явиться к вам ранее. Я вернулся из Альтенгейма всего десять минут назад, так как был вынужден идти всю дорогу пешком.
— Как! — удивился старик. — Вы вернулись из Альтенгейма пешком?
— Пешком. В окрестностях появились неприятельские отряды. Муниципальный совет в Альтенгейме решил отдать деревню без боя. Сегодня утром все жители толпой ушли в горы, унося с собою что имели наиболее ценного. Уже три дня назад я велел разбирать машины, упаковывать их и накладывать на телеги и фургоны, как и все остальное имущество, находившееся на фабрике. Людвиг и ваш сын Люсьен поручили мне уверить вас, что все будет сложено в безопасном месте. Я оставался в деревне, пока не выбралось до последнего отставшего. Лошади, ослы и лошаки понадобились все для перевоза багажа, а сообщение по железной дороге, как вам известно, прервано по всей линии и существует только для войска; вот я и заткнул за пояс пару пистолетов на всякий случай, завернул в эту кожу самые драгоценные бумаги фабрики, храбро пустился в путь пешком и, слава Богу, благополучно добрался до Страсбурга.
— Чего же вам было опасаться? — улыбаясь, возразил Гартман.
— Недобрых встреч. В это смутное время дороги кишат бродягами и мошенниками самого худшего разбора. Имея при себе ценные бумаги, я вовсе не желал попасть им в руки.
— Зачем было рисковать жизнью из-за нескольких десятков тысяч?
— Извините, речь идет не о десятках тысяч, но о сумме гораздо значительнее.
— Объясните, пожалуйста.
— Объяснение будет коротко и я одного желаю, чтоб вы остались им довольны. Три года назад вы оказали мне честь назначить меня директором нашей фабрики в Альтенгейме. Вы предоставили мне полную свободу действия и разрешили вести дела по моему усмотрению, с условием давать вам каждые полгода подробный отчет. Не так ли?
— И я должен прибавить, что всегда был вполне доволен вашим знанием дела и коммерческой честностью. Сверх того, я с удовольствием признаю, что с тех пор, как поставил вас во главе управления, дела мои расширились почти вдвое.
— Позвольте поблагодарить вас за это свидетельство и благосклонную оценку моей деятельности. Поступать таким образом было мои долгом, и долгом тем священнее, что я всем обязан вам, а единственное средство в моей власти доказать мою признательность было способствовать к процветанию торгового дома, управление которым вы благоволили доверить мне.
— Вернемтесь к делу.
— Я к вашим услугам. При первых слухах о войне, то есть с начала июня, я понял по тому, как велись переговоры между двумя державами, что всякое миролюбивое соглашение вскоре сделается невозможным. Сообразно с этим я и действовал. Вероятно, вы запомните, что я был в отсутствии по делам дней двенадцать. В эти двенадцать дней я объехал все большие города во Франции, где у вас есть корреспонденты: Париж, Лион, Марсель, Нант, Бордо и т. д.; потом, едва вернувшись сюда, я опять отправился в путь, чтоб объехать Лотарингию и Эльзас.
— Я отлично помню это, но до сих пор не соображаю цели.
— Цель вот какая. Многие из корреспондентов оставались у нас в долгу, не потому, что не могли расквитаться, но просто по небрежению или беззаботности, которая ежедневно встречается в делах. Никто не ожидал, чтоб война была так близка. Майский плебисцит успокоил трусливые умы. По-видимому, все благоденствовало. За вашими корреспондентами числились значительные суммы. Надо было собрать их. Это оказывалось возможно, если взять заблаговременно и не дать торговым домам, под влиянием страха, скрыть свои капиталы. Так я и поступил. Вот тайна моих разъездов и постоянных отлучек. Вы увидите по приложенному счету, что нам должны были в Париже, Бордо, Марселе, Нанте, Лионе и т. д. по счетам просроченным и текущим сумму в миллион триста семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два франка двадцать девять сантимов. Как ни велико ваше состояние, потеря такой значительной суммы могла нанести ему роковой удар. Это следовало предупредить во что бы то ни стало. Я принялся за дело с усердием, подстрекаемым моей признательностью. Я был настолько счастлив, что успел собрать все, что вам оставались должны, за исключением пятидесяти тысяч франков, которые, как увидите, обеспечены верными залогами, следовательно, пропасть не могут ни в каком случае.
Говоря таким образом с величайшею простотою, тем холодным и спокойным тоном, который принимал всегда, Поблеско развернул кожаный сверток и подал фабриканту счета, которые все были совершенно верны и надлежащим образом засвидетельствованы.
Гартман был сильно взволнован. Все сказанное казалось ему так ясно, очевидно и несомненно, честность и коммерческая точность этого странного молодого человека представлялись ему в таком ярком свете, что он совсем был сбит с толку и не знал, что думать о нем.
— По мере того, — продолжал между тем Поблеско, — как собирал должные вам суммы, я отдавал их в местное отделение банка. Наконец, в Париже я соединил их все и поместил в главный банк на ваше имя. На все надо быть готовым. Независимо от вашей воли обстоятельства могут вынудить вас оставить Страсбург, даже Эльзас. Да и во всяком случае неблагоразумно было бы с моей стороны иметь при себе такую громадную сумму, какую я собрал с ваших корреспондентов. Эта квитанция с подписью Рулана, управляющего французским банком, выдана на имя Филиппа Гартмана, фабриканта в Страсбурге, с обязательством уплаты по востребованию. Вы видите теперь, — заключил он с улыбкой, — что не в нескольких десятках тысяч было дело, как вы полагали.
— Я просто поражен, — откровенно сказал Гартман. — Столько ума, предусмотрительности и честности превышает все, что я мог вообразить. Если я был так счастлив, что оказал вам некоторые услуги, то вы во сто крат отплатили мне за них теперь. Вы спасли состояние моих детей. Не скрою от вас, что большая часть моего капитала была в обороте и я находился в смертельной тоске, не зная, как соберу его при настоящих обстоятельствах, когда уплаты могли затянуться нескончаемо. С жестоким беспокойством ждал я минуты, что буду в состоянии, рассмотрев ваши счета, определить положение моих дел ввиду предстоящих событий. Вам одному я обязан, что ничего не потерял. Благодаря вашей энергии, предусмотрительности и разумной преданности, мое имя по-прежнему будет уважаемо, и какими бедствиями ни угрожало бы нам будущее, быть может, я единственный негоциант нашего несчастного края, состояние которого не рушится.
— Ваши теплые слова вознаграждают меня за все, что я сделал. Увы! Я предался было мечте, но действительность внезапно пробудила меня, — прибавил он с грустною улыбкой.
— Что вы хотите сказать? — с участием спросил Гартман.
— Ничего; простите, что я увлекся и думал вслух в вашем присутствии. Вы были так добры ко мне, так великодушно протянули мне руку помощи, что я с минуту полагал возможным… Но к чему, — вдруг перебил он себя, — растравлять едва зажившие раны моего сердца? Разве мне дозволено составлять планы в будущем, мечтать о счастье? Кто я? Увы! Несчастный без отечества, без родных, почти без имени, голова которого оценена! Вернемтесь лучше к вашим делам, которые одни должны интересовать меня теперь. Забудьте слова, которые невольно вырвались из моего стесненного сердца; простите, что я произнес их, и смотрите на меня только как на человека вам преданного, которому вы не дали умереть с отчаяния, которому составили вновь положение, достойное зависти для многих, и который не что иное, как директор вашей фабрики и ничем иным быть не хочет.
При этих словах Поблеско, лицо которого сделалось зеленовато-бледно, отер судорожным движением капли пота, выступившие у него на висках, и торопливо стал выкладывать на письменный стол счета и расписки из своего кожаного свертка.
— Вот все счета, — сказал он. — Если угодно, мы сейчас проверим их по книгам, которые я велел доставить сюда с фабрики дней шесть назад. Но, может быть, вы утомлены и лучше было бы отложить до завтра эту сухую работу, требующую большого умственного напряжения. Впрочем, я весь к вашим услугам и готов делать, что вы сочтете удобным.
Гартман посмотрел на молодого человека со странным выражением.
Тот невольно покраснел под гнетом этого взгляда, который смущал его до глубины души, но старик вдруг склонил голову с улыбкой и, равнодушно отодвигая положенные перед ним бумаги, сказал тоном дружественной короткости.
— Садитесь, любезный Поблеско; нет надобности спешить с проверкою счетов; мы точно так же можем исполнить это и в другой раз, сегодня же мы довольно толковали о делах. Если вы имеете время, мы лучше поговорим о вас.
— Обо мне? — спросил молодой человек с изумлением и не без страха.
— Почему же нет? Кроме надежного поверенного и умного директора фабрики, я вижу в вас человека, которого люблю и в котором принимаю участие. Кажется, я вам уже и доказал это, мой милый Поблеско.
— О! Разумеется; я был бы очень неблагодарен, если б забыл это. Что можете вы сделать для меня более того, что уже сделали? Мое положение прекрасно, достойно зависти, почти независимо, так как отчетов мне давать некому, кроме вас одних…
— Итак, — кротко перебил его старик, — вы довольны вашим положением?
— Доволен, насколько это возможно. В этом мире, как я испытал, нет ничего неизменного; ничего, что представляло бы надежное ручательство в прочности. У меня только одно опасение и есть.
— Могу я спросить, какое?
— Почему же нет; я боюсь, чтоб неожиданное событие, независящее ни от вашей воли, ни от моей, не вынудило меня расстаться с вами.
— Так вы, стало быть, верите в возможность подобного события, когда предвидите его?
— Нет; но, повторяю, я боюсь этого. С тех пор, как я живу на свете, я был жертвою стольких страшных переворотов, что не смею больше верить в счастье, постоянно от меня ускользавшее. Когда бы ни проглянул на меня солнечный луч, всегда вслед за ним я погружался еще в больший мрак. Каждый раз, когда я увлекался надеждами, громовой удар пробуждал меня из сновидений, которыми я убаюкивал себя. Страдание не сделало меня мизантропом, но скептиком.
— Вы ошибаетесь, — с чувством возразил Гартман, — вы сами себя обманываете. И к тому же, стараетесь в эту минуту обмануть и меня.
— Как вы можете полагать…
— Я ничего не полагаю, господин Поблеско; вы для меня больной, которым я интересуюсь и положение которого озабочивает меня; я гляжу на вас, тщательно всматриваюсь в ваше состояние и соображаю.
— Что же?
— Да то, любезный Поблеско, что вы… простите мне выражение, на которое лета мои и дружба к вам, кажется, дают мне право…
— О! От вас я все готов выслушать.
— Что вы в некотором роде мнимый больной. Воображение ваше, пораженное вероятно незаслуженными несчастиями, добровольно создает себе химеры. У вас страдает воображение, вы нравственно больны…
— Позвольте… — начал было в смущении молодой человек.
— Ага! Видно, я прямо попал на больное место. Ну что ж! Разве у меня такой суровый вид? Разве дружба моя вам кажется недостаточно горячею, что вы считаете нужным скрывать от меня ваше горе и отвечать мне общими местами? Боже мой! Вы молоды, мой друг, вы только входите еще в жизнь; как мрачен вам ни представляется ваш небосклон, все-таки на нем есть проблески безоблачного, лазоревого неба. Отчего не говорите вы со мною откровенно? Почему бы вам не сознаться мне в том, что вас мучит, что приводит в отчаяние? Я стар и мог бы быть вам отцом, я опытен, наконец, кто знает, не успею ли снова вселить в ваше сердце надежду или, по крайней мере, утешить вас.
— Право…
— Я не стану настаивать. Если вы считаете долгом молчать, то пусть будет по-вашему, но подумайте.
Молодой человек опустил голову на грудь и оставался с минуту в задумчивости, очевидно, терзаемый жестоким волнением.
Старик смотрел на него с добротою и кротким состраданием.
Наконец, Поблеско поднял голову.
— Вы победили мое упорство, — сказал он голосом, слегка дрожащим. — Вы против моей воли исторгаете у меня тайну, которую я поклялся сохранять в глубине души. Принятая мною решимость не может устоять против дружбы такой редкой и такой трогательной.
— Что же это была за решимость? — спросил Гартман с участием.
— Я намеревался, тотчас, по приведению в ясность всех счетов, просить вас уволить меня и позволить мне уехать.
— Уехать! Оставить меня! Это почему?
— Умоляю вас, не спрашивайте меня о причине; я никогда не осмелюсь сознаться вам в ней.
— Нет, нет, вы сказали столько, что теперь не можете более не договаривать. Вы должны покаяться мне во всем.
— Не требуйте этого от меня, умоляю вас, во имя участия, которое мне оказываете, во имя благодарности, которою я вам обязан.
— Но тайна эта, которую вы так упорно от меня скрываете, надеюсь, не заключает в себе ничего позорного?
— О! Можете ли вы сомневаться в этом?
— Почти, в виду вашего молчания.
Молодой человек поднял голову, весь дрожа от негодования.
— После этого слова, которое равносильно укору, — начал он прерывающим голосом, — всякое сопротивление с моей стороны вам покажется подозрительно. Так как вы непременно этого желаете, то я должен открыть вам, что хотел бы утаить от самого себя; когда же вам все будет известно, вы, может быть, проклянете меня, наверное удалите из своего дома; но лишившись вашей дружбы, я сохраню по крайней мере ваше уважение.
— Я вас слушаю.
— Когда, четыре года назад, я к вам явился с рекомендательным письмом вашего корреспондента, господина Кольбриса, вы приняли меня не как чужого, даже не как друга, но, можно сказать, как сына, возвратившегося после продолжительного отсутствия в родительский дом. После долгих страданий, после того, как я блуждал по свету как отверженец, я оживал под этим благоприятным влиянием, я весь предался бескорыстному участию, которое вы оказывали мне, искренней дружбе, в которой вы ежедневно давали мне новые доказательства. Я думал, что могу еще быть счастлив; я забыл прежнее горе и мечтал о будущем. Возле вас ежедневно… О! Простите; я не знаю, достанет ли у меня духа продолжать…
— Смелее, — кротко ободрил старик.
— Сидя за вашим столом, я видел ежедневно возле себя молодую девушку, почти ребенка еще. Эту девушку я полюбил, как и все вам близкое; я полюбил ее братской любовью, казалось мне, но с каждым днем я убеждался невольно, что дружба эта захватывала в моем сердце все более места, что она понемногу овладела им исключительно, и вскоре я с ужасом увидел, что чувство, принимаемое мною за дружбу, была любовь. При этом открытии я содрогнулся; сердце точно разбилось у меня в груди; я хотел подавить любовь, вступить в борьбу с самим собой. Увы! Я только убедился в тщетности подобного решения. Я хотел бежать, и на то недостало духу. К тому же, как мне было и бежать? Чему приписали бы мое бегство? На все благодеяния я ответил бы одною черной неблагодарностью. Нет, я заключил любовь в моем сердце. Я прилагал все старания, чтобы не выказать ее. Как я страдал! О, я выносил жестокие муки, и все же ни одной жалобы у меня не сорвалось, ни один взгляд не изобличил той, к которой я питал беспредельное благоговение, что я осмелился полюбить ее. Однако, мало-помалу в душе моей водворилось мнимое спокойствие; силы человеческие имеют свои пределы, за которые безнаказанно переступать нельзя. Для человека, который катится в глубину бездны, настает минута, когда от чрезмерного страдания, ошеломленный, униженный, обессиленный и упав духом, он уже ничего не чувствует. Тогда я стал обсуждать мою страсть. И дошел я до заключения, что как недостоин я ни был такого благополучия, быть может, после многих лет борьбы, вынесенной с неизменным мужеством, мне удастся настолько приобрести ваше доверие, что я осмелюсь обратиться к вам со смиренною просьбою. Но время это было далеко и с каждым днем я более еще отдалял его. Много раз я был готов упасть к вашим ногам и сознаться вам во всем. Меня удерживали страх и уважение. Всему, однако, настает конец в этом подлунном мире. Принятое мною решение внушало мне слабый проблеск надежды; я был счастлив уже тем, что не страдал так сильно. Судьба определила иначе; я должен был испить чашу до дна; моему несчастью суждено было довершиться. Однажды я узнал, что та, которую я любил, помолвлена за другого, и что этого другого она любит. Тут уже я не колебался; но мне предстояло исполнить сперва священный долг. Когда был беден и несчастлив, вы приняли меня, бездомного. Война в своих разрушительных переворотах могла наложить на вас и ваших близких бремя бедствий еще ужаснее тех, которые вынес я. Долг мой был предначертан ясно: сперва мне следовало спасти ваше состояние и потом расстаться с вами, но не терять вас из виду, не удаляться от вас, скрываясь в тени, наблюдать за вами, за вашею дочерью, за ее женихом, которого я также люблю, потому что он любим ею, и когда настанут лучшие дни, иметь возможность сказать себе с наслаждением: «Своим счастьем они обязаны мне; я охранял их, и хотя, по роковому определению судьбы, та, которую я люблю, отдала свое сердце другому, если она когда-нибудь узнает, какую святую и преданную любовь я питал к ней, она поймет, что и я стоил ее любви…» Вот тайна, которая жгла мое сердце и которую вы заставили меня выдать вам, — заключил он, закрыв руками лицо. — Накажите меня, отверженника, за то, что я осмелился полюбить ангела, прогоните меня с глаз долой, но не проклинайте…
Водворилось довольно продолжительное молчание, нарушаемое одними подавленными рыданиями молодого человека.
— Благодарю за признание, — сказал, наконец, Гартман, глубоко тронутый и с трудом владея собою, — вы поступили как честный человек. Пусть тайна эта останется между нами, об увольнении же вашем и речи быть не должно. Я не хочу — слышите ли — не хочу, чтоб вы оставили меня. В страшных обстоятельствах, в которых мы находимся, все теплые сердца, все избранные натуры, все сильные духом должны сплотиться воедино. Одному Богу известно, что нас ожидает; не бросайте меня.
— О! Что вы требуете от меня?
— Я прибавлю одно только слово — вы мне нужны.
— Пусть будет по-вашему; вы мой благодетель; жизнь моя принадлежит вам, — ответил Поблеско с усилием.
— Итак, ни слова более и до свидания! — сказал Гартман, улыбаясь и протягивая ему руку.
— Вы победили меня; я останусь достоин вашего доверия, — ответил молодой человек, пожимая протянутую ему руку.
Он вышел из комнаты медленно и как бы неохотно.
«Это избранная натура, — пробормотал Гартман, оставшись один. — Слава Богу! Люсьен совершенно ошибается на его счет».
И вполне успокоенный этим объяснением, которое внезапно было вызвано самим Поблеско, Гартман позвонил своему камердинеру Францу, разделся и лег.
В первый раз после многих дней достойный негоциант спал в эту ночь спокойным и укрепляющим сном.
Глава XIII ПОСЕЩЕНИЕ ПРУССАКАМИ МИТЕЛЬБАХА
Такая война, какую пруссаки вели против Франции, война варварская и злодейская.
Она отдалила цивилизацию на несколько веков и напомнила нам зловещие эпохи средних веков.
Когда пруссаки вступили на нашу землю, они обнародовали прокламацию, в которой объявляли, что ведут войну с солдатами, а не с гражданами, которых, по их уверениям, хотят уважать, и прибавляют, что все граждане должны оставаться дома; что те, которые уйдут и будут взяты с оружием в руках, будут остановлены и расстреляны; что те, которые попытаются бежать без оружия, будут взяты в плен и заключены в крепости в Германии.
Как бы желая доказать, до чего доходит презрение к своим обещаниям и ненависть к противникам, несмотря на все эти платонические объяснения, они сжигали деревни, расстреливали без различия возраста и пола убегавших крестьян, брали аманатами людей значительных, бомбардировали открытые города и постоянно жгли крепости, на которые нападали.
Вот какой варварский характер придан был этой войне, войне гибельной и опустошительной, пример которой трудно найти в современной истории.
В нескольких милях от Верта, спрятавшись между гор, находилась очаровательная деревенька в несколько сот душ. Мужчины, бывшие в состоянии носить оружие, были призваны под знамена в первые дни по объявлению войны.
Мужское население состояло почти исключительно из стариков и детей, не старше семнадцати лет.
В деревне этой, называвшейся Мительбах, был мэром старик лет шестидесяти шести, отставной военный, видевший, хотя в весьма молодых летах, войну 1814 и сохранивший о ней самое печальное воспоминание. Часть его семейства была убита на его глазах прусскими солдатами, от которых он избавился чудом, убежав в лес.
Когда раздался гром рейсгофенских пушек, когда эти зловещие раскаты, повторяемые отголосками, донеслись до Мительбаха, мэр уговорил жителей, скрыв все оружие, запереться в домах и даже спрятаться в погребах.
Все эти предосторожности, предписываемые благоразумием, оказались однако бесполезны, и мэр надеялся, что буря, гремевшая так близко от его деревни, пронесется мимо.
Действительно, как мы сказали, Мительбах был спрятан в горах среди пустого леса. Самое положение обеспечивало его безопасность в случае поражения французской армии. Он находился вдали от дороги, по которой должна была идти прусская армия. Нечего было даже опасаться посещения мародеров.
Словом, деревня эта, почти неизвестная самим французам, к которой можно было пробраться только по тропинкам, известным тамошним жителям, должна быть решительно неизвестна немцам.
Следовательно, жителям нечего было опасаться.
Мало-помалу пушечная пальба становилась тише, потом совсем затихла.
Солнце зашло. Шум смолк, и ночь покрыла окрестности своей густой тенью.
Жители начали успокаиваться.
Сам мэр надеялся, что всякая опасность прошла, а крестьяне, не смея еще выходить из дома, несколько приободрились.
В комнате, довольно скромно меблированной, дома, который служил ратушей, к восьми часам вечера, два человека сидели с каждой стороны стола, на котором лежало несколько реестров, и разговаривали при свете лампы с бумажным абажуром.
Первым был старик высокого роста, еще бодрый, в котором седые волосы, усы, энергичные черты показывали отставного военного.
Красная лента виднелась в петлице его сюртука, а опоясан он был трехцветным шарфом.
Старик это был Липман, мительбахский мэр.
Собеседник его составлял с ним полный контраст.
Это был человек лет тридцати пяти, или восьми, с тонкими и хитрыми чертами, с серыми глазами, глубоко впалыми, словно просверленными буравчиком, но живыми и сверкавшими смелостью и лукавством.
Смуглый цвет его лица, длинные и взъерошенные волосы, рыжая и нечесаная борода придавали его физиономии совершенно особый отпечаток грубого мужества и свирепости.
Он был высок, худощав, но его широкие плечи, огромные руки, по которым шла сеть нервов и мускулов, толстых как веревки, показывали, что он, должно быть, одарен необыкновенной силой.
На нем был ратиновый камзол табачного цвета, перетянутый кожаным поясом, на котором с одной стороны висели два картузника, а с другой — сабля со штыком.
Панталоны на нем были из потертого бумажного бархата, заштопанные в нескольких местах. Первобытный цвет их исчез от употребления, но сначала, должно быть, был синий. Ноги были в тяжелых, подбитых гвоздями башмаках и в длинных кожаных штиблетах, доходивших до колен.
На перевязи через плечо висела охотничья сумка из небеленого холста, в которой, судя по наружности, должно было вмещаться множество предметов. Сумка эта скрещивалась на его груди с огромной горлянкой, висевшей на правом боку.
Поярковая шляпа с широкими полями лежала на земле возле него, а между ногами держал он превосходное шасно, дуло которого было покрыто бронзой.
Словом, человек этот по наружности походил на одного из тех молодцов, которых не весьма лестно встретить при лунном сиянии в лесу.
Мы забыли одно важное лицо, растянувшееся во всю длину перед дверью. Это была собака очень большая, с длинной и шелковистой шерстью, с продолговатой мордой, с живыми и умными глазами, с длинными ушами, обыкновенный цвет которых был смесью черного с белым, но которые в эту минуту, вследствие химического процесса, необходимость которого нам еще неизвестна, были черны как смоль.
Собака эта, помесь водолаза и горной собаки, называлась Томом и принадлежала человеку с ружьем, за всеми движениями которого она следила почти человеческим взором, несмотря на свою апатическую наружность.
Читатель скоро короче познакомится с собакой и хозяином.
В ту минуту, когда мы входим в комнату мительбахской ратуши, Липман говорил:
— Итак, вы присутствовали при сражении?
— Присутствовал, — отвечал его собеседник, — я даже доставил себе удовольствие положить на месте несколько пруссаков. Спросите-ка Тома.
Собака быстро подняла голову и замахала хвостом, который хлопал по полу с шумом кузнечного молотка.
— И мы побеждены? — продолжал мэр со вздохом.
— Страшно. Никогда не бывало ничего подобного.
Липман несколько раз печально покачал головой.
— Хорошо, что вы пришли меня предупредить, Жак Остер, — продолжал он.
— Я должен был. Разве вы не были всегда добры ко мне? Кто заботился о моей бедной жене во время ее последней болезни? Кто похоронил ее? Кто взял на себя попечение о моем мальчике, пока я рыскал по горам? Вы, господин Липман. Кто всегда защищал меня, несмотря на мою дурную репутацию, от таможенных и жандармов? Вы, все вы; видите ли, если когда-нибудь вам понадобится моя шкура, хотя она и дырява и жестка, вы можете рассчитывать на нее.
— Знаю, негодный ты человек, — отвечал мэр, улыбаясь. — Я оказал тебе несколько услуг, это правда, но сделал потому, что знаю твою честность; ты не способен сделать вред кому бы то ни было, а при случае даже можно и положиться на тебя.
— Это уж истинная правда, — сказал Жак Остер, ударив себя кулаком в грудь, — и хотя таможенные прозвали меня Оборотнем, я сумею при случае доказать им, что я человек. И, может быть, получше многих других, которых мог бы назвать. Но не об этом идет речь; что вы намерены делать?
— Ничего, — отвечал мэр, подавляя вздох. — Теперь слишком поздно предпринимать что бы то ни было. Если б мог предвидеть, что случится, я принял бы меры; но каким образом ночью бросить деревню и уйти в горы со стариками, женщинами и детьми? Как взять с собою скот, мебель и провизию?
— Это правда, — сказал контрабандист, качая головою, — бедные добрые люди! Они не привыкли, как я, бегать по горам во всякое время. Однако, надо их спасти.
— Спасти? Разве ты знаешь наверное, что неприятель придет к нам?
— Наверное, и может быть, в нынешнюю ночь.
— Кто тебе сказал?
— Никто, но я в этом уверен.
— Что ж, если придет, мы будем принуждены принять его. Что могут они сделать нам? Мы не солдаты. Пруссаки такие же люди, как и мы. Мы защищаться не станем, мы разделим с ними нашу провизию. Так как у нас нет оружия, они не встретят никакого сопротивления и не будут иметь никакого предлога, чтоб поступить с нами жестоко. Мы подчинимся закону победителя.
— Да, и закону жестокому, говорю вам это, господин Липман. Вы должны, однако, сами это знать.
— Теперь времена другие. Война ведется не так, как прежде. Народы уважают друг друга. После последнего ружейного выстрела в сражении, гнев уступает место состраданию и побежденным протягивают руку.
— Да, да, верьте этому и пейте воду, — сказал Жак Остер с громким хохотом. — Видите ли, господин Липман, не во гневе вам будь сказано, вы пруссаков не знаете. Я давно рыскаю у границы и знаю их хорошо. Вы говорите, что поздно оставлять деревню, что надо покориться закону победителя. Но видите ли, господин Липман, я родился в Мительбахе. С тех пор, как деревня существует, мои родственники погребались на здешнем кладбище и я не хочу, чтоб их кости были осквернены пруссаками.
— Не делай глупостей, друг мой. Последствия будут ужасны для нас.
— Хорошо, хорошо! Я вам обещаю, что если они придут сюда, как намереваются, я такой задам им трезвон, что они будут помнить его больше двух недель.
— Я заклинаю тебя быть благоразумным. На всю деревню может быть возложена ответственность за то, что сделаешь ты, и она, пожалуй, поплатится дорого за это.
— Говорю, вам нечего заботиться об этом, господин мэр; я не ребенок, черт возьми! Я принял предосторожности, или, по крайней мере, приму их, притом вам известно, как я уважаю вас и по этому одному не захочу, чтобы с деревней случилось несчастье через меня.
В эту минуту Том, казавшийся спящим, вдруг вскочил, уткнулся мордой в пол, стал отдуваться, потом обернулся к своему господину с глухим ворчанием.
— Хорошо, старичок, — отвечал контрабандист, по-видимому, вполне понявший мимику своего четвероногого товарища, — это решено; будем осторожны.
— Что такое? — спросил мэр с некоторым беспокойством.
— Пруссаки идут, как я предвидел, и в эту минуту входят в ущелье Зеленый Дуб; это значит, что через час они будут здесь, господин мэр. Вот что!
— Как! Вы предполагаете?.. — сказал мэр, задрожав, не за себя, достойный человек, а за женщин, детей, стариков, которые были на его попечении.
— Я не предполагаю, господин мэр, — решительно отвечал контрабандист, — я уверен в том, что говорю. Неужели вы думаете, что Том может ошибаться? Это тонкий лазутчик; я подобного не знаю. Таможенных и пруссаков он чует более чем за два лье. Итак, это решено, господин мэр, им не надо найти меня здесь по приезде.
Собака начала опять ворчать, он успокоил ее рукою, говоря:
— Да, да, будь спокоен, старикашка; говорю тебе, уйду.
Потом он прибавил, обращаясь к мэру:
— До свидания, господин мэр, и счастливого успеха! Честь имею кланяться. Через час мне здесь придется жутко. Но не бойтесь. Вы скоро получите известие обо мне. Не трудитесь провожать меня, я дорогу знаю.
Он поднял с пола шляпу, надвинул ее на глаза, взял ружье под мышку и вышел без церемонии, затворив за собою дверь.
Оставшись один, Липман сидел несколько времени, опустив голову на грудь, свесив руки и погруженный в самые печальные и мрачные размышления.
— Что делать? Боже мой, что делать! — шептал он время от времени. — О! — вскричал он вдруг. — Для чего в мои лета пост, занимаемый мною, пригвождает меня к этому месту? Боже мой! Люди, навлекшие добровольно такие несчастья на нашу страну, должны будут отдать строгий отчет в своем поведении.
Он встал, взял лампу и прошел в комнату, служившую ему кабинетом и спальней.
На стене этой комнаты, напротив кровати, висела арматура, составленная из кираса с каской и серебряных капитанских эполет, прямой кавалерийской сабли, шпаги, двух седельных пистолетов, охотничьего ружья и, наконец, креста почетного легиона.
Взгляд Липмана обратился на эту арматуру. Глаза его тотчас прояснились; он выпрямил свой высокий стан и, скрестив руки на широкой груди, вскричал с гневом:
— О, если бы я еще был во главе моего эскадрона!.. Но это оружие еще может заставить меня уважать и защитить мою жизнь. Нет, — прибавил он почти тотчас, печально качая головою, — нет, моя жизнь не принадлежит мне более; я не должен защитить ее. Всякая попытка к сопротивлению будет преступлением, потому что она будет причиною смерти людей, которых я обязан защитить. Я должен умереть на своем посту, если понадобится, без нерешимости и без слабости, а в особенности не стараясь защитить мою голову за счет несчастных обитателей деревни.
Он подошел к кровати, переставил ее, прижал пружину, спрятанную в стене, и отворил потайной шкаф.
— Пусть, по крайней мере, — прошептал он, — это оружие, которое я употребляю с честью столько лет, не будет осквернено!
Рукою, дрожавшею от волнения и горести, снял он оружие одно за другим, каску, кирас и прочее, отнес все в тайник, потом осмотрел пустую стену, чтобы удостовериться, не забыл ли чего-нибудь, запер тайник.
— Жертва совершена, — сказал он, — теперь они могут прийти. Я готов.
Но вдруг он остановился.
— Ах! Я забыл.
Он вернулся в первую комнату, взял все реестры, все архивы, все до малейшей бумажки и перенес в тайник, который запер на этот раз с тем, чтобы его более не открывать.
Потом, удостоверившись, что место, выбранное им для его драгоценных залогов, действительно, невозможно было найти, он поставил кровать по-прежнему, взял лампу, вернулся в первую комнату и упал на кресло, бросив рассеянный взгляд на стенные часы.
— Уже десять часов! — прошептал он.
Луна освещала предметы слабым, нерешительным светом.
Глубокая тишина царствовала в окрестностях.
Только изредка тишина эта нарушалась отрывистым лаем внезапно проснувшихся собак, которые опять тотчас засыпали.
Все огни были давно погашены в деревне, только в ратуше горел огонь.
Вдруг собаки подняли бешеный лай, скоро составивший страшный концерт, к которому примешались крики испуганных женщин и плач детей.
Дверь ратуши с шумом отворилась и вбежало пять человек, толкавших друг друга и кричавших с ужасом:
— Пруссаки, пруссаки!
Липман бросился к бежавшим, убеждая их сохранить спокойствие, а особенно хладнокровие.
Это были товарищ мэра и члены муниципального совета мительбахского, добрые крестьяне, из которых младшему было более шестидесяти лет, одряхлевшие от лет и грубых работ, с волосами и бородами белее снега.
— Господин мэр, — сказал его товарищ, когда Липман добился тишины, — пруссаки идут.
— Наверно ли знаете вы это? — спросил Липман. — Не панический ли это страх? Не ложное ли это известие?
— Ах! Нет, — ответил товарищ, — мы с кузеном Мейстером видели их.
— Как это? — спросил мэр, сильно заинтересованный.
— Зная, как вы тревожитесь, мы с кузеном решились отправиться разузнать и увидали пруссаков у ущелья Зеленый Дуб. Они идут осторожно, но не колеблясь, по настоящей дороге.
— Да, да, — сказал Мейстер, — их хорошо ведут. Это негодяй разносчик жид Исаак Лакен, которого мы называем Исааком Кривым, потому что он лишился правого глаза неизвестно каким образом.
— Ну? — спросил Липман с беспокойством.
— Это он служит им проводником, господин мэр.
— Как! Негодяй, которому мы оказали столько услуг?
— Да, — ответил товарищ мэра, — мы отогревали змею. Теперь она нашла случай ужалить и пользуется этим.
— Какая гнусность! — прошептал мэр.
— Мы с кузеном видели достаточно. Мы вернулись бегом проселочной дорогой. Мы разбудили наших соседей, которые составляют так же, как и мы, часть муниципального совета, и вот все мы возле вас, господин мэр, готовые вам повиноваться и умереть, если нужно.
— Да, — сказал один из членов муниципального совета, — мы не солдаты, а отцы семейств. Мы не хотим, чтоб убивали наших жен и детей, и пожертвуем нашей жизнью для того, чтобы их спасти.
— Господа, — ответил мэр, выпрямившись с достоинством, — благодарю вас за предлагаемое мне содействие; в тех обстоятельствах, в каких мы находимся, тягостная обязанность, предстоящая нам, начертана вполне. Было бы безумством пытаться на малейшее сопротивление; мы были бы разбиты в несколько минут, и наша деревня была бы предана пламени. Мы должны ждать врагов, делать что можем для того, чтобы удовлетворить их, и поручить себя их правосудию и милосердию.
— Милосердие неприятеля! — возразил товарищ мэра с насмешливым хохотом.
— Ах! — возразил мэр. — Это наше единственное средство, наша последняя надежда. Как вы думаете, скоро ли они будут здесь?
— Не прежде как через полчаса, господин мэр; они идут медленно, осторожно, смотрят направо и налево, чтобы избежать неожиданного нападения.
— Хорошо. Воспользуемся же несколькими минутами, остающимися нам, чтобы приготовить залу ратуши, осветить ее и посмотреть, какими съестными припасами можем мы располагать. Эти съестные припасы ничтожны, но все-таки мы выкажем добрую волю, и больше ничего нельзя требовать от нас. Вы, — обратился мэр к своему товарищу, — ступайте с вашим кузеном узнать во всех домах, что можно собрать без большого ущерба для хозяев. Спешите, для того, чтобы у меня были все сведения до прибытия неприятеля.
Товарищ мэра и кузен Мейстер ушли.
Другие члены муниципального совета, с помощью мэра, сделали из комнаты, в которой они находились, залу совета, поставили скамьи, столы, стулья и зажженные лампы.
Только что кончились эти приготовления, и Липман записывал на длинном листе бумаги количество провизии всякого рода, находившейся в деревне, по заметкам, сделанным по его приказанию его товарищем, когда послышался большой шум лошадиного топота и тяжелых, размеренных шагов вооруженного войска.
Это шел неприятель.
Пруссаки остановились на площади. Начальник их разослал во все стороны патрули и отряды для того, чтобы обвести деревню железным кругом.
Потом звук сабель раздался на лестнице и несколько прусских офицеров вошло в залу совета. Перед ним шли два улана с обнаженными саблями и с пистолетами в руках.
У офицеров этих был надменный вид. Презрительная улыбка играла на их губах. Тот, который казался старше чином, подошел к столу, ударил по нему саблей и сказал, говоря по-французски:
— Где мэр этой деревни?
— Я здесь, — сказал Липман, поклонившись.
— А! Вы господин Липман, бывший кирасирский капитан, мительбахский мэр. Хорошо! Это какие крестьяне?
— Члены деревенского муниципального совета, милостивый государь.
— Называйте меня полковником; я полковник.
— Я не знаю чинов в прусской армии, извините меня.
— Ах! — сказал полковник с насмешкой. — Вы научитесь их узнавать.
Он вынул записную книжку из кармана мундира и раскрыл ее.
— Мне нужно помещение для четырехсот человек, — продолжал он.
— У нас в деревне только шестьдесят домов, — ответил мэр.
— Что мне до этого? Мне не о чем разговаривать с вами. Мне нужно помещение для четырехсот человек, рис, хлеб, кофе, мясо, водка, сахар, соль, белое и красное вино; овес и солома для лошадей. В этой деревне есть богатые землевладельцы. Вот их имена: Липман, Ковен, Мейстер, Эрланжэ, Шефер и Страль. Каждый из них должен предоставить две тысячи франков, всего двенадцать тысяч. Эти двенадцать тысяч должны быть заплачены через час.
Офицер, говоривший так надменно и спесиво, был молодой человек лет тридцати, с тонкими, деликатными чертами, с физиономией почти детской. Руки его, которые, судя по их небольшой величине, не были способны держать саблю, были в узких перчатках. Он с презрительным видом курил гаванскую сигару.
— Это все? — спросил Липман, с трудом сдерживавший себя.
— Может быть. Что вы имеете возразить?
— Только то, что деревня бедна и жители не знают употребления вина. Во всей общине вы не найдете ни одной бутылки. Все здесь пьют пиво или молоко. Каждая семья печет по субботам хлеб на всю неделю; завтра воскресенье, а жители, в следствие сражения, прятались в погребах целый день, поэтому хлеб не испечен. Ни кофе, ни сахара у нас также нет.
— Стало быть, вы живете как поросята в этой грязной яме?
— Мы живем как люди бедные, честные и трудолюбивые. Мы с трудом можем содержать наши семейства и не можем позволить себе излишеств.
— В этом я удостоверюсь. Капитан Стриков, — продолжал он, обернувшись к одному офицеру, который немедленно выпрямился и поднес руку к каске, — ступайте и исполните мои приказания с чрезмерной строгостью. Эти мужики французы неисправимы. Только кнутом можно добиться от них чего-нибудь.
Капитан поклонился и вышел.
— Я не кончил, — продолжал мэр.
— А! Ну так объясняйтесь кратко; мне нет времени вас слушать. Вы, вероятно, станете мне рассказывать, что лица, назначенные мною, не в состоянии заплатить контрибуции, наложенной мною, но я имею верные сведения, предупреждаю вас. Когда эти негодяи увидят, как загорятся их дома, они откроют свои тайники и найдут деньги.
— Милостивый государь, вам даны ложные сведения. Люди, которых вам представили богачами, бедные землевладельцы, с чрезмерным трудом ведущие свои дела.
— Я был в этом уверен, — сказал офицер, с насмешкой крутя свои усы. — Полноте хныкать, старикашка; раскошеливайтесь. Я никогда не отменяю данного приказания.
— Я не хныкаю, милостивый государь; я даже не унижусь до просьбы. Я знаю, что все мои слова были бы бесполезны. Вот что я хотел вам предложить. Хотя я сам очень беден, но готов пожертвовать собою для того, чтобы спасти этих бедных людей и не допустить сожжения деревни.
— Что же вы сделаете для этого, посмотрим? — сказал полковник с презрительным видом.
— Я сам заплачу всю контрибуцию, — просто ответил мэр. — Я разорюсь, но спасу по крайней мере от нищеты бедных людей и сохраню их дома от пожара.
— Хорошо, я согласен, только с условием.
— С каким?
— Чтобы двенадцать тысяч франков были отсчитаны мне сейчас же золотом или французскими банковыми билетами.
— За этим дело не станет, ваше желание будет исполнено.
— Подождите, — возразил полковник с насмешкой, — пусть каждый из людей, назначенных мною, заплатит мне по пятьсот франков. Это будет выкупом деревни.
— О, это гнусно! — вскричал мэр.
— Что вы говорите?
— Ничего, ничего; извините меня, я увлекся.
— Вы меня оскорбили. Схватите этого человека! — обратился полковник к уланам.
Два улана бросились на Липмана, схватили его и поставили в невозможность пошевелиться.
Полковник, лицо которого приняло выражение неимоверной свирепости, медленно подошел к старику и, посмотрев на него с выражением оскорбительного презрения и сдерживаемой ярости, продолжал:
— Вы меня оскорбили; вы негодяй, вот вам за это!
Он дал ему пощечину.
Липман заревел как раненый лев при этом неслыханном оскорблении. Движением быстрее мысли он высвободился из рук, державших его, и бросился к офицеру, но вдруг остановился, силы изменили ему, он упал на стул, закрыл голову руками и зарыдал.
— Боже мой! Боже мой! — вскричал он.
Члены муниципального совета были поражены. Они с ужасом переглядывались между собой.
При движении Липмана прусский офицер быстро откинулся назад с бледностью на лбу, с расстроенными чертами; машинальным движением обнажил он свою саблю.
В эту минуту раздалось несколько выстрелов, смешанных с детскими и женскими криками.
— Что такое случилось? — обратился полковник к капитану Стрикову, который входил в залу.
— Полковник, — сказал капитан, — это кричали крестьяне, спрятавшиеся в погребе. Мы выгнали их по вашему приказанию; так как они пытаются бежать в горы и уносят с собою все, что у них есть, то наши солдаты бросились за ними в погоню и убивают, как могут больше.
— Очень хорошо, — ответил полковник, закуривая свою сигару, которая погасла. — Пусть они продолжают; эти собаки французы должны нас узнать.
— А! Если так! — вскричал раздраженный товарищ мэра. — Если, пренебрегая людским правом, вы убиваете безвредных женщин, детей, стариков, так убейте нас, вы не получите ничего!
— Молчите! — с живостью вскричал Липман, с бледностью и строгостью на лице; становясь перед полковником. — Я один распоряжаюсь здесь. Милостивый государь, именем человеколюбия, именем религии, именем ваших матерей, жен, сестер, сжальтесь над этими несчастными, не совершайте бесполезных преступлений. Война не может оправдывать таких ужасов против существ безвредных и неспособных защищаться. Требуйте все, что хотите, требуйте все, что у нас есть, мы вам отдадим, но, ради Бога, которому вы поклоняетесь так же, как и мы, и который будет вас судить, пощадите женщин и детей!
— Пожалуй, — ответил полковник, — вас здесь шестеро; ну, от вас шестерых я потребую выкуп за всю деревню.
— Мы соглашаемся, — ответили все в один голос.
— Не торопитесь; вы еще не знаете, какие условия я намерен вам предложить.
— Каковы бы они ни были, я принимаю их, но велите прекратить эту резню, — ответил Липман.
— Если в ушах ваших не будут раздаваться крики жен и детей, — сказал полковник с насмешкой, — то я знаю вас, господа французы, я ничего от вас не добьюсь.
Несчастные крестьяне с испугом наклонили головы. С каким тигром имели они дело!
Глава XIV КОНЕЦ ПРЕБЫВАНИЯ ПРУССАКОВ В МИТЕЛЬБАХЕ
Воротимся теперь к нашему новому знакомому, контрабандисту Жаку Остеру, прозванному Оборотнем, которого мы оставили в ту минуту, когда после своего продолжительного разговора с Липманом, он простился с ним и вышел из Мительбаха вместе с собакой своей Томом.
Оборотень, очень кстати прозванный, был один из тех неустрашимых лесных пешеходов, которые так часто встречаются между горцами.
Всякая подчиненность тяготила его, всякое принуждение, как бы ни было легко, казалось ему нестерпимым игом. Это был какой-то дикарь, жизнь которого проходила на вольном воздухе и который не помнил, спал ли он когда под крышей.
Он женился, неизвестно каким образом, на дочери такого же бродяги, как и он. Эта женщина, которую он любил по-своему, не могла привыкнуть к жизни мужа и умерла с горя, оставив ему сына, которого взял к себе Липман и которому в то время, когда мы пишем, было лет тринадцать.
Оборотень имел к этому ребенку, слабому и тщедушному по наружности, но очень сильному в действительности, любовь зверя, о которой не могут иметь понятия те, которые не изучали странного характера оригинальных существ, не желающих подчиняться законам цивилизации.
Первою заботою Оборотня, когда он оставил мэра, было отправиться обнять своего мальчугашку, как он называл его.
Ребенок спал на чердаке в доме мэра, где тот кое-как устроил для него спальню, с железной кроватью, ночным столиком, туалетом, столом и двумя стульями из орехового дерева.
Ребенок, имевший большую часть отцовских инстинктов, так сказать, почувствовал присутствие отца. Он не спал, а сидел, в уверенности, что отец придет; он ждал его.
Скоро услыхал он на лестнице тяжелые шаги контрабандиста. Том сунул морду в полуотворенную дверь, бросился на ребенка и стал к нему ласкаться. Почти в эту минуту показался Оборотень.
— Вот где ты, мальчуган, — сказал он, крепко прижимая к груди ребенка, который бросился к нему на шею, — как ты высок и силен! Как жаль, что ты не можешь бегать со мною по горам!
— В желании недостатка у меня нет, батюшка, — ответил мальчик, — если б зависело от меня, я давно ушел бы к вам.
— Знаю, бедный мальчугашка, знаю! — самодовольно продолжал контрабандист. — Смешно, этот карапузик — совершеннейший портрет своей бедной матери. Господин Липман добр к тебе по-прежнему?
— Он добрый-предобрый.
— Бедный он человек! Хочешь оказать ему услугу?
— Еще бы! А что надо сделать?
— Послушай, мальчуган, тебе это будет легко, если ты захочешь. Ведь ты не боишься идти ночью по тропинкам в лесу?
— Чего мне бояться?
— Это правда, тебе нечего бояться. Ты слишком хитер. Слушай же, ты пойдешь со мною и мы посмотрим, мужчина ли ты.
— Вы взаправду возьмете меня с собою, батюшка?
— Для чего мне лгать, сынишка? Оденься и пойдем.
— Мне и так хорошо. Мне нечего больше надевать.
— Ну, в путь-дороженьку; нечего нам валандаться. Ребенок не заставил повторить приглашения. Он кувырком слетел с лестницы с живейшей радостью.
Мужчина и ребенок с собакой, следовавшей за ними по пятам, молча прошли деревню и очутились в лесу.
На одном перекрестке Оборотень остановился.
— Послушай меня, — сказал он сыну, — и главное, не прерывай. Поручение, которое я дам тебе, очень трудно исполнить. Надо быть хитрым-прехитрым. Ты знаешь окрестности?
— На десять миль в окружности нет ни одной скалы, которую бы я не знал. Вам известно, что я у господина Липмана только один год. А прежде разве я не бегал везде с вами? И с тех пор, как живу в деревне, я все еще бегаю в лес.
— Хорошо. Слушай же. Кажется, пруссаки порядком откатали нас сегодня. Французы бегут как утки, и в конце концов пруссакам хочется дружелюбно побывать во французских деревнях, а особенно в Мительбахе, в котором мы с тобою имели честь родиться. Ты понимаешь?
— Понимаю, — ответил мальчик, слушавший очень внимательно.
— Больше ничего и не нужно. Здесь мы расстанемся. Ты изо всех сил побежишь к ущелью Зеленый Дуб. Оттуда должны прийти пруссаки; по другой дороге им нельзя пройти. Как только они появятся, следуй за ними так, чтоб тебя не видали; высмотри все, что они будут делать в деревне, и когда все хорошенько узнаешь, приди ко мне. Ты понял, мальчуган?
— Понял, батюшка, но где я вас найду? Здесь?
— Нет, слишком близко. Приходи ко мне к Наклонной Скале. Ты знаешь Наклонную Скалу?
— Еще бы! Я в нынешнем году отыскал там гнездышко.
— Хорошо. Теперь, если меня там не будет, жди. Не бойся. Когда ты меня увидишь; я, вероятно, буду не один. Ты понял хорошо?
— Да, батюшка, будьте спокойны.
— В особенности остерегайся негодяев пруссаков. Они еще хитрее таможенных. У них куча лазутчиков, которые свернут тебе шею как цыпленку, если успеют захватить тебя.
— Не беспокойтесь, батюшка; я не так глуп, как вы думаете.
— Поцелуй меня и улепетывай. Помни же, у Наклонной Скалы.
— Да, батюшка.
Ребенок, прыгая как жеребенок, исчез среди кустов.
— Как бегает-то мальчуган! — сказал самодовольно контрабандист, следуя глазами за сыном. — Теперь моя очередь. Я должен встретить тех, кого ищу, за три лье отсюда в окрестностях ущелья Сова. По крайней мере, сегодня утром они были там. Ну, в путь; порядочно придется походить, прежде чем дойдешь до них.
Контрабандист подтянул свой пояс, дружески ударил свою собаку и пошел тем твердым шагом, свойственным горцам, который занимает середину между шагом скорым и шагом гимнастическим и за которым с трудом поспевает рысь лошади.
Альтенгеймские вольные стрелки, после успеха своей экспедиции против уланов, вернулись в свой лагерь, как мы уже говорили, взяв с собою пленника и раненых пруссаков.
Первым старанием Люсьена Гартмана было возвратить Карлу Брюнеру свободу, потом перевязали раненых и отправили их под конвоем в главный штаб ближайшей дивизии.
Исполнив эту обязанность, Людвиг собрал совет, чтоб допросить пленника.
Допрос этот был прост. Пленник объявил, что его зовут Ульрих Мейер, барышник по ремеслу. Он отправлялся в Гагенау со своими слугами покупать лошадей. Он был так же удивлен, как и вольные стрелки, приметив прусских уланов, но боясь поднять тревогу, если слишком поспешно вернется назад, продолжал ехать вперед, хотя замедлил шаг. Намерением его было, доехав до перекрестка, ускользнуть все равно по какой бы то ни было дороге. Он не солдат. Услыхав ружейные выстрелы и увидев последующую схватку, он и его слуги испугались и, не заботясь узнать кто побежден, повернули лошадей назад, чтобы убежать как можно скорее.
Эти объяснения были даны барышником с добродушным видом и тоном истины, так что сомнения начальника и офицеров вольных стрелков должны были изгладиться.
Не заставляя себя просить, он показал бумаги, доказывавшие справедливость всего, что он говорил.
Начальник и офицеры, посоветовавшись между собою, объявили ему, что он свободен и может идти куда хочет.
Барышник не заставил повторить этого позволения и, низко поклонившись тем, у кого за минуту перед тем был в плену, отдал себя в руки сержанта Петруса, которому было поручено с несколькими волонтерами вернуть его на дорогу.
Петрус был не очень доверчив. Он потребовал, чтобы его бывшему пленнику завязали глаза, что заставило того сделать скверную гримасу, хотя он был принужден покориться этому требованию.
— Видите ли, мой милый, — говорил ему Петрус в утешение, — неизвестно, что может случиться. Если неравно вы попадете в руки пруссаков и они потребуют от вас сведений, если вы докажете им, что у вас были завязаны глаза, они оставят вас в покое. Если, напротив, я не приму этой предосторожности, они найдут таким или другим образом средство заставить вас говорить.
Говоря это, сержант крепко завязал барышнику глаза носовым платком, потом, опять из предосторожности, положил его на носилки, которые два сильных вольных стрелка понесли на своих плечах.
— Вот, — сказал он, — таким образом вы без устали прибудете на то место, куда я хочу вас довести; только не шевелитесь, потому что если упадете, вы сломаете себе ребра, что будет очень неприятно. Кроме того, я должен вас предупредить, что при малейшем вашем движении снять повязку я буду принужден прострелить вам голову, что сильно огорчит меня; но что же делать? Обязанность прежде всего.
Странная процессия отправилась в путь.
Скажем, что барышник помнил хорошо, что ему сказали. Во весь путь он ни разу не попытался обмануть бдительность своих проводников.
Таким образом, сами того не подозревая, альтенгеймские стрелки выпустили человека, которого непременно расстреляли бы, если б знали, кто он.
Когда разные отряды, отправленные по разным направлениям, вернулись, вольные стрелки оставили свой лагерь и направились к флангам французской армии по направлению к Верту, чтобы как можно более приблизиться к границе.
Они узнали о висембургском сражении и присутствовали невидимо при страшном зрелище рейгофенского поражения. Вечером, когда мы находим их близ ущелья Сова, между ними царствовало сильное смятение.
Позиция, занимаемая ими, делала их положение очень ненадежным: они были отрезаны от французской армии и почти со всех сторон окружены пруссаками. Лазутчики их, разосланные во все стороны, приносили самые неприятные известия.
Немецкая армия шла вперед и все уничтожала на пути своем. Следовательно, было необходимо принять какое-нибудь намерение, чтобы узнать, продолжать ли занимать горы, несмотря на соседство неприятеля, соединившись с другими отрядами вольных стрелков, с которыми можно было установить сношения, или отретироваться к Страсбургу или Мецу.
Рассуждения были очень оживлены.
Так как речь шла об общем интересе, то все вольные стрелки были призваны сказать свое мнение. Большая часть склонялась к немедленному отступлению.
Петрус встал и просил слова.
— Господа, — сказал он, — я отказался от места хирурга, которое вы предлагали мне, предполагая, что с ружьем я пройду курс хирургии с такою же пользой, как и с ланцетом в руке. Вы сделали мне честь произвести меня в сержанты. Это хороший чин; я вас благодарю.
— К делу! — сказал Люсьен. — Совсем не об этом идет речь.
— Извините меня, майор, — ответил Петрус со степенным видом, — напротив, только об этом и идет речь. Вольные стрелки все должны быть хирургами в армии в том смысле, что обязанность их состоит в пускании дурной крови, которая может беспокоить армию. А какая кровь может быть хуже, чем у пруссаков? Ее-то мы и должны выпускать как можно больше. Для этого, вместо того, чтобы идти назад, мы должны идти вперед. Французская армия сделала поворот, мы должны защищать ее отступление и как можно ближе держаться гор. Мы солдаты засад, неожиданных нападений, и больше ничего. Мы сражаемся, не показываясь, и выстрелы наши опаснее оттого. Утомляя неприятеля постоянными стычками, останавливая фургоны, уничтожая железные дороги, а в особенности покровительствуя деревням, беззащитно преданным неприятелю, мы исполняем высокое и прекрасное призвание и полезно служим нашему отечеству. Если, напротив, мы присоединимся к французской армии, если будем ходить в ее тени, мы уничтожимся, потеряем нашу индивидуальность, принуждены будем повиноваться приказаниям, которых часто не поймем, и наше призвание становится бесполезным. Лучше для нас в таком случае каждому отдельно поступить в какой-нибудь полк. Я всеми силами противлюсь отступлению.
Эта речь произвела некоторое впечатление на присутствующих. Без сомнения, было бы принято какое-нибудь решение, когда в кустарнике послышался шум и вдруг показалась огромная собака, черная как ночь; весело махая хвостом, она подбежала к вольным стрелкам.
— Это Том! — закричало несколько вольных стрелков.
— Это приятель мой Том, — прибавил Петрус с убеждением. — Я бьюсь об заклад, что он одного мнения со мною и не хочет отступать.
— Еще бы! — ответил грубый голос. Все обернулись и приметили Оборотня.
— О, о! — сказал Петрус. — Мне сдается, что этот молодой человек принес нам известия.
— Да, — ответил контрабандист, — я привез вам известия, товарищи.
— Говорите, говорите! — закричали вольные стрелки.
— Для того я и пришел, — сказал он, входя в кружок, который расступился, чтобы дать ему дорогу.
Как скоро водворилась тишина, контрабандист заговорил:
— Господа, я только скажу несколько слов. Времени мало; надо действовать, а не рассуждать. Вот в чем дело: все вы знаете деревню Мительбах. Прусский отряд, силу которого в точности определить я не могу, но полагаю человек в триста или четыреста, идет на Мительбах с открытым намерением подвергнуть деревню реквизиции, а вам известно, что означает слово реквизиция у пруссаков. Эту весть, за достоверность которой ручаюсь, мне доставили часов в шесть вечера. Немедленно же я отправился предупредить мэра. К несчастью, он вовсе не приготовился в обороне, в том убеждении, что неприятель не разыщет тропинок, которые ведут в Мительбах. Да и какие представились бы ему средства к обороне? Все население деревни состоит из детей, женщин и стариков, а кто только мог стать под ружье, был призван под знамена. Итак, мэру другого ничего не оставалось, как покориться без сопротивления грабительству и оскорблениям неприятеля. В настоящую минуту пруссаки, вероятно, уже в Мительбахе. Вы здешние жители и вольные стрелки, не регулярное войско. Вы взялись за оружие, чтобы ограждать и защищать тех, кто сам обороняться не может. Не попытаетесь ли вы спасти несчастную деревню от презренных грабителей, которые, быть может, теперь предают ее огню и мечу? Я буду служить вам проводником и проведу вас туда менее чем в час времени. Если же вы откажетесь, что бы там ни было, я пойду один.
— Нет, нет, мы все идем! — закричали вольные стрелки.
— В Мительбах! В Мительбах!
— И прекрасно, — заключил Петрус, — вопрос теперь решен; я вперед знал, что вы поддержите мое мнение.
— Да, товарищи, пойдемте в Мительбах; докажем неприятелю, что не так ему будет легко овладеть Эльзасом, как он полагает.
— Пожалуй, но мне хоть в Мительбах, — заметил Людвиг. — Только не худо бы послать вперед разведчиков для точного определения, что происходит в деревне, прежде чем мы туда сунемся. Пруссаки трусы, следовательно, осторожны; они не дадут захватить себя врасплох.
— Не беспокойтесь на счет этого, — возразил Оборотень. — Я оставил за собою разведчика, который доставит нам все нужные сведения. Это мой мальчуган, ребенок лет двенадцати, которого никто остерегаться не станет. Мы можем идти немедленно без всякого опасения. Найдем мы его у Наклонной Скалы, где я велел ему ждать нас.
— Так с Богом в путь! — сказал Людвиг. — Сержант Петрус, возьмите двадцать человек, чтобы составить авангард. Растяните его в ширину, линией в сто пятьдесят метров, для покрытия всего нашего фронта. Забирайте каждого, кто бы ни попался под руку. В особенности же подвигайтесь вперед с величайшей осторожностью. Если б встретилось что-нибудь серьезное, крикните два раза по-совиному. Предписывать вам осмотрительность, разумеется, лишнее. Вы знаете нашу тактику высматривать неприятеля и не показываться ему.
— Слушаю, командир, — ответил Петрус, приложив руку к козырьку.
— Итак, отправляйтесь.
Петрус взял первых двадцать разведчиков, которые попались ему на дороге, шепнул им несколько слов и немедленно удалился с ними.
Движение это было исполнено так ловко и тихо, что под ногами волонтеров даже листья не захрустели.
У Людвига еще оставалось в распоряжении более четырехсот человек, так как со времени формирования отряда к нему примкнуло большое число охотников.
Он разбил свой отряд на шесть отделений в пятьдесят человек каждое и расставил их полукругом, чтоб оцепить деревню и в случае нужды одновременно напасть на нее со всех сторон.
Двадцать человек были приставлены к багажу, впрочем небольшому, так как волонтеры носили на себе почти все свое имущество, а восемьдесят человек оставляли резерв под командою прежнего ефрейтора африканских егерей, по имени Пипермана, храброго солдата, подобно Людвигу, бывшего работником на фабрике Гартмана. За Пиперманом одно только и водилось — пристрастие к водочке, а так как в горах ее, конечно, не было, то на него и могли положиться вполне.
Арьергард, или вернее резерв, оставался наготове двинуться всюду, куда бы ни потребовалось.
В этих отрядах разместились Люсьен и его два приятеля, Адольф Освальд и Жорж Цимерман, с необходимыми принадлежностями для перевязки в своих ранцах и каждый из них сопровождаемый четырьмя охотниками для ухода за ранеными, которые также имели при себе разные лекарства.
Когда все эти распоряжения были исполнены, Людвиг обратился к волонтерам со следующей речью:
— Мы приступаем к нашей первой серьезной экспедиции. Помните, что одна дисциплина упрочит за нами успех. Предупреждаю вас, что при малейшей непокорности, при малейшем колебании, я неумолимо всажу виновному пулю в лоб. Итак, ребята, держать ухо востро. Что мы предпринимаем, не детская игра; надо выйти из дела с честью. Вы знаете, что я не изменяю своему слову никогда. Итак, вы предупреждены теперь: вперед!
Он стал во главе первого взвода, имея по правую руку Люсьена, а по левую контрабандиста, указал движением руки каждому отделению, по какому направлению ему двинуться, и вся колона тронулась.
— В путь, Том, — сказал контрабандист, — расчищай нам дорогу, старый дружище, и если нападешь на пруссака, придуши его, долго не раздумывая. Все одним будет меньше.
Мы оставим альтенгеймских вольных стрелков продолжать свой путь и опередим их в Мительбахе.
Положение несчастных жителей сделалось еще ужаснее. Прусские солдаты, под наблюдением офицеров, приступили к систематическому грабительству с грубым насилием и зверством, которые им свойственны. Грабеж, убийства, изнасилование преобладали повсеместно.
В этом неизвестном миру уголке происходили ужасы, которые перо отказывается описывать.
Тут старика умерщвляли за попытку противиться похищению его скота.
Далее мать, изрубленная сабельными ударами, падала, испуская дух, на бездыханное тело дочери, подвергшейся поруганию.
Там ребенка убивали хладнокровно, потому что он не ответил на вопрос, которого вероятно не понял.
Солдаты грабежом не довольствовались, они рубили саблями даже домашнюю утварь. Везде и во всех домах повторялись одни и те же сцены с возмутительными видоизменениями.
На улицах солдаты со смехом подуськивали друг друга на человеческую охоту, стреляли, без всякой жалости к полу или к летам, в несчастных, которые пытались спастись бегством. Они навьючивали захваченные ими съестные припасы на бедных поселян и кололи их саблями в спину, чтоб заставить идти.
Все награбленное переносилось на площадь и лежало там грудою, охраняемое часовыми.
Ничего не оставляли: лошадей, ослов, лошаков, коров, баранов, тележки, постели, домашнюю утварь — все переносили или вели на площадь, где разведены были большие костры для освещения этой грозной казни.
Но самая гнусная сцена и самая ужасная происходила в ратуше между мэром, муниципальными советниками и прусскими офицерами.
Несчастные выборные представители ничего не ведали про грабеж и насилие, которым подвергалась деревня. Они надеялись еще спасти если не достояние, то, по крайней мере, жизнь злополучных своих односельчан.
Прикидываясь, будто тронут словами Липмана, полковник, как мы уже видели, согласился, по крайней мере по наружному виду, пощадить деревню, и члены муниципального совета ждали в тоске, какие условия ему угодно будет возложить на них.
С видом презрительным и надменным полковник длил с наслаждением эту тоску, но по прошествии нескольких минут решился, наконец, заговорить коротко и сухо, тоном величайшего пренебрежения.
— От меня зависит, — сказал он, — расстрелять всех вас; я имею на то право и власть. Однако я согласен оказать вам помилование, хотя поведением своим вы не заслуживаете пощады. Вы, — обратился он к мэру, — немедленно отдадите мне все деньги, какие у вас в руках, и свои собственные, и общественные.
— У меня нет общественных денег, — возразил мэр.
— Вы лжете, — сказал полковник, — бесстыдно лжете. Мительбах главное место в округе. Здесь должны храниться суммы собранных податей. Где эти деньги?
— Если б вы знали французские законы, — невозмутимо отвечал мэр, — то вам было бы известно, что сборщик податей приезжает каждый месяц в округ для сбора подати и уезжает в тот же вечер, увозя с собой собранные деньги, которые сдаются им в префектуре. Мэр никакой не имеет власти над сборщиком податей; он вовсе не может вмешиваться во взимание налогов. Итак, здесь нет ни одного су, принадлежащего правительству.
— Лжете, повторяю.
— После нанесенного мне оскорбления, я равнодушен ко всему, что вы бы ни говорили. Господь, надеюсь, дарует мне силу принести без малодушных колебаний жертву, им на меня возложенную.
— Довольно красноречия; оно нисколько меня не трогает. Где реестры и все документы вашей общины? Подавайте их сюда!
— На что они вам?
— Не ваше дело. Несите их скорее.
— Вы ничего там не найдете, что имело бы отношение к подати. Это одни частные акты.
— С обозначением имущества каждого из жителей, не правда ли? Именно это я знать и хочу. Ну, живее сюда!
— Это акты, от которых зависит судьба всех семейств этой деревни и окрестных общин; я не могу выдать вам этих книг.
— Ага! — посмеиваясь, заметил полковник. — Не чуть ли вы мне отказываете?
— Отказываю, потому что совесть не позволяет мне предоставить на ваш произвол судьбу семейств, которые я призван охранять.
— Берегитесь; такой отказ равносилен смертному приговору.
— Расстреляйте меня, это в вашей власти, но акты находятся в безопасном месте и вы не получите их.
— А вот увидим! Согласны ли вы, — обратился он к муниципальным советникам, — выдать мне акты?
— Они хранятся у мэра, — ответил от имени остальных помощник мэра, — он один и знает, где они находятся.
— Гм! Вероятно, вы боитесь ему не угодить.
— Ничего мы не боимся. Вы это знаете, так как уже более часа тщетно стараетесь застращать нас. В доказательство я прибавлю, что хотя бы нам и было известно, где спрятаны акты, вы не добьетесь от нас указания. Не менее мэра мы ответственны в этих актах. На что бы ни решились вы, от нас ничего не выведаете.
— Скоты! — вскричал полковник, с яростью ударив кулаком по столу. — Десять солдат сюда, живо!
Офицер бросился вниз по лестнице и почти немедленно вернулся назад с отрядом солдат.
— Обыскать дом от подвала до чердака! — приказал полковник. — Рубите мебель, осматривайте стены, ломайте все шкафы. Чтоб были отысканы акты! А вы, господа, — резко обратился он к офицерам, — подавайте собою пример, распоряжаясь обыском.
Солдаты немедленно приступили к делу.
— Постойте! — крикнул полковник. — Пусть шесть человек останется здесь, и стрелять в этих мерзавцев при малейшем их движении.
Мэр и выборные презрительно пожали плечами.
Начался разгром ратуши. Солдаты не пощадили ничего. Все было обыскано, все разбито. Даже зеркала полетели вдребезги. Распороли тюфяки и подушки. Поиски длились час.
Наконец, солдаты вернулись со смущенными лицами. Они ничего не отыскали.
Полковник рычал от бессильной ярости.
— Акты сюда! — крикнул он, поднося кулак к самому лицу мэра.
— Не выдам, — ответил тот. — Да вы же еще и подло обманули нас. Солдаты ваши грабят и убивают жителей, несмотря на данное вами слово. Делайте с нами что хотите, мы ничего не скажем.
— А, так-то! — вскричал полковник. — Хорошо. Схватите этих людей и тащите на площадь. Пригнать туда всех жителей насильно, если не пойдут доброю волею. Пусть они присутствуют при казни мэра и своих выборных, пусть население этой непокорной провинции, эти отрекшиеся от отечества немцы узнают, наконец, прусское правосудие и придут в ужас. Идите; да поджечь этот дом, чтоб осветить казнь этих презренных людей.
Солдаты ринулись на пленников. Мэр остановил их движением руки.
— К чему насилие, — сказал он, — когда мы следуем за вами без сопротивления? Пойдемте, друзья, — прибавил он, обращаясь к своим товарищам.
— Пойдемте, — повторили те твердым голосом. Мрачное шествие сошло с лестницы и вскоре появилось на площади.
В то же мгновение огненный столб взвился с крыши ратуши и осветил белесоватым, мрачным сиянием ужасное преступление, к которому готовились.
Крестьян согнали на площадь ударами прикладов.
Женщины, дети, старики, обезумев от страха, стояли на коленях и молились с раздирающими воплями.
Мэру и шести муниципальным советникам приказали стать спиной к стене ратуши.
Эти люди, которые с такою простотой геройски жертвовали жизнью, крепко пожали друг другу руки, говоря:
— До свидания на том свете!
— Господь будет судить наших палачей, — прибавил мэр.
Дула ружей опустились. Настала минута мрачного молчания.
— Пли! — скомандовал полковник.
— Да здравствует Франция! — воскликнули в один голос мэр и выборные.
Грянул залп. Они упали.
— Да здравствует Франция! — повторил народ, вскочив на ноги в порыве энтузиазма.
И точно будто это воззвание вызвало мстителей за несчастных, на него ответили страшными криками, и беглый ружейный огонь затрещал вокруг всей деревни.
Это напали вольные стрелки.
Несмотря на всю их бдительность, пруссаки, увлеченные алчностью и волновавшими их гнусными страстями, допустили застигнуть себя врасплох.
На голос полковника и офицеров солдаты быстро стали в ряды для систематичного отпора.
Началась смертельная борьба, в особенности губительная для пруссаков.
Пожар, зажженный ими, переходил от дома к дому и освещал их ярче дневного света, тогда как противники оставались во мраке и стреляли по ним словно в цель.
Пруссаки защищались стойко и отступали только шаг за шагом.
Однако, вскоре они почувствовали, что перевес на стороне неприятеля и им надо ретироваться, бросив награбленное.
Все сражаясь, они мало-помалу вышли из деревни тою же дорогой, какою входили в нее; но и там их ожидали невидимые враги. Несколько минут длилась ожесточенная схватка холодным оружием. Наконец, пруссаки прорвались сквозь живую человеческую стену, которая преграждала им дорогу.
Если это можно назвать успехом, то они отчасти им были обязаны своей дисциплине, но более всего плану, заранее решенному вольными стрелками, которые понимали, как опасно было для них вступить в правильный бой с регулярным войском, и только имели в виду уменьшить число неприятеля и нанести ему как можно более вреда, не показываясь и не завязывая настоящего сражения.
Однако, пруссаки потерпели жестокую потерю. Более трети своих оставили они за собою ранеными и пленными.
В числе последних было пять офицеров и презренный изменник-жид Исаак Лакен, по прозвищу Кривой, который служил неприятелю проводником.
Словом, победа оказывалась полная и, как изящно выразился Петрус, молодецки покручивая отсутствующие усы, остроконечным каскам задана была такая трепка, что у них охоту отбило вернуться.
К несчастью, он ошибался: они не замедлили появиться опять.
Глава XV КАК ОТОМСТИЛИ ПРУССАКИ
Командир Людвиг остерегся преследовать отступающих.
Когда он убедился, что они, действительно, удалились, то велел трубить сбор и вступил в Мительбах.
Только по его приказанию два волонтера посланы были разведчиками, чтоб удостовериться, по какому направлению пошел неприятель, и стратегические пункты, которыми можно было подойти к деревне, занял Пиперман со своим отрядом, не участвовавшим в деле.
Возвращение вольных стрелков в Мительбах было грустно.
Победа, которая, собственно говоря, скорее была местью за гнусный поступок, возмутительное преступление, совершенное хладнокровно и без малейшего повода против населения, безоружного и ни в чем не повинного, леденило сердца честных и храбрых горцев, открыв им, каким подлым образом пруссаки начинали войну и сколько еще до конца борьбы им придется видеть подобных неистовств.
Никто не подумал и времени не имел тушить пожар в ратуше, подожженной пруссаками; огонь распространялся все более и более, пока, наконец, вся деревня не запылала точно грозный маяк.
Первою заботой Людвига было созвать жителей на площадь, между тем как вольные стрелки с редким самоотвержением усердно принялись спасать имущество.
В нескольких словах начальник отряда объяснил крестьянам, что пруссаки, прогнанные вольными стрелками, удалились, вероятно с целью пойти за подкреплением; что вскоре они могут вернуться в большем числе, чтобы страшно отомстить за свое поражение; что жители поступят крайне безумно, если останутся среди дымящихся развалин своего селения; что благодаря системе грабительства, усвоенного неприятелем, почти все их имущество снесено на площадь; их домашняя утварь, съестные припасы и даже скот целы и невредимы; лишились они одних домов, уничтоженных пожаром; стало быть, ничто не удерживало их на месте пожарища, где они оставались бы без всякой надежды на возможную помощь и подвергались всей свирепой ярости неприятеля.
Самое лучшее для них, говорил он, немедленно сложить на телеги все свое имущество и припасы, тем более, что оказывалось и средство для перевоза, а затем, забрав с собою стада, уйти как можно поспешнее в какое-нибудь неприступное убежище в горах и переждать в безопасности лучших дней. Кроме того, чтоб охранить от нападения, вольные стрелки проводят их до места, где они на первый случай, по крайней мере, будут ограждены от неприятеля, так как он не посмеет зайти далеко по опасным горным тропинкам и ущельям.
Несчастные жители Мительбаха любили свою деревню. Этот уголок земли, где они родились; где провели трудовую жизнь, где любили и страдали и где покоился прах их родителей, был для них отечеством.
Расстаться с ним, хотя бы только на несколько дней, казалось им страшным бедствием. Но, с другой стороны, они видели ясно, что остаться среди своих разрушенных пепелищ значило обречь себя на верную смерть. Итак, они, с глазами полными слез и с сжатым сердцем, решились, наконец, уйти. Тотчас приступили к приготовлениям, которые должны были длиться недолго, так как Людвиг, который здраво смотрел на вещи, дал им всего только один час времени.
К тому времени телеги должны быть уложены, лошади и лошаки навьючены и все население соберется на площади, присутствовать при том, как предадут земле бренные останки мэра и шести муниципальных советников, геройских жертв своего долга и неприятельского зверства.
Решив это с согласия жителей, Людвиг велел призвать священника, но несчастного нашли убитым. Он лежал распростертым на паперти маленькой церкви в полном облачении и с крестом в правой руке. Пуля насквозь пронзила его грудь и все его тело было изрублено саблями. Священника безбожно умертвили, когда он с распятием в руке бросился между палачами и жертвами их, чтоб попытаться прекратить кровопролитие и спасти несчастных, закалываемых солдатами как бы для забавы.
В этой бедной деревушке с несколькими сотнями жителей пруссаки, принятые почти дружелюбно обезоруженным населением, не отступили ни перед каким злодейством, повторяю, без всякого повода. Убийство, изнасилование, грабеж, поджигательство, святотатство — все было совершено ими без колебания и как бы с предвзятым намерением.
Да не подумают, что мы нарочно подбавляем мрачных теней в этой картине. Все переданное нами — историческая истина. Не только мы не набрасывали темнее колорита на факты, но еще старались если не скрыть, то по крайней мере, смягчить их, так как перо отказывалось описывать чудовищные неистовства.
Труп почтенного священника — это был восьмидесятилетний старец — перенесли на площадь и положили возле тел мэра и советников, покрытых трехцветным знаменем.
Не считая пяти офицеров, число пленных и раненых пруссаков доходило до пятидесяти шести человек.
Люсьен Гартман и его школьные товарищи уже принялись за дело с величайшим усердием и перевязывали раненых без разбора национальности.
У вольных стрелков убито было двенадцать человек и ранено пятнадцать.
Из крестьян человек двадцать стариков, детей и женщин получили тяжелые раны, когда пытались бежать. Впрочем, вся деревня буквально была усеяна телами.
Людвиг не мешал филантропическим занятиям Люсьена и, между тем, наскоро собрал военный совет, чтобы решить, как поступить с пленными.
Совет немедленно приступил к прениям на той же площади в нескольких шагах от жертв пруссаков.
Нельзя было терять время. Совещание длилось недолго.
Минут десять офицеры тихо говорили между собою, потом председатель вывел окончательное заключение и приказал сержанту Петрусу привести пленных.
Мы уже сказали, что, кроме офицеров, их было пятьдесят шесть человек вместе с ранеными. Их привели и поставили в ряд.
У всех этих людей лица были бледные, искаженные страхом. Некоторые просто дрожали. Можно бы думать, что они уже смутно сознавали гнусность совершенных ими злодеяний. Они вовсе не смотрели храбрыми воинами, которым изменило счастье. Напротив, они скорее походили на преступников, ожидавших заслуженную казнь.
Офицеры составляли особенную группу. Они также имели бледные, вытянутые лица; но гордость придавала им, так сказать, храбрость по заказу.
Презрительно пожав плечами, они готовились выслушать свой приговор с улыбкой пренебрежения.
Командир Людвиг встал. На лице его была печать мрачного и печального достоинства.
Старый солдат, умный и честный гражданин и работник, понимал, что ему надо исполнить тяжелый долг правосудия. Сердце его надрывалось, но лицо не изменяло ему, и он великодушно и твердо брал на себя ответственность за действие, к которому был вынужден как начальник отряда.
— Господа, — начал он, — ваше правительство ведет с нами войну дикарей; вы не щадите ни старости, ни пола. Вы не солдаты, а палачи. Нет преступления, которое вы не совершили бы в этой деревне, куда вошли ночью и где никто вам не сопротивлялся ни делом, ни даже словом. Вы низко и хладнокровно умертвили мэра, членов муниципального совета и почтенного старца, пастыря этого прихода, не говоря о множестве жертв вашего грубого зверства. Судим мы вас теперь не как солдат, потому что вы не уважаете законов войны, но как злодеев, как разбойников, захваченных на месте преступления. Вследствие чего вы приговорены к смерти и приговор этот немедленно будет исполнен.
— Расстрелять нас вы можете, — небрежно ответил один из прусских офицеров, — сила на вашей стороне, но мы будем отомщены.
— Быть может, мы и готовы отвечать за наши действия, — холодно ответил командир. — Что касается того, чтобы нас расстрелять, это вопрос иной.
— Что вы хотите сказать? — вскричали пленные офицеры.
— Расстреливают солдат, это почетная смерть, но вы не солдаты. Повторяю, вы злодеи и убийцы. Вас повесят!
— Повесят!
— Ни слова… приговор произнесен.
Осужденные еще не успели сделать движения, как были крепко связаны и поставлены в невозможность сопротивляться.
Командир обратился к солдатам.
— Вы, — сказал он просто, — свирепые звери, не можете сознавать своих поступков; вы будете казнены через четвертого — пятнадцать человек из вас подлежат расстрелу. Сперва, однако, вы должны присутствовать при казни ваших офицеров. Приступить к исполнению приговора!
Несколько вольных стрелков влезли уже на деревья, которые росли группою посреди площади.
Это были столетние дубы.
Перебросили по веревке через самую толстую ветвь пяти из них.
По знаку начальника вольные стрелки составили громадный круг около этих деревьев, к подножию которых подвели пленных. Они рычали как дикие звери и тщетно силились порвать свои узы.
Против них выстроили солдат. Мрачные и унылые, они, по-видимому, мало принимали участия в своих офицерах, но зато сильно были озабочены участью, предстоящею им самим.
Людвиг взмахнул саблей и раздалась команда.
Трубачи затрубили, мгновенно натянулись веревки и пять прусских офицеров, побившись несколько секунд, повисли неподвижно.
Казнь была совершена.
Перед казненными тотчас же врыли в землю столб и на нем утвердили объявление, где крупными буквами стояло на французском и немецком языках:
«Повешены за грабеж, убийство и святотатство.»
Настала очередь солдат. Они были расстреляны через четвертого, как состоялся приговор суда, и на том самом месте, где пали мэр и его товарищи.
Час прошел. Крестьяне буквально повиновались приказаниям командира, основательность которых вполне сознавали.
Следовало теперь предать земле жертв неприятеля. Их было свыше тридцати. Всех сложили на телегу и шествие двинулось. Состояло оно из части вольных стрелков и всего населения деревни.
Кладбище в Мительбахе, скромное, как все деревенские кладбища, находилось за церковью. Оно было в нескольких шагах всего.
Вырыли одну общую могилу, чтоб сложить тела на первый случай. Опускали их по одиночке и клали рядом. Мэр и его товарищи лежали во главе этих печальных рядов.
Когда все убитые опущены были в могилу, Люсьен вышел вперед, раскрыл молитвенник и стал читать молитвы за умерших.
Вольные стрелки отдали ружьями честь.
Крестьяне с громкими рыданиями опустились на колени.
Поразительной красоты была эта странная и печальная сцена, эти похороны среди ночи при грозном свете горящей деревни, в присутствии обезумевших от горя жителей, которые хриплым от рыдания голосом повторяли молитвы за двадцатидвухлетним молодым человеком, с трудом удерживавшим слезы!
Таинственный шелест пробегал по ветвям сосен и вековых дубов, белесоватый отблеск пожара отражался на лицах, исполненных отчаяния, и вся картина носила отпечаток глубоко потрясающего ужаса и вместе величия при своей простоте.
Когда Люсьен дочитал молитвы, он склонился над могилою и произнес:
— Покойтесь в мире, невинные жертвы войны возмутительной, неслыханной! Да почиете вы на лоне Господа. Более вас достойны сожаления оставшиеся в живых. Но если, как я верую, дух ваш бодрствует и за пределами гроба, то радуйтесь: рано или поздно пробьет час возмездия и отплата будет страшная.
— Да здравствует Франция! — вскричал Петрус, размахивая знаменем, которое держал в левой руке.
— Да здравствует Франция! — повторили в один голос вольные стрелки и крестьяне.
— Теперь мы отомстили за убитых и предали их земле, — сказал командир, — надо подумать о живых.
Могилу засыпали и толпа удалилась в глубоком унынии.
Вскоре все опять собрались на площади.
— Что делать с пленными? — спросил Петрус у командира.
— Ах, черт возьми! — вскричал честный Людвиг. — Я забыл про них; эти молодцы нам порядочная помеха.
— Разумеется, — продолжал Петрус, тщательно набивая свою трубку, — увести их с собой плохое средство сохранить в тайне, куда мы идем. С другой стороны, если отправим их в ближайшую дивизию, предположив, что такая находится в окрестностях, хотя должна быть далеко, мы лишим себя сотни человек, нужных нам более чем когда-либо, и им, пожалуй, исполнив свое поручение, громадных будет стоить усилий, чтоб соединиться с нами, по той простой причине, что они знать не будут, как и мы теперь еще не знаем, где укрепимся лагерем.
— Господь с вами, господин Петрус, не в обиду вам будь сказано. Я поставлен в тупик, а вы еще исчисляете мне все невыгоды моего положения, которые я должен признавать справедливыми.
— Позвольте, командир. Вот и кончено.
— Что кончено?
— Моя трубка набита и с вашего разрешения я сейчас закурю ее.
— Закуривайте десять трубок, если хотите, только научите, что делать.
— Вот видите, командир, — сказал он, закуривая между тем трубку фитилем, которого не выпускал из рук, — конечно, я теперь сержант вольных стрелков, но случайно, так сказать. В сущности, я все остаюсь тем же врачом или хирургом, если вы предпочитаете. Итак, мы, доктора, когда готовимся перевязать рану, сначала тщательно свидетельствуем ее, чтоб удостовериться, какова она, и вывести заключение по правилам диагностики.
— Что такое диагностика?
— После объясню вам, командир, теперь же я скажу, как поступить относительно пленных, как будто собираюсь сделать перевязку.
— И какое же заключение вывели вы?
— Следующее: пруссаки не захотят остаться у нас в долгу за трепку, которую мы им задали. Немного пройдет часов, как они вернутся сюда с подкреплением, чтоб отомстить нам блистательным образом.
— Все знаю; дальше-то что?
— Да самая простая вещь на свете. Перевязать пленных как подобает, чтоб они тронуться не могли, и уложить их рядышком по порядку. Когда вернутся пруссаки, они найдут их и пусть себе развязывают на здоровье, а мы от них будем избавлены.
— Но если б пруссаки не вернулись?
— Они околеют с голода, вот и все, — ответил Петрус, выпустив огромный клуб дыма. — Будто уж вы находите это очень большим несчастием, командир?
— Признаться, не очень. По заслугам было бы негодяям за нанесенный нам вред.
— Правда, но пруссаки, к несчастью, вернутся; будьте покойны, они не бросят своей добычи, когда думают, что можно ею завладеть без боя.
— Честное слово, мысль ваша мне нравится, господин Петрус; я последую совету.
— Благодарю за лестный отзыв, командир. Э! Да вот и Оборотень! — вдруг вскричал он. — Откуда же, черт возьми, он вынырнул?
Петрус бросился к контрабандисту, который с помощью сына поспешно нагружал телегу.
— Что вы тут делаете? — спросил сержант.
— Как видите, нагружаю телегу.
— Я совсем вас не видел при входе в деревню.
— У каждого, извольте видеть, свое дело. Вы сражались с пруссаками и без меня могли с ними справиться, а я между тем позаботился о бедном господине Липмане которому всем обязан и которого мерзавцы убили как собаку.
— Что ж могли вы сделать для него?
— Для него лично, разумеется, ничего, так как он умер, но для его памяти я мог сделать многое. Во-первых, не допустить, чтоб жертва его была бесполезна.
— Что вы хотите сказать?
— Вам известно, что его и выборных расстреляли за отказ выдать бумаги и акты.
— Знаю, и это геройский подвиг. Жаль только, что акты все равно не отысканы.
— Ошибаетесь. Акты у меня; я нашел их.
— Вы?
— Да, я, честное слово. Поглядите, вот они.
— И вправду. Как вы отыскали их? Пруссаки не могли отрыть нигде.
— Я знал, где они спрятаны.
— Спрятаны?
— Вот как было дело. Два дня назад господин Липман кликнул моего мальчугана, которого взял на свое попечение. Верно, этот добрый человек имел предчувствие, как сами увидите. «Слушай, говорил он моему сынишке, видишь отворенный шкаф? Вот как он запирается, а отворять его вот так.» Он показал ему секрет. Когда шкаф закрыт, то он невиден.
— Секрет? — спросил Петрус с видом превосходства.
— Да нет, шкаф! «Итак, прибавил господин Липман, я спрячу в шкаф все самое драгоценное и бумаги, если б пруссаки пришли сюда и со мною случилось несчастье…» Видимо, он имел предчувствие…
— Это очевидно; дальше.
— «Ты откроешь отцу секрет, который я доверил тебе. Он честный человек; я знаю, что могу положиться на него.» Он сказал это, бедный господин Липман, представьте себе, он это сказал, — прервал свой рассказ контрабандист с глубоким чувством.
— Представляю тем легче, что это правда; вы честный человек. Продолжайте, друг мой.
— «Ты скажешь отцу, — это все он говорит, — что я прошу его доставить вещи, мне принадлежащие, в Страсбург и сдать на руки Филиппа Гартмана, моего родственника.»
— Кого? — переспросил Петрус.
— Филиппа Гартмана.
— Очень хорошо. Я думал, что ослышался. Продолжайте.
— «Что касается актов, то пусть отец сдаст их местным властям первого городка, который встретится ему на дороге.» Как сказано, так и сделано. Я уж думал было, что опоздал. Надо вам сказать, что когда я бежал сюда, то наткнулся на молодчика, который удирал во все лопатки, а меня увидал, помчался, точно стая чертей гонится за ним по пятам. Но я узнал его и бросился за ним в погоню. Как он ни улепетывал, мошенник, я все-таки не отставал. Вдруг он споткнулся о камень. Я пользуюсь случаем, и когда он вскочил опять на ноги, выстрелил в него из ружья наугад и попал в поясницу. Он с места не тронулся; но я знаю, что эти вонючие твари жиды живучи как кошки, потому кинулся на него и размозжил ему голову ударом приклада.
— Черт возьми! Видно, он уж очень вам насолил.
— Еще бы! Знаете ли, кто это был?
— Сознаюсь, что вы мне еще не говорили этого.
— Гнусная каналья Исаак Лакен Кривой, который служил пруссакам проводником, вот кто. Уж ни кому более не изменит этот молодец; с ним счеты сведены. Но между тем ратуша горела, и я едва поспел вовремя. Еще десять минут, и было бы поздно.
— Вижу, вижу, вы славное сделали дело, старый товарищ. Не помочь ли вам кончить его?
— Благодарю, вы очень обязательны, все сделано. Во время этого разговора Петруса с контрабандистом последние приготовления к отъезду были кончены.
Людвиг последовал совету Петруса. Все прусские пленные, и раненые, и здоровые были накрепко перевязаны и положены друг возле друга у деревьев, потом патрули обошли деревню, чтоб собрать замешкавшихся.
Наконец, когда все жители собрались на площадь, командир послал вольного стрелка с тайным предписанием к Пиперману и дал знак двинуться в путь.
Тогда вся эта опечаленная толпа потянулась длинною вереницей. Впереди гнали скот, потом следовали вьючные лошаки, ослы и лошади, затем телеги с домашней утварью, детьми и больными. С обеих сторон шло по ряду вольных стрелков. Остальные составляли арьергард.
Несколько разведчиков под командою Петруса были разосланы и по флангам колонны, чтоб расчищать проход.
Было два часа пополуночи.
В то самое мгновение, когда крайняя оконечность колонны скрывалась за горами, ратуша обрушилась со страшным треском.
Спустя двадцать минут отряд капитана Пипермана вступил в деревню и прошел ее, не останавливаясь. В свою очередь, он повернул на горную тропинку, которую прошла первая колонна.
Отряд Пипермана шел медленно и наблюдая величайшую осторожность.
В три четверти часа он достиг Наклонной Скалы, у которой контрабандист назначил сыну ждать его.
Дорога, которою шел отряд Пипермана, был узкий овраг, вероятно, вырытый потоком между двух отвесных гор. Единственно этой тропинкою можно было пробраться из деревни в горы. Она поднималась довольно круто до площадки, служившей первым уступом горного кряжа. Над площадкою, как раз против дороги, нависла громадная гранитная глыба, которой горцы дали название Наклонной Скалы.
Когда Пиперман дошел до площадки, он остановил свой отряд. Волонтеры сложили ружья в козлы, вооружились ломами, заступами, мотыгами, кирками и усердно принялись колотить в подножие скалы.
После доброго часа работы гранитная глыба стала качаться. Вольные стрелки напрягли все силы и налегли на ломы и заступы. Вскоре громадная скалистая масса наклонилась вперед, рухнула с оглушительным громом в овраг и наполнила его собою так, что прохода более не оказывалось.
Всякое сообщение теперь было прервано.
— Эхе! — усмехнулся Пиперман, потирая руки. — Командир не промах. Славная это мысль! Однако, работа была жаркая, ребята. Разрешаю вам промочить горло.
— Ура! Капитан, ведь мы и заслужили.
Каждый из вольных стрелков приложился к своей фляге и долго не выпускал ее из рук; потом, по приказанию капитана, заступы, кирки и ломы снова уложены были на вьючного лошака, который следовал за отрядом; разобрали составленные в козлы ружья и вольные стрелки отправились далее, но теперь уже ускоренным шагом.
Через четверть часа они догнали главную колонну, которая, благодаря им, теперь не опасалась нападения, разумеется, с этой стороны. С другой же и думать нечего было о подобной попытке; имелось время укрыться от всякого преследования.
Если б остался кто-нибудь в Мительбахе, то видел бы странное зрелище в девять часов утра.
Как предвидели командир отряда и сержант Петрус, пруссаки выступили только с намерением вернуться.
В четырех лье от деревни они наткнулись на дивизию, посланную для разъездов. Полковник тотчас явился к генералу, командующему дивизией, рапортовать, вероятно, далеко не правдиво обо всем случившемся и просить подкрепления, чтоб проучить как можно скорее презренных мужиков, дерзнувших не только противиться, но еще и разбить войско его величества короля прусского.
Разумеется, генерал благосклонно исполнил просьбу. Надо было примерно наказать собак-французов, которые осмеливались не допускать вторжения в их землю. Полковник получил приказание произвести военную экзекуцию, то есть все предать в деревне огню и мечу, и чтобы упрочить успех этой экпедиции, ему дано было три тысячи инфантерии и пятьсот кавалерии.
Один полковник и офицеры, которые ехали верхом, входили в состав новой экспедиции. Что солдат касается, то они буквально не в силах были тронуться с места; некоторые даже имели легкие раны; волею-неволею приходилось дать им сколько-нибудь отдыха.
На этот раз, однако, у полковника не было проводника. К тому и сильное нападение, которое он вынес, заставило его задумываться и быть настороже.
При входе в ущелье Зеленого Дуба, очень благоприятного пункта для засады, полковник удвоил осторожность. Однако ничего не появлялось; везде вокруг царствовала величайшая тишина, пруссаки становились все смелее и прибавляли шагу по мере того, как приближались к деревне, над которой возвышалось густое облако черноватого дыма, служившее явным указанием, какого направления держаться. Тут и дорога становилась открытее, следовательно, нечего было опасаться нападения врасплох.
Наконец, часам к девяти утра прусский отряд с барабанным боем вступил в Мительбах, разослав сильные отряды для занятия всех путей к деревне.
Но когда штаб выехал на площадь, все вдруг остановились, пораженные оцепенением, потом вскрикнули от горя и ярости.
Они увидали повешенных офицеров и множество тел на земле.
Гневный крик раздался из среды тех, которых сначала приняли за мертвых; это были пленные, перевязанные вольными стрелками перед выступлением из деревни.
По приказанию полковника, пленным тотчас возвратили свободу и самый смышленый из них был призван дать отчет о том, что произошло, когда пруссаки вынуждены были отступить.
Рассказ солдата привел полковника и его штаб в несказанное бешенство.
— Надо погнаться за этими собаками! — кричал полковник. — Убивайте, жгите все, никого не щадите, ни женщин, ни детей. Вешать прусских офицеров! — повторял он вне себя. — Я страшно отомщу!
Когда ему доложили, что деревня совсем пуста и все жители ушли, им овладел неистовый гнев.
— Я буду гнаться за ними до самого ада! — вскричал он. — Уж доберусь я до этих мерзавцев во что бы ни стало!
Немедленно разослали разведчиков по всем направлениям разыскать дорогу, по которой удалились беглецы.
Оказалось это нетрудно. Следы колес, людей и лошадей ясно были видны на земле. Впрочем, и горы возвышались отвесною стеною со всех сторон, кроме одной. Очевидно, крестьяне этим путем и обратились в бегство.
Полковник подпрыгнул на седле от радости, когда услышал, что разысканы следы беглецов.
Он немедленно принял меры для предупреждения внезапной атаки, оставил за собою в деревне сильный отряд, чтоб не могли зайти ему в тыл, а с остальным своим войском отважно пошел по тропинке, которою удалились жители Мительбаха.
Около получаса все шло отлично. Следы становились яснее и не могло быть сомнения, что крестьяне бежали в эту сторону.
Вдруг голова колонны остановилась.
— Что такое? Что случилось? Отчего там застряли? — крикнул полковник, который неистовствовал все утро.
К нему подскакал офицер, командовавший авангардом.
— Отчего мы стоим, милостивый государь? — накинулся полковник.
— Господин полковник, прохода нет, — ответил молодой поручик. — Дорога заложена громадною скалою и нет возможности обойти ее ни справа, ни слева.
— Все возможно, когда захочешь, милостивый государь, — сурово возразил начальник. — Под арест на восемь дней. Эй, дорогу! — сердито крикнул он, дав шпоры лошади. — Раздайтесь, олухи!
Солдаты шарахнулись в обе стороны по краям оврага и открыли свободный проход.
Вскоре полковник достиг главы колонны. Рапорт офицера оказывался вполне справедлив. Шагах в сорока впереди громадная глыба гранита возвышалась словно стена на высоту более пятидесяти метров.
— Проклятие! — взревел полковник, поскакав к самой преграде, и ударил по камню саблею плашмя, прибавив. — Неужели я не открою себе здесь прохода!
— А ты здесь, окаянный! — сверху отозвались насмешливо, точно будто из облаков.
Удивленный неожиданным восклицанием, полковник машинально поднял голову и увидел посреди нагроможденных скал насмешливое лицо с суровыми чертами.
— Ты подло умертвил моего благодетеля, теперь твоя очередь умирать. Вот тебе, собака!
Раздался выстрел.
Пораженный прямо в грудь, полковник упал на спину лошади и та в испуге ударилась бежать прямо в ряды солдат, которые не опомнились еще от нападения, совершенно для них неожиданного.
Полковник мгновенно потерял стремена и мертвый упал на землю.
— Что ни говори, — бормотал контрабандист, вновь заряжая ружье и удаляясь быстрыми шагами, — а приятно отомстить. Если господин Липман может видеть меня с неба, он доволен мною, я знаю. Да, да, стреляйте сколько угодно, забавляйтесь!
И он ушел большими шагами, не заботясь о пулях, которые только отскакивали от гранита.
Несмотря на всевозможные попытки, пруссаки не могли открыть себе прохода и отступили со стыдом, унося тело своего полковника.
Глава XVI ГДЕ ОБОРОТЕНЬ ОБРИСОВЫВАЕТСЯ
После сражения при Рейсгофене пруссаки, которые не ожидали такой полной победы, воспламенились необыкновенным пылом. Они вообразили, что для них нет уже ничего невозможного, и все движения их носили отпечаток вдохновения минуты при чрезвычайной быстроте.
Уже на другой день после битвы немецкие генералы замышляли взятие Страсбурга.
Рано утром 7 августа бригада баденской кавалерии, под командою генерала Делароша (вероятно, французского происхождения, как слышно по имени, но отрекшегося от своего отечества) появилась перед Гагенау.
Разведчики доставили сведения, что ворота Висембурга отворены. Генерал Деларош выставил батарею из нескольких орудий и вскачь примчался в город, который и был взят.
Только несколько выстрелов из казармы убило человек пять пруссаков.
Едва отдохнув, баденская кавалерия понеслась дальше, проскакала деревни, лежащие по дороге между Гагенау и Страсбургом, и 8 числа показалась в виду крепости.
Генерал Деларош, хотя и француз по происхождению, однако усвоил себе всю заносчивость пруссаков; он вообразил себя непобедимым и надеялся, как сам писал в газету в Карлсруэ, захватить Страсбург врасплох, как ему удалось это в Гагенау, а вечер провести в городе.
Но он обманулся в ожидании, говорил генерал в своей газетной статье, прибавив с лицемерием, которое составляет отличительную черту прусского характера, что «надежда его однако очень могла бы сбыться в течение первых дней при помощи Божией».
Впрочем, поспешим заявить, что, несмотря на жестокую тревогу в городе при неожиданном появлении баденской бригады, генерал Деларош ни минуты не мог предположить, несмотря на всю свою самонадеянность, чтоб можно было захватить Страсбург врасплох. В душе он, вероятно, порадовался, что ворота нашел запертыми; отважься он очертя голову въехать в Страсбург во главе своей бригады, то, наверное, остался бы с нею в стенах города, только не совсем так, как рассчитывал.
Эта несчастная стычка имела непосредственным последствием не только усиленную деятельность в работах на укреплениях, но и доказала, с какою энергией страсбургцы намерены были защищаться.
Итак, ворота крепости оказались заперты, но генерал Деларош не считал себя побежденным. Ничуть не унывая, храбрый пруссак послал парламентером младшего из своих офицеров, некоторого майора фон Амерингена.
Навязав носовой платок на кончик шпаги, майор подъехал к крепостному валу и потребовал к себе коменданта.
Случайно комендант, полковник Дюкас, находился вблизи.
Он выслушал импровизированного парламентера, который просто-напросто потребовал сдачи Страсбурга с угрозою в случае отказа бомбардировать его.
— Полноте! — засмеялся храбрый полковник. — Вы, верно, шутите. Страсбург не сдастся, приходите взять его.
Майор покраснел, не нашелся ответить и отъехал в смущении.
Кавалерийская бригада, которая подошла на расстояние одного лье от города, направилась вскачь по дороге в Брумат.
Неприятель рассчитывал ночевать в Страсбурге, говорит Шнеганс, из превосходного сочинения которого мы берем эти любопытные подробности. Такова была внезапная самонадеянность, которая овладела неприятелем после неожиданной победы во Фресивилере, что для дерзости его ничто не казалось невозможным.
Выходка пруссаков, однако, наделала большой тревоги в Страсбурге.
Ворота оказались запертыми случайно. Всего четыре дня прошло с открытия военных действий, и Страсбургу уже заявлено было требование сдачи. Между тем, город не имел ни гарнизона, ни боевых снарядов, и в виду особенного положения не знал, есть ли у него съестные припасы и даже защитники.
Встревоженные жители кинулись к ратуше, где находились мэр и несколько муниципальных советников.
На запрос, сделанный мэру, он ответил довольно успокоительными известиями. Пришел префект и стал уверять, что городу опасаться нечего и жители могут спать спокойно.
Однако, толпа удалилась не успокоенная этими уверениями.
И в самом деле, какая будет оборона города? Кому поручить защиту? Страсбургцы почти не знали тогда генерала Уриха; он вечно сидел дома и мало показывался в обществе.
К счастью для них, жители Страсбурга вскоре узнали его коротко и оценили по достоинству.
Около двух часов пополудни 11 августа все члены семейства Гартман собрались в комнате двух раненых.
Капитан Мишель, раны которого, как уже сказано, были легкие, накануне являлся к коменданту отдать себя в его распоряжение, несмотря на то, что раны его едва успело затянуть и он еще очень был слаб от потери крови.
Комендант представил капитана генералу Уриху. Поблагодарив молодого человека за великодушное предложение, генерал однако отклонил его, сказав, что капитан может оказать родному городу услугу важнее, если не останется в его стенах.
Уведомленный шпионами о ходе прусской армии, силы которой все более и более стягивались вокруг Страсбурга, генерал Урих понимал, что ему грозит обложение города и всякое сообщение вскоре будет прервано.
Было в высшей степени важно, чтоб маршал Мак-Магон знал, что происходит в Страсбурге, как слаб гарнизон, как ограничены средства к обороне, какой полный оказывается недостаток в запасах всякого рода. Отличительная черта этой войны, повторяем, та, что французское правительство все предусмотрело для нападения и ничего для защиты. Возможность осады Страсбурга немецким войском не приходила в ум.
Итак, генерал Урих сказал Мишелю, что он намерен отправить его к маршалу Мак-Магону. Он объяснил ему всю важность поручения, от успеха которого зависело спасение города, и пожав ему руку, отпустил его со словами:
— Я не даю вам никаких наставлений, капитан. Мне давно известны ваша военная сметливость, осторожность и патриотизм. Итак, я вполне полагаюсь на вас, чтоб изложить маршалу бедственное положение, в которое нас поставила непредусмотрительность нашего правительства. Уверьте его от моего имени, что страсбургцы воодушевлены наилучшим духом, что они решились защищаться до последней крайности, и я, что ни случилось бы, исполню свой долг. Теперь дайте себе время немного отдохнуть, вы еще слабы, и будьте готовы выехать из города завтра, тотчас по получении ваших депеш.
Капитан откланялся и вернулся домой.
Разговор между генералом Урихом и Мишелем происходил 10 августа в третьем часу пополудни.
Он и был причиной собрания, о котором упомянуто выше.
Ивон Кердрель приходил в отчаяние, что вынужден отпустить друга одного. К несчастью, его раны так были опасны и положение еще так ненадежно, что даже и мысли не могло ему прийти ехать с ним.
В душе он утешался тем, что у него прелестная сиделка, заботливый уход который и кроткие речи вскоре заставят его забыть это жгучее горе.
Но бедный поручик сильно ошибался и далек был от предчувствия нового грозившего ему несчастья.
Со вчерашнего дня Гартман серьезно обсудил положение дел. Он также был убежден, что город вскоре будет осажден. Мысль о бедствиях, неизбежно связанных с осадою, приводила его в содрогание, и хотя сам твердо решился не оставлять города, он не хотел подвергать таким ужасам дорогих для него существ, как жену, дочь и тещу.
Уже несколько дней от тщетно искал средства удалить их из города, не подвергая опасностям, которые могли встретиться при довольно большом переезде по местности опустошенной, где то и дело шныряли разведчики обеих армий.
Кому доверить их? Вот в чем заключалось затруднение.
Вопрос этот показался ему решенным, когда сын его получил поручение от генерала Уриха. Под охраною молодого капитана они благополучно совершат путь.
Гартман не решил еще окончательно, где назначить им убежище; но имея друзей и родственников во многих городах Эльзаса и Лотарингии, он предоставил Мишелю избрать место самое удобное для пребывания трех женщин, которые лишены будут покровительства близких им лиц.
Всю ночь Гартман тщательно взвешивал выгодные стороны этого плана и согласно тому сделал распоряжение.
Когда мы возвращаемся к нашему рассказу, все было готово к отъезду, но ни слова еще не сообщено о нем кому-либо из членов семейства, кроме Мишеля, который вполне одобрил мысль.
Приближалась минута разлуки; необходимо было сообщить свои намерения дорогим существам, однако Гартман не мог собраться с духом. Он понимал, какое жгучее горе вызовет, колебался и не думал приступить к объяснению, которое с каждою секундою становилось неизбежнее.
Старик бросал на сына выразительные взгляды, как бы прося его помощи, Мишель только опускал глаза и отворачивался, потому что также не решался вызвать тяжелое объяснение.
Итак, разговаривали о посторонних предметах, не отваживаясь коснуться того, что гнетом лежало на сердце, когда вдруг подоспела случайная помощь, на которую никто рассчитывать не мог.
Франц тихо притворил дверь и доложил хозяину, что из гор пришел человек с огромной собакою, судя по виду контрабандист, и желает говорить с ним по важному делу, не терпящему отлагательства.
Господин Гартман было встал, опять сел, очевидно, передумав.
— Пусть придет сюда, — сказал он, — приведите его, Франц.
Незнакомец появился немедленно и собака шла за ним по пятам, а потом легла поперек двери.
Посетитель был не кто иной, как наш знакомый Оборотень.
Достойный контрабандист не изменил ни своего костюма, ни обычных приемов. Быть может, он казался теперь чуть-чуть грязнее и оборваннее, вот и все.
— Здравствуйте, — сказал он, сняв шляпу и бросив ее по привычке на пол возле себя.
— Вы желали говорить со мною, приятель? — спросил старик хозяин.
— Вы господин Гартман? — ответил контрабандист вопросом на сделанный ему вопрос.
— Да, любезный друг. Могу я сделать что для вас?
— Для меня ничего; благодарю, вы очень добры. У меня поручение к вам, вот что; я и решил, что надо исполнить его, и чем скорее, тем лучше; чужие вещи жгут мне пальцы.
— От кого вы?
— Я сам пришел.
— Но кто-нибудь указал же вам на меня.
— Правда, бедный добрый господин Липман!
— Липман мой родственник, мэр в Мительбахе.
— Он сам.
— Как он поживает? — спросили все в один голос.
— Давно мы не видались, — прибавил господин Гартман.
— И не увидите более этого бедного доброго человека, — ответил контрабандист со сдерживаемым глубоким чувством.
— Что вы хотите сказать? Не случилось ли с ним несчастья?
— И с ним, и со многими другими. Вот в двух словах, в чем дело. Пруссаки пришли в Мительбах и наделали там кучу бед. Они ограбили и сожгли деревню, а потом, не довольствуясь этими гнусностями, расстреляли мэра и муниципальных советников.
— О Боже! — вскрикнули дамы, в ужасе всплеснув руками.
— Возможно ли? — вскричал господин Гартман.
— Мы с альтенгеймскими вольными стрелками подоспели на помощь деревне и задали пруссакам трепку на славу, но было поздно: они уже расстреляли этих бедных людей. Все равно, мерзавец полковник, который убил господина Липмана, никого более не убьет — заключил контрабандист, хлопнув рукой по дулу своего ружья. — Я рассчитался с ним и за других примусь.
— Молодец! — вскричал Мишель и с жаром пожал ему руку.
— Ага! Вы понимаете это, капитан, вы мужчина и военный, война для вас не новинка, как я вижу по вашему кресту, но вы не станете убивать беззащитных стариков, ни оскорблять женщин и умерщвлять детей. Они же делали это в Мительбахе, подлецы! Уж куда они войдут, будьте покойны, там они всех перебьют и все сожгут.
Водворилось мрачное молчание. Дамы плакали. Мужчинами овладела глубокая тоска.
— Продолжайте, любезный друг, — наконец, сказал старик-хозяин.
— Господин Липман был мой благодетель. Он заботился о моей жене и схоронил ее, он же взял к себе моего мальчугана Зидора, что ждет внизу с безделушками. Я бедняк, извольте видеть, контрабандист, как называют меня, но я честен и чувство имею. Я любил этого доброго человека. С опасностью изжариться как утка, я вошел в его дом, который так и пылал. Вышел я весь опаленный, но все равно, я спас все его безделушки, каску, кирас, крест почетного легиона, саблю и потом кучу золота, серебра, бумаг и Бог весть чего! Я все к вам привез сполна, будьте покойны. Зидор караулил внизу. Прикажите-ка, однако, вашим людям перенести сюда наверх. Оставлять это на улице неладно.
Мишель вышел отдать приказание и тотчас вернулся.
— Скажите-ка, любезный друг, как вы успели пробраться из Мительбаха сюда, не наткнувшись на прусских мародеров?
— Острые каски хитры, господин капитан, с вашего позволения, но им не провести Оборотня, как меня прозвали. Я контрабандист, извольте видеть, и знаю тропинки, где от роду никто не хаживал. Нас с Томом возьмут пруссаки только, когда мы сами того захотим, господин капитан, вот оно что! Мой Том и я, мы точно вороны, порох чуем издалека. Пруссаков мы почуем на две мили в окружности. Не так ли, старый дружище, ведь ты не любишь острых касок?
Собака стала на задние лапы, оскалила зубы и глухо заворчала.
— Вот видите, — продолжал контрабандист, — не я заставляю животное говорить таким образом. Будьте покойны, оно понимает меня.
Между тем Франц принес с помощью двух слуг, что контрабандист называл безделушками господина Липмана. В числе их находился портфель, набитый бумагами, маленький железный сундучок и мешков пять с золотом и серебром, тщательно завязанных и запечатанных.
Кроме того, был и крест почетного легиона храброго капитана.
Присутствующие смотрели на контрабандиста со смесью участия и удивления.
Эта сильная и первобытная натура, честная и благородная, с такою простотою, поражала их и вместе невольно привлекала их сочувствие.
Контрабандист удостоверил взглядом, что все находившееся на его тележке принесено. Потом он поднял с пола свою шляпу, шаркнул правою ногой назад вместо поклона и простодушно сказал господину Гартману:
— Ну, вот мое поручение исполнено. Мне остается только пожелать вам доброго здоровья и уйти. Я возвращаюсь в горы. Приятно будет вдохнуть в себя свежий воздух. Целых два часа я искал вас по городу.
— Постойте, любезный друг, — с улыбкой остановил его Гартман, — нам нельзя разойтись таким образом. Я обязан по крайней мере вознаградить вас за то, что вы сделали.
— Ничуть, сударь; какое нужно вознаграждение за исполнение долга? Вы не обязаны мне ничем.
— Если не другим, то во всяком случае благодарностью, любезный друг. Сядьте вот здесь возле меня и побеседуем. Мне нужно узнать от вас некоторые сведения.
— Охотно; я не тороплюсь, — ответил контрабандист, садясь без дальних околичностей на указанный ему стул.
— Вы сказали, что видели альтенгеймских вольных стрелков?
— Разумеется, видел. Молодцы ребята, доложу вам. Вот хоть бы командир Людвиг да капитан Пиперман, что это за славные люди! А сержант Петрус! Чего он один-то стоит! Вечно у него лицо такое, как будто он черта хоронит, а рассказывает уморительные истории, что лопнуть надо со смеха. И хирург господин Люсьен, молодой человек, не в обиду будь сказано, на вид словно красная девушка, мягкий как воск, а храбрый как лев.
— Люсьен мой сын и брат капитана, любезный друг.
— В самом деле? Вы можете похвастать, что у вас сын, который семейству стыда не сделает. Славной души малый!
— Он не ранен? — озабоченно спросила госпожа Гартман.
— Будьте покойны, царапины не получил, однако не щадил себя. Все время он был в сильном огне. Пули сыпались на него как град, а он и ухом не ведет. Весело было смотреть.
— Расскажите-ка мне, пожалуйста, что там происходило? — спросил Мишель.
— Охотно, если это доставит вам удовольствие.
И контрабандист без дальнейшего предисловия рассказал своим живописным и образным слогом кровавый эпизод, известный уже читателям.
Во время страшных сцен этого рассказа глубоко взволнованные слушатели испытывали невыразимый ужас. Возмутительная война, которую пруссаки вели против Франции, представлялась им в ярком свете действительности во всей лютости и варварстве.
Когда контрабандист кончил, настала минута молчания. Все невольно оцепенели от такого ряда неслыханных жестокостей.
— Это чудовища! Для них нет ничего святого! — вскричала госпожа Гартман с глубокой скорбью.
— Это презренные твари, — прибавил старик. — Вы мне сейчас сказали, любезный друг, — обратился он к контрабандисту, — что не боитесь попасться пруссакам в руки. Вы разве хорошо знаете край?
— Я-то, сударь? Нет тропинки, дерева, пещеры в скале во всем Эльзасе и во всей Лотарингии, которых не мог бы я отыскать с закрытыми глазами. Подумайте только! Как помню себя, я ходил по этому краю во всякую погоду, во всякое время дня и ночи. Ведь это мое ремесло. Разве я не говорил вам, что я контрабандист?
— Так вы можете оказать мне большую услугу, мой друг, если захотите.
— Вам, сударь? Очень охотно, если могу. Мы все братья теперь и должны защищать друг друга от подлецов пруссаков. О них что ли речь?
— Именно о них. Быть может, Страсбург будет осажден через несколько дней.
— Не быть может, а наверно. Все войска направляются в эту сторону. Ими кишат все дороги, точно тучами саранчи. Просто наводнение.
— Есть особы, которые желают выехать из города, чтоб не подвергаться ужасам осады.
— Это понятно, но поторопиться не худо бы.
— Они уедут сегодня же, если нужно.
— Так-то лучше.
— Возможно ли это?
— Да, если речь идет о мужчинах.
— Мужчина один и с ним три дамы.
— Гм! Это трудно, однако можно устроить.
— И вы отвечаете за их безопасность?
— Отвечаю, если они, безусловно, доверятся мне; иначе я ни за что не ручаюсь.
Госпожа Гартман и дочь ее переглянулись с беспокойством, боясь угадать мысль господина Гартмана.
Ивон Кердрель впал уже несколько времени в глубокий сон. Старик бросил на него взгляд, приложил палец к губам, встал и движением руки пригласил жену и дочь следовать за ним.
Все вышли из комнаты на цыпочках.
Гартман отворил дверь в смежную комнату, которая служила спальней его теще.
Старушка сидела в большом кресле, высокая спинка которого снабжена была боковыми подушками. Она вязала с очками на носу и большие спицы были воткнуты в ее белые как снег волосы.
Она подняла голову, услышав, что отворилась дверь, и с удивлением поглядела на многочисленное собрание, явившееся к ней в комнату.
— Дети пришли пожелать вам доброго утра, матушка, — сказал господин Гартман, целуя ее.
— Очень рада их видеть, — отвечала старушка.
— А я, бабушка, — прибавил Мишель, — прошу вас благословить меня.
— Что так, дитя мое? Разве ты уезжаешь?
— К несчастью, должен уехать, бабушка; генерал Урих возложил на меня важное поручение, и я оставляю Страсбург сегодня же.
— Во что бы ни стало, дитя мое, исполняй свой долг и не забывай никогда, что ты француз.
— Не забуду, бабушка, будьте покойны.
— Видишь ли, бедное дитя мое, меня то огорчает, что я стара и в доме уже никакого не имею влияния.
— Да ведь все почитают за счастье вам повиноваться, бабушка.
— Я знаю, что говорю, — возразила старушка, с грустью покачав головой, — а так как вы все в сборе, то я облегчу сердце, высказав, что меня гнетет.
— Уж не хотите ли вы упрекнуть нас в чем-нибудь, матушка? — спросил Гартман с улыбкой.
— Не смейтесь, сын мой; вам именно я и сделаю важный упрек, в справедливости которого вы сами должны будете сознаться. Все говорят, что пруссаки обложат город, а вы не подумали еще о той опасности и бедствиях, которым подвергаете мою дочь и внучку, оставляя их здесь.
— О, мы не хотим расставаться со всеми вами! — вскричали в один голос мать и дочь.
— Та-та-та! Все одно ребячество. Я требую, чтобы мой зять принял надлежащие меры и отправил вас к кому бы то ни было из наших родственников. Слава Богу, довольно их у нас! Я не хочу, чтоб вы оставались здесь.
— Я рад, бабушка, что вы предупредили меня в том, что я не решался сообщить вам. Все готово для немедленного отъезда моей жены и дочери, и вас самих; для этого, собственно, я и пришел сюда.
— Правда это?
— Клянусь вам.
— Однако, мы не можем оставить вас одного, папа! — вскричала Лания.
— Я умру от одного беспокойства вдали от вас, — прибавила мать.
— Не слушайте их и делайте свое дело, мой друг, — обратилась старушка к Гартману. — Избавьтесь от этих пискуний. Их присутствие здесь скорее вредно, чем полезно. Женщины ни на что негодны в осажденном городе.
— Однако, бабушка…
— Молчи, крошка; ты уедешь, я хочу этого.
— Но уедете и вы, матушка, — сказал Гартман.
— Я?
Старушка покачала головой.
— Нет, милый друг, я слишком для этого стара. В восемьдесят лет не разъезжают. Оставьте меня здесь, в уголке этого дома, и не заботьтесь обо мне. Если я буду убита, поразивший меня удар лишит только немногих бесполезных дней жизни. Я уже ни на что не годна. Итак, я не хочу слышать ничего более. В эту комнату я вошла в день свадьбы моей дочери. Вот уже более тридцати лет я провела в ней. Все предметы, которыми она омеблирована, мне дороги; я была в ней счастлива, очень счастлива, благодаря вам, дети мои. Тут я хочу и умереть. Оставьте мне эту последнюю отраду.
— Мы так желали бы не расставаться с вами, бабушка!
— Ни слова более. Я требую, чтоб вы уехали сегодня же, если возможно, и меня оставили здесь. Вы знаете, я упряма и никогда не изменяю принятого решения; поцелуйте меня, мои дорогие дети, и если Бог определил, что мы более не увидимся в этом мире, примите мое благословение.
Старушка обняла дорогих детей, отерла слезы, которые текли по ее сморщенным щекам, и прибавила голосом дрожащим, несмотря на ее усилия владеть собою:
— А теперь, милые дети, оставьте меня одну. Я помолюсь Богу, чтоб Он послал вам счастье, какого я для вас желаю.
— Бесполезно настаивать, — шепнул Гартман на ухо жене. — Ступайте с Ланиею готовиться в дорогу. Не забудь, дитя, что я первый хочу объявить нашему больному о твоем отъезде из Страсбурга.
— Папа, ради Бога, если вы любите меня!.. — вскричала девушка, зарыдав.
— Так надо, бедняжка. Это только тучка на твоем небосклоне. Надеюсь, что для тебя скоро опять настанут безоблачные счастливые дни.
Дамы вышли. Капитан, старик Гартман и контрабандист остались одни в столовой, где, по приказанию хозяина, подано было несколько блюд, и Оборотень оказывал им честь с усердием, которое свидетельствовало о прекрасном его аппетите.
Как скоро тележка была разгружена, Франц поставил ее во двор, осла свел в конюшню, а маленького Зидора взял с собою в кухню, где слуги принялись пичкать мальчугана едою так, что даже ему стало невмочь.
— Теперь поговорим о делах, — начал господин Гартман, — каким образом думаете вы совершить путь?
— Сколько нас будет и кому именно должен я служить проводником? — спросил контрабандист с полным ртом.
— Будет четверо: жена моя и дочь, капитан Мишель, мой сын, что здесь налицо, и его вестовой.
— Если б не было женщин, — ответил Оборотень, давая кость своей собаке, — ничего легче не могло быть. Я бы сказал, что надо отправиться пешком; это самый лучший способ остаться незамеченным; но и капитан что-то смотрит бледным и страждущим.
— Действительно, я еще слаб после того, как получил несколько, хотя и легких, ран под Фрешвилером; однако, это не помешает мне при случае владеть саблей как подобает.
— Я на это рассчитываю; вот у нас в придачу две дамы на руках. Девица-то молода и проворна, она не затрудняет, а смущает меня матушка.
— Не взять ли вам мою карету? Вы все поместились бы в ней. Лошади у меня превосходные.
— Вот хорошо, — засмеялся контрабандист, — вашу карету с четверкою лошадей, разукрашенных ленточками, и с ямщиками! Уж не лучше ли занять вагон на железной дороге? Это мне не годится.
— Ну так верхом отправьтесь.
— И этого я не одобряю.
— Право, я другого способа не вижу, — заметил Мишель.
— Вы полагаете? — посмеиваясь, ответил Оборотень.
— Да, если нельзя ни пешком идти, ни верхом ехать, ни в карете, — возразил, смеясь, капитан, — ей-богу, я не вижу, каким же способом еще можно путешествовать; разве в воздушном шаре…
— И в правду! Об этом и я не подумал. Средство, быть может, и хорошее, но к несчастью нет его у нас под рукой.
— Объяснитесь, пожалуйста, любезный друг Оборотень, как вы себя называете, — вмешался старик Гартман, — и я, признаться, как Мишель, поставлен в тупик.
— Так слушайте; есть хорошее, верное средство, но, черт возьми! Мужеством надо вооружиться.
— О! Если в этом только дело… — начал было Мишель.
— Не о вас речь, капитан, я говорю о дамах.
— Так объяснитесь же.
— Вот, видите что. Это простейшая вещь на свете. Самые хитрые лисицы дадутся в обман. Внизу моя тележка, не так ли? Она с кожаным верхом и запряжена жалким на вид осликом, за которого не дали бы тридцати су, а между тем он силен и вынослив, как лошак, да и привык ходить по дорожкам, где коза побоится ступить ногою. Вам, капитан, надо снять мундир, и солдату также; оденьтесь как я, чтоб иметь вид настоящего прощелыги с черными руками и черным лицом. Мы, извольте видеть, семейство кочующих медников, торговцев, смахивающих на жидов и мошенников в полном смысле слова, черт возьми! Я взял бумаги негодяя Исаака Лакена, которого убил, как вам известно; они могут нам пригодиться. И барыни должны переодеться в таком же вкусе, но взаправду; чтоб и чулки были толстые, и рубашки толстые и поношенные, и юбки с заплатами, черт возьми! Чтоб и сами они вымазались чернее кротов и растрепаны были словно колдуньи; если они забудут малейшую подробность, разбойники с острыми касками тотчас пронюхают в чем дело; но я, разумеется, не берусь просить об этом дам. Это вас касается. Можно ли это устроить?
— Надо, — отозвался господин Гартман.
— Так, дело решено. Вы, капитан, достанете нам пропуск для выезда из города в двенадцатом часу ночи. Это лучшее время. Мародеры ничего не заподозрят, и мы проедем мимо них как письмо по почте. Стало быть, мы условились теперь. Вы согласны?
— Я сам пойду предупредить дам и наблюдать за тем, чтоб все предписанные вами осторожности были приняты, — сказал Гартман, вставая.
В эту минуту отворилась дверь и в ней показался Паризьен.
— Прошу извинения, господин капитан, — сказал он.
— Что тебе надо? — спросил Мишель.
— Его превосходительство приказали вам сказать, чтоб вы пожаловали к ним немедленно. Они сами хотят вручить вам депеши.
— Сейчас иду.
— Скажите-ка, господин капитан, — спросил контрабандист, — не этот ли молодец поедет с нами?
— Я бы так думал, милый человек, потому что всегда нахожусь при моем капитане, нравится это или нет, — заключил вестовой, покручивая ус.
— Славно! — засмеялся контрабандист. — Дай пожать тебе руку, товарищ. Ты мне по душе. Я взялся служить капитану проводником.
— Вот что называется удача-то! Только бы нам пришлось ехать на Фрешвилер.
— Почему именно на Фрешвилер?
— Я потерял там кое-что и был бы рад отыскать опять. Подарок на память мавританки, которой я оказывал снисхождение в Африке.
— Так по рукам, дружище! — сказал контрабандист, протянув ему руку. — Если я могу помочь тебе отыскать подарок твоей мавританки, то сделаю это, положись на мое слово.
— Решено, — отвечал вестовой, опустив громадную баранью лопатку, служившую ему рукой, на ладонь Оборотня.
— Видно, знакомство уже сделано между вами, — с улыбкой заметил господин Гартман. — На столе две бутылки вина; распейте их за мое здоровье, друзья мои.
Гости не заставили повторить приглашение и уселись друг против друга.
Глава XVII ОБОРОТЕНЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОБРИСОВЫВАТЬСЯ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ
Вечером в тот же день 11 июня 1870, в двенадцатом часу ночи, странный караван выезжал по подъемному мосту из Страсбурга в госпитальные ворота на дорогу в Плобсгейм.
Караван этот состоял из шести человек: двух женщин, трех мужчин и двенадцатилетнего ребенка, огромной черной собаки, хилого, худенького осла, запряженного в повозку, обтянутую кое-как смоленым холстом.
Луна, достигшая наконец своей первой четверти, достаточно освещала своим бледным и холодным светом этих путешественников, так что им нечего было опасаться заблудиться или сломать себе шею в оврагах на дороге.
Калб в самых эксцентричных своих рисунках никогда не изображал бродяг удачнее тех, которыми мы теперь занимаемся.
Был тут великан с головой, обвязанной грязным носовым платком, в безобразной шляпе, гордо надетой набекрень, в лохмотьях, закутанный как гидальго в длинный дырявый плащ.
Два другие его спутника имели физиономию не более успокоительную.
Женщины, так же как и ребенок, лежавший в тележке, соединяли на своих лицах и в своей одежде все отвратительное безобразие, какое могут представлять продолжительная нищета, старость и закоренелое невежество.
Эти страшные лица не имели, по-видимому, другого, оружия, кроме огромных дубин, но, вероятно, в случае надобности, они показали бы оружие и поопаснее.
Тот, который шел ближе к телеге, был высокий человек, с физиономией куницы и с козлиного бородой, с головой, покрытой густыми седыми, нерасчесанными волосами; он шел, слегка согнувшись и опираясь на палку. Он казался, в особенности по своим летам, старшиной этого почтенного общества.
Маленький осел бежал довольно крупной рысью, а собака бегала около каравана, опустив морду в землю и обнюхивая кусты.
— Ну, капитан, — спросил тот из трех мужчин, которого мы еще не описывали, потому что он был в своем костюме, и читатель, вероятно, его узнал, — как вы нас находите?
— То есть, — ответил капитан, — мы представляем собою самую красивую коллекцию разбойников, какую можно вообразить. Мой отец почти испугался, когда увидал нас.
— А я так очень доволен собою, — сказал Паризьен, крутя свои усы, — я похож на прогуливающегося гидальго.
— Брат, — сказал голос из повозки, — долго еще мы останемся в этом гадком экипаже? Я предпочла бы идти пешком.
— Не торопитесь, мамзель, — сказал контрабандист, — настанет минута, когда придется поработать ногами.
— Нам здесь совсем неудобно.
— Ужасно как трясет, — прибавила госпожа Гартман, — кости все разбиты.
— Нельзя же иметь все удобства, — смеясь, сказал Мишель.
— Не находите ли вы, капитан, с вашего позволения, что луна уж очень хорошо светит и что приятно прогуливаться за городом в прекрасную ночь?
— Не говорите так много, — сказал контрабандист, — мы не знаем, кто может нас подслушать. Если хотите, разговаривайте на эльзасском наречии.
— Я, любезный друг, его не знаю, — сказал Паризьен.
— Перестаньте, старик, молчите, как я.
Путешественники подвигались таким образом несколько часов и не говорили ни слова. Дамы, утомленные усталостью, заснули.
Мишель сел на передок повозки и также заснул. Только контрабандист и Паризьен, навострив уши, бодрствовали над общей безопасностью.
К пяти часам утра, на рассвете, повозка остановилась перед фермой, которую только несколько часов бросили ее обитатели, потому что все окна и двери были отворены и огонь погасал в кухне.
Контрабандист с помощью Паризьена поставил повозку под навес, а осла в конюшню, и задал ему сена и овса, а потом разбудил дам и Мишеля, и, наконец, позвал сына.
— Ты видишь, мальчуган, — сказал он ему, — вон ту деревню в углублении? Ступай туда, засунув руки в карманы, купи бутылку водки и хлеба, а сам разузнавай, во-первых, как называется деревня, а потом, что нового в здешнем краю. Ты хорошо понял, не так ли, мальчуган? О нас ни слова.
— Да, батюшка, — ответил ребенок хитрым голосом и ушел, засунув руки в карманы и с небрежным видом.
— Теперь вы, милостивые государыни, — сказал Оборотень, — и ты, старикашка Паризьен, заройтесь в сено с головой и спите, пока я вас не позову.
— Для чего же мне оставаться здесь, — сказал Паризьен, — я ведь не больной и могу быть полезен на что-нибудь.
— Это правда, старина, но очень может быть, что к нам придут гости, а у тебя такое резкое произношение, что я не могу позволить тебе разговаривать с тем обществом, которое станет здесь шататься.
— Хорошо, понимаю. Только пусть это будет недолго, а то я ведь не выдержу.
— Полно, полно, бедный старик! Не порти себе крови. Через несколько часов мы будем вне опасности и тогда я предоставлю тебе свободу работать языком сколько хочешь. В особенности не надо курить, слышишь?
— Мы знаем, как следует обращаться с женским полом, старина. Не беспокойся.
И Паризьен с видом полурассерженным, полудовольным пошел за дамами, которые уже ушли.
— Теперь мы остались вдвоем, капитан. Если вы хотите, мы приготовим кое-что поесть. Ходьба придает аппетит. Вы должны быть голодны.
— Ну да, — ответил Мишель, — только я не знаю, где провизия.
— Не беспокойтесь, я позаботился о ней. Она в чехле на повозке. Пойдемте со мною.
Мишель пошел с ним под навес, куда поставили повозку.
Контрабандист вынул из чехла котелок, большую ложку, шумовку, кусок говядины, шесть котлет, капусту, морковь, картофель, репу, форель, перец, соль и четыре бутылки вина.
— О! О! — закричал Мишель, — я не думал, что мы так богаты.
— Позвольте, позвольте, капитан, — ответил контрабандист тем же тоном, — вы еще видели не все; есть кое-что другое; вы увидите, когда будет время.
Они взяли провизию и вернулись в кухню.
Мишель с серьезным видом начал чистить овощи, а контрабандист разводить огонь щепками и прутьями, которые нашел на дворе, принес воды из колодца и поставил котелок на огонь.
— Как вы думаете, а ведь завтрак-то у нас будет славный, капитан? — сказал он, смеясь.
— Да, если нам не помешают, — ответил молодой человек.
— Кто может нам помешать? Здешние фермеры трусы и, вероятно, убежали в Страсбург. Край еще спокоен с этой стороны; бояться нечего. Только ночь будет суровая; впрочем, если кто-нибудь придет, нас предупредят.
— Кто? Все спят, а мы оба здесь.
— А Тома-то вы забыли. Он на часах. Нечего опасаться, чтоб нас застали врасплох, он свою службу знает.
— Это правда; я забыл о бедном Томе. Как вы думаете, далеко мы теперь от Страсбурга?
— Далеко. Осел шел хорошо. Вот уже больше пяти часов, как мы в дороге, и если не ошибаюсь, мы должны быть в окрестностях Молькирха. То есть, мы сделали почти шесть с половиной лье. Пруссаки не должны еще быть в этой стороне; а если мы и увидим их, то это будут только лазутчики, разведчики, от которых нам освободиться легко.
— А я предпочел бы, чтоб мы никого не встречали, так как с нами дамы.
— Я согласен с вами; но вы знаете, капитан, ничего наверно знать нельзя, только мы скоро доберемся до гор, которые вы видите отсюда, и тогда мы будем почти в безопасности.
— Да, вероятно, пруссаки еще не имели времени дойти сюда; я опасаюсь теперь не пруссаков, а дезертиров, отставших. Сохрани нас Бог от встречи с ними, потому что с ними объясняться-то нельзя. Наконец, — философически прибавил Мишель, снимая пену с котелка, — кажется, самое главное сделано и нам нечего опасаться.
— Дай-то Бог, капитан! Попробуйте-ка бульон; кажется, мы забыли положить соли.
— Это правда, — сказал Мишель, — решительно, я плохой повар.
— Что же делать? Делаешь, что можешь. Том завизжал.
— Это что? — спросил капитан.
— Ничего, ничего, не беспокойтесь. Это возвращается мой мальчуган. Том здоровается с ним.
Действительно, почти тотчас мальчик вошел в кухню. Он держал в руках хлеб в шесть фунтов.
— Ну, мальчуган, — сказал сухо ему отец, — что ты там узнал? Где мы?
— Мы на ферме «Красивый Терновник», между Розенвилем и Молькирхом, но ближе к Молькирху. Розенвиль с рассвета остался у нас с правой стороны.
— Вы видите, что я не ошибся, капитан. А что говорят нового? Для чего уехали отсюда хозяева фермы?
— Испугались неизвестно чего. Пруссаков здесь еще не видали. Хозяева уехали в нынешнюю ночь в Мец, вот почему мы их не встретили.
— А французские солдаты где?
— Их нет. Недалеко отсюда, в Муциге, стоял батальон пехотных егерей, а третьего дня ночью ушел неизвестно в какую сторону.
— В деревне не удивились?
— Вовсе нет. Спросили, кто я, откуда; я отвечал, что путешествую с моими родными и что если нам дадут кастрюли починить, то мы очень были бы рады. Тогда мне сказали, что можно это сделать, если мы останемся здесь несколько времени, и больше ничего.
— Ты славная охотничья собака, — сказал контрабандист, обнимая сына и слегка ударив его по плечу. — Тебе хочется есть или спать?
— Мне и есть, и спать хочется, но мне кажется, я лучше позавтракал бы.
— Ну, суп готов. Ступай просить сюда дам и Па-ризьена, а пока мы с капитаном изжарим котлеты и накроем стол.
О посуде нечего было заботиться. Фермеры оставили посуду, железные ложки и вилки. Капитан поставил на стол кружку с водой вместо графина и накрыл стол как умел, между тем как контрабандист жарил котлетки.
Было половина десятого утра. Несколько часов крепкого сна возвратили дамам все их силы и всю свободу духа. Несмотря на печаль при мысли о таком быстром отъезде из Страсбурга и о разлуке, может быть, долгой с любимыми людьми, они не могли не улыбнуться при виде, с какой серьезностью Мишель исполнял обязанность повара.
Паризьен был не в духе. Он не прощал контрабандисту, что тот принудил его спать и помешал таким образом услужить капитану.
Сели за стол и позавтракали с хорошим аппетитом.
Весь день прошел без всяких приключений. Окрестности оставались пусты. Ни один крестьянин не проходил мимо фермы. К шести часам вечера поужинали утренними остатками, к которым контрабандист присоединил пирог и несколько новых бутылок вина, которые вынул из неисчерпаемого чехла; потом по его совету все пошли спать. Ферму должны были оставить в десять часов вечера.
Действительно, в десять часов повозка была заложена, и все отдохнули и освежились.
Дамы не захотели сесть на повозку, возразив, что они нисколько не устали, что предпочитают идти пешком и что когда они почувствуют усталость или сон, то еще успеют поместиться в повозке.
Контрабандист ничего не возражал.
Отправились в путь. Ночь была темная, туманная, дождь шел мелкий и холодный.
Пейзаж переменился, сделался суровее. Дорога суживалась и возвышалась мало-помалу довольно крутыми извилинами. Доехали до первых уступов Вогезов. Через час должны были очутиться в самых горах.
Однако погода изменялась все более и более; дождь пошел частый, ветер начал дуть сильнее; ехать становилось труднее по причине рытвин.
Дамы были принуждены уже с полчаса сесть в повозку.
— Мы не можем ехать далее, — сказал Мишель. — Дорога становится ужасна; если будет продолжать ехать таким образом, мы скоро так увязнем в грязи, что и не выкарабкаемся. Нет ли в окрестностях какого-нибудь дома, где мы могли бы просить гостеприимства?
— Может быть, и есть, — сказал контрабандист с задумчивым видом. — Здесь недалеко есть уединенный дом. В нем живут люди, не очень здесь любимые, и о них рассказывают много историй, которые бесполезно повторять.
— Захотят ли они отворить нам? Подумайте, что уже час утра.
— Время ничего не значит. Главное, чтоб нас не приняли за шпионов. Говорите вы по-немецки, капитан?
— Да; зачем вы спрашиваете об этом?
— Вы скоро узнаете.
— А эти дамы говорят?
— Говорят.
— Это хорошо; стало быть, мы спасены. Запомните хорошенько, что я вам скажу. Вы называетесь Розенберг. Вы убежали из Страсбурга, где вам хотели сделать неприятность из-за ваших религиозных убеждений, а еще более из-за вашей национальности. Вы уроженец Бадена, горячий протестант, принятый в сословие французских граждан; но это ни к чему не послужило вам. Вас предполагают в сношениях с пруссаками и, следовательно, считают тайным врагом Франции.
— Хорошо; я понимаю, что вы хотите сказать: мы пиэтисты.
— Да, кажется, так их называют. В особенности старайтесь хорошенько разыграть вашу роль, а то если справедливо то, что говорят об этих людях, мы погибли; никто из нас не выйдет живой из этого дома. А с Паризьеном я не знаю что мне делать. Признаюсь, я очень затрудняюсь.
— Не беспокойтесь обо мне, — ответил Паризьен угрюмым тоном. — Если люди, о которых вы говорите, таковы, какими вы описываете их, мы просто бросимся в волчью пасть. Оставьте меня на воздухе; я дождя не боюсь, у меня шкура дубленая; я засяду в ветвях дерева перед домом и буду служить вам часовым; если с вами случится что-нибудь, кто знает, может быть, я могу вам помочь.
— Это так, — сказал контрабандист, два или три раза качая головою. — Ну, пусть будет так, Паризьен, я дам тебе ружье, а ты смотри в оба.
— Будьте спокойны; мне не в первый раз стоять на часах. Не так ли, капитан?
— Это правда, мой милый; только будь осторожен. Помни, что мы полагаемся на тебя.
— Конечно, капитан. Где же мое ружье?
Контрабандист вытащил его из-под соломы и отдал Паризьену вместе с патронами.
В эту минуту повозка повернула за угол дороги и показался довольно яркий свет, мелькавший сквозь деревья.
— Видишь этот свет, Паризьен? — продолжал контрабандист. — Мы идем туда. Ты же не трогайся с места, прежде чем услышишь крик совы два раза, вот так, слышишь?
Оборотень закричал как сова.
— Хорошо, — сказал зуав, — продолжайте путь, а я пойду вперед; не занимайтесь больше мною, это решено. Счастливого успеха, капитан.
Зуав взял ружье под мышку, бросился в кусты и исчез.
— Предупредите дам, — сказал контрабандист Мишелю, — их надо предупредить, чтобы они лучше играли роль.
Повозка продолжала путь. Чем более подвигались вперед, тем более огонь увеличивался и казался ярок.
Дом был двухэтажный. Он был построен между двором и садом и имел десять окон спереди и четыре с каждой стороны.
Направо и налево находились конюшни и людские.
Стены были очень высокие, крепко построенные. По своей наружности дом этот занимал середину между богатой фермой и сельским замком.
Над домом был бельведер в виде голубятни, на верху которой вертелся флюгер.
Три окна среди фасада в первом этаже были освещены. Крепкая решетчатая калитка с внутренними ставнями вела на двор. Возле этой решетки пробили низкую дверь в стене. Форточка служила для ежедневных потребностей жителей.
Перед домом деревья были вырублены так, что составляли кругообразную платформу. Но в середине этой платформы оставили столетний дуб, ветви которого покрывали значительное пространство и распространяли около себя темноту.
Подойдя к дому, капитан и контрабандист разменялись улыбкой, взглянув на дерево.
Они не ошибались. Паризьен устроил свою обсерваторию среди его ветвей.
— Кстати, — сказал Оборотень на ухо капитану, — вы пароля не знаете?
— Какого пароля? — спросил тот тем же тоном.
— Пароля, который отворит вам двери дома.
— Какой он? Вы знаете?
— Конечно. Вот он — не забудьте: Gott, Koenig Wilhelm[2]. Если вас спросят, вы скажете эти три слова. Вам ответят словом: Vaterland[3].
— Это все?
— Да, и вероятно дверь будет вам отворена на две половинки. Теперь будьте внимательны, мы приехали. Заметьте, как я постучусь; это может служить вам впоследствии. Но что это я! Главное-то и забыл.
Он сунул ему в руку серебряную монету.
— Это что такое?
— Вы видите, монета в пять франков.
— Но у меня таких множество.
— Не таких. Она проткнута пятью дырочками, расположенными в некотором порядке. Это знак, по которому вас должны узнавать. Если вам скажут: можете вы заплатить за издержки? Вы ответите да и покажете эту монету.
— Что все это значит?
— Мне нет времени отвечать на ваши вопросы. После, если вы хотите, я скажу вам все. Черт побери! Капитан, вы все забываете, что я контрабандист и должен знать многое, неизвестное никому.
— Это правда; я виноват. Мы пришли?
— Да, пришли.
— Ну так войдем.
Контрабандист подошел к двери, но вместо того, чтобы позвонить или постучаться, он начал насвистывать странную арию минуты три, потом приподнял молоток у двери, три раза постучал скоро, два раза в коротком промежутке, а шестой раз громче всех.
Почти тотчас послышалось некоторое движение внутри, как бы шум приближавшихся шагов.
Форточка отворилась и лицо, черты которого нельзя было узнать, появилась в форточке.
— Кто стучится в такой час в дверь спокойного дома? — спросил мрачный голос.
— Тот, для кого все часы одинаковы и который ходит и днем, и ночью, друг зарейнских друзей.
— А! А! Это вы, Оборотень, — продолжал голос на этот раз дружеским тоном. — Что вы делаете в такую погоду?
— А! Вот видите, герр Матеус, я провожаю путешественников, которые имеют дело до ваших господ и просили меня привести их сюда. Не удивляйтесь их наружности, они переодеты и принуждены скрываться.
— Гм! — продолжал невидимый привратник. — Все это не очень ясно. Я боюсь, не сделали вы какой-нибудь неосторожности, Оборотень?
— За кого вы меня принимаете, герр Матеус? Я знаю толк в дичи. Меня никогда не заставят принять фазана за жаворонка, а протестанта за римлянина.
— Да, да, я знаю, что вы хитры и преданны и что на вас положиться можно.
— Вы имели уже доказательства. Помните, последний раз, как я вам принес…
— Хорошо, хорошо; не к чему говорить об этом на воздухе, — с живостью перебил привратник. — Где ваши путешественники?
— Недалеко, в моей повозке.
— Сколько их?
— Трое, мужчина и две женщины.
— Позовите мужчину; я должен его видеть.
Контрабандист обернулся к Мишелю и сказал ему по-немецки:
— Пожалуйте сюда. С вами желают говорить.
Он скромно отошел, чтобы пропустить молодого человека. Мишель подошел и, подойдя к форточке, сказал шепотом, как ему сказал Оборотень.
— Gott, Koenig Wilhelm.
— Vaterland, — отвечал привратник. — Подождите.
— Он здесь, — продолжал невидимый, — я пойду говорить с господами. Я надеюсь, что несмотря на поздний час, вас не откажут принять.
Форточка закрылась. Прошло несколько минут, потом забренчали запоры и дверь отворилась.
— Вы можете войти, — сказал человек в черном платье, высокий, худощавый, мрачные черты которого и бледное лицо имели что-то аскетическое и монастырское.
Этот человек, которого Мишель узнал по голосу, был тот самый, который уже с ним говорил.
Повозка выехала на довольно обширный двор, в глубине которого, именно напротив решетки, находилось двойное крыльцо, которое вело в дом, и на ступенях которого пять или шесть человек стояли неподвижно и безмолвно.
— Оборотень, — продолжал привратник, — вы можете поставить вашего осла в конюшню, а повозку в сарай, когда дамы выйдут оттуда. Вы знаете, где кухня; если вы голодны, ступайте закусить, потом прилягте на сено. Ваши путешественники проведут ночь здесь. Господа соглашаются оказать им гостеприимство.
Обе дамы вышли из кареты и закутались в плащи, укрываясь от дождя.
— Ступайте за мною, — продолжал привратник, державший фонарь.
Он пошел к зданию, составлявшему часть службы, и ввел наших трех действующих лиц в комнату, освещенную лампой, висевшей на потолке, и сделав им знак сесть и заперев дверь, сказал, обращаясь к Мишелю:
— Вам не безызвестно, что мы живем в трудные времена. Мои хозяева бедные фермеры, с большим трудом достающие себе пропитание и едва сводящие концы с концами. Вы ночуете здесь; вам дадут две комнаты и ужин, если вы желаете; но извините меня, если сделаю вам вопрос, который, судя по вашей одежде, не может вас удивить.
— Спрашивайте, я готов вам отвечать, — сказал Мишель.
— Вы знаете, что всякий труд заслуживает вознаграждения и что если тратишься, то желаешь получить барыш.
— Это правда. Но к чему клонится ваша речь?
— Просто к тому, чтобы спросить вас: можете вы заплатить нам?
— Конечно, могу.
— Какими деньгами, позвольте спросить? Мишель вынул из кармана пятифранковую монету, которая была отдана ему контрабандистом, и подал ее своему странному собеседнику.
— Этой монеты будет для вас достаточно?
— Конечно, — с живостью ответил привратник, — я не знаю лучших денег. Потрудитесь положить эту монету в карман и извинить странность моих вопросов. Но мы живем в такое мучительное время, исполненное опасностей всякого рода, что необходимо, прежде чем окажешь доверие, разузнать о людях, с которыми находишься в сношениях.
— А теперь довольны ли вы?
— Да, и доказательством служит то, что еще раз попросив извинения, я приглашаю вас и этих дам следовать к хозяевам дома, которые ждут вас и которым я буду иметь честь представить вас.
Привратник отворил дверь, пронзительно вскрикнув, подождал минуты две, потом обернулся к Мишелю и к дамам и сказал, почтительно кланяясь:
— Милостивый государь и милостивые государыни, не угодно ли следовать за мною; я иду вперед показывать дорогу, — прибавил он, взяв опять свой фонарь, поставленный на стол.
Мишель и обе дамы пошли за ним.
Пройдя двор, они направились к крыльцу, на каждой ступени которого стоял слуга, вооруженный факелом, распространявшим яркий свет.
Взойдя на крыльцо, привратник поклонился со знаками глубокого уважения человеку лет пятидесяти, в черном платье, лицо которого было бледно, черты изящны, хотя поблекли, и выражение которых имело что-то мрачное и печальное.
— Гонимые братья просят убежища, — сказал привратник почти шепотом.
Незнакомец знаком удалил привратника, который ушел, пятясь задом, потом любезно поклонился Мишелю и его двум спутницам, по-видимому, не примечая, как жалка и бедна их одежда.
— Добро пожаловать в мое бедное жилище, братья, — сказал он. — Вы будете в безопасности, надеюсь, во все время, пока вам будет угодно оставаться здесь.
— Благодарю вас, почтенный брат, — ответил Мишель, подражая фразеологии хозяина, — мы вам благодарны за ваше любезное гостеприимство, но мы принуждены оставить этот дом завтра на восходе солнца.
— Пусть будет как вы пожелаете, братья. Пожалуйте за мною, прежде чем сядете за закуску, приготовленную для вас. Я хочу представить вас другим братьям, удостаивающим мое жилище в эту минуту своим присутствием.
Незнакомец повел их в обширную гостиную, меблированную со строгой роскошью, где находилось восемь человек.
При виде одного из них, стоявшего в нескольких шагах позади них, Мишелю понадобилось все его самообладание, чтобы удержаться от крика удивления, почти испуга.
Он узнал Поблеско, доверенного человека его отца, директора фабрики Гартмана в Альтенгейме.
Глава XVIII КАК ЖЕЙЕР БЫЛ НЕПРИЯТНО УДИВЛЕН
После продолжительного разговора с Гартманом, Поблеско отправился в улицу Мерсьер, где, как мы сказали, у него была официальная квартира.
Он заперся в своей комнате и около трех часов приводил в порядок свои бумаги, сжег бесполезные или опасные, потом написал несколько писем, из которых одно было адресовано к Гартману и в котором он сообщал ему, что одно непредвиденное и очень важное для интересов фабрики дело принуждает его оставить Страсбург в тот же день, на сколько времени он определить не мог, но, наверно, не более недели. Он просил его не тревожиться его отсутствием, причины которого он объяснит ему по возвращении, и прощался с Гартманом, повторяя уверения в полной преданности ему и его семейству.
Когда все письма были запечатаны, Поблеско переоделся по-дорожному, зашил в кожаный пояс, который надел под платье, бумаги очень важные, без сомнения, сверток векселей на несколько банков, потом положил в чемодан белье, пару длинных шестиствольных револьверов, засунул в карманы панталон другую пару револьверов покороче, взял чемодан под мышку и вышел.
Первым его старанием было бросить на почту письмо, адресованное к Гартману, потом он направился большими шагами к каменному предместью, где у него была другая квартира, нанятая под именем Феликса Папена.
Он отпер дверь дома ключом, который он имел как жилец, и поднялся ощупью и на цыпочках к лестнице, которая вела в его скромную квартиру.
Дойдя до двери, вместо того, чтобы отворить, он постучался два раза слегка.
Без сомнения, его ждали, потому что дверь отворилась без малейшего шума и, как только он вошел, тотчас затворилась.
В комнате, в которую он вошел, находилась только самая необходимая мебель: железная кровать с тюфяком, ночной столик, умывальник, четыре соломенных стула и круглый стол орехового дерева.
Зеркало и четыре гравюры, представлявшие Наполеона, раненого при Регенснбурге, Ватерлооское сражение, возвращение с острова Эльбы и Наполеона на острове св. Елены; все это под стеклом висело на стене.
Комната эта освещалась окном, зеленоватое стекло которого было закрыто саржевыми занавесками, мешавшими взорам нескромных заглядывать в комнату.
Напротив окна находилась дверь, сообщавшаяся с небольшой комнатой.
На постели женщина, закутанная в плащ, крепко спала.
Дверь этой квартиры отворил человек, одетый барышником и не кто иной, как Мейер, которого альтенгеймские вольные стрелки так неловко выпустили из рук несколько дней тому назад.
Молча пожав друг другу руки, оба сели один против другого за стол, покрытый бумагами, и барышник, поставив подле себя лампу, поправив светильню и опустив абажур, сказал шепотом:
— Ну что?
— Все идет хорошо, — ответил тот таким же тоном. — Я видел Жейера утром; он кажется очень спокоен. Он поручил мне вам сказать, что не может вас принять, потому что подозревает, что дом его караулят. Впрочем, в полученных вами инструкциях нет никакой перемены.
— Хорошо. Итак, мы едем?
— При первой возможности, если на это согласна наша спутница. Кстати, вы знаете почему баронесса фон Штейнфельд так поспешно вернулась в Страсбург? И каким образом вместо того, чтоб остановиться в гостинице «Париж», я нахожу ее спящей на этой кровати, в этой жалкой комнате, где она должна терпеть недостаток во всем?
— Вы меня спрашиваете о том, чего я сам не знаю, мой милый. Когда я приехал сюда два часа тому назад, она уже была здесь и спала, как видите; я не счел за нужное будить ее. Я предпочел дождаться вашего приезда, в убеждении, что все это разъяснится.
— Как это странно! — ответил Поблеско. — Что затеял этот хитрец Жейер и для чего он превратил эту квартиру в казармы?
— Я тоже этого не знаю, но, вероятно, он нам скажет.
— Как! Разве он придет сюда?
— Я даже думал, когда вы пришли, что это он. Он скоро должен быть. Уже очень поздно.
— Вы хотите сказать очень рано. Третий час утра.
— Неужели? Действительно, — прибавил он, смотря на часы, — я этого не предполагал.
В эту минуту слегка постучали в дверь.
— Вот, вероятно, и он, — сказал Мейер, отворяя дверь. Действительно, Жейер явился на пороге.
— Господа, — сказал он, — имею честь вам кланяться. Что нового?
— Ничего, сколько нам известно, — ответил Мейер, садясь опять на свое место, — мы, напротив, ждем подробностей от вас.
— Э! Э! — сказал Жейер смеясь. — Наша прелестная баронесса заснула. Должно быть, господа, ваш разговор был непривлекателен. Как! Я поручаю вам очаровательную женщину, а вы прозаически позволяете ей заснуть! Вы сделали преступление против любезности.
— Вовсе нет, — с живостью ответил Мейер. — Когда я пришел, баронесса спала; натурально, я не будил ее.
— Я ее разбужу, — продолжал банкир, делая движение, чтоб встать.
— Это бесполезно, любезный Жейер, — ответила баронесса, раскрыв глаза, — я не сплю. Несмотря на предосторожности, с какими вы вошли, я проснулась, когда вы пришли.
Она сняла с себя плащ, спрыгнула с кровати и, улыбаясь, заняла место у стола.
— О чем идет дело? — спросила она. — Почему вы нас созвали в эту конуру вместо того, чтоб принять нас у себя, а в особенности, зачем вы не оказали мне гостеприимства или, по крайней мере, не допустили остановиться, где я останавливаюсь всегда, в гостинице «Париж»?
— Вот сколько вопросов, любезная баронесса! — смеясь, ответил Жейер. — Но имейте терпение, прошу вас; я надеюсь скоро удовлетворить ваше любопытство в нескольких словах. Прежде всего я должен вас предупредить, что вы напрасно возвратились в Страсбург, где ваше присутствие в эту минуту очень опасно для вас.
— Как! Я женщина, что могут сделать со мною?
— Я не знаю, милая баронесса. Только предупреждаю вас, что мне очень хотелось бы знать, что вы далеко отсюда. Словом, на вас донесли страсбургским властям, или, чтоб выразиться яснее, на вас указали как на весьма деятельного агента Пруссии.
— Вы уверены в этом?
— Ко мне адресовались, чтоб собрать сведения о вас.
— Когда так, я спокойна. Вы, верно, доставили сведения превосходные.
— Я? Нет, баронесса; напротив. Я объявил, что знаю вас очень мало, что вас ко мне адресовал мой парижский корреспондент и что я имел с вами только сношения деловые.
— Это правда, — прошептала она с некоторой горечью, — я должна была ожидать, что вы отречетесь от меня.
— Ваши слова жестоки, баронесса, но я ими не оскорбляюсь. Я должен был действовать таким образом для вашей собственной пользы, а в особенности для пользы дела, защищаемого нами. Будьте рассудительны, милая баронесса. Если б я был так прост и признался, что имел честь быть особенно с вами короток, неизбежно случилось бы вот что: не только вы, но и все наши друзья сделались бы подозрительны. Не правда ли? Тогда старались бы разузнать наши отношения, может быть, зашли бы дальше и, несмотря на все принятые предосторожности, успели бы или домашним обыском, или иначе найти признак, хотя самый ничтожный, наших сношений с Пруссией, и этого было бы достаточно, чтоб нас погубить. А теперь, действуя таким образом, я все спас и все уберег. Вы понимаете, что я остерегся упоминать, что вы вернулись во Францию сегодня. Думают, что вы в Пруссии; следовательно, нам нечего бояться.
— Хотя ваши объяснения несколько запутанны, любезный Жейер, — ответила, улыбаясь, баронесса, — я допускаю, их. Теперь что будем мы делать?
— Извините, баронесса, не станем изменять вопрос. Не вы должны спрашивать меня, что мы будет делать, а напротив, должны сообщить нам серьезные причины, которые могли побудить вас так неожиданно вернуться в Страсбург, откуда вы только несколько дней тому назад удалились так поспешно.
— На этот раз вы попали метко и вы правы, Жейер, но позвольте, в безопасности ли мы здесь?
— На этот вопрос я должен отвечать, баронесса, — сказал Поблеско. — Это квартира была нанята мною три года тому назад, под именем Феликса Папена. Жильцы этого дома — работники, отправляющиеся на работу на восходе солнца и возвращающиеся только затем, чтоб лечь спать. На этой площадке есть еще одна квартира, и она пуста уже три месяца. Притом, от нее мы отделены маленькой комнатой, так что если б квартира и была занята, то невозможно было бы слышать, что мы говорим. Я слыву странствующим музыкантом, который проводит жизнь на ярмарках и ведет себя степенно.
— А все-таки позвольте посмотреть, — сказала подозрительная баронесса.
Встав бесцеремонно, она схватила лампу и отворила дверь в комнату.
Комнатка эта освещалась одним окном. Стена была занята чемоданом, наполненным платьями всякого сорта, которое, вероятно, Поблеско надевал, когда хотел перерядиться.
— Удостоверились вы? — спросил Жейер, смеясь.
— Да, — ответила баронесса, возвращаясь и садясь, — комнатка пуста и никто не может нас слышать. Итак, я скажу вам, господа, что я вернулась в Страсбург нечаянно, для того чтобы сообщить вам чрезвычайно важное известие, которое, без сомнения, будет вас интересовать. Прежде всего надо вам знать, господа, что пиэтисты вогезские начинают волноваться. Они трудятся деятельно для нашего дела. После висембургской битвы некоторые из них вошли в сношения с немецкой армией. Я не преувеличиваю ничего, говоря, что влияние этих раскольников очень велико в Вогезах. Их связи очень распространены и располагают они огромными средствами. Причину, заставляющую их действовать, мы еще не разобрали, и я твердо убеждена, что они присоединяются к Пруссии для собственной своей цели и личных выгод, потому что, по моему мнению, найди они малейшую выгоду служить Франции, они служили бы ей, а не Пруссии, к которой — я не должна этого скрывать — они обнаруживали весьма глубокое презрение. Стало быть, поведением их руководит не национальность, а религиозный интерес. Они, без сомнения, предполагают, что при протестантском правительстве им легче будет жить по-своему и исполнять суеверные обряды, составляющие основание их верования.
— Я сам так думаю, — сказал Поблеско.
— И я, — подтвердил Мейер.
— Их главная квартира, или, по крайней мере, то место, где они учредили центр своих операций, отстоит не более как на десять миль от Страсбурга; разумеется, это в горах. Там у них уединенный дом, в окрестностях Штеймеха, кажется, и называется он Дубовая Ограда.
— Э! Да хозяева этого дома мои старые знакомые. Их зовут… позвольте…
— Я также знаю их, — перебил Поблеско, — я был у них недели две тому назад. Их три брата. Эти фанатики, мрачные, свирепые, не имеют никаких сообщений со своими соседями. Братья Штаадт, не так ли? Они имеют значительное состояние, которым управляют сами.
— Именно, — сказал барышник.
— Действительно, — сказала баронесса, — три брата, о которых вы говорите и к которым я прямо обратилась, приняли меня чрезвычайно вежливо.
— К ним нелегко пробраться, — сказал Поблеско.
— Это правда, — сказала графиня смеясь. — Они таинственны как роман Анны Радклиф, и для того, чтобы переступить порог их дома, надо знать пароль и предъявить известный знак. Я должна была вручить им очень важную депешу, содержание которой неизвестно мне. Но они показались мне очень довольными, потому что сказали без уверток, что мы можем положиться на них во всем, что многие из их родственников уже уехали в главный штаб немецкой армии предложить свои услуги. Заметьте мимоходом, господа, что эти люди, несмотря на их преувеличенное пуританство, сильно подозреваются в разной незаконной торговле, как, например, контрабанда. Все эти пиэтисты, несмотря на свой заказной ригоризм, любят больше всего деньги; чтобы достать денег, для них все средства хороши. Их сношения с контрабандистами, жидами, пограничными разносчиками-цыганами не составляют тайны ни для кого. Вы видите, как выгодно может быть для нас их содействие. После двух-трех продолжительных разговоров я рассталась с ними и вернулась в Страсбург, как мне было приказано, чтобы предупредить вас, господин Поблеско, о результате моего поступка. Вам необходимо сейчас принять меры и пустить все в ход, чтоб окончательно привязать этих людей к нам. Теперь, когда я исполнила мое поручение, мне остается только просить у вас способа оставить Страсбург как можно скорее.
— Не тревожьтесь, любезная баронесса, вы уедете сегодня утром в хорошем обществе.
— А вы, господин Поблеско, — прибавил банкир, обернувшись к молодому человеку, — в каких отношениях вы с Гартманом?
— Я последовал вашим советам и, как всегда, они оказали мне пользу. Я откровенно признался Гартману, и так как действительно чувствую глубокую любовь к дочери, и так как слова, произнесенные мною, выходят из сердца, я добился желанного результата.
— Я обещал помочь вам, и как только это сделается необходимо, вы можете полагаться на меня. Теперь я думаю, что торопиться не к чему.
— Может быть.
— Что хотите вы сказать? Разве и с этой стороны есть что-нибудь новое?
— Не могу отвечать вам утвердительно, потому что, несмотря на доверие, оказываемое мне Гартманом, он не сказал мне ничего такого, что дало бы мне право отвечать вам утвердительно. Однако, я угадал по некоторым признакам, что Гартман имеет намерение удалить жену и дочь из Старсбурга, чтобы не подвергать их опасностям осады.
— Если так, — сказал Жейер, — то эти дамы должны уехать очень скоро.
— Почему вы это предполагаете? — с живостью спросил Поблеско.
— Просто от того, что происходит. Прусские войска быстро сосредоточиваются около Страсбурга, осада которого решена. Не пройдет и четырех дней, а, может быть, и двух суток, как город будет обложен со всех сторон.
— Вы знаете это наверно?
— Не сохраняю ни малейшего сомнения на этот счет, и если вы хотите знать все, я скажу вам, что получил официальное сведение об этом. Итак, предположив, что город будет обложен 13 или 14, это самый дальний срок для того, чтобы Гартман успел выслать свое семейство из Страсбурга, оно должно выехать из города не позже, как через двое суток, а то все сообщения будут прекращены и оно попадется в руки немецких войск. Вот в чем я могу вас уверить. Теперь позвольте мне спросить, каковы ваши намерения.
— Мои намерения честны. Я люблю дочь Гартмана и имею только одно желание, одну цель: жениться на ней.
— Это цель, действительно, честная, и если молодая девушка вас любит, я не вижу, что может мешать этому союзу.
— Я уже имел честь сказать вам, что люблю дочь Гартмана; остальное не значит ничего. Этот союз будет не первый, в котором до свадебного обряда жених и невеста не знали друг друга, или, по крайней мере, были равнодушны друг к другу, а между тем эти союзы по большей части были очень счастливы впоследствии.
— Пусть так, об этом я не стану спорить с вами.
— Позвольте мне сделать вам одно простое замечание, — сказала баронесса, смеясь, — что жених и невеста равнодушны друг к другу или совсем не знали друг друга до свадьбы, это случается редко, но все-таки бывает иногда. Случается также, что зная, они ненавидят друг друга. Не боитесь ли вы попасть в это неприятное положение, любезный Поблеско?
— Это мое дело, — ответил он сухо.
— Это правда, и сохрани меня Бог вмешиваться каким бы то ни было образом в ваши частные дела. Я достаточно занята своими, особенно в эту минуту.
— Продолжайте, — сказал банкир голосом слегка насмешливым. — Я обязался вам услужить. Сообщите мне, каким образом я могу это сделать.
— Очень просто: я жду от вас только двух вещей.
— Каких?
— Я желаю, чтоб вы меня предупредили в тот день, когда дочь Гартмана выедет из Страсбурга.
— Это довольно легко. А потом?
— Я жду от вашей обязательности письма, которое отворило бы мне настежь двери дома, где я мог бы поместить девицу Гартман до того дня, когда буду иметь возможность жениться на ней.
— Это труднее, — ответил банкир, — и я не вижу…
— Вот в этом я могу быть вам полезна, — с живостью сказала баронесса, — вы желаете, без сомнения, ненарушимого убежища, в котором ваша любовница…
— Моя любовница! — перебил Поблеско, выпрямляясь.
— Извините, я ошиблась; я хочу сказать, та особа, на которой вы намерены жениться, находилась бы в безопасности, и скажем просто, где никто не мог бы ее найти. Так ли?
— Действительно, так.
— Это ненарушимое убежище, где никто не вздумает отыскать эту девицу, находится у вас под рукой.
— Что хотите вы сказать? Я не понимаю вас, баронесса.
— Стало быть, я очень дурно изъясняюсь, — возразила она, смеясь, — эти раскольники, о которых мы говорили, эти свирепые пуритане, эти братья Штаадт — словом, столь преданные нашему делу, знаете?
— Ну, что же, баронесса?
— Ничего не может быть легче как поручить ее им. Они с радостью возьмутся охранять эту молодую девушку. Только надо уметь за это взяться.
— Я, право, не знаю, серьезно или с насмешкой дали вы мне этот совет, — сказал Поблеско, ударив себя по лбу, — но я им воспользуюсь. Теперь я сам постараюсь заставить братьев Штаадт принять мои предложения.
— Когда настанет минута, — сказал банкир насмешливым голосом. — Птица еще не в клетке. Есть пословица, которая говорит, когда погонишься за двумя зайцами, то не поймаешь ни одного. А вы знаете, господин Поблеско, что пословицы — это мудрость народа.
— А я, — сказал барышник, качая головой, — не люблю этих любовных историй и похищений. Черт побери! Мы заговорщики, а не влюбленные. Поверьте, Поблеско, оставьте в покое этого ребенка. После войны просите ее руки у ее отца. Он будет очень рад отдать ее вам, особенно, видя каким кредитом будете пользоваться вы, если дела пойдут хорошо.
— Вы это думаете, господин Мейер?
— Это, по крайней мере, логично.
— Было бы, не будь небольшого обстоятельства, неизвестного нам.
— Какого?
— Молодая девушка, о которой идет речь, не только не любит меня, но любит другого, за которого помолвлена.
— В какую кашу затесались вы, любезный Поблеско! Вас не только общиплют порядком, но берегитесь, вы рискуете вашею головой.
— Хорошо. Пусть будет то, что угодно Богу. Мое намерение принято; я женюсь на этой молодой девушке или падет моя голова.
— Ваша голова падет. Это не представляет для меня ни малейшего сомнения, а я умываю себе руки. Только умоляю вас, любезный Поблеско, не вмешивайте меня во все эти дела, в которых я ничего не смыслю. По милости Божией, я закоренелый холостяк и поклялся, что никогда женщина не заставит меня сделать ни малейшей глупости.
— А! Не опасайтесь на этот счет, — с пренебрежением ответил молодой человек. — Я никогда не обращусь к вам.
— Я благодарен вам заранее.
— Полно, полно, господа! Вернемся к нашим делам. Я вам замечу, что уже около пяти часов утра. Стекла побелели от рассвета. Надо заняться вашим отъездом. Через час калитка в каменных воротах будет отперта для крестьян, привозящих в город провизию. В эту-то калитку выходите вы все трое. Вы, господин Мейер, первый. Десять минут спустя выйдет баронесса; крестьянский костюм и корзинка на руке послужат ей защитой. В случае надобности она сошлется на Поблеско, который будет идти в нескольких шагах за нею. Он так известен, что против него не может быть возбуждено ни малейшего подозрения. Вот все устроено. Ступайте не торопясь, словно гуляете, в Шильтигейн, войдите во второй дом по правую руку, вы увидите там толстяка, пузатого, толстощекого, с лицом, красным как вишня. Это хозяин гостиницы. Его зовут Фёдер. Поклонитесь ему и скажите: «Здравствуйте, господин Фёдер. Какая прекрасная погода для уборки овса!» Тогда он примет вас как старых друзей и предложит позавтракать. Я уже распорядился; я советую принять этот завтрак, потом Фёдер даст вам трех лошадей. Вы, Поблеско, поезжайте немедленно к братьям Штаадт. А вы, баронесса, и вы, любезный Мейер, отправляйтесь по дороге наиболее для вас удобной. Я забыл вас предупредить, что вы найдете в этом доме одежду всякого сорта, в случае, если захотите переменить костюм, в особенности вы, баронесса.
— Благодарю вас за это внимание, которым я воспользуюсь, любезный Жейер. Я вижу с удовольствием, что вы не забываете ничего.
— Это моя обязанность, особенно когда дело идет о вас.
— Итак, Жейер, вы мне поручаете отправляться к братьям Штаадт? — сказал Поблеско.
— Да, — ответил банкир, — я думал, что не только вы выполните это поручение лучше всякого другого, но что оно будет вам приятно.
— Это правда; вы можете рассчитывать на мое усердие.
— А вы, Жейер, останетесь здесь? — спросил барышник, смеясь.
— О! Я не тороплюсь, — ответил банкир с громким хохотом, — мои люди думают, что у меня любовное свидание. Я подожду, пока на улице будет больше народа, и примешаюсь к толпе, среди которой неприметно вернусь домой.
— Господа, — сказал Поблеско, — на соборных часах пробило четверть седьмого. Я думаю, что нам пора отправиться в путь.
— Я сам ничего лучшего не желаю, — сказал барышник. — Признаюсь, мне нужно подышать воздухом.
— Когда вы хотите, господа, я к вашим услугам, — сказала баронесса, надевая плащ и закутывая голову и шею огромным фуляром, по обычаю крестьянок из окрестностей Страсбурга.
— Вот я и готова, — прибавила она, взяв в левую руку корзину.
— Извините, еще одну минуту, — продолжал Поблеско, — если, как вы говорите, Жейер, — продолжал он, обращаясь к банкиру, — сношения с городом должны быть прерваны дня через четыре, каким же образом получу я от вас сведение о семействе Гартман?
— О! Очень легко. Вам стоит только обратиться к Фёдеру.
— Вот все, что я желал узнать. Теперь, если вы хотите, мы пойдем.
— Еще одно замечание, — сказал банкир, — вам необходимо знать, что напротив этого дома пост солдат. Так как часовому нечего делать, он может вас заметить, и, пожалуй, станет подозревать, если по выходе из дома вы все трое направитесь в одну сторону. Вы понимаете, что я хочу сказать?
— Понимаем и воспользуемся советом, — смеясь, ответил барышник.
— Прощайте, благополучного успеха.
— Успеха скорее следует пожелать вам, господа, а я остаюсь здесь и не подвергаюсь никакой опасности.
Барышник простился с Жейером и вышел. Четверть часа спустя ушла, в свою очередь, баронесса.
— Теперь и мне пора, — сказал Поблеско через несколько минут, — не забудьте своего обещания, любезный Жейер.
— Положитесь на меня. Фёдер доставит вам все сведения, в которых вы будете нуждаться. До свидания и да защитит вас Бог!
— До свидания!
Он отворил дверь и вышел из дома.
— А! — сказал банкир, оставшись один. — Наконец! Только бы они не дали себя арестовать как дураки. Нет, — прибавил он через минуту, — теперь они вне опасности. Я разбит усталостью, мне хочется часа два полежать на этой кровати. Право так, — продолжал он, погасив лампу, которую дневной свет делал бесполезной, — несколько часов сна возвратят мне всю гибкость ума.
Он встал, пошел запереть дверь на запор и вернулся. Вдруг он вскрикнул с удивлением:
— Вы, вы! Вы здесь!
Он приметил графиню де Вальреаль, стоящую в дверях комнатки.
— Да, это я, господин Жейер, — ответила она с сардонической улыбкой. — Это я, я, невидимо присутствовавшая при вашем продолжительном разговоре с вашими сообщниками и слышавшая все.
— Графиня! — вскричал Жейер, поднося руку к груди.
— Ни малейшего движения, ни одной угрозы! — холодно возразила графиня, показывая ему дуло крошечного шестиствольного револьвера. — Я знала, куда шла. Мои предосторожности приняты. И если этого оружия недостаточно, чтобы вас испугать, знайте, что мне стоит закричать и мои люди, которые недалеко отсюда, поспешат ко мне на помощь.
— Графиня, можете ли вы предположить хоть секунду, что я осмелюсь угрожать женщине?
— Я не знаю, осмелитесь ли вы угрожать женщине, любезный Жейер, как вас называют ваши друзья, но знаю, что не очень давно вы обязались убить одну женщину.
Банкир побледнел и оперся рукою о стол, чтоб не упасть.
— Потрудитесь положить на этот стол передо мною, — продолжала графиня все холодно, бесстрастно и презрительно, — кинжал, спрятанный у вас под платьем, и револьвер в кармане ваших панталон.
— Графиня!
— Или вы предпочитаете, чтоб я позвала? Поверьте мне, исполните это, не колеблясь. Вы пойманы, господин Жейер.
Не произнося ни слова, банкир повиновался приказанию так добросовестно, что вместе с оружием положил на стол свой кошелек, носовой платок и бумажник, и добросовестно вывернул все карманы, чтобы доказать без сомнения, что он остается совершенно в руках своей странной противницы.
Графиня без церемоний схватила оружие и, не переставая смотреть на банкира, схватила и его бумажник.
Жейер узнал тогда, но слишком поздно, какую неосторожность сделал он, вынув в первую минуту испуга этот бумажник. Он сделал машинальное движение, чтобы взять его назад.
— Нет, — сказала графиня, приподнимая свой револьвер, — этот бумажник я пока оставляю у себя. Возьмите кошелек, который мне вовсе не нужен. Во-первых, для того чтоб вы не подумали, что это какое-нибудь колдовство с моей стороны, вам надо знать, что дом, в котором мы находимся в эту минуту, принадлежит мне уже полгода. Я приобрела его по причинам, которых не считаю надобности вам объяснять, и все вследствие этих причин отпустила жилицу, занимавшую комнату на этой площадке, и велела отворить потайную дверь, сообщающуюся с комнаткой возле этой спальни. Вы понимаете меня? Вы видите, что нет ничего необыкновенного в моем присутствии здесь. Не угодно ли вам сесть на этот стул, напротив меня, по другую сторону стола.
Банкир повиновался безропотно, не произнося ни слова. Графиня придвинула стул, села, облокотилась обеими руками о стол и пристально посмотрела на банкира.
— Теперь поговорим, любезный Жейер, — прибавила она, играя хорошеньким револьвером, который все держала в руке. — Вы понимаете, что нам надо кое-что сказать друг другу.
Банкир поклонился.
Наступило довольно продолжительное молчание, молчание, которое каждую минуту становилось все затруднительнее для банкира. Наконец, внутренне оскорбленный смешной ролью, которую он играл так давно, он решился заговорить.
— Я оставался уже слишком долго, — сказал он, — и если вы ничего не имеете сказать мне, я буду иметь честь проститься с вами, потому что мне уже давно надо быть дома.
— Оставайтесь на своем месте, — ответила графиня. — Не предупредила ли я вас, что желаю говорить с вами? — прибавила она, смотря на красивые часики, которые были у нее за поясом.
— Это правда, графиня, но ваше продолжительное молчание…
— Было необходимо. Я хотела дать время вашим трем сообщникам добраться до деревни Шильтигейм. Теперь они там, — сказала он кротким голосом, тоном слегка вкрадчивым. — А если вы попытаетесь противиться мерам, которые я заблагорассудила принять, то было бы слишком поздно решаться на это.
— К делу, графиня; куда вы ведете речь?
— Просто хорошенько дать вам понять, любезный Жейер, что я знаю вас и гнусную роль, разыгрываемую вами; что я могу погубить вас одним словом, и что если этого слова недостаточно, я нашла бы в бумажнике, который вы по своему добродушию позволили мне взять, даже более доказательств, чем нужно, для того, чтобы заставить вас осудить как изменника и шпиона.
— Хорошо, графиня. Если вы так уверены в этом, как говорите, для чего вы тотчас не донесете на меня как на изменника и шпиона?
— Кто вам говорит, что я этого не сделаю? В эту минуту я не считаю необходимым, но постарайтесь оставить Страсбург и вы увидите, что случится с вами.
— Неужели вы намерены удержать меня против моей воли в этом городе?
— Я намерена сделать еще больше. Я хочу — слышите ли вы? — хочу знать все, что вы делаете, знать даже ваши малейшие поступки; не старайтесь обманывать меня, вам это не удастся. А, господа! Вы сделали из шпионства нечто вроде учреждения, но я вам докажу, что способна бороться с вами.
— Но кто же вы, графиня? Откуда происходит ненависть ваша ко мне?
— Кто я, это моя тайна. А относительно ненависти, которую вы предполагаете во мне к вам, вы очень ошибаетесь. Я чувствую к вам глубокое презрение, единственное чувство, которое вы можете внушать честным людям. Если я вас не гублю, если не сейчас доношу на вас, то это потому, что у меня есть свои собственные причины, причины личные, для того, чтобы не делать этого; но не обманывайте себя, господин Жейер; в случае надобности ничто не остановит меня. Мы должны с вами оставаться в Страсбурге во все времена осады. Молитесь Богу, чтобы эта осада окончилась хорошо для защищаемых мною интересов, потому что вы будете отвечать за все, что случится со мною. Этот бумажник будет отослан мною в конверте с другими документами, такими же опасными для вас, коменданту. Несколько копий будет отдано другим. Если вы вздумаете велеть меня убить, как уже хотели это сделать, эти бумаги будут немедленно распечатаны и тогда мне не нужно говорить вам, что вы должны серьезно отвечать за ваше поведение. Вот я предупредила вас, — прибавила графиня, вставая, — я прибавлю только одно: будьте осторожны. Теперь я не прощаюсь с вами, мы увидимся. Мы увидимся даже гораздо ранее, чем вы предполагаете. Имеющие уши слышать да слышат!
Прежде чем банкир, опомнившись от удивления, мог сделать движение, чтобы остановить ее, она бросилась назад, исчезла в комнатке, заперла дверь и Жейер услышал звук задвигаемых запоров.
— Клянусь небом! — закричал он, ударив кулаком по столу. — Я попался как дурак. Эта женщина демон; я в ее руках. О! Я отомщу. Она провела меня, но я отплачу ей за это, если б мне пришлось лишиться жизни… и состояния, — прибавил он со вздохом.
Он встал, взял шляпу и вышел, заперев за собою дверь.
Глава XIX КАК ПОБЛЕСКО ИСПОЛНИЛ ЗАДУМАННЫЙ ПЛАН
Баронесса фон Штейнфельд и ее оба спутника вышли из Страсбурга благополучно. Несколько времени наши три действующих лица продолжали идти отдельно, делая вид, будто не знают друг друга.
Но как только скрылись из вида французских часовых, они мало-помалу сошлись и в Шильтигейм пришли уже рядом и разговаривая между собою без малейшего затруднения.
Впрочем, никто их не приметил и не приписал ни малейшей важности их движениям, тем более, что городские ворота были заперты, а отворялись только калитки на определенное число часов. Толпа людей, имевших дело в Страсбурге или в окрестностях, была значительна, и каждый, занятый своими собственными интересами, мало заботился о том, что делает его сосед.
Три путешественника вошли в дом, указанный им. Все произошло так, как было сказано. Фёдер принял их очень дружелюбно, не показывая ни малейшего любопытства и не осведомляясь, какие причины привели их к нему. Путешествие возбудило в них аппетит, они рассудили за благо следовать совету Жейера насчет завтрака.
Фёдер велел подать им завтрак, который хотя был подан наскоро, тем не менее был вкусен и изобилен. Путешественники сделали ему честь, но когда хотели расплатиться, трактирщик ответил им, что они ничего ему не должны, что все заплачено; скажем мимоходом, что эта любезность очень удивила их со стороны Жейера, который обыкновенно, как заметил, смеясь, барышник, крепко стягивал шнурки своего кошелька и не имел привычки кормить своих собак сосисками.
— Теперь, — спросил Поблеско, — должно быть, лошади приготовлены для нас?
— Приготовлены, — ответил Фёдер, — и одежда, если она необходима для вас.
— Я желала бы, если возможно, — сказала тогда баронесса, — не путешествовать верхом. Я одна, а женщина одинокая, какое бы платье ни было на ней, особенно в это время, если она не безобразна, должна подвергаться опасным встречам и оскорблениям.
— Это предвидел господин Жейер, сударыня, — ответил Фёдер, кланяясь. — На дворе стоит запряженная карета.
— Он мне об этом не говорил, — возразила баронесса с удивлением, — но это очаровательно. Как только увижу этого милого Жейера, я его поблагодарю за такое деликатное внимание. Но экипажа и лошадей для меня недостаточно, — прибавила она, — мне нужен также кучер, а, верно, в этом и есть затруднение.
— Не тревожьтесь, сударыня. Кучер, который привез сюда карету, отдан в ваше распоряжение господином Жейером. Это один из его доверенных слуг и он велел мне сказать, что вы можете совершенно положиться на этого слугу.
— Все лучше и лучше! — радостно вскричала баронесса. — Ну, друг мой, пожалуйста, велите служанке показать мне комнату, где я могла бы снять с себя эту гадкую одежду, которая тяготит меня, и надеть платье более приличное моему званию и положению.
— Ваше приказание будет исполнено.
Трактирщик позвал служанку, с которою баронесса фон Штейнфельд ушла, поклонившись своим спутникам и пожелав им благополучного пути.
Барышник без церемоний простился с Поблеско, сел на лошадь и уехал.
Поблеско, отдав трактирщику приказание приготовить для него лошадь, попросил отвести ему комнату, где он мог бы написать письмо, которое хотел поручить ему перед отъездом.
Фёдер отвел его сам в комнату первого этажа, подал все, что он спрашивал, и опять сошел вниз.
Но в большой зале он очутился лицом к лицу с одним из наших старых знакомых, Карлом Брюнером, слугою Жейера, которого мы видели уже играющим роль довольно серьезную в двух важных обстоятельствах.
Карл Брюнер сидел за столом, на котором стояла кружка пива. Он небрежно курил из огромной фарфоровой трубки, опираясь локтем о стол и поддерживая голову рукою.
Приметив трактирщика, он сделал ему знак.
— Все хорошо? — спросил он шепотом.
— Прекрасно, — ответил Фёдер.
— Она не имеет подозрения?
— Не может иметь. В первую минуту она удивилась, потом восхитилась этим вниманием, которое натурально приписывает Жейеру.
— А он не знает ничего, старый негодяй! — сказал Карл Брюнер, смеясь.
— А я все-таки нахожусь в странном положении, — ответил трактирщик, качая головой. — Знаете ли вы, приятель, что вы заставляете меня играть довольно гадкую роль.
— А я, напротив, оказываю вам громадную услугу.
— Ах! Вот это уж чересчур!
— Если дадите себе труд подумать об этом с минуту, вы в этом сознаетесь так же, как и я.
— Объяснитесь. Я очень желаю понять.
— Вы от меня требуете именно того, чего я не могу сделать. Мне запрещено давать вам малейшее объяснение словесное. Но, за недостатком его, я даю вам другое, которое должно показаться вам очень ясно. Жейер платит вам двести франков в месяц, чтобы вы служили ему и исполняли его приказания во всех темных проделках, а я от имени моего господина даю вам пятьсот для того, чтоб вы изменяли Жейеру, делая вид, будто продолжаете оказывать ему преданность. Это вдвойне выгодно для вас.
— О! О! Какие крупные слова говорите вы, господин Карл Брюнер, когда речь идет о делах, которые кажутся мне очень невинны!
— Не представляйтесь простачком. Вы не так простодушны, как кажетесь.
— Хорошо, — ответил трактирщик, — я имею от вас только обещание и жалкую сумму в сто франков, которую вы подарили мне, между тем как я имел глупость подписать бумагу, которую вы потребовали от меня. Возвратите мне эту бумагу, отправляйтесь с путешественницей, и все будет кончено. Я сам устрою дело с Жейером, так чтоб не стать перед ним в неловкое положение.
— Нет, господин Фёдер, так нельзя. С бумагой-то вы распрощаетесь, мой милый. Она уже час тому назад отправлена в Страсбург и находится теперь в верных руках. Вы получите о ней сведения только в таком случае, если не пойдете прямо. Я вас предупредил. А сто франков, полученных вами, я дал вам только в задаток.
— Вот это получше.
— Вы находите?
— Послушайте, я отец семейства и прежде всего должен думать о моих детях.
— Бедняжка! Удивительно, какое участие вы внушаете мне, — возразил Карл Брюнер, смеясь. — Вы увидите, честно ли я веду дела. Я обещал вам от имени особы, которая послала меня к вам и которой я служу посредником, платить вам пятьсот франков в месяц. Так?
— Да, но…
— Но вы еще их не видали. Не это ли хотите вы сказать?
— Почти. Признаюсь вам, что я не прочь бы увидать их. Это придало бы мне мужества.
— И сняло бы с вас всякую совестливость, не так ли, хитрец? Ну, — прибавил он, вынимая из кармана бумажник, — я хочу вам доказать, что умею делать многое.
Он подал ему два банковых билета.
— Вот не пятьсот, а две тысячи, то есть я плачу вам заранее за четыре месяца.
— Надо было сказать это сейчас, — сказал трактирщик, глаза которого сверкнули алчностью, — я рад служить вам; я честный человек и предан вам и телом, и душой.
— Хорошо, хорошо, я знаю все это. Вы человек честный, но честность добродетель очень редкая в настоящее время и за нее следует платить очень дорого, не так ли, приятель?
— Это кажется мне справедливо.
— И мне также. В доказательство вот деньги. Только вы знаете, дела должны оставаться делами.
— Что это значит?
— Что письмена самцы, а слова самки, следовательно, вы потрудитесь написать мне расписку, которую я продиктую вам. Есть у вас перо и чернила?
— Конечно; вот все, что вам нужно, на прилавке.
— Ну, пишите.
— Диктуйте.
— «Я получил от господина Карла Брюнера от имени… — оставьте пустое место, я впишу имя, — две тысячи франков банковыми билетами, за четыре месяца вперед, по пятьсот франков в месяц, как это стоит в условии, подписанном мною сегодня через посредство вышеупомянутого Карла Брюнера с, — опять пустое место, — для того, чтобы передавать господину, — опять пустое место, — все сведения, которые я узнаю от господина Жейера, страсбургского банкира, живущего на площади Брогли, все приказания, какие он будет адресовать мне, и бумаги, какие бы то ни было, которые он мне перешлет. Этим условием я обязуюсь, кроме того, повиноваться приказаниям, которые мне будет давать господин, — опять пустое место, — добросовестно и без малейшей нерешимости. В силу чего даю расписку сего девятого августа тысяча восемьсот семидесятого года, Фюлъжанс Фёдер, трактирщик в Шильтигейме».
— Вот и кончено, — сказал Карл Брюнер, взяв бумагу, которую сложил и положил в карман.
— Но скажите, пожалуйста, я этой распиской связан поболее чем условием, которое я подписал утром.
— Это правда, но вот две тысячи франков, — и он отдал банковые билеты, которые трактирщик спрятал со вздохом облегчения. — Кстати, господин Фёдер, вероятно, человек, который пишет наверху, поручил вам отослать его письмо. Отдайте его мне, я возьму это на себя.
— Но ведь вы едете не в Страсбург.
— Это не значит ничего. Не забудьте отдать его мне, как только получите.
— Хорошо, хорошо; будьте спокойны, отдам.
Карл Брюнер осушил свою кружку и вышел на двор.
«Что мне за дело, — сказал себе трактирщик, оставшись один. — Я не жалею, что дела пошли таким образом. Я кладу в карман с двух сторон. В конце концов вся выгода на моей стороне; это очень хорошо растолковал мне этот бедовый человек. Притом дела Жейера кажутся мне очень подозрительны и, может быть, мне пришлось бы плохо. Пусть лучше будет так».
В это минуту Поблеско вошел в залу.
— Готова моя лошадь? — спросил он, поставив чемодан на стол и закутываясь в плащ.
— Готова, она вас ждет.
— Велите ее привести к дверям. Возьмите этот чемодан; пусть его привяжут к седлу. Кстати, вот письмо, которое сию минуту надо послать с нарочным к Жейеру.
— Оно отправится в одно время с вами.
Пять минут спустя Поблеско скакал во весь опор, а письмо было в руках Карла Брюнера, а от него почти тотчас вместе с распискою трактирщика перешло в руки какого-то крестьянина, который ждал на дороге, сидя на тумбе, и немедленно отправился в Страсбург.
Через десять минут баронесса фон Штейнфельд села в карету и уехала. Кучером у нее был Карл Брюннер.
— Вот отделался я, — сказал трактирщик, потирая себе руки, — все уехали. Бог с ними! Теперь мне стоит только ждать, что будет.
Поблеско ехал на прекрасной лошади, на которой, как он скоро приметил, ему было легко сделать десять и даже пятнадцать лье зараз.
Он поехал по направлению к Муцигу, но несколько раз останавливался на дороге в деревнях, где оставался довольно долго, так что в Дубовую Ограду, местожительство братьев Штаадт, приехал только двенадцатого числа к шести часам вечера.
Так как, разумеется, Поблеско знал пароль и имел надлежащий знак, он был очень хорошо принят семейством пиэтистов.
Не теряя времени, он сообщил господам Штаадт причины своего посещения и успел довольно легко сойтись с ними и положить основания полного договора.
Когда этот первый и самый важный пункт был решен к удовольствию обеих сторон, Поблеско заговорил о другом предмете, лично касавшемся его и который был дорог его сердцу и причиною его посещения.
Против своего ожидания, ему не стоило большого труда преодолеть затруднения со стороны братьев Штаадт, затруднения совершенно материальные, касавшиеся только суммы за содержание девицы Гартман и, пока она останется у них в доме, за старательный надзор, чтобы не допускать ее ни до каких сношений ни с кем.
Эти затруднения были быстро устранены по милости щедрости, с какою Поблеско решил этот вопрос, и таким образом вопрос политический и вопрос частный были решены ко всеобщему удовольствию.
Разумеется, второй вопрос можно было исполнить только когда особе, составлявшей предмет условия, удалось бы оставить Страсбург и если б Поблеско успел привезти ее в Дубовую Ограду.
Поблеско находился в этом доме только несколько часов, когда та самая особа, которую ему так важно было захватить, встретилась с ним там таким неожиданным образом.
Молодой человек, не зная, кто приезжие, и боясь, без сомнения, встретиться со знакомыми, в первую минуту, как мы сказали, стал позади, так чтобы иметь возможность рассмотреть приезжих и не быть узнанным ими; но его расчет был расстроен.
Капитан с первого же взгляда узнал о его присутствии в этом собрании, хотя Поблеско принял предосторожность надеть фальшивые бакенбарды и усы, предосторожность достаточная с теми, которые имели с ним сношения мимолетные, но совершенно бесполезная с членами семейства Гартман, которое уже более четырех лет имело с ним сношения ежедневные, тем более, что он не вздумал сделать смуглее цвет лица и переменить цвет волос.
Обе дамы также узнали Поблеско, и не стараясь объяснить себе его присутствие в этом доме, угадали, так сказать, по инстинкту, что в этом присутствии скрывалась тайна и что они должны во что бы то ни стало стараться не открыть своего инкогнито.
— Господа, — сказал капитан по-немецки, обращаясь к хозяевам дома, — прежде всего позвольте мне сказать вам, какие причины заставляют меня просить у вас временного убежища в вашем гостеприимном доме. Меня зовут Розенберг.
— Вы не родственник ли Розенбергов страсбургских? — спросил старший из трех братьев, Варнава Штаадт, тот, который принял путешественников по приезде.
— Я имею эту честь. Обе дамы, сопровождающие меня, моя жена и моя мать. Вы знаете, без сомнения, что наша фамилия происхождением из Бадена, но вступила в сословие французских граждан несколько лет тому назад.
— Мы имеем очень мало сношений с посторонними, — ответил Варнава Штаадт, — мы живем между собой. Мы удаляемся насколько возможно от разврата века; однако, так как фамилия Розенберг считается в числе избранных, то мы имеем к ней большое уважение, мы всегда имели с нею сношения, как вам, без сомнения, небезызвестно. Мы даже могли в некоторых обстоятельствах благодарить ее за доброжелательное вмешательство в нашу пользу. Поэтому нам известно то, что вы удостаиваете нам сообщать.
— Как же это, — спросил Илия Штаадт, второй брат, — что несмотря на ваше вступление в сословие французских граждан, французские власти принудили вас оставить город?
— Главная причина этой меры недоброжелательство наших соседей. Предположили, будто мы находимся в сношениях с немецкими властями, несмотря на войну. Толпа бродяг напала на наш дом, и для избежания больших несчастий, мы были принуждены выехать из Страсбурга под прикрытием ночи и в придуманном наскоро переодеванье. Некоторые из нашего семейства поехали по дороге в Гагенау. А моя жена, моя мать и я, имея дела в Меце, имеем намерение отправиться туда, где поселились наши родственники, и где мы надеемся не только найти убежище, но еще служить нашему делу.
— Вы можете достать у нас все для вас необходимое, — сказал Варнава Штаадт, кланяясь.
— А если вы желаете рекомендательных писем в Мец, — прибавил Поблеско, подходя, — я мог бы дать вам их к людям, преданным святому делу, защищаемому нами.
Произнося эти доброжелательные слова, молодой человек подошел к капитану и стал рассматривать его с серьезным вниманием.
Тот почтительно поклонился.
— Благодарю вас, — ответил он — но я боюсь, что не могу воспользоваться вашим обязательным предложением, так как нахожусь в необходимости оставить этот дом на рассвете. Я спешу избавить от всякой опасности мою жену и мать.
— Это не мешает. Я напишу письма в ночь и сам отдам их вам до вашего отъезда.
— Принимаю с признательностью.
— Уже поздно, — сказал Даниил Штаадт, — а вы должны чувствовать необходимость в отдыхе.
— Действительно, мы разбиты усталостью. Я очень буду вам признателен, если вы укажете комнаты, назначенные нам.
— Две комнаты, сообщающиеся одна с другою, находятся в вашем распоряжении, и вы найдете в этих комнатах кое-что закусить. Не угодно ли пожаловать за мною.
Капитан поклонился и, простившись с присутствующими, ушел с обеими дамами за Даниилом Штаадтом.
— Что вы думаете о наших новых гостях, господа? — спросил Поблеско, когда путешественники ушли.
— Они кажутся мне людьми весьма порядочными, — ответил Илия Штаадт, — хотя довольно трудно судить об этом по лохмотьям, покрывающим их.
— Это братья гонимые, — нравоучительно прибавил Варнава Штаадт. — В таковом качестве мы обязаны принять их, не обращая внимания на их одежду.
— Ну, господа, — ответил Поблеско, — я вашего мнения не разделяю. Не знаю почему, но я нахожу что-то подозрительное в физиономии этих трех лиц. В них есть что-то таинственное, внушающее мне беспокойство.
— Вы подозреваете, что это изменники?
— Не смею утверждать, потому что мои подозрения не опираются ни на какие серьезные данные. Но вид их внушил мне волнение, которого я не могу определить; это волнение невольное, которое испытываешь в присутствии врага. Это впечатление чисто нравственное; однако, повторяю, я не знаю, почему эти люди внушают мне инстинктивное недоверие, которого я не объясняю себе.
— Если так, ничего не может быть легче, как удостовериться.
— Я вам замечу, однако, — сказал Варнава Штаадт, — что этот Розенберг сказал пароль и показал знак. А я не вижу…
— Повторяю вам, во всем этом есть что-то непонятное для меня.
— Как знаете. Что же нам делать?
— Пока ничего. Слишком большая поспешность может быть вредна. Не будем показывать к ним ни малейшего недоверия. Пусть они уедут отсюда. Если это шпионы, как я предполагаю, они сочтут себя спасенными, выехав отсюда. Предоставьте мне это дело. Обещаю вам, что мы скоро разузнаем это.
— Хорошо. Действуйте как знаете. Только я должен вас предупредить, что их привел сюда человек, давно нам известный, которого мы всегда находили преданным нашим интересам, — продолжал Варнава Штаадт, — и я не понимаю, как это может быть…
— Не спросить ли нам этого человека? — с живостью спросил Даниил.
— Это было бы ошибкой, — ответил Поблеско. — Если этот человек вам изменяет, вы ничего не добьетесь от него. Если он верен, ваше недоверие оскорбит его и, следовательно, возбудит нерасположение к вам. Нет. Надо оставить все как я вам говорю. Завтра, тотчас после их отъезда, мы подумаем и я отдам отчет в этом деле, будьте уверены в том.
— Действуйте как знаете. И, действительно, это может быть вернее.
Пока происходили эти рассуждения, три путешественника ушли в комнаты, назначенные им.
Разменявшись шепотом несколькими словами, сказанными на ухо, обе дамы бросились, не раздеваясь, на кровать, где скоро и заснули, изнуренные усталостью.
Мишель, расстелив постель, на которую он должен был лечь, чтобы сделать вид, будто он лежал на ней, запер дверь, два раза повернув ключ в замке, и сел на стул перед дверью, погасив огонь и приготовясь не спать до рассвета.
Как только стекла поблекли и в комнату прорвались бледные лучи, капитан пошел разбудить мать и сестру, говоря им шепотом:
— Пора ехать.
В две-три минуты дамы были уже готовы. Капитан просил их наблюдать осторожность и пошел отворить дверь, в которую стучались.
Отворив дверь, он узнал контрабандиста вместе с привратником.
— Повозка запряжена, — сказал Оборотень, — и мы поедем, когда вам будет угодно.
— Сейчас, — ответил капитан и, обратившись к привратнику, спросил: — Могу ли проститься перед отъездом с хозяевами?
— Они почивают, — ответил привратник, кланяясь. — Они поручили мне пожелать вам благополучного пути.
Приметив, что закуска, приготовленная вечером на, столе, осталась нетронутой, привратник сказал:
— Не угодно ли вам закусить чего-нибудь перед отъездом?
— Благодарю вас, — ответил капитан, выходя из комнаты с дамами. — Еще очень рано и нам не хочется есть.
Привратник не настаивал и проводил их во двор.
Погода была великолепная; ночная роса совершенно расчистила небо. Солнце сияло на небесной синеве; птицы пели под листвой.
Дамы сели в повозку, капитан простился с привратником и сунул ему в руку две пятифранковые монеты, которые тот, хотя они не были проткнуты никакой дырочкой, принял с улыбкой признательности.
Молодой человек, видя, что ему ничего не говорят о рекомендательных письмах, обещанных ему Поблеско, не заблагорассудил спросить о них, и маленький караван пустился в путь.
Осел весело шел, потряхивая ушами, с правой и левой стороны его выступали большими шагами капитан и Оборотень, а Зидор и Том бежали по дороге.
Скоро дом исчез из вида и путешественники очутились в лесу.
— Кстати, — сказал капитан через полчаса, — а о Паризьене-то мы и забыли? Он, вероятно, заснул под деревом и не видел, как мы уехали.
— Видел, капитан, — ответил Оборотень, — я это знаю наверное; я, уезжая, сделал знак, на который он отвечал.
— Каким же образом он нас не догнал?
— Почему знать! Он, может быть, приметил что-нибудь подозрительное.
— Подозрительное! Что вы хотите сказать?
— Достаточно вам знать, капитан, что жители дома, из которого мы выехали, совсем не спали. Они просто не захотели проститься с вами. Или я ошибаюсь, или они замышляют какое-нибудь плутовство.
— Вы подозреваете, что они имеют дурные намерения против нас?
— Именно, капитан. Я не доверяю людям, которые, что называется, ни рыба ни мясо. Неизвестно, на какой ноге с ними плясать. Если Паризьен не пришел, то поверьте, что мы должны ожидать какой-нибудь штуки с их стороны.
— Черт побери! Вы меня тревожите, Оборотень, друг мой!
— Я и не имею намерения вас успокаивать, капитан. Я просто хочу заставить вас остерегаться. Лучше возьмемте-ка наши ружья. Неизвестно, что может случиться, а мы находимся в таких обстоятельствах, когда предосторожностями пренебрегать нельзя.
— Вы правы, — ответил капитан. — Во всяком случае эта предосторожность не может нам повредить.
Мишель подошел к повозке, передал Оборотню его ружье и взял свое.
— Что там такое? — спросила госпожа Гартман с беспокойством.
— Решительно ничего, — ответил Мишель, — но так как мы находимся в такой стране, где на каждом шагу можем встретить врага, мы берем оружие. Успокойтесь, милая матушка, и ты также, сестрица, — продолжал он, — оставайтесь спокойно в повозке, а в особенности не шевелитесь, что ни случилось бы.
Он старательно закрыл повозку насмоленной парусиной, занял место в авангарде и зарядил свое шаспо.
В ту минуту, когда путешественники добрались до перекрестка, откуда шло несколько тропинок, они услыхали позади себя громкие крики и увидали трех человек, скакавших к ним и показывавших что-то знаками.
— Чего хотят эти люди? — спросил капитан.
— Не знаю, но мы скоро это узнаем. Отдайте ваше ружье моему мальчугану.
— Это для чего?
— Для того, чтобы не показывать враждебного намерения. Возьми, Зидор, оба эти ружья, спрячься, мальчуган, с левой стороны повозки, чтобы тебя не видели. Когда я брошу палку, подай нам оружие. Понял?
— Понял, батюшка.
— Сюда, Том!
Собака пошла по пятам контрабандиста.
Между тем незнакомцы быстро приближались. Их было четверо, все верхом; но так как, вероятно, они успели достать только три лошади, то третий всадник вез своего товарища на своей лошади.
Они скоро настолько приблизились, что их можно было узнать. Первый был Поблеско, второй привратник, а двое других, вероятно, слуги.
Все были вооружены карабинами и имели пистолеты в чушках.
— Стой! — закричал капитан, когда они очутились на расстоянии половины ружейного выстрела. — Прежде чем вы подъедете ближе, мы хотим знать, кто вы и с кем мы имеем дело, с друзьями или врагами. Пусть приблизится только один из вас.
— Хорошо! — ответил всадник, ехавший впереди и который был не кто иной, как Поблеско.
Они разменялись несколькими словами со своими спутниками, все спешились и привязали лошадей к деревьям.
Капитан заметил, что Поблеско и его товарищи, сходя с лошадей, вынули пистолеты из чушек и заткнули их за пояс.
Три человека остались посреди дороги, а Поблеско подошел один.
— Разве вы меня не узнали? — сказал он, остановившись в десяти шагах от повозки. — Это я предлагал вам рекомендательные письма в Мец.
— Я очень хорошо узнал вас, — ответил капитан, — но не видав вас перед отъездом, я предположил, что вы забыли о вашем обещании.
— Я никогда ничего не забываю, милостивый государь. Я эти письма вам привез.
— Сознайтесь сами, что это немножко поздно.
— Я подумал, что, может быть, следует собрать о вас некоторые сведения, прежде чем отдавать вам эти письма. Наше свидание было очень коротко, а разговор очень поверхностен в эту ночь.
— Надо было подумать об этом. Притом не я просил у вас этих писем. Во всяком случае не было никакой необходимости гнаться за мною с такой многочисленной и вооруженной свитой.
— Оттого, что мне пришли некоторые подозрения, — сказал Поблеско с насмешкой, — которые я не прочь разъяснить, а так как я полагаю, что вы отказались бы мне дать их добровольно, то я взял с собою людей, чтоб добиться их от вас.
— Силою, не так ли?
— Вы сами это сказали. Угодно вам исполнить мое желание?
— На вопрос, предложенный таким образом, у меня есть только один ответ: я не согласен.
— Берегитесь, милостивый государь, подумайте, прежде чем ответить. Вас только двое, вы плохо вооружены, как мне кажется, между тем как нас четверо, как вы видите.
— Полно, полно, — сказал Оборотень, качая своей огромной головой, — я вижу, что дело идет на расправу, — и он бросил свою палку.
В ту же минуту у них обоих очутились в руках шаспо.
— Вы ошибаетесь, — ответил капитан, прицеливаясь в Поблеско, — мы вооружены, вооружены даже очень хорошо, как вы видите в свою очередь. Берегитесь же; при малейшем движении я вас убью наповал.
Поблеско остался неподвижен, бледен, но тверд. Очевидно, он не ожидал такого резкого ответа.
— Вы забываете моих спутников, — сказал он.
— Посмотрите-ка на ваших спутников, — сказал Оборотень.
Поблеско машинально повернул голову.
— Том! — закричал Оборотень. — Подхвати-ка этого господина, старикашка!
Собака бросилась как тигр на молодого человека, схватила его за горло и сбила с ног, прежде чем он успел увидать это нападение, которого, конечно, вовсе не ожидал.
— Довольно! — закричал контрабандист. — Не сжимай так крепко, мой бриллиантик, ты можешь задушить, а это было бы жаль.
В одну минуту Поблеско был обезоружен и поставлен в невозможность сделать движение.
А его три спутника также находились в положении критическом.
Как мы сказали, они стали посреди дороги и разговаривали между собою шепотом, внимательно наблюдая за движениями своего начальника и путешественников.
Это-то внимание и погубило их.
Пока они смотрели вперед, они не видали Паризьена, который украдкой вышел из леса и подошел к ним не будучи ни видим, ни подозреваем, поднял ружье и начал угощать их по спине, по голове и по плечам градом ударов, от которых они без чувств повалились на сырую землю.
— Э! — сказал Паризьен. — Теперь Оборотень не скажет, что я не годен ни к чему; надеюсь, что я славно отделал! — вскричал он с самодовольствием.
Не теряя ни минуты, он отобрал у всех трех их оружие, крепко связал их веревками, которые нашел в их карманах и, вероятно, принесенных для другого употребления.
Исполнив эту обязанность, он сел философически на край дороги, чтоб не терять своих пленников из виду, и закурил трубку, бормоча сквозь зубы:
— Подождем теперь приказаний капитана.
Глава XX КАТАСТРОФА
Между тем Поблеско сделалось очень неловко, пока Паризьен так обращался с его свитой.
Том сжимал его все больше и больше, и если б Оборотень не подоспел вовремя, молодой человек был бы задавлен.
Горло Поблеско до того было стиснуто, что ему потребовалось несколько минут для того, чтоб прийти в себя.
— Вы разбойники, злодеи! — кричал он, когда наконец успел произнести несколько слов.
— Разбойники! Вам угодно смеяться, милостивый государь, — ответил Оборотень насмешливым голосом, — если мы отнимем у вас оружие и бумаги, то за это оставим вам ваш кошелек. Верьте мне, вы слабее нас, покоритесь добровольно.
— Негодяи! — проворчал с бешенством Поблеско.
— Негодяй и разбойник только вы, милостивый государь, — сказал тогда капитан сухим голосом с выражением неимоверного презрения. — Разве мы на вас напали? А теперь, когда вы доведены до невозможности и бессилия вредить нам, извините-ка, если можете, ваше поведение. Я готов вас выслушать.
— Если вы тот, кем я вас предполагаю, мое поведение не имеет надобности в извинении. Вы прекрасно понимаете, какая причина заставляет действовать меня.
— Я не знаю, на что вы намекаете. Я отвечу вам только, что бесчестный поступок никогда не может быть оправдан.
— Может быть. Во всяком случае я сделаю вам вопросв свою очередь.
— Какой?
— Осмелитесь ли вы утверждать, что вы меня не узнали в эту ночь в гостиной Штаадта? Я видел, как вы вздрогнули, когда ваш взгляд устремился на меня.
— А если бы и так, что вы заключаете из этого?
— Я заключаю то, что вы меня узнали, знаете мое имя, знаете кто я, и что вы обманули, назвав себя Розенбергом и утверждая, что обе дамы, сопровождающие вас, ваша жена и мать.
— Если меня зовут не Розенберг, как вы уверяете, то как же? Я жду, чтоб вы мне сказали это.
— Ваш способ отвечать другим вопросом на мой вопрос нисколько не удивляет меня. Это доказывает мне, напротив, что я не ошибся и что вы именно тот, кого я узнал.
— Как вам угодно. Поле предположений обширно. Ваша воля блуждать по нему. Только позвольте мне не следовать за вами. Положим, что я ношу сегодня другое имя, а не то, которое мне принадлежит, то я полагаю, не вам должен я признаваться в этом. Между нами не существует дружелюбной связи, такой короткой, которая давала бы вам право на такое доверие с моей стороны.
— Но ведь вы знаете мое имя?
— Да, это правда, я знаю ваше имя. Я знаю даже, кто вы, или, по крайней мере, за кого вы себя выдаете, потому что в вас все мрачно и таинственно. Но с Божией помощью нам удастся когда-нибудь разъяснить все эти потемки, за которыми вам угодно скрывать вашу личность.
— Послушайте, после такого признания один из нас лишний на земле. Я в ваших руках, убейте меня, потому что, клянусь вам, если вы выпустите меня, я вас убью.
— Как вам угодно. Вы, без сомнения, учились в хорошей школе, и если б я позволил вам, вы применили бы на практике несколько минут тому назад уроки убийств, полученные вами. А мне, признаюсь вам, неизвестна наука убивать безоружного человека. Я мог бы, пожалуй, согласиться на дуэль, но я имею правило скрещивать шпаги или размениваться пистолетными пулями только с честным человеком. Теперь, поверьте мне, разойдемтесь; только не попадайтесь больше в мои руки.
— О, проклятый человек! Я отомщу.
Капитан пожал плечами и не отвечал.
— Это решено, вы отомстите… если можете, — сказал с насмешкой Оборотень. — Ну, что нам делать с этим красавчиком и его товарищами? — продолжал он, обращаясь к капитану.
Мишель сказал ему шепотом несколько слов.
— Хорошо придумано, — сказал Оборотень, смеясь. — Пошлите-ка ко мне моего мальчугана.
Мишель удалился медленными шагами и стал возле повозки, которая отъехала на несколько шагов.
— Поди сюда, Зидор, — сказал Оборотень. Наклонившись к его уху, он шепотом отдал ему приказание.
Мальчик побежал к Паризьену.
— Теперь мы остались вдвоем, мой красавчик, — обратился контрабандист к своему пленнику и вытащил из-под платья сверток веревок.
— Что намерены вы делать?
— Повиноваться полученным мною приказаниям, вот и все. Это простая формальность, чтобы не допустить вас сыграть с нами слишком скоро одну из тех скверных штук, которую вы, без сомнения, замышляете. Вы видите, что я деликатно поступаю с вами. Я мог бы вас обыскать, но не сделал этого, поэтому послушайтесь меня и будьте милы.
Поблеско вздрогнул; он подумал о своем поясе. Улыбка ненависти мелькнула на его губах, побледневших от гнева, и он покорился.
— Делайте, что хотите, — сказал он.
— Я так и намерен, — ответил тот все с насмешкой. Тогда он начал связывать своего пленника, и когда удостоверился, что ему будет совершенно невозможно освободиться от своих уз, завернул ему голову и лицо носовым платком, а потом засунул ему в рот вместо кляпа галстук, который снял с него, когда освобождал от зубов Тома.
— Вот и кончено, — сказал контрабандист с видом удовольствия.
Тогда он взвалил Поблеско на плечи и пошел к Паризьену, который, со своей стороны, делал то же самое со своими пленниками.
— Э, э! Мастер же вы, приятель; славно вы исполнили свое дело, — сказал контрабандист, восхищаясь тем, как Паризьен связал бедняг, которых прежде отделал так славно.
— Я не умею говорить по-немецки, — ответил Паризьен угрюмым тоном, — но я был в Африке в плену у арабов, они меня научили делать петли и узлы. Вы видите, что это может пригодиться при случае. Ничего не может сравниться с опытностью, — прибавил он философически. — Помогите-ка мне теперь.
Они перенесли своих пленников в лес, осторожно положили на землю довольно далеко друг от друга, по два с каждой стороны.
— Почему бы не положить их всех вместе? — спросил Паризьен, когда эта предосторожность была принята.
— Какой же ты дурак при всем твоем уме, Паризьен, друг мой, — сказал, смеясь, Оборотень, — разбросав таким образом наших пленников, мы принуждаем тех, которые пойдут отыскивать их, потерять гораздо больше времени, а этим потерянным временем мы воспользуемся, чтобы улепетнуть. Понимаешь ли теперь?
— Правда, я более ничего, как дуралей, мне это в голову не пришло. Мысль хорошая. Я воспользуюсь ею при случае. А с лошадьми-то что мы сделаем? Звери хорошие; жаль оставлять их здесь.
— На этот раз, Паризьен, мой амурчик, ты прав. Мы переменим нашу инфантерию на кавалерию; для нас это будет выгодно.
— Ну и прекрасно. А мне уже начинало надоедать идти как бродяге.
Лошади были отвязаны и приведены к повозке. Все трое сели на седла и поехали.
Дамы присутствовали невидимо при всем происходившем. Они сначала было испугались, но почти тотчас успокоились и были расположены теперь весело продолжать свой путь.
— Подъезжай сюда, Паризьен, — сказал Мишель через минуту.
— К вашим услугам, капитан.
— Ты знаешь, что я очень доволен тобою. Ты очень кстати нам помог.
— Это вы, верно, говорите об ударах-то ружьем, капитан. Я уверен, что у них болит поясница, — ответил он, смеясь и крутя усы.
— Расскажи нам, как ты успел так кстати нам помочь. Не будь славной собаки Оборотня, нам пришлось бы довольно плохо, и ты явился как раз в пору.
— Вот вам в двух словах как было дело, капитан. Я с высоты моего насеста увидал, как вы поехали, а Оборотень сделал мне знак, на который я ему ответил. Не так ли, Оборотень?
— Я уже сказал это капитану, который тревожился о тебе, и прибавил: не беспокойтесь, если Паризьен нейдет, то это, верно, потому, что у него есть на это причины.
— Ах! Да, и причины-то важные, капитан. Представьте себе, что в ту минуту, как вы выходили из дома, не подозревая ничего, я с высоты своего насеста видел все, что происходило внутри, и приметил вдруг трех человек, которые выводили лошадей оседланных. Потом в ту же минуту явился господин, тот самый, которого собака так хорошо отделала, и отдал приказания тихим голосом. Тогда молодцы сели на седла и стали около калитки, готовые, вероятно, ехать по первому сигналу. Натурально, эта проделка показалась мне подозрительной. Тогда, вместо того, чтобы сойти, я скрылся еще с большим старанием, решившись дождаться конца этой проделки. Я ждал недолго, не более четверти часа; потом высокий блондин сделал знак человеку, который стоял возле калитки. Тот отворил ее, и мои молодчики поскакали как будто их мчал черт. Надо думать, что у них лошадей было недостаточно, потому что один сидел позади другого на одной лошади.
— Это правда, — сказал капитан, — их было четверо, а у них было три лошади.
— Как только они исчезли на повороте дороги, я посмотрел на двор, чтоб удостовериться, все ли в порядке, и видя, что никто больше не шевелится, я поспешно спустился с дерева и бросился в погоню за ними. К счастью, в одном месте они остановились довольно долго и советовались между собою, вероятно, приготовляя план нападения. Это дало мне время догнать их, и так как ноги у меня довольно проворные, я не потерял их из виду. Когда увидал, что они остановились и сошли с лошадей, я тихо подошел, чтобы наблюдать за ними. Потом, когда улучил минуту, накинулся на них и порядком отвалял им бока.
— В этом надо отдать тебе справедливость, — ответил, смеясь, капитан, — ты исполнил это с жаром.
— Вы знаете, капитан, в этих делах нельзя давать поблажки. Если они недовольны, так стало быть на них угодить трудно.
Разговор продолжался таким образом целый день.
К вечеру путешественники, ехавшие по дороге, указываемой Оборотнем, рассудили, что между ними и врагами их расстояние уже довольно значительное, так что им нечего опасаться погони. Поэтому они направились к дому довольно красивой наружности, который приметили довольно недалеко перед собою и в котором намеревались просить гостеприимства.
— Где мы? — спросил капитан своего проводника.
— Капитан, — ответил Оборотень, — мы выехали из Нижнерейнского департамента и въезжаем в департамент Мерта.
— Как! Мы уже так далеко от Страсбурга?
— Извольте обратить внимание на то, капитан, что мы едем уже три дня.
— Это правда, я совсем об этом забыл. Вы знаете эти места?
— Мы уже не в Эльзасе, а в Лотарингии, но я оба края знаю хорошо. Слава Богу, давно разъезжаю я по ним!
— Не близко ли мы от какого-нибудь города?
— Очень близко, капитан; мы милях в пяти от Саарбурга. А в эту минуту находимся в полулье от большой и красивой деревни Абрешвилер. Вон посмотрите-ка направо; на верху горы видите этот дом? Я вас веду туда.
— Это место прекрасно выбрано для защиты от неожиданного нападения.
— Это ферма называется «Высокий Солдат».
— Какое странное название!
— Но очень приличное, капитан. Об этой ферме есть легенда. Во время первой республики пруссаки получили тут трепку, которую должны еще помнить. Хозяин этой фермы был великан и с помощью своих восьми работников изрубил косами отряд более чем в пятьдесят солдат, которые хотели ограбить его ферму. Убив их, он бросил их в колодезь, где они находятся и по сие время.
— Пусть там остаются себе на здоровье, — сказал Мишель, — а что сделалось с великаном?
— Кажется, это его разохотило. Он отправился волонтером с Пишегрю. О нем ничего не было слышно неизвестно сколько лет, потом в один прекрасный день он появился с деревянной ногой и с одним глазом. Он сделался генералом. Хорошее было времечко! Потребно было только мужество и уменье драться хорошо.
— Да, — пробормотал Мишель про себя, — но тогда были хорошие начальники, тогда защищали святое дело. А теперь не то. Далее? — прибавил он вслух.
— Бедный старик сказал, что хочет умереть на своей ферме, и сдержал слово. Он дожил до 1849, рассказывая нам о сражениях республики, которые называл сражениями гигантов. Смешно, что этот старый солдат никогда не говорил об империи. Впрочем, он умер вовремя, чтобы не видеть падения республики, столь драгоценной его сердцу. На похоронах его были тысячи людей, пришли за десять лье, даже из Фальсбурга и Нанси. Большие почести оказали ему. А посмотрите-ка, что за прихоть! Он захотел, чтобы его похоронили возле того колодезя, куда он бросил пруссаков. Он уверял, что будет караулить их. Вы увидите его памятник; ничего не может быть великолепнее.
— Да, да, — сказал молодой человек с энтузиазмом, — Эльзас и Лотарингия настоящие французские земли; во время первой республики они производили героев для защиты отечества и произведут опять. Что значит несколько поражений и неудач? Пусть положат на весы победы и поражения французов и увидят, что если мы бывали иногда побеждены, то всегда поднимались сильнее и чаще бывали победителями. Но ускорим шаги. Солнце закатывается, а мне хотелось бы поскорее доехать до этой фермы.
— Она вся принадлежит одной семье. Вы увидите ее. Это сильные молодцы, лихие французы, дровосеки, которые одним ударом топора срубают десятилетний дуб.
Тропинка становилась круче, и ночь совсем настала, когда путешественники доехали до высокой площадки, на которой находилась ферма.
К счастью, ночь была прекрасная и луна светила так ясно, как день.
На ферме их приметили давно и вышли к ним навстречу.
Оборотень, без сомнения, знал жителей, потому что был принят с большими знаками радости и дружбы; по милости его путешественники, которых он привел, были прекрасно приняты.
Дамы и Мишель ушли в комнаты, предложенные им, а так как это была уже Лотарингия, а не Эльзас, и, следовательно, семейству Гартмана нечего было опасаться, дамы и молодой человек поспешили надеть платье простое, но более приличное их положению, Мишель с радостью снял свою фальшивую бороду, а мать его и сестра свои парики. Когда наши три действующих лица вошли в кухню, где им накрыли на стол вместе с жителями фермы, они произвели на своих хозяев впечатление гораздо благоприятнее того, которое сделали сначала.
Мишель надел охотничий костюм, позволявший носить оружие, не привлекая внимания.
Когда Паризьен приметил своего капитана, он ударил себя кулаком, так что чуть не выбил себе зубы.
— Ей-богу! — вскричал он. — Когда я подумаю, что мне не пришло в голову поприодеться немножко! Подождите-ка, я скоро явлюсь.
Он выбежал и никто не обратил на него внимания, но через десять минут он появился в своем мундире, подтянутый так, как будто приготовился на смотр.
Если Паризьен намеревался произвести эффект, то он остался доволен. Он произвел эффект изумительный. Приметив костюм зуава, столь популярный во всех наших восточных провинциях, жители фермы вскрикнули с энтузиазмом. Все наперерыв пожимали ему руку.
— Оставьте меня в покое, — сказал он. — Не занимайтесь мною, а посмотрите-ка на этого молодого красавца. Это мой капитан; храбрец, знаете, хотя вид у него такой невинный. Он не хотел надеть мундир, потому что мы здесь одинокие, но он как ни есть храбрец.
Хозяин фермы, человек лет шестидесяти, с седыми волосами, по-видимому, сохранивший всю бодрость и всю крепость молодости, подошел к молодому человеку и чистосердечно протянул ему руку.
— Добро пожаловать на ферму «Высокий Солдат»; вы здесь у себя.
— Я знаю историю вашей фермы, — любезно сказал капитан, — и действительно, среди вас я считаю себя как между родными.
Сели за стол. Фермер посадил капитана по правую свою руку, возле себя и своей жены, а Паризьена по левую, и ужин начался с тем дружелюбием, которое теперь так редко встречается на фермах наших центральных департаментов.
По окончании ужина жена и дочери фермера увели к себе госпожу Гартман и ее дочь.
В одиннадцать часов вечера все спали на ферме.
Капитан имел намерение отдохнуть дня два на ферме «Высокий Солдат», не только из признательности к фермеру за его гостеприимный прием, но в особенности для матери и сестры, которые, не привыкнув к лишениям, а особенно к таким тягостным путешествиям, буквально выбились из сил.
Но так как он должен был выполнить чрезвычайно важное поручение, а время не терпело, с другой стороны, неприятель мог быть ближе, чем предполагали, Мишель решился не отлагать своего путешествия более чем на два дня, время решительно необходимое, думал он, для того, чтобы мать и сестра собрались с силами и могли следовать за ним.
Только, так как нельзя было пренебрегать никакими предосторожностями и следить за событиями, капитан решился послать с утра Оборотня за сведениями.
Как только солнце взошло, капитан вышел из своей комнаты на двор, где нашел Паризьена и Оборотня, спорящих по обыкновению, то есть рассуждающих, должны бы мы сказать, потому что эти два человека имели искреннюю привязанность друг к другу и ссоры не имели неприятных последствий.
— Что у вас тут? — спросил Мишель, неожиданно появляясь перед ними.
— Да вот, капитан, с позволения вашего сказать, — ответил Паризьен, — этот скот Оборотень становится все глупее; он надумал теперь критиковать третий зуавский полк; говорит, что это хорошие, очень хорошие солдаты, чтобы драться с арабами, но что они не умеют справляться с острыми касками; а я отвечаю ему, что так как разговор должен происходить на штыках, то нет никакой надобности знать по-немецки. Больше ничего, капитан.
— Вы оба правы, — ответил Мишель, улыбаясь. — Только твой собеседник больше прав.
— Почему же так, капитан?
— По той простой причине, что ты старый солдат, а он сравнительно с тобою рекрут, не понимающий, как надо драться с арабами. Вместо того, чтобы спорить, ты должен бы объяснить ему, как дела-то происходят в Африке; я уверен, что он сознался бы в своей ошибке.
— Вот опять это не пришло мне в голову. Решительно, я ржавею, капитан. Мне нужно увидеть мой полк. Мне недостает кое-чего.
— Полно, полно, будь спокоен, старый товарищ, мы скоро увидим твой полк.
— Да услышит вас небо, капитан! Право, у меня сердце болит в разлуке с друзьями. Разве мы остаемся здесь, капитан?
— Еще не знаю. Это будет зависеть от состояния края. Теперь я ничего не могу сказать. Мне именно нужен ты для этого, — прибавил Мишель, обращаясь к Оборотню.
— Я к вашим услугам, капитан. О чем идет дело?
— Дело идет, товарищ, о том, чтобы осмотреть окрестности и удостовериться, спокоен ли край, а если б мы могли, остаться здесь дня два с этими добрыми людьми, которые так горячо приняли нас и которым я хотел бы доказать мою признательность, оставшись несколько времени с ними, хотя эти два дня!
— Это легко, капитан; я могу даже ехать сейчас, если вы желаете.
— Принимаю твое предложение.
— Будьте спокойны, я знаю, где собрать сведения. Можете положиться на те, которые я доставлю вам.
— Я знал это заранее, друг мой.
— Скажите, капитан, не поехать ли мне с ним? — спросил Паризьен.
— Нет, это было бы неблагоразумно.
— Как неблагоразумно, почему же?
— По твоему мундиру тебя узнают везде и предположат, что в окрестностях есть войска. Оставайся спокойно здесь, отдохни; это будет лучше.
— Как хотите, капитан. А мне бы желательно сделать маленькую прогулку.
— Подождешь другого дня, вот и все.
— Нечего делать, если вы этого желаете.
Оборотень свистнул своей собаке, пожал руку, протянутую ему капитаном, и удалился большими шагами.
— Экой счастливец этот скот Оборотень! — заворчал Паризьен, смотря, как удаляется его товарищ. — Он может ходить куда вздумает, и никто ему не скажет: куда ты идешь?
День прошел спокойно.
Дамам было хорошо среди этой семьи, где они получили такой радушный прием и где все ухаживали за ними.
К восьми часам вечера Оборотень вернулся.
С первого взгляда капитан угадал, что он узнал дурные известия.
— Ну! — спросил он после ужина, когда дамы ушли спать. — Что нового?
— Нового много, капитан, — отвечал он. — Наши дела все больше запутываются. Все идет хуже. Страсбург обложен.
— Обложен! Верно ли ты это знаешь?
— Верно. Осада началась. Вы видите, ваше поручение теперь не имеет цели. Все сношения прерваны.
— Это правда. Однако, я должен выполнить его. Может быть, армия, подоспевшая на помощь, успеет заставить снять осаду.
— Дай-то Бог, капитан. А пока пруссаки жгут и грабят города. Что хотите вы делать?
— А ты что будешь делать?
— На вашем месте, так как вы хотите продолжать путешествие и притом вам нельзя поступить иначе, я поехал бы как можно скорее. С минуты на минуту пруссаки могут показаться в окрестностях. Если б дело шло только о нас, это не значило бы ничего, но с вами ваша мать и сестра, мы должны защитить их во что бы то ни стало.
— Ты прав. Мы поедем завтра на рассвете. Дай Бог, чтобы не было поздно!
— О! Нет. Может быть, мы встретим уланов, и то я сомневаюсь. Но от них мы освободимся, хоть будь с ними сам черт.
— Ступай отдыхать. А завтра, слышишь, на восходе солнца…
— Хорошо, капитан. Завтра я буду готов.
— Вот жребий-то какой! — сказал Паризьен. — Нельзя и двух дней отдохнуть. Первая острая каска, которая попадется мне под руку, поплатится мне за это.
— Вы слышали Оборотня, хозяин, — обратился капитан к фермеру. — Вы видите, я должен, к моему величайшему сожалению, расстаться с вами.
— Да, капитан. Эти бедные дамы меня тревожат. Зачем не оставите вы их здесь? Они будут в безопасности у нас. Я стану их защищать, как дочерей или родственниц.
— Знаю, друг мой, и благодарю вас; к несчастью, это невозможно. Мать мою и сестру ждут в Меце; там они будут вне всякой опасности.
— Это правда. Я не настаиваю, капитан. Только вспомните, что вы оставляете здесь друзей, желающих найти случай умереть за вас.
— Благодарю, — ответил он с волнением, дружески пожимая ему руку.
На другой день на рассвете путешественники простились с этой превосходной и патриархальной семьей.
Дамы были печальны. Мрачное предчувствие сжимало им сердце. Им казалось, что они расстаются не с посторонними, которых узнали несколько часов тому назад, а с дорогими друзьями, которых, может быть, не увидят никогда.
Фермерша и ее дочери непременно хотели удержать их.
К несчастью, надо было расстаться, и путешественники отправились в путь, очень печальные на этот раз и даже в большем унынии, чем уезжали из Страсбурга.
День был великолепный. Путешественники проезжали по первобытному пейзажу, живописная красота которого имела большое сходство с пейзажами французской Швейцарии.
На склонах гор виднелись деревни, полузакрытые мрачной зеленью черных дубов и черешней.
На высоких вершинах виднелись, как орлиные гнезда, феодальные развалины.
Каскады падали с высоких пригорков и убегали с таинственным журчанием под траву долин.
Солнце ласкало своими лучами эти столетние леса и заставляло сверкать, как бриллианты, капли росы, которые на каждом листе сияли пестрыми отблесками.
Величественное безмолвие царствовало во всей этой природе, безмолвие, нарушаемое по временам звуком колокола какой-нибудь отдаленной церкви.
Путешественники, для большего удобства, оставили лошадей на ферме «Высокий Солдат». Они шли лесом по извилистой тропинке, которая огибала Саарбург, где они не хотели останавливаться и который проехали к девяти часам утра.
В одиннадцать часов они остановились позавтракать, а более для того, чтоб собрать сведения в Гильбисгейме, за два лье от Саарбурга.
Большое беспокойство царствовало в деревне. Жители переезжали.
Оборотень отправился за сведениями и не добился положительного ответа.
Пруссаков еще не видали, но ходили слухи, что они показались уже в деревнях близлежащих, взяли с жителей выкуп и наделали страшные опустошения.
Однако никто не мог назвать, в каких именно деревнях происходили эти происшествия.
Путешественники посоветовались между собою и решились подвигаться вперед, несмотря на мнение Оборотня, уверявшего, напротив, что лучше отступить к Саарбургу и ждать событий.
Но дамы спешили в Мец. Они уверяли, довольно основательно, что чем более ждать, тем опасность сделается больше; что лучше подвергнуться какому-нибудь риску, который, может быть, в действительности и не существует, чем терять драгоценное время и дать возможность немецким войскам окончательно прервать все сообщения.
Поехали в час пополудни. Мишель все более тревожился. У него невольно сжималось сердце. Словом, у него было одно из тех инстинктивных предчувствий, которые овладевают людьми самыми твердыми при приближении неизбежной опасности.
Три путешественника удвоили осторожность. Они ехали по лесу, насколько было возможно, и с чрезвычайными предосторожностями.
К трем часам пополудни выехали они на большую дорогу и приметили перед собою белые дома и высокую колокольню деревни на склоне пригорка, полузакрытую деревьями.
— Какая это деревня перед нами? — спросил Мишель. — Она кажется довольно важною.
— Это Дидендорф, — ответил Оборотень. — Кажется, мы хорошо сделаем, если остановимся здесь и не поедем дальше, прежде чем узнаем о положении края.
— Я сам то же думаю, — ответил Мишель, — тем более, что дорога, по которой мы едем, прямо приведет нас обратно в Эльзас, который должен быть совершенно занят прусскими войсками.
— Дидендорф на границе Эльзаса, — ответил Оборотень. — Я думаю, что нам не следует входить туда, не наведя справок. Если вы согласны, я пойду вперед и немножко разузнаю.
— Вы правы. Тем более, что мы только на расстоянии ружейного выстрела от деревни, — ответил Мишель.
— Слишком поздно! — вдруг вскричал Паризьен. — Надо теперь думать о нашей защите.
Огромный шум вдруг поднялся со стороны Дидендорфа, шум, подкрепляемый ружейной перестрелкой, потом толпа мужчин, женщин, детей выбежала из деревни и разбежалась во все стороны с криками испуга.
Ничто не может передать страшного вида подобного зрелища.
Растрепанные женщины несли детей на руках, целые семейства на телегах, быки и бараны, бегавшие среди толпы, обезумевшей от страха, опрокидывавшие все на пути и растаптывавшие ногами несчастных, слишком слабых, чтоб сопротивляться.
Несколько крестьян, вооруженные цепами, косами, ружьями, прятались за деревьями, за пригорками, великодушно жертвовали собою, чтобы защищать отступление и спасти дорогие существа.
Скоро поток народонаселения нахлынул не только на дорогу, но и на склоны холмов и окружил путешественников, которые были остановлены таким образом и находились в невозможности податься ни вперед, ни назад.
Скоро приметили двадцать прусских всадников, которые следовали за отрядом пехоты из пятидесяти человек с острыми касками.
Позади этих солдат пламя виднелось над домами. Деревня горела.
Жители Дидендорфа не сдались без сопротивления. Борьба была ожесточенная, но крестьяне, дурно вооруженные и лишенные начальников, были принуждены уступить, что они делали, однако, продолжая защищаться.
За деревней, наилучше вооруженные между ними собрались и продолжали ожесточенную борьбу.
— Ей-богу! — вскричал Мишель с великодушным негодованием. — Неужели мы позволим горсти грабителей истребить таким образом все это народонаселение? Вперед, следуйте за мною, друзья мои.
Все трое решительно бросились в толпу и скоро очутились в первом ряду.
Вид мундира Паризьена произвел магическое действие на крестьян.
— Зуавы! Вот зуавы! — кричали они.
— Вперед! Вперед!
— Смерть пруссакам!
— Вперед и да здравствует Франция! — вскричал Мишель.
— Смерть грабителям! — повторяли все.
Пруссаки, уверенные в победе, уже не укрывались за домами, а неблагоразумно вышли на открытую местность, думая, что им стоит только уничтожить это испуганное народонаселение.
Но крестьяне, подстрекаемые присутствием зуава и рыцарской осанкой Мишеля, в котором инстинктивно узнали офицера, решительно устремились на пруссаков со своими косами и цепами, подрезывали ноги лошадям и убивали их.
Пруссаки были принуждены отступить к деревне, но те из крестьян, которые спрятались за домами, приметив внезапное поражение неприятеля, выбежали на улицу и напали на пруссаков сзади.
В эту минуту послышался стук барабана, бьющего к атаке, и человек сто устремились как лавина с высоты скал, бросились на пруссаков и страшно поражали их.
Эти люди, явившиеся так кстати, были вогезские вольные стрелки.
Пруссаки скоро обратились в бегство.
— Боже мой! — вскричал Мишель. — Матушка, сестра! О, как я мог их забыть?
— Не бойтесь, — сказал Оборотень, — я оставил моего мальчугана и Тома возле повозки. Мы сейчас их отыщем.
Они бросились к повозке; она была отпряжена. Мишель приподнял крышку лихорадочной рукою: повозка была пуста; обе дамы, ребенок и собака исчезли.
Мишель побледнел как мертвец и повалился на землю без чувств.
Напрасно в продолжение двух дней Мишель, контрабандист и Паризьен занимались самыми подробными розысками. Обеих дам, без сомнения, увлекли беглецы. Не было возможности получить малейшие сведения о них.
Мишель обезумел от горя; на все утешения своих товарищей он отвечал:
— Они умерли. Я никогда их не увижу! Как я осмелюсь теперь показаться моему отцу, который поручил их мне!
Напрасно Оборотень уверял его, что, по всей вероятности, дамы находились в безопасности в какой-нибудь отдаленной деревне; он с унынием качал головой и впадал в мрачное безмолвие.
— Послушайте, — сказал ему, наконец, Оборотень, — вы должны исполнить поручение; я теперь вам бесполезен; продолжайте ваш путь с Паризьеном, а я останусь здесь. Я должен отыскать моего сына. Положитесь на меня. Я обыщу все деревни, и если те, кого мы лишились, не умерли, я даю вам честное слово, что отыщу их.
— Сколько дней просишь ты у меня? — ответил Мишель мрачным голосом.
— Две недели. Уезжайте без опасения. Через две недели вы найдете меня здесь и, надеюсь, с хорошими известиями.
— Дай-то Бог! — ответил молодой человек с унынием.
— Итак, через две недели.
— Через две недели.
— Прощайте.
— До свидания.
Они пожали друг другу руки.
Капитан и Паризьен продолжали свой путь к Мецу.
Оборотень пошел в горы один, печальный, мрачный, но с решимостью.
Ему оставалось теперь свести страшные счеты с пруссаками.
Глава XXI КАБАК ДЯДИ БУРЖИСА
Выступив из Шалона 23 апреля, французская армия стянулась к Реймсу и пошла на Ретель, чтобы направиться, одни говорили к Мецу, другие к Парижу, куда, как утверждали, она должна была вернуться.
Вообще страшная нерешительность царствовала во всех движениях. То и дело производились марши и контрмарши.
Измученные солдаты едва тащились. Число отставших все увеличивалось.
Подвигались вперед, как бы прорываясь сквозь ряды неприятеля, с которым беспрестанно были стычки и который с каждым часом обступал нас с флангов и с тыла более плотными массами.
После многих дней непрерывной борьбы и ожесточенных боев, выдерживаемых нашим несчастным войском с неимоверным мужеством, несмотря на физическое истощение и упадок духа, французская армия, окруженная подавляющими силами, была вынуждена, благодаря невежеству своих начальников и другим, быть может, причинам, о которых мы не хотим упоминать, отступать шаг за шагом до Седана.
В этом-то городке без малейшего укрепления, не имея ни провианта, ни боевых снарядов, наше войско, теснимое со всех сторон на небольшом пространстве, где невозможно было произвести какой-либо маневр, находилось под убийственным огнем и даже лишено было последней горестной надежды штыками проложить себе кровавый путь сквозь неприятельские ряды; так, по крайней мере, решили начальники.
Ни Креси, ни Пуатье, ни Азенкур, ни Ватерлоо, эти громадные бедствия французского оружия, не могут сравниться с жестокою и постыдною катастрофой в Седане.
При Пуатье французский король сдался только после упорного боя, когда вокруг него пали все его рыцари.
При Павии Франциск I сдался уже на груде тел, сломив в сражении четыре шпаги и обессилев от потери крови.
Не так было в Седане. Одни солдаты исполнили свой долг.
Принцы и дворяне никаких шпаг не ломали.
Один храбро сражался. Это был маршал, номинальный предводитель войска. Он был ранен и, благодаря тому, не имел прискорбия подписать капитуляцию, которой не принял бы и позора которой не пережил бы.
Парижане, верные ценители геройства, поднесли этому храброму воину почетную шпагу.
Во Франции, посреди величайших общественных бедствий и самых позорных для нее событий, всегда найдется человек с возвышенной душой.
В шесть часов вечера 1 сентября был поднят белый флаг по приказанию самого Наполеона III. Заключено перемирие на двадцать четыре часа. По крайней мере, такой слух пронесся по армии.
На другой день, 2-го числа в пять часов утра, карета, окруженная блистательным эскадроном, в которой сидел император, выехала из города и направилась к замку Бельвю.
В полдень капитуляция была подписана, а к трем часам сделалась всем известна. Армия в восемьдесят семь тысяч человек слагала оружие. Ее артиллерия, лошади, палатки и запасы всякого рода делались добычею неприятеля.
Мы не станем останавливаться на горестных сценах, происшедших в каждом полку, когда узнали постыдные условия капитуляции, которая позорила храброе войско и гнула его под ярмо неумолимого врага.
Чего не дерзнул сделать генерал во главе целой армии, батальон 3-го зуавского полка попытался исполнить, и успел в этом.
Он ринулся, очертя голову, на массы пруссаков, вынудил их раздаться и проложил себе путь.
Многие солдаты пустили себе пулю в лоб, чтоб не принять капитуляции, другие ломали свое оружие и убивали лошадей.
Некоторые из этих железных людей с неодолимой силой воли решились бежать в одиночку и дать себя убить скорее, чем сдаться.
Было часов восемь вечера 2 сентября. С четырех часов пополудни французские войска очищали город, главные посты которого постепенно занимались отрядами немцев.
Теснота и беспорядок достигли таких размеров, что всякое движение войска сопряжено было с большими затруднениями и могло быть произведено только крайне медленно.
Двое военных в мундирах в грязи и в крови, которые свидетельствовали о славном участии в сражении накануне и предшествовавших ему, отошли за угол бастиона цитадели, занятой еще исключительно французами.
На одном из этих военных был мундир батальонного командира, на другом унтер-офицерские нашивки. Тихо переговорив, они пожали друг другу руки и вместе направились к выходу из цитадели, никем незамеченные, так как все поглощены были собственным горестным положением. Потом они отважно пошли по узким и грязным улицам, где сновали солдаты и офицеры разных оружий.
Не расставаясь, они вмешались в толпу и пошли к ратуше.
Уже несколько раз они пытались войти в дома, мимо которых шли. Везде запирались перед ними двери и жители обнаруживали величайший страх. В двух-трех домах их даже осыпали ругательствами.
Потеряв голову от страха и опасаясь мести немецких войск, жители Седана поступали со своими несчастными соотечественниками как с врагами.
Не обсуждая его, мы указываем на этот факт, которого никто, надеемся, не будет оспаривать, только для доказательства, до какой степени унижения может дойти душа человеческая под влиянием страха.
Самый грубый прием встретили наши два путника невдалеке от театра.
Офицер вдруг остановился и с унынием произнес, прислонившись к одной из стен театрального здания:
— Напрасный труд идти далее. Везде будет одно и то же. Лучше сейчас покончить и всадить себе пулю в лоб.
С этими словами он взялся за револьвер, который висел у него на поясе.
— Какой вздор, командир! — возразил унтер-офицер, схватив его за руку. — Зачем стреляться, когда владеешь руками и ногами, и вскоре надеешься отплатить врагам? Полноте, ведь голову-то себе размозжить всегда времени довольно.
— Да что ж нам делать? Ни в один дом нас не впустят. Не пройдет и часа, как из города выйдет вся французская армия. Я поклялся, что не отдам своей шпаги, и не отдам ее.
— А я-то разве хочу сдаться, вы думаете? Ничуть не бывало! Разве зуавы третьего полка сдаются? Ах! Чтобы товарищам предупредить нас, мы ушли бы с ними и теперь были бы убиты или спасены.
— Ты прав; но, к несчастью, теперь рассуждать поздно и положение наше, как видишь, безнадежно.
— Безнадежно! Никогда в жизни, командир. Идите за мною; мне пришел на ум, теперь как я немного опомнился, честный малый, кабатчик, которого питейная должна быть здесь близко. Этот примет нас, будьте уверены.
— Ошибаешься, он поступит как остальные.
— Ни, ни, Боже мой, командир! Говорю вам, это истый француз. Только идемте. Что вам стоит? Всадить себе пулю в лоб всегда будет времени довольно, если до того дойдет.
— Пойдем, если ты непременно хочешь, — ответил офицер, сомнительно покачав головой.
— Только бы не прозевать надписи улицы, командир; мы идем в улицу Башенных Часов. Извольте видеть, дом, куда я веду вас, не дворец, даже и порядочным домом назваться не может. Сказать попросту, это грязная лачужка. Хозяин брался понемногу за всякое дело, кроме ремесла честного человека. Я встретился с ним в Шалоне, когда мы догнали полк. В то время он был маркитантом. Должно быть, это дело ему не шло в руку, потому при выступлении армии из Шалона он бросил ее, сказав нам, что предпочитает вернуться в Седан, свою родину. Он дал нам свой адрес и с тех пор я не видел его. Если б черт допустил, что он здесь, то я ручаюсь, что мы спасены.
— Вот улица Башенных Часов, — сказал офицер, указывая на узенький и страшно грязный переулок, у поворота которого они стояли.
— Эхе! Смело войдемте в него, командир. На вывеске того кабачка стоит: «Для истого французского канонира».
Они повернули в улицу и прошли ее во всю длину.
— Видишь? — обратился к своему спутнику офицер. — Вывески такой нет. Человек этот обманул тебя.
— С вашего позволения, командир, так скоро судить не след. Вернемтесь назад.
— К чему, когда я говорю тебе, что такой вывески не существует?
— Все-таки пойдемте.
Офицер пошел, пожав плечами, между тем как зуав всматривался в каждый дом с пристальным вниманием.
— Этот слишком красив, — бормотал он, — а тот недовольно гадок. Ах! Вот, кажется, наше дело в шляпе, — заключил он, когда они дошли до конца улицы. — Посмотрите на эту лачугу, командир. Можно ли представить себе что-нибудь хуже?
— Прекрасно, но где же вывеска?
— Вывеска, черт возьми! Да вот она, только вся вымазанная сажей. О, тонкая бестия! Вероятно, он счел нужным для большей осторожности скрыть свою вывеску, чтоб провести пруссаков. Пойдемте. Не надо стоять тут долее. Кто-нибудь может пройти, а лучше, чтоб нас не видели.
Они подошли к жалкому домишке, и унтер-офицер громко постучал в дверь. Ее боязливо приотворили.
— Что вам здесь надо? — спросил сердитый голос нерешительно.
— Его голос! Мы спасены! — сказал зуав и прибавил. — Это я, дядя Буржис.
— Да кто вы такой? — отозвался голос.
— Да я, черт побери! Паризьен третьего зуавского полка.
— А! Паризьен. Что вам надо?
— Прежде всего войти. Стоять на открытом воздухевредно.
— Видите ли…
— Вот тебе на! Уж не боитесь ли вы, что я съем вас? Отворяйте же, сто чертей!
Несколько секунд внутри происходило совещание и дверь отворилась.
— Никого нет на улице? — спросил кабатчик, высовывая в дверь свою рысью голову.
— Ни даже кошки, кроме меня и моего командира.
— Так входите скорее.
Посетители не заставили повторить приглашения. Дверь за ними тщательно заперли на замок и на запор.
Дядя Буржис, кабатчик, был человек тридцати восьми или девяти лет, низенький, худой, костлявый, на вид тщедушный, но с хитрым и умным взглядом. Его насмешливое лицо носило отпечаток величайшего добродушия.
Возле него стояла жена его, великан в юбках, с крупными чертами и решительной, хотя спокойной наружностью. Вероятно, она держала мужа под башмаком, но в сущности была отличная женщина и ненавидела пруссаков всею любовью, которою некогда пылала к французам, и всею дружбой, которую питала к ним и теперь. Эта достойная женщина, с легким пушком на верхней губе, казалась тремя-четырьмя годами старше мужа.
Все окна были закрыты ставнями и посетители очутились бы в темноте, если б на прилавке не горела дымившаяся лампа.
Когда Паризьен сказал Мишелю Гартману, которого читатели, вероятно, уже давно узнали, что ведет его в грязную лачугу, то нисколько не преувеличил действительности. Это буквально была корчма самого низшего разбора.
Голые стены, когда-то выкрашенные масляною краской, покрыты были какою-то ржавою грязью, на которой выступала сырость. Два-три хромых стола, несколько плетеных стульев с продавленным сиденьем и прилавок, покрытый жестью, составляли меблировку помещения, где воздух заражен был острою смесью табачного дыма с запахом водки и поддельного вина.
В окнах были выставлены бутылки с всевозможными ликерами всех цветов, на которых стояло: «Совершенная любовь», «Сливки храбрых», и прочее.
Всего более, однако, в этом шинке оказывалось чудовищных пауков, которые везде расставляли свои тенета.
Кабатчица подала офицеру лучший из стульев, на который он и опустился.
— Что вам угодно? — спросила, она его.
— Никак вы уж теперь солдат, дядя Буржис? — вскричал Паризьен, глядя на кабатчика.
— Нет, только пожарный, и работал же я, чтобы гасить, что мерзавцы пруссаки зажигали своими бомбами!
— Надо сознаться, что они жарили, точно им это нипочем, — засмеялся зуав. — Однако, послушайте-ка, дядя Буржис поговорим о деле. Ведь вы знаете, что происходит, надеюсь?..
— Как не знать! — со вздохом ответила кабатчица.
— Так я прямо вам выскажу, что ни я, ни командир не хотим ни под каким видом сдаться и дать увезти себя пленными в Германию.
— Понятно, — одобрил кабатчик.
— Я вспомнил вас и сказал себе: «Спасти может нас один дядя Буржис. Это истый француз; он не откажется дать нам приют. Разумеется, и мы с нашей стороны сумеем вознаградить…»
— Довольно! — перебила кабатчица решительным тоном. — Зачем сулить вознаграждение, когда исполняется только долг? Мы бедные люди, даже очень бедные, но вы сами сказали, Паризьен, что мы французы. Вы просите у нас убежища. Что ж! Мы дадим его вам во что бы то ни стало.
— Да, — подтвердил кабатчик, — не будет того, чтобы французы просили у меня приюта и я прогнал их; я скрою вас здесь, пока могу. Если вам удастся спастись, тем лучше. Мы поместим вас в тайнике с остальными.
— Как с остальными? — спросил Мишель. — У вас, стало быть, скрыты здесь французы?
— Да, да; их там наверху с дюжину добрых малых, которых я знавал прежде, сенских вольных стрелков, несколько зуавов также и два-три африканских егеря, все отличные ребята и, как вы, не хотят идти в Германию.
— Тем лучше, — сказал Паризьен, — время будем коротать вместе.
— Только знаете, шуметь не надо. У пруссаков слух тонкий. Не о себе одном я забочусь; если б они застали вас здесь, вы сами понимаете, что случилось бы.
— Можете ли вы дать нам что-нибудь поесть?
— Ни куска сухаря. Во-первых, в городе нет ничего, а в конце концов я должен сознаться, что у меня гроша нет за душой.
— Этому легко помочь, — сказал Мишель, доставая кошелек. — Вот вам.
— Не давайте мне золота, это возбудит подозрение; знают, что я беден, и, пожалуй, я выдам себя таким образом. Дайте мне серебра; франков тридцать за глаза довольно на первый случай. Я не обещаю принести вам пищи сегодня вечером; завтра я погляжу, что можно будет сделать. Теперь я сведу вас в мой тайник.
Кабатчик зажег свечу, отворил дверь за прилавком и провел своих двух посетителей через двор, полный грязи и навоза; потом он отворил другую дверь и прошел коридор, в конце которого находилась каменная лестница.
Крутая и узкая, как веревочная, она до того была ветха, что ступени, скользкие от покрывавшей их сырости, шатались под ногами. Грязная веревка, прикрепленная к стене, служила перилами.
По ней поднялись в третий этаж, рискуя каждую минуту сломать себе шею. Наконец, на последней площадке, кабатчик вынул из кармана ключ и отпер им толстую дверь, окованную изнутри железом. Мгновенно тяжелый и удушливый воздух пахнул в лица пришедшим.
Они очутились в каком-то вертепе, где набросана была разного рода одежда, а на ней лежали скученные за недостатком места человек двенадцать солдат; некоторые спали, а другие философски курили рубленую солому, которой набивали свои трубки вместо табаку.
Висевшая на стене лампа распространяла вместе с копотью тусклый свет в этом жалком убежище.
Находившиеся там люди с бледными, осунувшимися лицами и мрачным выражением не пошевелились при входе новых товарищей, к которым оказали полнейшее равнодушие. Спавшие проснулись только, чтобы попросить хлеба. Остальные хранили грустное молчание.
— Не унывать, ребята, — сказал кабатчик. — Завтра, надеюсь, я буду счастливее, чем сегодня вечером, и принесу вам чего-нибудь поесть.
Никто не ответил.
Кабатчик вздохнул с грустью, вышел и запер дверь за собою.
— Послушайте-ка, братцы, — сказал Паризьен со своею неистощимой веселостью, — так как мы попали в одну кутузку, то я покажу вам, что знаю приличия и хороший товарищ. Сколько нас тут? Четырнадцать, включая меня и моего командира. Ладно! Я сейчас заплачу вам за хороший прием.
— Как же ты заплатишь? — спросил старый зуав с нахмуренным лицом. — Денег у нас не занимать, хлеба нет, есть нечего.
— В том-то и дело, — возразил Паризьен, — я принес вам, чем зубы почистить. Немного, правда, но лучше мало, чем ничего.
— Что такое? — вскричали солдаты, мгновенно привстав и остановив на нем жадные взоры.
— Я не скряга, братцы, вот что! — сказал зуав. — Видите мой ранец? В нем будет по сухарю на каждого из вас. Польем мы его каплею водки и, черт меня побери, если в армии много найдется людей, которые поужинают сегодня вечером так хорошо, как мы.
— Ура, Паризьен! — грянули солдаты, вдруг развеселившись.
— Тише, мои соколики; не будите спящей кошки, сиречь пруссака. Не забывайте этого.
— Правда, — согласились солдаты.
— Вот вы и опять умны, мои голубчики; так будет же вам известно, прежде чем я раздам закуску, что поживой этой вы обязаны моему командиру. Это он вздумал захватить с собою припасов. И бравый он молодец, не хотел отдать пруссакам свою шпагу, а предпочел сделать то же, что и вы. Он скрылся, чтоб потом отплатить сторицей.
— Вы настоящий француз, ваше высокоблагородие, — обратился к Мишелю старый зуав. — Ах! Зачем не походили на вас другие офицеры? Клянусь честью солдата, сухарь, который вы приносите нам, не будет дан неблагодарным. Нас здесь двенадцать и все до одного мы дадим убить себя за вас.
— Не обвиняйте ваших начальников, ребята, — ответил Мишель. — Они несчастнее вас. Они были вынуждены повиноваться высшим властям. Но терпение! Помните, что вы французы и что настанет день возмездия.
— Хорошо сказано, ваше высокоблагородие; в этот день можете рассчитывать на нас.
— Надеюсь и рад, что теперь с вами. Мы спасемся или погибнем вместе.
— На перекличку! — скомандовал Паризьен.
Все солдаты поднялись и машинально стали в два ряда.
Паризьен принялся за раздачу, наделяя каждого солдата сухарем.
— Есть и еще, — заметил он, когда обошел всех, — но приберечь надо на важный случай. Приступим теперь к водочке. Предупреждаю, товарищи, что мы на половинном рационе. Надо поберечь водку для поддержания сил.
— Уж счастливы же мы, что Бог привел вас сюда с вашим командиром. Право, не знаю, что с нами было бы без вас.
— Баста! После нас хоть трава не расти. Чего нам трусить? Точно мы не видали видов, не так ли? — прибавил он, хлопнув по плечу старого зуава.
— Не без того, — ответил солдат, посасывая ус и грызя сухарь.
Вместо того, чтобы лечь, солдаты как бы с общего-согласия принялись убирать чердак и устраивать в нем некоторое подобие порядка. Задача оказалась нелегкая.
Покончив с этим делом, солдаты не легли, но окружили Мишеля, прося его лечь на усердно приготовленную ими постель в самом отдаленном и удобном уголке чердака.
Напрасно протестовал молодой офицер против этого отличия, солдаты настаивали, говоря, что он их начальник, что его присутствие вернуло им не только надежду, но и бодрость бороться с опасностями, которые им, вероятно, предстоит одолеть; что он поделился с ними пищею и они желают выказать ему свою признательность; если же он не согласится на их просьбы, то ни один из них не ляжет.
Мишель сдался на убеждения, в которых видел наивную и добродушную веру в начальника, выдающуюся черту в характере французского солдата, и лег на приготовленную ему жалкую постель.
Длинна и грустна была эта ночь для несчастных, скрывавшихся на чердаке дяди Буржиса.
Следующий день прошел еще печальнее.
Пруссаки заняли весь город. Они осматривали каждый дом.
Весь Седан буквально был ограблен и немцы захватили все съестные припасы, нимало не заботясь о горькой участи жителей.
Мы не станем описывать ужасных пыток, которым подвергались несчастные, заключенные в тесном пространстве в течение нескольких дней, лишенные воздуха, света, часто необходимой пищи и вынужденные лежать почти друг на друге, не смея ни говорить, ни даже шевелиться, из опасения выдать свое присутствие и причинить смерть бедняку, так великодушно давшему им этот жалкий приют, да и самих себя подвергнуть величайшим опасностям.
Ежеминутно до них доносилась бешенная скачка по улицам прусских гусар и крики торжества победителей при открытии спрятавшегося пленника, а затем жалобные вопли несчастного, когда его закалывали или ударом сабли распарывали ему живот.
Они едва сдерживали свое негодование и не раз понадобилось все нравственное влияние на них Мишеля, чтоб не дать им изобличить себя, бросившись на помощь беззащитным товарищам, которых убивали так безжалостно.
Несколько раз в доме производили обыски и они слышали мерные и тяжелые шаги на лестнице прусских или баварских солдат, которые обходили все комнаты, стуча в стены и ломая мебель.
Но самая ужасная пытка — это была медленная душевная агония, которую они выносили около восьми дней, брошенные всеми и потеряв даже надежду, поддерживавшую их до того времени.
Действительно, всякое средство к спасению или бегству, казалось, у них отнято. Немецкие войска не только занимали город, но и все окрестности. Как бежать? Как пробраться через эти густые неприятельские массы? Как выйти, хоть бы только на улицу, не подвергаясь или плену, или смерти под ударами жестоких врагов, которые убивали для удовольствия, не признавая никаких священных прав?
Эти храбрые солдаты, из которых большая часть были на войне в Африке и сто раз бесстрашно боролись со смертью, теперь впали в отчаяние. Они поддались глубокому унынию, которое граничило с болезненною апатией; они не думали более, не надеялись, не отвечали даже, когда их спрашивали, и равнодушные ко всему, что их окружало, жили жизнью машинальной, которая, несомненно, поглотила бы в скором времени рассудок их безвозвратно.
Мишель понял, что два дня еще подобных пыток, и все эти несчастные или с ума сойдут, или жизнью поплатятся за свои страдания.
Необходимо было чем-нибудь противодействовать этому упадку духа и во что бы то ни стало вернуть им энергию, которая одна могла спасти их.
Протекло восемь дней после роковой капитуляции Седана.
Во время этих восьми дней Мишель неоднократно вел тайные переговоры с кабатчиком.
Наконец, вечером на восьмой день, после посещения дяди Буржиса, который принес бедным солдатам пищу лучше обыкновенной и в большем количестве, в ту минуту, когда поужинав, они готовились опять растянуться на своих жалких постелях, вероятно, чтоб снова впасть в мертвую апатию, Мишель подозвал их и они окружили его.
— Теперь не время спать, — сказал он им. — Довольно малодушия и ропота. Ваша судьба в ваших собственных руках. От вас зависит в эту же ночь положить конец всем вашим страданиям.
При этих словах, произнесенных твердым голосом, солдаты вздрогнули как бы от электрического сотрясения. Они выпрямились, подняли головы и безжизненный их взор внезапно сверкнул мрачным огнем.
— Приказывайте, ваше высокоблагородие, что делать надо — сказал Шакал.
Так звали старого зуава.
— Только быть мужчинами. Повторяю, если вы захотите, то в эту же ночь мы выйдем из Седана.
— Говорите, говорите, ваше высокоблагородие!
— Я все приготовил для нашего побега. Попытка, на которую я решаюсь, из самых смелых. Надо пройти через все прусские войска. Не удастся нам, мы все умрем, если же успех увенчает наше предприятие, мы будем свободны и снова увидим друзей и родных.
— Лучше быть убитым, чем оставаться здесь днем долее, — ответил Шакал.
— Приказывайте, командир, — сказал Паризьен, — вы наш начальник, мы вам будем повиноваться.
— Хорошо, но знайте, что я не допущу ни колебания, ни подлой трусости, ни ропота. Я полагаю условием безмолвное повиновение, что бы я ни приказал, чего бы ни потребовал от вас.
— Мы вам будем повиноваться, ваше высокоблагородие, до последней капли крови, до последнего издыхания.
Мишель снял с себя крест и протянул руку к солдатам, говоря:
— Поклянитесь над этим крестом, эмблемою чести, что вы будете мне повиноваться, пока я останусь в вашей главе, пока не освобожу вас от этой клятвы, и повиноваться, не колеблясь, без ропота и не требуя от меня отчета в том, что сочту нужным требовать для вашей же пользы.
— Клянемся! — вскричали солдаты в один голос.
— Клянитесь еще, — продолжал офицер твердым голосом, — что вы не будете расходиться врознь, что дадите убить себя скорее чем сдаться, и если случайно кто из вас попадет в руки неприятеля, скорее всадите себе пулю в лоб, чем измените своим товарищам.
— Клянемся, ваше высокоблагородие!
— Хорошо, теперь за вас ручается мне ваша клятва. Я знаю, что могу положиться на вас. Слушайте же: немцы занимают город и все окрестности на большое расстояние. Французского войска не существует более; оно уничтожено. Помощи нам ждать не от кого, кроме себя самих, нашего мужества, энергии и непоколебимой твердости. Хозяин этого дома уже оказывал нам все это время такие услуги, за которые мы остаемся его должниками по гроб; но теперь он довел самоотвержение до крайних пределов. Ему удалось, не знаю как, достать двенадцать солдатских мундиров, один унтер-офицерский и один офицерский. Мундиры тут. Вы сейчас наденете их, но своих не бросайте, а положите в мешки. Поняли меня? Ничего не забывайте, что принадлежит к обмундировке немецкого солдата, ни лосин, ни оружия и т. п. Все тут есть. Менее чем в час времени мы должны превратиться в баварских солдат и так искусно принять эту личину, чтоб самый зоркий глаз не открыл обмана. Не говорит ли кто из вас по-немецки?
Вышли вперед три сенских вольных стрелка. Все трое были эльзасцы. Двое из них служили унтер-офицерами в зуавах.
— Очень хорошо, — продолжал командир. — Один из вас, ребята, наденет унтер-офицерский мундир, другой пойдет в первом ряду, а третий в последнем. Во время всего перехода никто говорить не должен, кроме меня и трех солдат, которые знают немецкий язык. Вы меня поняли, надеюсь?
— Поняли, ваше высокоблагородие.
Мишель слегка постучал два раза в дверь. Она мгновенно отворилась. Вошел кабатчик.
— Три человека вперед, — сказал командир. Трое вышли из ряда.
— Помогите этим людям переодеться, дядя Буржис, и позаботьтесь, чтоб все было соблюдено до мельчайшей подробности. Ступайте, ребята.
Три солдата вышли. Через полчаса они вернулись. Это были уже не французы, но настоящие баварцы. Все в них переменилось даже до походки.
Положение, в котором находились несчастные французы, до того было опасно, что на этот раз они не оправдали веселости национального характера и превращение товарищей встретили одною слабою улыбкой.
После первых трех была очередь других трех, потом еще трех, и, наконец, после трех последних переоделись Мишель и эльзасец, который должен был преобразиться в унтер-офицера.
Было около одиннадцати часов вечера, когда все эти предварительные приготовления кончились.
Костюмы отличались строжайшей точностью. Ничего не упустили из виду, даже громадных фарфоровых трубок, с которыми немецкие солдаты никогда не расстаются. Одного не доставало: табаку в трубках.
Солдаты точно будто преобразились и нравственно не менее, как физически.
Они ободрились и смотрели мужественнее. Надежда на избавление воодушевляла их.
Взоры их метали молнии. С ружьями на плечах и полным патронташем, они теперь могли быть уверены, если счастье изменит им, что падут не иначе, как дорого продав жизнь.
— Слушайте, ребята, — обратился к ним Мишель, — и ни слова не пророните. Мы баварский патруль и обходим посты. Буржис доставил мне пароль и лозунг. Нам, значит, нечего опасаться с этой стороны. Все вы достаточно знаете пруссаков и видели их приемы, чтоб подражать им. Помните, что малейшая небрежность погубит нас. Нам предстоит разыграть роль искусно и хитро. Ведь мы будем иметь дело с людьми, которые в лукавстве не знают себе равных. Тут сила бесполезна, нас уничтожили бы в миг. Покажем этим коварным лисицам, что французы не глупее их. Вы меня хорошо поняли, не правда ли?
— Точно так, ваше высокоблагородие.
— В особенности же, повторяю, глубочайшее молчание и самое строгое соблюдение дисциплины. Послушайте-ка, любезный Буржис, как вы думаете, можем мы сойти вниз?
— Полагаю, что можете. Я поставил жену караулить с тем, чтоб она предупредила меня, если заметит что-нибудь подозрительное. Сойти в лавку вы можете во всяком случае, и если ничего особенного не повстречается, вам легко будет выйти на улицу.
— Позвольте минуточку, — возразил офицер. — Я и мои товарищи не знаем, как благодарить вас за громадные услуги, которые вы нам оказали. Захваченные врасплох ходом событий, мы не имеем возможности вознаградить вас так, как бы того желали, однако от имени моих товарищей я прошу вас принять этот билет в тысячу франков. Это очень мало, но более при мне теперь нет. Надеюсь вскоре доказать вам, что мы не забыли вас и сохранили в душе благодарность, которою вам обязаны.
— Извините, — возразил кабатчик, — хотя и я голяк, хотя и брался в своей жизни за много нечистых дел, но имею притязание быть честным человеком и прежде всего добрым французом. Такие услуги, какие я имел счастье оказать вам, за деньги не делаются. Оставьте при себе ваш банковый билет. Он вам понадобится в вашем бегстве. Есть проще способ вознаградить меня, который заплатит мне за все, что я для вас мог сделать. Протяните мне вашу руку.
— Вот она, и крепко жму вашу! — вскричал Мишель, глубоко тронутый. — Жму ее как руку человека честного и с душой; но я остаюсь у вас в долгу и мы еще увидимся.
— Пойдемте, — сказал кабатчик дрожащим от волнения голосом, — и сходите как можно тише.
Кабатчица ждала их у наружной двери.
— Вы можете выйти, — сказала она. — Улица пуста.
— Прощайте! — ответили солдаты, стараясь скрыть волнующие их чувства.
— Вперед! — скомандовал офицер, пожимая в последний раз руку кабатчика.
— Прощайте, да хранит вас Господь! — сказали в один голос муж и жена.
Солдаты стали по двое в ряд и вышли на улицу.
Сердце так и стучало у них в груди. Безотчетная тоска спирала их дыхание, но все были тверды и непоколебимы в своем решении. Они уже принесли в жертву свою жизнь.
Дверь кабака затворилась за ними.
Глава XXII КАК ФРАНЦУЗСКИЙ ПАТРУЛЬ СОВЕРШИЛ СВОЕ БЕГСТВО СКВОЗЬ НЕМЕЦКИЕ РЯДЫ
Ночь была темная и туманная; густые и низкие облака, полные электричества, неслись над землею, увлекаемые сильным северным ветром.
Свет газовых рожков с трудом проникал сквозь мглу и в тумане они казались бледными звездочками без лучей.
Частый и мелкий холодный дождь шел с самого заката солнца и много способствовал трудностям пути, превратив в жидкость кучи накопившейся на улицах грязи, которую никто не думал свозить.
Хотя патруль, по-видимому, подвигался вперед твердо и смело, он, в сущности, соблюдал величайшую осторожность.
Каждый из тех, кто составлял этот странный патруль, сознавал весь ужас своего положения и тех опасностей, которым подвергается; все понимали, что жизнь их на волоске и зависит от пустой случайности, что одна смелость могла доставить успех их безумно отважному предприятию.
Они не сделали еще двадцати шагов по улице, в которую своротили, когда в ушах их раздался звон оружия и сильный голос крикнул в тумане:
— Wer da?
Мишель ответил.
Почти мгновенно вынырнула из мглы группа людей, перед которыми солдат нес большой фонарь.
Это пришли осмотреть патруль.
Пока происходил осмотр, то есть две-три минуты, не более, французы выносили невыразимую пытку. Вся кровь приливала к сердцу. От этого первого испытания, быть может, зависеть будет успех всего их предприятия.
Три минуты показались им веком.
Поменявшись паролем и лозунгом, офицеры отдали шпагами друг другу честь, и патруль пошел дальше, медленно, равномерно и холодно по наружности, но каждый из этих храбрецов, которые, не колеблясь, пожертвовали бы жизнью, невольно еще содрогался от ужаса.
Некоторые даже, если послушались одного чувства самосохранения, бросили бы оружие и безумно кинулись бежать со всех ног, разумеется, чтоб пасть в нескольких шагах далее, где их безжалостно закололи бы.
Между тем они касались друг друга локтями.
Решимость одних внушила бодрость другим и они твердо выстояли на своем месте.
Множество постов пройдено было таким образом без малейшей помехи или затруднения.
Пруссаки, овладев городом и сосредоточив вокруг него многочисленные войска, не могли думать, чтоб возможно было рискнуть на такой безумно-отчаянный способ бегства.
Именно безумство предприятия этих мужественных солдат и уверенность неприятеля и доставили успех смелому замыслу.
Около часа пополуночи, то есть часа два по выходу из кабака дяди Буржиса, патруль дошел до Баланских ворот.
Там представилось больше затруднений. Переговоры длились долго, не потому чтоб прусский офицер имел малейшее подозрение, но он оказался щепетильным служакой и находил странным, что патруль выходит из города, когда не видал, чтоб он входил.
Не позволяя себе увлечься гневом, который кипел в душе, Мишель, все с видом холодным и спокойным, наконец, успел рассеять его сомнения и ворота отворились.
Патруль вышел.
Перед ним расстилалось теперь обширное пространство. Стены Седана не охватывали уже со всех сторон, словно могила, несчастных пленных. Они вдыхали полною грудью живительный деревенский воздух. С этой минуты ход патруля был скорее прогулкой, которой ничто не мешало.
Дорогою Мишель собрал некоторые необходимые сведения, без которых беглецам нельзя бы сделать и ста шагов от городских валов.
Таким образом они прошли Балан, Базейль и к трем часам утра были на крайней черте прусских аванпостов, где увидали в пятидесяти шагах часовых, которые с ружьем на плече медленно расхаживали с беспечностью солдат, уверенных, что им нечего опасаться нападения.
Мишель остановил свой маленький отряд посреди густого перелеска в двух километрах от Базейля и приказал солдатам собраться вокруг него.
— Любезные товарищи, — сказал он, как скоро приказание его было исполнено, — мы совершили чудо смелости и отваги; нам удалось пробраться благополучно через все прусские войска, расположенные в Седане и его предместьях. Теперь мы достигли крайней черты неприятельских аванпостов. Менее чем через час займется день и продолжать нашу роль патруля было бы, по моему мнению, верхом безрассудства. Пешие патрули не заходят за черту аванпостов. Если нас и не узнают, то во всяком случае остановят и станут расспрашивать, а там и в плен возьмут опять. Вот что я полагал бы сделать. Мы дойдем до самого рубежа леса. Там вы притаитесь, а я с тремя из вас, говорящими по-немецки, подойду к ближайшим часовым. Этих двух часовых мы заберем, и когда вы услышите крик совы, выходите из леса беглым шагом и ступайте все прямо, пока на нас не наткнетесь. Если план этот не удастся и нас убьют, бегите врассыпную. Некоторые из вас, надеюсь, спасутся; но я не полагаю, чтоб мы потерпели поражение. Итак, не унывайте, а главное, ни слова возражения; надо действовать. Это последняя предстоящая нам борьба и я убежден, что мы останемся победителями.
Мишель протянул обе руки товарищам по несчастью, которые крепко пожали их, не говоря ни слова, и небольшой отряд опять двинулся в путь.
Вскоре достигли опушки леса.
В двадцати шагах, не более, два прусских часовых расхаживали взад и вперед, встречаясь на половине дороги.
— Вот кого мы постараемся захватить в плен, — тихо шепнул командир. — Держите ухо востро и будьте наготове.
Солдаты присели за кусты.
Спустя минуту часовые остановились, поставили ружья перед собою и принялись беседовать.
Мишель сделал круг и вышел из лесу в другом месте в сопровождении не трех, а четырех человек, так как Паризьен ни за что не хотел от него отстать.
Увидав, часовые, разумеется, приняли их за разведчиков и окликнули:
— Wer da?
Командир подошел, ответил на обычные вопросы и принялся, в свою очередь, расспрашивать.
Вдруг, прежде чем часовые успели опомниться и взяться за оружие или даже крикнуть на помощь, они очутились перевязанными и с кляпом во рту.
Потом Паризьен с помощью эльзасцев обмотал им голову платком, чтоб они не могли видеть и выдать потом, по какой дороге скрылись беглецы, и несколько грубо, пожалуй, толкнул бедняков в ров. Исполнив это, он, согласно условию, крикнул по-совиному.
Немедленно притаившиеся в лесу солдаты выскочили из него беглым шагом и весь маленький отряд понесся во всю прыть от неприятельских линий.
Между тем прусский караульный офицер у Баланских ворот не был вполне убежден доводами Мишеля.
Во внезапном появлении этого патруля заключалось что-то странное, чего он никак переварить не мог, но он был только поручик, а на французском офицере мундир оказался капитанский, следовательно, ему пришлось повиноваться; однако в душе он дал себе слово немедленно отправить вестового в штаб с подробным рапортом.
Как только патруль удалился, достойный поручик написал свой рапорт и отправил его.
Результат этого распоряжения не заставил себя ждать. Страшной тревоги наделал рапорт в штабе. Патруль там показался тем, чем и был на самом деле, то есть патрулем в высшей степени подозрительным и, очевидно, состоящим из беглых французских солдат. Но как же случилось, что они были с оружием? Как достали они баварские мундиры? И главное, как мнимый офицер, командовавший патрулем, мог так хорошо говорить по-немецки и знать пароль и лозунг?
Вот где заключалась тайна, и тайна грозная, которую раскрыть следовало во что бы то ни стало. Очевидно, эти десять или двенадцать французов, которые составляли патруль, были не одни; у них, верно, пропасть друзей в городе, если они отважились на такую смелую выходку; к тому же надо думать, что одни причины величайшей важности побудили их так холодно жертвовать жизнью и решиться пройти все неприятельские линии. Солдаты одни, без начальника, который руководил бы ими, не покусились бы на такое безумство и еще только для того, чтоб освободиться от плена.
Двести пятьдесят улан немедленно получили приказание сесть на лошадей, разделиться на небольшие отряды и делать разъезды в периметре четырех лье вокруг города, чтобы захватить какой бы отряд ни встретили у аванпостов, не обращая внимания на мундир.
Первою мерою осторожности было переменить пароль и лозунг.
Уланы вскочили в седло, выехали из города в разные ворота и разделились на мелкие отряды, как им было предписано.
Что касается караульного офицера у Баланских ворот, то, разумеется, на него взвалили всю ответственность за случившееся. Его немедленно сменили с караула и посадили на месяц под арест за то, что он не остановил патруля и не продержал его у гауптвахты, пока вестовой сходил бы в штаб.
Когда это происходило в Седане и грозные меры принимались против беглецов, они мчались, словно испуганные олени, по направлению к горам, которых величественные массы темнели вдали на краю небосклона.
Господь положил человеческим силам предел, который безнаказанно переступать нельзя. После трех четвертей часа такого отчаянного бега солдаты были вынуждены остановиться. Им захватывало дух; ноги отказались им служить. К величайшему своему сожалению, они увидали себя вынужденными пойти тише.
Ни Мишель, ни его спутники не знали, где находятся. Они удалялись от Седана. На первый случай они довольствовались этим.
На расстояние выстрела начинали показываться на склоне довольно высокого пригорка смутные очертания довольно большой, как надо было полагать, усадьбы.
До тех пор наши беглецы все шли лесом, но чтоб достигнуть жилья, которое они завидели, им необходимо было выйти на открытое место.
Приближался рассвет. Беловатая полоса показалась на небосклоне. На открытом месте опасность для них становилась велика.
Однако, не видя другого исхода, беглецы решились выйти из леса, что бы там ни было, когда вдруг за ними раздался отдаленный глухой шум, подобный раскату грома.
Побег их открыт! Неприятель гонится за ними!
Мысль эта тотчас пришла им на ум. Самые неустрашимые из них содрогнулись от ужаса и глубокое отчаяние овладело ими.
Они думали уже, что спасены, и вот опять та же страшная неизвестность тяготеет над ними и свободе их угрожает опасность.
— Не унывать, ребята! — вскричал Мишель. — Господь, видимо, охранял нас до сих пор. Не надо только самим поддаваться.
Он шепнул несколько слов Паризьену.
— Славно! — возразил тот со смехом. — Вот-то мы похохочем!
И он убежал.
Не теряя времени, Мишель расставил солдат по обе стороны дороги, спрятав их за кустами, чтоб их не было видно. Потом с улыбкой на губах стал ожидать.
Шум приближался с необычайною быстротою и вскоре сквозь утренний туман показался скачущий во весь опор кавалерийский отряд.
— Держать ухо востро! — тихо сказал Мишель.
Вдруг всадники, на расстоянии пистолетного выстрела от засады, попадали наземь в беспорядке, не имея возможности моментально удержать лошадей на всем скаку.
— Вперед! — крикнул Мишель. — Не стреляйте. Вяжите их.
Только три последних всадника не были выбиты из седла.
Они попытались было повернуть налево кругом, но из заставили сдаться.
Все, что взяло много времени рассказать, произошло в мгновение ока. По приказанию Мишеля, две веревки были протянуты поперек дороги и крепко привязаны к деревьям.
Первые лошади споткнулись о веревки и упали, на них же повалились остальные. И так весь уланский отряд попался в плен, не успев обнажить сабель.
Когда уланы и командующий ими офицер были обезоружены, Мишель приказал связать солдатам руки за спиной и вынудил офицера дать честное слово, что он не будет пытаться убежать, а затем вся эта группа направилась к усадьбе, о которой мы уже упоминали и которая находилась невдалеке от места, где устроена была засада.
Усадьба эта, или вернее, замок — здания были очень обширны, громадный парк обведен высокою стеною — принадлежал сенатору империи, имя которого мы умалчиваем, но могли бы сказать, если б нас к тому вынудили.
Этот сенатор жил в своем замке, куда приехал тотчас по объявлении войны.
До той поры он поочередно принимал французов и немцев; но заметим, что последние события побудили его оказывать немцам крайнюю благосклонность, те, конечно, отплачивали ему тем, что почти не касались его владений. Правда, они только прошли по этой местности. Слуги в замке, введенные в заблуждение мундиром посетителей, предупредили хозяина графа С. де В…. что приближается баварский отряд.
И граф, обманувшись подобно слугам, наскоро оделся, чтоб встретить у ворот наших врагов, к которым питал сочувствие и не давал себе более труда скрывать его.
Велико было его разочарование, когда вместо немцев он увидал перед собою французов. Волки в овечьей шкуре, появившиеся в овчарне, не наделали бы больше суматохи, чем переполошились хозяин замка и его слуги, узнав, каких неурочных гостей им приходится принимать и угощать.
Но служители империи были и теперь еще наделены удивительною эластичностью характера и чувств, так что их никакие события или случайности не поставят в тупик.
Владелец замка, сначала немного озадаченный объявлением Мишеля, почти мгновенно овладел собою и когда пленники были уведены и заперты на ключ в оранжерее, следовательно, и слышать его слов не могли, храбрый сенатор изъявил живейшую радость и смеялся до слез от штуки, сыгранной французами свирепым пруссакам, которых варварское вторжение грозило Франции совершенным опустошением; заключил он свою речь, отдавая себя и все, что ему принадлежало, в распоряжение храбрых воинов, искавших убежища в его доме.
Мишель притворился, что верит этим лживым уверениям, внушенным страхом; но как, вообще говоря, стоянка была хороша, то он и решил, что вполне воспользуется гостеприимством, которое граф предлагал ему с улыбкою на губах и яростью в сердце.
Солдаты очень нуждались в этом радушии. Они изнемогали от усталости и буквально умирали от голода. Граф отдал приказание, чтоб о них позаботились.
Через час двенадцать солдат спали мертвым сном, лежа на гумне на ворохах соломы, которые составляли им самую мягкую постель, какую можно было пожелать.
Один Мишель не спал. Он назвался гостем к хозяину, а говоря точнее, просто караулил его, так как плохо ему доверял и считал необходимым наблюдать за всеми его действиями.
К вечеру солдаты проснулись и оказали должную честь приготовленному для них обеду.
Так как у Мишеля просто слипались глаза, он велел позвать Паризьена и товарища его, старого зуава, и отдал им приказания в уверенности, что они точно будут исполнены, а затем, в свою очередь, воспользовался отдыхам, который был ему необходим.
Ночь прошла спокойно.
Паризьен запер слуг на ключ в их комнатах, предупредив их, что при малейшем подозрительном движении пуля напомнит им осторожность.
Со своей стороны Шакал, как его прозвали, старый солдат африканских войск, для которого ничего не существовало кроме приказания начальника, вежливо предупредил графа и членов его семейства, что он считает их в высшей степени подозрительными и при малейшем их действии, которое покажется ему нечисто, поручит ружью своему дать им ответ едва ли по их вкусу.
Это двойное предостережение произвело отличное действие. Никто не пошевельнулся в замке. Все спали или прикинулись спящими.
На другое утро все солдаты были на ногах с зарею. Они уже надели свои мундиры и смотрели весело и бодро, готовые встретить, не сморгнув все предстоящие им опасности.
Позавтракав, они наполнили свои фляги водкой и ранцы съестными припасами, после чего выстроились на дворе замка, ожидая приказаний начальника.
Лошади улан, накормленные и порученные слугам, были оседланы и привязаны к кольцам. На каждой оказывались за седлом торба с овсом и кошель сена.
Словом, и люди и животные могли вынести продолжительный переезд.
Мишель также встал. Он позавтракал и сел писать письмо к генералу, командовавшему всеми прусскими войсками в Седане.
В письме заключалось следующее:
«Ваше превосходительство.
Говорят, пруссаки ведут с нами войну варварскую и безжалостную.
Пишу я к вам эти строки, чтобы громко протестовать против такой клеветы.
Чудом спаслись мы в прошлую ночь из Седана, где вы командуете, прошли сквозь ряды немецких войск, подвергаясь бесчисленным опасностям, умирая с голода и падая от изнеможения, а потому неизбежно опять попались бы в руки ваших солдат, если б великодушное сердце ваше, тронутое такими страданиями, вынесенными с мужеством, не побудило вас выслать к нам через уланского поручика Теплица одиннадцать превосходных лошадей. Вследствие ваших инструкций, поручик великодушно предложил нам их и будьте уверены, ваше превосходительство, они дадут нам возможность добраться до французской армии, где бы ни находилась она.
Примите, ваше превосходительство, изъявления нашей признательности и вместе уверение, что никогда не изгладятся из нашей памяти, ни моей, ни товарищей моих, ваш великодушный поступок с нами.
Начальник французских беглецов
Мишель Гартман, Батальонный командир третьего зуавского полка. Замок графа С. де В… сенатора, 14 сентября 1870.»Написав это насмешливое послание, Мишель сложил его, запечатал и велел позвать поручика Теплица.
Поручик был колосс с угрюмым и сердитым лицом.
— Не всегда бываешь счастлив на войне, — обратился к нему Мишель. — Вы старый служака, поручик, и должны это знать. Я мог бы удержать вас в плену, но, признаться, не имею никакой охоты и просто связал бы себе руки. Итак, я решил, что возвращу вам свободу и солдатам вашим, но с условием, что вы со своим отрядом выйдете из замка не ранее как через час после нашего отъезда. Вот вам ваша сабля.
Он подал ее поручику.
— Принимаю, — сухо ответил тот, — но в свою очередь, поставлю условие.
— Условие! Вы ставите условие мне? Это что-то странно. Вероятно, вы знаете с кем говорите.
— Я немец, вы француз. Хотя ниже вас чином, я выше рождением и, полагая, большую вам делаю честь, вызывая вас на бой.
— Ого! Это резкие слова, — возразил Мишель, смеясь. — Вы мне, стало быть, предлагаете дуэль? А я думал, что немецким офицерам запрещены поединки.
— Между собою только. Теперь дело иное. Вы нечестно захватили меня в плен. Вы собака француз, а…
— А вы скотина, которому нужен урок, — перебил Мишель, нахмурив брови, — и урок этот вы получите немедленно. Ступайте за мною.
Мишель положил письмо в карман, пристегнул саблю и спустился на двор. За ним последовал прусский офицер.
Пленные уланы приведены на двор, но со связанными за спину руками; французы зорко караулили их.
— Друзья мои, — сказал Мишель своим солдатам, — помните, что через час по выезде нашем из замка пленные и командир их свободны идти куда хотят. Я дал честное слово. Сейчас вот этот человек, недостойный звания, которым почтен, нанес мне глубокое оскорбление. Он вызвал меня на дуэль. Мы будем драться в вашем присутствии. Что бы ни случилось, не забывайте, что мое слово дано и все пленные без исключения должны получить свободу. Клянетесь ли вы исполнить мое приказание?
Солдаты колебались.
— Я прошу, а в случае нужды даже требую повиновения.
— Тяжело, признаться, — сказал Шакал, — но будьте покойны, командир, честь ваша в надежных руках. Мы исполним вашу волю.
— Благодарю.
Затем он обратился к уланскому офицеру со словами:
— К вашим услугам, милостивый государь.
Противники обнажили сабли и стали в позицию. Странное зрелище представляли два офицера, которые вышли на поединок в присутствии своих солдат.
Во всех окнах замка были зрители. Можно бы вообразить, что это турнир средних веков, где два благородных рыцаря решают ссору в присутствии дам, улыбающихся их подвигам.
Оружие, которое было у противников в руках, походило на рапиры немецких студентов в Иене и Гейдельберге, и обстоятельство это казалось очень приятно немецкому офицеру.
Каждый начал бой любимым приемом. Впрочем, первое нападение длилось недолго. Улан сделал отчаянный выпад. Мишель спокойно выждал его и простым отбоем вышиб саблю из его рук.
— Желаете покончить на этом? Вы же видите, что нельзя вам состязаться со мною, — сказал он противнику, учтиво возвращая ему саблю.
— Нет, — вскричал тот в бешенстве. — Не будет того, чтоб меня, первого фехтовальщика в Гейдельберге, победил собака француз!
— Мой любезнейший, — холодно ответил Мишель, — я имел уже честь сказать вам, что вы скотина, теперь я прибавлю, что вы грубиян. Видно, вам нужен урок, и вы сейчас его получите. Берегите ваше гадкое лицо; я отмечу его неизгладимым клеймом. Удовольствуюсь я шрамом, потому что брезгую убийством такого негодяя.
Бой возобновился с бешенным ожесточением со стороны улана и холодной, непоколебимой твердостью со стороны Мишеля.
При четвертом нападении сабля в другой раз была выбита из руки улана и красная черта легла на его лице во всю ширину от верхней части правого уха до низа подбородка с левой стороны.
— Теперь, полагаю, с вас довольно, — с насмешливою улыбкою сказал Мишель, несколько раз втыкая кончик сабли в ножны, взял пистолет из седельных чушек на одной из лошадей, взвел курок и прицелился прямо в грудь растерявшегося противника, говоря повелительно:
— Теперь выслушайте меня, сударь. Вы поступили со мною как мерзавец. Мне стоило бы сделать знак этим честным людям, чтобы вы мгновенно были расстреляны, как грабитель и подлец. Не делаю я этого только ради вашего мундира, который вы позорите; но вы должны мне дать честное слово, что не выйдете из замка прежде чем через час после нашего отъезда, и что доставите это письмо в собственные руки генерала, как бишь его, который командует в настоящее время немецкими войсками в Седане.
— А если я слова не дам? — сердито возразил улан.
— Я застрелю вас на месте, клянусь честью, — сказал Мишель, нахмурив брови.
Пруссак поднял голову и взглянул на своего противника, но увидал в его сверкающем взоре такую твердую и непоколебимую решимость, что невольно опустил глаза.
— Согласен, — сказал он, — не на моей стороне сила, я должен покориться. Даю вам слово тщательно исполнить навязанное вами поручение и не выходить отсюда с моими солдатами ранее часа после вашего отъезда. Но, — прибавил он, скрежеща зубами, — мы еще встретимся когда-нибудь, надеюсь, и тогда…
— Я вас уже не пощажу, — перебил Мишель, пожав плечами, — но убью как собаку.
Он повернулся к нему спиною, не уделяя ему более внимания, и пошел проститься с графом и членами его семейства, которые, несмотря на политические свои мнения, невольно восхищались храбростью и великодушием, только что оказанными в их присутствии молодым офицером.
Мы уже говорили, что французских солдат было двенадцать. Уланских же лошадей оказывалось всего одиннадцать, включая лошадь поручика Теплица.
Граф С. де В… был настолько любезен, что дал три собственные лошади в распоряжение беглецов; но великодушие это совершено было втихомолку и как бы против воли, чтобы ни под каким видом не испортить своих отношений с пруссаками.
— На лошадей, товарищи, и с Богом! — крикнул Мишель, вскочил на великолепного арабского жеребца, принадлежащего графу.
Солдаты мигом вскочили в седло. Мишель салютовал шпагой, и отряд выехал из замка. Он помчался во весь опор по направлению к Вогезским горам.[4]
Глава XXIII ХИЖИНА НА СААРЕ
Около двенадцати дней после событий, изложенных в предыдущей главе, то есть в среду 21 сентября, часу в пятом пополудни, два человека, которых по одежде можно бы принять за простых работников-стекольщиков, шли торопливыми шагами вдоль крутого в этом месте берега Саара. Дорога, по-видимому, вела через лес в деревню, или, вернее, местечко Сент-Квирин, справедливо славившееся своими зеркальными фабриками.
Дождь шел всю ночь и часть утра, но к одиннадцати часам лучи солнца прорвались, наконец, сквозь облака, и погода разгулялась.
Однако, в лесу еще не просохло и толстый слой грязи покрывал землю. Путники то и дело скользили, что очень замедляло их ход и до крайности было утомительно.
Порой они останавливались и тяжело опирались на свои узловатые палки, отирали со лба струившийся пот и глубоко переводили дух, как бывает при большой усталости.
Эти два путника, черты которых трудно было различить из-за широких полей их круглых шляп, надвинутых на глаза и скрывавших большую часть лица их, в походке и во всех движениях изобличали силу и легкость молодости.
Сверх всего у них надеты были длинные по колено блузы, и на ногах, обутых в башмаки с толстыми подошвами, были кожаные штиблеты, доходившие до половины бедра.
Каждый из странников нес на спине котомку, какую обыкновенно имеют странствующие по Франции работники, и оплетенная стеклянная горлянка, надетая через плечо, висела на левом боку.
Чем глубже они уходили в лес, тем более они на каждом шагу встречали препятствий.
Они шли рядом, не говоря ни слова, и все с беспокойством озирались вокруг, точно чего опасались.
Впрочем, кто бы ни были эти люди, что происходило в это время в той части Франции, могло служить достаточным поводом к беспокойству.
После несчастной и постыдной капитуляции в Седане немецкая армия заняла все пограничные департаменты. Расплывшись, так сказать, наподобие масляного пятна, она распространилась по всем направлениям мелкими отрядами, которые захватили без боя все местечки, оставшиеся без защиты, и ввели систему опустошений, грабежа и притеснений, давно уже задуманную в прусских советах, чтобы разорить и довести до отчаяния несчастные земли, на которые накинулись словно стая хищных врагов.
Проходя деревни, лежавшие на их пути, странники были свидетелями всякого рода неистовств, совершенных немецкими начальниками.
Одним чудом удалось им достигнуть целыми и невредимыми леса, где мы встречаем их.
— Из сил выбился, не могу идти далее! — вскричал один из путешественников, останавливаясь и тяжело опираясь на свою палку. — Я падаю от усталости. Хоть бы смерть грозила мне на этом месте, я должен отдыхать, пока не соберусь опять с силами.
— Вы не сделаете этого, командир, — возразил другой. — Не может быть, чтоб мы не встретили менее чем через час времени одну из хижин, построенных дровосеками, о которых нам говорили. Немного бодрости еще. Быть может, подобный приют отсюда в двух шагах и безумно тут останавливаться по колено в грязи. То ли мы еще выносили в Африке и все-таки не унывали.
— Тебе хорошо говорить, — возразил тот, которого спутник называл командиром и в котором читатель, вероятно, уже узнал Мишеля Гартмана. — Тогда было иное дело, надежда поддерживала нас. Мы знали, куда идем. Но здесь мы обречены на гибель, брошенные одни в неизвестной местности, почти без оружия и окруженные врагами. Бороться напрасно. Повторяю тебе, я изнемогаю от усталости и не в силах сделать одним шагом более.
— Положим, командир, но вот что. Вы слабы, а я силен. Возьмите меня под руку и опирайтесь на нее.
— К чему утомлять тебя, когда ты и так измучен? Какая в том польза, что мы сделаем несколькими шагами более? — возразил он уныло.
— Полноте, командир, я вас не узнаю. Вы ли это говорите? Вы, самый храбрый офицер в полку? Вы, который спасли нас из Седана чудом ума и геройства? Не воображаете ли вы, чего доброго, что я брошу вас тут? Да за кого вы меня принимаете? Честное слово, если вы не в силах идти, я понесу вас. Издохну, но не оставлю вас тут на дороге.
Грустная улыбка мелькнула на губах офицера; он крепко пожал руку честному малому, преданность которого ему давно была известна.
— Пусть будет по-твоему, — сказал он, — пойдем далее. Но я сильно опасаюсь, что все это поведет к одной роковой развязке.
— Что ж! После нас и миру конец, — весело сказал солдат. — Если мы умрем, судьба наша обеспечена. Ведь надо этим кончать рано или поздно. Смерть не пугала ни вас, ни меня; смотрели мы ей в глаза довольно часто; однако, если уж умирать, то не иначе как после борьбы до последней крайности и с сознанием, что сделано все человечески возможное, чтобы спастись. Возьмите меня под руку, командир, и с Богом в путь!
— Спасибо, не теперь еще. Я немного отдохнул. Если б позднее мне понадобилось, я попрошу твоей помощи.
Мишель и Паризьен пошли далее. Они подвигались вперед медленно и с величайшим трудом.
Так шли они около двадцати минут, когда Паризьен вдруг остановился и вскрикнул от радости.
— Видите? — обратился он к своему спутнику, указывая рукой на жилье, показавшееся из-за деревьев. — Что я говорил? Вот и желаемая хижина. Теперь мы спасены. Нам можно отдохнуть всласть. Однако, что значит упорство! Гм! Знаете ли, командир, пусть черт меня поберет с руками и с ногами, если в подобные минуты я не говорю себе, что есть милосердный Бог. Непременно быть должен, что бы там ни говорили.
Они свернули с дорожки, по которой шли, на узкую и едва проложенную тропинку, ведущую, по-видимому, бесконечными извилинами к завиденному ими жилью.
Тропинка, действительно, и вела к этой цели, но обходом. Хижина оказалась немного лучше, чем путешественники сочли ее сначала. Это не был один из тех временных приютов, которые дровосеки имеют обыкновение возводить, воткнув в землю несколько кольев. Конечно, это была избушка, крытая соломой, но довольно большая, с четырьмя окнами на лицевом фасаде, большою створчатой дверью, чердаком и навесом для двух-трех лошадей. Позади был огород, где росло не совсем систематично несколько овощей, огражденных, однако, от вредных животных забором.
Обогнув это вполне сельское жилище, путешественники достигли, наконец, фасада, который выходил на довольно широкую, обложенную камнями, проезжую дорогу. Дом стоял, так сказать, на перекрестке, где сходилось несколько дорог.
Словом, хижина просто была гостиница или, вернее, постоялый двор жалкого вида, но путникам показалась крайне приветлива, благодаря положению, в котором они находились.
Они вошли в приемную средней величины, с очень низким потолком; вся меблировка ее состояла из ветхого прилавка, нескольких хромых столов и стенных часов с кукушкой в деревянном сосновом чехле.
Женщина лет пятидесяти, в одежде местных крестьянок, сидела на солнце у двери и пряла, бормоча вполголоса молитвы.
Увидав подошедших посетителей, она подняла голову, ласково улыбнулась им и знаком пригласила сесть. Повторить приглашение не понадобилось. Вслед затем старуха встала, не говоря ни слова, и вышла в дверь направо от прилавка.
Измученные до последней степени Мишель и его солдат опустились, как уже сказано, на скамью и оставались довольно долго в состоянии какого-то бесчувствия, неподвижные и безмолвные.
Старуха вернулась.
В каждой руке она держала по запыленной бутылке.
Взяв на прилавке два стакана, она поставила их перед путешественниками, одну из бутылок выставила на стол, другую раскупорила и налила из нее до краев в оба стакана.
— Выпейте-ка, мои голубчики, — ласково сказала она кротким и добрым голосом. — Это хорошее бургонское. Не всем я даю его, разумеется. Но с первого взгляда увидала, что вам нужно подкрепить силы… Ни, ни! Не говорите еще… Подайте-ка только стаканы. Когда в желудке два стаканчика доброго вина, совсем оживешь… Ну, что вы теперь скажете? Не права ли я? — прибавила она, ставя бутылку на стол и глядя на посетителей с улыбкой.
— Ей-богу, правы, тетка! — весело вскричал Паризьен, облизываясь. — Вот-то вино на славу! И мертвого бы воскресило. О, добрая женщина, вам пришла счастливая и великодушная мысль! Только подобных два стакана вина могли восстановить некоторый порядок в моей голове и возвратить немного сил моему бедному коман… товарищу бишь, — поправился он.
— Полноте! Не стесняйтесь при мне, — засмеялась трактирщица. — Я честная женщина и француженка в душе. У меня пять сыновей в армии в эту минуту. Двое в Страсбурге, а три остальных ведут партизанскую войну. Разве долг не велит защищать отечество?
— Вы достойная женщина и мы искренне благодарим вас за то, что вы для нас делаете, — сказал Мишель, с трудом приподнимая голову.
— Постойте, господин офицер, не говорите еще, — с живостью остановила она его. — Я поставила кое-что греть в печке для вас. Более усталости голод изнурил вас. Когда покушаете немного хорошего бульону и кусочек чего-нибудь, вы точно переродитесь. Вот увидите.
— Но как же вы узнали?.. — начал Мишель.
— Что вы офицер? — перебила старуха. — Велика хитрость! Трудно угадать, нечего говорить! Несмотря на вашу костюмировку, я сразу увидала, кто вы. Разве вы думаете, что крестьянка непременно должна быть дурой? Я жена матроса, будет вам известно. Муж мой был при взятии Алжира. Дело давнее, как видите. Он участвовал и в крымской кампании. Констапелем был на корабле «ГенрихIV», потерпевшим такое страшное крушение, на которое, однако, моему старику жаловаться нечего; оно доставило ему крест и отставку. Видите, что мне, жене старого матроса, не трудно было узнать в вас военных. Но будьте покойны, вы здесь у друзей. Впрочем, пруссаки еще не показывались в наших краях, хотя, по дошедшим до нас слухам, они грабят и жгут все кругом.
— Мы от вас и скрываться не будем, добрая женщина, — ответил Мишель. — Вы не ошиблись в вашем предположении. Я, действительно, офицер из армии Мак-Магона. Мой товарищ унтер-офицер в одном полку со мною. Мы бежали из Седана после капитуляции и почти чудом успели пробраться сквозь все прусское войско, подвергаясь бесчисленным опасностям. Но теперь силы наши, особенно мои, совершенно истощились. Я не мог бы сделать шагу более, а между тем путь предстоит еще долгий.
— Не отчаивайтесь, господин офицер. Эта бедная хижина и все, что в ней, не исключая хозяев, в вашем распоряжении. Мой муж почтет за счастье, если вы останетесь у нас на все время, пока не поправитесь силами.
— Ваш муж в отсутствии? — спросил Паризьен.
— В отсутствии, любезный друг, — смеясь, ответила трактирщица. — С самого начала войны он обыкновенно ходит давать залпы, как он выражается, на десять или двенадцать кабельтовых от штирборта и бакборта нашего домишки, чтоб наблюдать, нет ли где улан и вовремя попотчевать их. Но солнце уже заходит. Старик мой скоро поворотит на другой галс, чтобы прийти на якорное место. Вот вы сейчас его увидите. Между тем, так как приемная эта открыта для всякого прохожего и в последние дни здесь немало проходило подозрительных людей, которые шныряют по лесу, то вы лучше ступайте за мною. Я поведу вас в соседнюю комнату, где вам будет удобнее и никто вас не увидит.
Посетители встали и пошли вслед за хозяйкой.
Добрая старуха ввела их в довольно просторную комнату, которой выбеленные известкою стены украшены были пятью-шестью расцвеченными гравюрами Эпиналя, изображающими морские сцены и вставленные под стеклом в рамки черного дерева.
Две кровати в виде гробов стояли у одной стены. Громадный камин, закрытый заслонкою, занимал другую стену. На камине стояли под стеклянными колпаками алебастровые часы с колонками и по обе стороны часов две вазы, также алебастровые, с искусственными цветами. Несколько стульев, два кресла, обитых трипом, и накрытый теперь стол с двумя приборами довершали меблировку комнаты.
— Садитесь, — пригласила хозяйка, — и будьте терпеливы. Через десять минут я принесу вам суп, которым останетесь довольны и в котором вы очень нуждаетесь, я вижу.
— Еще бы! — вскричал Паризьен, потирая руки.
— Мы отдаем себя в ваше полное распоряжение, добрая хозяюшка, — сказал Мишель. — Не знаю, право, как отплатить вам за ваше искреннее и добродушное гостеприимство.
— Баста! — весело вскричала старушка. — Об этом прошу не думать. Пейте и кушайте, а главное приходите в силы. Остальное вздор. Ведь вы у старого солдата, а с товарищами всегда поладить можно.
Она вышла и вскоре вернулась с суповой чашкой, от которой по всей комнате распространился приятный запах.
Несмотря на страшную усталость, гости усердно принялись есть. Добрая женщина с материнской заботливостью следила за всеми их движениями, подавала им наскоро приготовленные ею кушанья и приглашала их есть, не забывая между тем наполнять их стаканы, как только они опорожнивались.
Когда, наконец, два беглеца достаточно насытились, славная старушка мигом убрала со стола и вышла, посоветовав им лечь и выспаться, единственное средство, по ее мнению, возвратить себе бодрость.
Утолив голод, офицер и его спутник еще сильнее почувствовали утомление.
Они охотно последовали дружескому совету хозяйки и растянулись на постелях с наслаждением, которое испытывает, как бы силен ни был человек после того, что долго спал, не раздеваясь, как попало, на голой земле или на соломе.
Спустя десять минут они спали глубоким сном.
Они не умели бы сказать, сколько проспали времени, когда внезапно их разбудил знакомый звук близкой перестрелки.
Раскрыв глаза, они увидали в комнате красноватое отражение. Мигом они соскочили с постелей и оделись, чтоб быть наготове. Странно казалось то, что в доме царствовала мертвая тишина.
Ружейная пальба скорее удалялась, чем слышалась ближе, и не будь багрового зарева на небе, они подумали бы, что им померещилось.
Мишель зажег свечу, оставленную на столе, и отворил дверь в приемную. Там было только двое, мужчина и женщина.
Сидели они по обе стороны камелька. По-видимому, их одолевала дремота.
У мужчины ружье было положено поперек колен.
При шуме отворявшейся двери он поднял голову.
Это был хозяин, бывший констапель на корабле «ГенрихIV».
Ему, казалось, лет пятьдесят пять, не более. Роста он был среднего, но коренаст и, по-видимому, очень силен.
Лицо его, огрубелое как пергамент, приняло цвет кирпича, но дышало добротою и откровенностью, отчасти резкою, которая отличает моряков.
— Добро пожаловать, господа, — сказал он, улыбаясь. — Жалею, что вся эта суматоха разбудила вас; но когда вы уже встали и спать более не хотите, то прошу пожаловать к огню погреться. Мы выпьем по стаканчику утреннего рациона.
— Который же час? — с изумлением спросил Мишель.
— Около пяти часов утра, — ответил хозяин. — Если б не лес, то уже светало бы; солнце взошло назад тому десять минут.
Бывший констапель сходил сам, чтобы не будить жены, за бутылкой и стаканами, которые поставил на стол у камелька.
— Так вы беглецы из Седана? — завязал он беседу, после того как налил во все три стакана шипучей настойки из семечек терновых ягод, которая в большом употреблении в той местности.
— Да, из Седана, — ответил Мишель. — Нам двоим и двенадцати товарищам посчастливилось пробраться через неприятельское войско, переодетыми баварскими солдатами и прикинувшись, будто мы патруль.
— Славная штука, ей-богу! — засмеялся хозяин. — Наклеили же вы нос пруссакам, господин офицер, поздравляю вас. А куда девались ваши товарищи?
— Когда мы отошли довольно далеко от неприятельских линий, каждый пошел в свою сторону. Неосторожно было идти вместе, особенно в крае, где немецкие отряды то и дело снуют взад и вперед по всем направлениям. Думаю, однако, что большая часть наших товарищей последовали моему совету и скрылись в горах, чтоб примкнуть к вольным стрелкам, которые отстаивают шаг за шагом родную землю от чужеземного вторжения.
— А вы, господин офицер, осмелюсь спросить, не из любопытства, прошу верить, но из одного участия, в какую сторону изволите направляться?
— Норовлю в Страсбург попасть, если возможно. Во-первых, я по долгу службы обязан доставить генералу Уриху письмо от коменданта в Меце; во-вторых, я родом из Страсбурга и все мои родные там.
— Вы задались трудною, чтобы не сказать невозможною задачею, господин офицер. Страсбург обложен со всех сторон. Пруссаки занимают все окрестности на пространстве более чем в шесть лье. Едва ли вам удастся пройти через все неприятельские линии, не попавшись в плен.
— Вздор! — возразил Паризьен. — Раз прошли их, и другой пройдем, чтоб попасть в Страсбург. Не так ли, командир?
— Как! — вскричал бывший констапель, вскочив и снимая шляпу с широкими полями, в которой сидел все время. — Я имею честь принимать у себя штаб-офицера французской армии?
— С вами мы нашего инкогнито сохранять не будем, храбрый товарищ, — весело ответил Паризьен, — и так как я уже невольно открыл вам глаза, то и докончу начатое. Вот командир третьего зуавского полка Мишель Гартман, а я Жан Трюблэ, по прозвищу Паризьен, унтер-офицер во втором взводе третьей роты того же полка, к вашим услугам. Ведь вы старый служивый. Верно, и проказников зуавов знавали.
— Как не знать, — ответил, весело рассмеявшись моряк. — Видел я их и в Африке, и в Крыму под Альмою, и под Инкерманом. Жарко там было! Да, мы старые знакомые. Как я рад, что в моем именно доме вы искали убежища. При вас у меня точно будто двадцать лет с плеч спало; ведь и я участвовал в великой войне; матросы и солдаты жили по-братски и дрались бок о бок со времени алжирской экспедиции; они могут теперь считаться друзьями.
— Чего прежде не было, не так ли? — сказал Паризьен. — Они вели дружбу словно кошка с собакой, но, слава Богу, это время прошло. Садитесь же, хозяин.
— Вы позволяете? — почтительно обратился констапель к Мишелю.
— Как! Позволяю ли? Вы шутите. Я прошу вас сесть. Между нами теперь нет различия чинов. Мы три француза, которых свело несчастье отечества, и вместе оплакиваем бедствия, постигшие Францию.
— Я заметил под вашими блузами красную ленту в петлице мундира. И у меня такая же, командир; я заслужил ее в Крыму. Пусть же отличие это послужит основою товарищества между нами. Что вам сказала жена, когда вы вошли сюда, повторю теперь и я, Пьер-Мари Легоф, отставной констапель. Вы здесь у себя. Располагайте мною и тем малым, что я имею, как вашей собственностью.
— Благодарю, любезный друг, от души благодарю, — ответил Мишель, глубоко тронутый. — А так как мы теперь друг друга знаем, могу ли полюбопытствовать, что за пальба разбудила нас?
— Еще ничего верного не знаю, командир, но вскоре надеюсь получить известие. Уже несколько дней у меня живет старый друг и товарищ, отчасти контрабандист, отчасти охотник за чужою дичью, который занимается понемногу почти всеми запрещенными промыслами, а между тем честнейший человек на свете. При первом выстреле он не выдержал и бросился в лес на рекогносцировку, как он говорит. Это дюжий лоцман, доложу я вам, и править своим кораблем умеет. Он зорок донельзя и хитер как три жида, взятые вместе.
— Разве неприятель здесь близко?
— Еще бы! Вчера он занял местечко Сент-Квирин. Жители не оказали никакого сопротивления. Пруссаки, вероятно, попытались, как и везде, где проходят, совершить грабеж и обычные насилия. Оттого, должно быть, и выстрелы, слышанные нами.
— Гм! Если так, то наше счастье, что мы остановились у вас, товарищ, — заметил Паризьен.
— Это почему?
— А вот мы с командиром думали ночевать в Сент-Квирине, да на полдороги сил не хватило дойти.
— Действительно, это счастливо для вас, — согласился Легоф. — Кто знает, что могло бы случиться!
— Однако, ты тут заливаешься словно малиновка, старик, — вдруг сказала хозяйка, выпрямившись на своем стуле, — а мне даешь спать как чайке на рее, когда давным-давно пора бы мне готовить завтрак. Видите ли, дети мои, — прибавила она, обращаясь к зуавам, — мы все под Богом ходим, а теперь особенно никто знать не может, останется ли жив или нет. Принять меры осторожности всегда лучше. Я мигом сварганю вам завтрак. Если б вам вдруг пришлось уйти впопыхах; ничего хуже быть не может, как плавать без балласта. Необходимо, когда снимаешься с якоря, чтоб в трюме нагружены были припасы.
Хозяин засмеялся.
— Ты права, старуха. Хорошо быть наготове. Мы, моряки, говорим, не надо доверять приливу, когда он на ветер идет. Будьте покойны, командир. Хотя мы с женою и выброшены здесь на берег, родились мы на побережий океана и ладьею нашей управиться сумеем. Ну, старуха, не дремли. Дай нам хорошего супу с луком, яичницы со шнеком, да по доброму ломтю ветчины; все это мы польем несколькими стаканами кагорского, да капельку водки выпьем для пищеварения, и, ей-богу, что бы ни случилось, мы пройдем на нижних парусах как молодцы, не опасаясь нисколько, чтобы волны захлестнули нас, набежав сбоку.
— Ладно, ладно, старик. Я знаю, что мне делать. Никто, надеюсь, лучше меня не умеет управляться в камбузе.
И, действительно, добрая женщина принялась хозяйничать с ловкостью и проворством, которых в ней нельзя было подозревать.
Вмиг она развела вновь почти потухший огонь, очистила лук, нарезала шнек, разбила и смешала яйца.
— Отдайте канат и выходите в открытое море, — сказала она вдруг. — Вы мне мешаете у очага.
Мужчины засмеялись и пошли сесть в стороне.
Припевая и бормоча про себя, добрая женщина привела в порядок комнату, где ночевали путешественники, и накрыла там стол.
— Вам лучше будет, чем в приемной, — сказала она. — Говорить можете на свободе.
Не прошло трех четвертей часа с тех пор, как она принялась готовить, и завтрак уже был готов. Она пригласила гостей сесть за стол.
— Надеюсь, вы сделаете нам честь завтракать с нами, хозяин, — сказал Мишель, увидав всего два прибора. — Предупреждаю вас, если вы откажетесь составить нам компанию, ни я, ни товарищ мой за стол не сядем.
— И Боже мой! Добрые люди, не мучьтесь из-за такой малости. Когда командир позволяет, что ж, старик, мы и позавтракаем с ним. Я помолодею от радости, видя в моем доме такого прекрасного офицера. Ну, пойдемте, — заключила она, взяв в руки миску. — Суп готов и вкусен на славу, вот что.
Все четверо сели вокруг стола.
Несмотря на грустную озабоченность и терзавшее его беспокойство, Мишель Гартман увлекся сердечным радушием этих добрых людей.
На минуту он забыл всю тягость и опасность своего положения и разделил добродушную веселость честных хозяев.
Завтрак был оживлен и, разумеется, без всяких церемоний. Все оказали должную честь кушанью.
Превосходный ужин накануне нимало не помешал Мишелю и Паризьену есть с аппетитом людей, которые не уверены, будут ли обедать.
Между тем выстрелы мало-помалу удалялись и с некоторых пор прекратились совсем.
Ярко сияло солнце и в открытое окошечко комнаты слышалось веселое щебетание птиц в листве. Все предвещало прекрасный день. Отзавтракали. Облокотившись на стол, случайные товарищи беседовали, прихлебывая, как истые любители, горячий кофе, который поставила перед ними усердная хозяйка, и курили из глиняных трубок с тонкими черными как смоль чубуками, которые любят моряки и солдаты.
— Мне кажется, — заметил Мишель, — что приятель ваш что-то долго остается в отсутствии.
— Правда, и я этому дивлюсь. Ему давно следовало бы воротиться.
— Не случилось ли с ним чего? — вставил слово Паризьен.
— О! Этого опасаться нечего. Он знает местность как свои пять пальцев и пройдет руки в карманах посреди всей прусской армии, не быв замечен ни единым часовым. За ним же и собака его следит по пятам, громадный зверь, черт сущий, и пруссаков чует за полмили.
— Ага! У этого человека собака? — с живостью спросил Мишель.
— Да, собака, которой недостает только языка, чтобы не уступать в уме своему хозяину. А чутье какое, я вам скажу, у этого Тома.
— Тома? — вскричал Мишель. — Как это странно!
— Отчего же странно? Том очень обыкновенное имя для собаки…
— Правда, однако…
— Я очень желаю, чтоб мой товарищ скорее вернулся, — сказал Легоф, который не придал никакого значения обнаруженному офицером изумлению. — Он местность знает вдоль и поперек, как я уже говорил, и не отказался бы, я уверен, служить вам проводником; если же он не придет, вы должны будете согласиться ждать до вечера и тогда я сам проведу вас лесом к месту, где вас хорошо примут и где, главное, вы будете вполне безопасны.
— Благодарю, любезный хозяин, но мне, право, жаль было бы причинить вам этот труд и заставить удалиться из вашего дома, где ваше присутствие в эту минуту необходимо.
— Необходимо? Полноте! — вскричала хозяйка. — Неужели вы думаете, что я не в состоянии принять уланов, если они осмелились постучаться в мою дверь? Видела я и не таковских.
— Моя жена говорит вам правду, — продолжал Легоф. — Этой жалкой лачуге нечего опасаться врагов, которые притом не отважились бы рыскать по лесу, если только их небольшое число. А я не пущу вас удалиться одного. Вы не могли бы сделать и десяти шагов, не заблудившись, и кто знает, тогда что случилось бы. Но вот что уладит все. Я слышу шаги друга, о котором я вам говорил. Скоро он будет здесь. Вы его увидите и, повторяю вам, он не откажет служить вам проводником по моей рекомендации.
Действительно, шум быстрых шагов, направлявшихся к дому, послышался на дворе. Скоро дверь лачуги отворилась. Человек прошел по зале и явился на пороге комнатки.
— Оборотень! — закричал Мишель. — Я это угадал!
— Капитан Мишель Гартман! — сказал со своей стороны контрабандист. — Наконец, я отыскал его! Что ты скажешь на это, Том? Вот счастье-то!
Собака залаяла и подбежала приласкаться к офицеру.
Глава XXIV ЗДЕСЬ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ВРЕДНО СЛИШКОМ МНОГО ГОВОРИТЬ
Когда очень законное волнение, возбужденное такой неожиданной встречей, несколько утихло, Мишель Гартман торопил Оборотня рассказать ему, что с ним случилось после их разлуки, удались ли ему поиски и исполнил ли он священное поручение, вверенное ему.
— Успокойтесь, капитан, — ответил, улыбаясь Оборотень, — обе дамы в безопасности, или по крайней мере они были в безопасности, когда я их оставил четыре дня тому назад. К несчастью, дела идут таким образом, что я ни в чем более не могу уверить вас. Пруссаков теперь так много в Эльзасе в эту минуту как саранчи в пустынях Африки. А скоро, я боюсь, во всем краю не останется ни одного дюйма земли, где было бы возможно честному человеку ступить ногой, не боясь засады.
— А Страсбург все еще держится?
— Да, гарнизон и жители делают чудеса. Но их слишком жмут. У них недостаток во всем. И я боюсь, что несмотря на их героизм, они скоро будут принуждены сдаться.
— Что это вы говорите мне? Стены крепости прочны.
— Это правда. Но пруссаки придумали новый способ вести войну. Уже месяц Страсбург бомбардируется зажигательными бомбами, страшными снарядами, о которых до сих пор никогда не слыхивали. И не думайте, что пруссаки направляют бомбы, гранаты и ядра на укрепления. Нет, укрепления почти не тронуты.
— Но эти люди ведут войну как дикари! — вскричал с негодованием Мишель. — Подобное свирепство невозможно. Вас обманули.
— Меня не обманули, я видел. Два раза мне удалось пробраться в город, несмотря на все принятые предосторожности, чтоб окружить город огненным морем.
— Но, если так… вы видели моего отца?
— Да, я видел его, капитан; он представил меня генералу Уриху. Вы должны гордиться таким отцом. Забыв свои семейные несчастья, заключив в сердце свои собственные горести, он поддерживает мужество своих соотечественников, одушевляет их, делает из них героев!
— О, отец мой! — вскричал Мишель. — Какую тяжелую обязанность налагает на меня твой патриотизм! Могу ли я возвыситься до твоей преданности!
Наступило минутное молчание, потом молодой офицер продолжал голосом, прерывавшимся от волнения:
— Как наши неприятели оправдаются перед цивилизованным миром в тех гнусностях, которые они совершают так хладнокровно и решительно?
Вдруг приподняв голову, он прибавил:
— Скажите мне, каким образом вам удалось найти следы двух бедных женщин, которых мы оставили так опрометчиво во время нашей встречи с уланами?
— К чему говорить об этом, капитан? Входить в подробности о моих поисках значило бы терять время, слишком драгоценное для нас. Довольно вам знать пока, что я сказал вам правду, что ваша мать и сестра были здравы и невредимы и в безопасности четыре дня тому назад, и я оставил их исполненными надежды скоро увидеться с вами.
— Еще одно слово: где они?
— На ферме «Высокий Солдат».
— О! Когда так, я спокоен.
— Может быть, капитан. Не будет еще радоваться. А теперь скажите, каким образом встречаю я вас здесь.
— Это можно объяснить в нескольких словах. Я был послан маршалом Базеном к маршалу Мак-Магону. Я присоединился к армии во время того контрмарша, который принудили Мак-Магона сделать, вместо того, чтобы дать ему направиться, как он хотел, в Париж или в Мец, и который принудил его стать под Седаном, где после двухдневных геройских битв, когда еще ничего не было проиграно, хотя маршал был ранен, а пруссаки окружали нас, император, единственная причина всех наших несчастий, пренебрегая всеми законами чести, забывая, чем он обязан Франции и имени, которое он носит, осмелился поднять парламентерский флаг, несмотря на всех генералов, на всех солдат, которые умоляли его стать во главе их и пробиться сквозь неприятельские ряды. Не желая принимать на себя этого позора и стыда, я решился быть убитым скорее чем подвергнуться этому бесславию. По какому-то чуду смелости мне удалось, скрывавшись несколько дней в городе, пробиться сквозь ряды пруссаков в сопровождении нескольких человек таких же решительных, как я. После крайних утомлений мне удалось добраться сюда только вчера вечером, и я нашел здесь самое чистосердечное и дружелюбное гостеприимство.
— По виду, капитан, вы свежи и бодры…
— Да, слава Богу!
— Есть у вас оружие?
Мишель приподнял полу своей блузы.
— Вы видите, — сказал он, — два шестиствольных револьвера и сабля-штык. Достаточно?
— Не считая того, что и у меня есть то же, к вашим услугам, — прибавил Паризьен, смеясь.
— Это хорошо. Однако, если вы желаете, я могу прибавить шаспо для каждого из вас.
— Хорошо! — сказал Мишель.
— Изобилие оружия не вредно, — сказал Паризьен, смеясь.
— Теперь скажите, в чем дело?
— В безделице. В легкой засаде. Я ее устроил. Скажу вам только это.
— О! Когда так, я спокоен, — сказал Мишель, смеясь. — Но против кого устроена эта засада?
— Вот в чем дело. Вы знаете, что всю прошлую ночь дело было жаркое. Ну, теперь пруссаки думают, что они победили нас, и спокойно устраиваются в Сент-Квирине. За армией их следует какая-то знатная дама, неизвестно зачем; притом это не мое дело. Дама эта должна сегодня же присоединиться в Сент-Квирине к отряду, который разместился там. Я узнал это сегодня утром от улана, который отважился проскакать через весь лес и которого я убил в окрестностях Сен-Комского источника. Надо вам сказать, что бедняге посчастливилось получить мою пулю прямо в грудь. Когда я подошел к нему, я не остерегался. Он приподнялся и оперся на левую руку, нарочно для того, чтобы выстрелить в меня из пистолета. Том бросился на него и задавил. Я, конечно, обыскал улана и что нашел, кроме разных вещиц, которые переложил из его кармана в свой? Письмо, которое вез этот улан и в котором открывалась вся эта интрига. Вы понимаете, капитан, что я, не мешкая, предупредил друзей своих в окрестностях, вольных стрелков; они одобрили мой план, так что в настоящую минуту дядя Легоф, сам того не подозревая, составляет центр сборища более чем двухсот пятидесяти молодцов, ждущих только моего сигнала, чтобы взяться за шаспо. Они все засели в кусты, спрятавшись на деревьях, притаившись, разумеется, но уши и глаза держат остро, и готовы прискакать как только услышат крик совы.
— Ну вот и прекрасно! — сказал Паризьен, потирая себе руки. — Мы посмеемся. Славный фарс. И я буду участвовать, Оборотень?
— Экий же ты жадный! У тебя уж слюнки потекли изо рта. Теперь, если вы желаете, капитан, скрипки настроены и, по всей вероятности, вальс скоро начнется. Мои друзья и я, мы с гордостью будем у вас под начальством. Что вы думаете о нашем плане?
— Я думаю, что он хорош и что если мы успеем захватить эту даму, то это доставит нам большие преимущества.
— Это и мое мнение, — сказал Оборотень. — Легоф, ступайте за игрушками.
— С условием, — сказал моряк, — чтобы и я участвовал в этом.
— Еще бы! В этом нет ни малейшего сомнения. Продолжайте.
— Эй! Легоф, неизвестно, что может случиться, — сказала хозяйка, — я помогу тебе. Мы спрячем в известное тебе место все, что подороже. Осторожность соблюдать не худо.
— Хорошо сказано, тетушка. Вы настоящая жена солдата, — сказал, смеясь, Оборотень.
— Скажите жена моряка, невежа! Супруги вышли:
— Кто нас предупредит о приближении этой дамы? — спросил Мишель.
— Не бойтесь, капитан. Я поручил это моему мальчугану. Вы знаете его. Это чуткая ищейка, а для большей верности подождите…
Он встал и отворил окно.
— Сюда, Том! — сказал он своей собаке, которая лежала у его ног и вдруг вскочила, устремив на него свои большие глаза, сверкавшие как карбункулы. — Выслушай меня хорошенько. Беги к мальчугану. Не отходи от него. Как только почуешь пруссаков, беги сюда. Понял?
Том замахал хвостом.
— Хорошо, — продолжал контрабандист, погладив его. — Теперь в путь, да поскорее! Вот твоя дорога.
Собака выпрыгнула в окно и исчезла почти тотчас.
— Теперь нам не о чем беспокоиться, — продолжал контрабандист, закрывая окно.
— Что же нам делать теперь?
— Ждать, курить и разговаривать, если вы хотите, капитан.
В эту минуту вошел Легоф. Он держал два шаспо и два патронташа.
С чрезвычайной радостью, которую поймут все служившие в военной службе, оба солдата схватили предложенное им оружие, и так как следовало быть готовыми на всякий случай, Мишель и Паризьен, прицепив патронташи к поясу, надели сумки на спину и положили возле себя свои ружья и шляпы, как будто собирались в путь.
— Дядя Легоф, — сказал тогда Оборотень, — я оставлю вас приводить в порядок ваши дела. Пока вы будете прятать ваши вещи, я пойду побродить по окрестностям.
— Хочешь, чтобы я пошел с тобою? — спросил Мишель.
— Это бесполезно, капитан. Помогите хозяину уложиться; вы этим окажете ему услугу. Притом, я недолго буду в отсутствии. Я хочу только разузнать.
Не ожидая ответа капитана, он взял ружье и вышел.
— Вот встреча-то! — сказал Легоф. — Все к лучшему.
— Не будем валандаться, дядя Легоф, — сказал Паризьен. — Хотите, чтоб я вам помог?
— Не откажусь, — ответил тот, подмигнув. — Представьте себе, что я вырыл в погребе тайник, которого сам черт не отыщет. Если даже дом сгорит, все-таки там все останется в сохранности.
— Не будем терять времени, — продолжал Паризьен.
Оба вышли, оставив капитана в первой комнате наблюдать за окрестностями дома и отвечать, если окажется необходимо, тем, кто неравно придет.
Бывший констапель корабля «ГенрихIV» не солгал. Только он очень преувеличил, сказав, что он сам сделал тайник. Хижина, которой он сделался владельцем, была выстроена на том самом месте, где находился монастырь, исчезнувший уже несколько столетий тому назад. Моряк, работая в своем погребе, который он хотел увеличить, случайно нашел подземелье, простиравшееся довольно далеко до Саара.
После множества изворотов подземелье в одном месте составляло довольно обширную и почти круглую залу, в которую отворялось несколько галерей, но которых Легофу никогда не приходило в голову осмотреть.
Крепкая дубовая опускная дверь, обитая по краям железом, закрывала подземелье, и так как она находилась в углублении, куда дневной свет не проникал, ее почти невозможно было найти. Притом, если бы и нашли, железная решетка под опускной дверью, отворявшаяся только по известному секрету, устояла бы против всех усилий пройти далее. В этом-то подземелье Легоф и его жена решились скрыть свое скудное имущество. Уже несколько дней, предвидя события, они перенесли туда почти все свои драгоценности, так что им оставалось сделать очень немного путешествий для того, чтобы все, что они желали спасти, находилось в безопасности.
Легоф и Паризьен деятельно принялись за работу с помощью трактирщицы, которая приготовляла для них свертки.
Мишель, оставшись один в большой зале, сел возле двери и, облокотившись о стол, опустил голову на руку, предался своим мыслям.
Известия, принесенные Оборотнем, как ни были они неполны, однако оживили его мужество надеждой, поданной контрабандистом, увидеть мать и сестру, эти два существа, к которым он чувствовал такую глубокую нежность. Мало-помалу он до того погрузился в самого себя, что, так сказать, не сознавал того, что происходило вокруг него.
Вдруг он с живостью поднял голову и стал внимательно прислушиваться. Ему послышался быстрый топот лошади, бежавшей рысью. В самом деле, он не ошибся.
Мишель встал и хотел отворить дверь, но в ту же минуту дверь отворилась и вошел человек смелыми шагами.
— Эй, хозяин! — закричал он. — Разве здесь нет никого?
Он ударил ручкой хлыста по столу.
— Что вам нужно? — спросил Мишель.
— Кусок ветчины, ломоть хлеба, кружку пива и овса для лошади, — ответил незнакомец, садясь на стул.
— Подождите, я скажу хозяину, — ответил Мишель.
— Хорошо! Хорошо! Я не тороплюсь, — продолжал незнакомец, снимая шляпу и вытирая лоб большим клетчатым платком. — Уф! Как жарко! — прибавил он.
Без дальнейшей церемонии вынул он огромную трубку из кармана платья, методически набил ее и начал курить таким образом, что скоро исчез почти весь среди густого облака дыма.
Этот незнакомец, по-видимому, был старее средних лет.
Это был толстяк с выдавшимся брюшком, с красноватым и угреватым лицом, с веселым видом. Его серые глаза постоянно были в движении.
Он походил на барышника, был в поярковой шляпе с широкими полями, в сюртуке из серого сукна, на полах которого было бесчисленное множество карманов; панталоны из коричневого бумажного бархата были завязаны под холстинными штиблетами, доходившими до лядвий, а шпора на нем была только одна и привязана ремнем к правому каблуку. Опоясан он был широким кожаным поясом, а расстегнутый сюртук позволял видеть жилет с металлическими пуговицами.
Хозяин скоро явился. Переноска его вещей была окончена вполне.
— А! Вот и вы, дядя Легоф, — сказал незнакомец, фамильярно кланяясь ему рукой, — каким это чертом заняты вы? Я вас жду уже более четверти часа.
— Извините, господин Мейер, — сказал хозяин, дружелюбно тряся руку, протянутую ему, — если б я мог догадаться, что вы придете сегодня!
— Это правда, вы этого не знали, — сказал Мейер с громким хохотом. — Ба! Беда не велика. Подайте мне кусок окорока, ломоть хлеба и кружку пива, а лошади моей, пожалуйста, задайте овса. Бедное животное сделало большой переезд и, как хозяину, ей нужно подкрепиться.
Мишель, видя, что эти люди знают друг друга, сел поодаль, не желая вмешиваться в их разговор.
— Вас давно здесь не видать, господин Мейер, — продолжал трактирщик, услуживая своему посетителю.
— Да все дела, Легоф; не всегда едет человек, туда куда хочешь, особенно барышник. Кстати, хорошо здесь идет?
— Понемножку, господин Мейер, понемножку; времена пришли крутые.
— Кому вы это говорите? А все-таки человек, знающий дела, найдет способ сделать оборот. Что делает несчастнее одних, составляет счастье других. Не чокнетесь ли со мною? Мне всегда скучно пить одному.
Трактирщик налил себе стакан.
— За ваше здоровье, господин Мейер.
— Благодарю. За ваше! В окрестностях ничего нет нового?
— В новостях недостатка нет. Напротив, теперь их слишком много.
— Что хотите вы сказать? Неужели злодеи пруссаки уже здесь?
— Да, да, к несчастью. Не позже как в нынешнюю ночь поблизости отсюда было сражение. Вот, в Сент-Квирине.
— Ах, черт побери! Что это вы мне говорите? Уж не попал ли я впросак? Лес должен быть наполнен солдатами, пруссаками или французами?
— Уж этого я не умею вам сказать, господин Мейер.
— Однако, вы должны были приметить, спокойны ваши окрестности или нет?
— Я еще никого не видел сегодня. Вы первый перешли за порог моей двери.
— Вот это успокаивает меня. Итак, вы думаете, что могу, не подвергаясь большим опасностям, пройти по лесу; мне хотелось в Сент-Квирин; меня призывает туда одно дело. Но если эти негодяи пруссаки там, то лучше уж я проеду мимо.
— Это будет благоразумнее, особенно если вы везете деньги.
— Э! — сказал барышник с громким хохотом. — Я не без копеечки.
— Это ваше дело, господин Мейер, но позвольте, мне надо задать овса вашей лошади.
— Да, да! Ступайте.
Он начал есть очень аппетитно, оставив трактирщика заниматься своими делами.
Но барышник, по-видимому, не принадлежал к числу людей с молчаливым характером, для которых уединение составляет почти счастье. Проглотив три-четыре куска и выпив порядком, он вытер рот рукавом, поднял голову и обратился к Мишелю.
— Эй, приятель, — сказал он, — позвольте сказать вам словечко.
— Чего вы желаете, милостивый государь?
— Вы не согласны со мною?
— Я прежде должен узнать, в чем.
— В том, что лучше пьешь, когда пьешь не один.
— Я не вижу, почему вам не думать этого.
— Но ваше какое мнение?
— Я не имею никакого мнения на этот счет, я совершенно к этому равнодушен.
— Черт побери! — проворчал толстяк. — Этот молодчик кажется мне неразговорчив. Хотите выпить со мной стакан пива? — прибавил он громче.
— Благодарю вас. Во-первых, мне пить не хочется; во-вторых, я не имею привычки пить с людьми, которых не знаю.
— За этим дело не станет. Мы познакомимся. Ну, соглашайтесь. Кто же отказывается от стакана пива?
— Повторяю вам, я пить не стану.
— Как вам угодно. Только вы не весьма вежливы.
— Милостивый государь, — ответил Мишель, нахмурив брови, — я гораздо моложе вас и, вероятно, сильнее: не принуждайте меня сказать вам, что вы невежа. Кушайте, пейте сколько вам угодно, но меня оставьте в покое. Я не расположен сносить оскорбления.
Толстяк побледнел, из глаз его сверкнула молния.
Он сделал движение, как бы для того, чтобы встать, но удержался.
Лицо его приняло бесстрастное выражение, он пожал плечами и налил себе стакан, отвечая с равнодушием:
— Как вам угодно, я не принуждаю никого.
В эту минуту отворилась дверь и вошел Оборотеньвместе с трактирщиком.
— Дядя Легоф, — сказал Оборотень трактирщику, — поставьте-ка бутылку пива да два стакана на стол возле моего товарища; мы выпьем, не так ли, Мишель? — сказал он, подмигнув.
— С удовольствием, — отвечал тот.
— Должно быть, жажда к вам вернулась, — сказал толстяк, приподнимая голову.
— Что? — спросил Оборотень.
— Этот господин говорит не с вами, а со мною, — сказал Мишель. — Не правда ли, вы ко мне обращаетесь?
— Нет, — ответил барышник, набив себе полон рот. — Я сделал это замечание самому себе, только вопросительным тоном.
— О, о! Это что такое? — пробормотал Оборотень про себя.
Обращаясь к барышнику, он прибавил:
— Уж не поссорились ли вы с моим товарищем?
— И не думал. Я предлагал ему выпить со мною. Он отказался под предлогом, что не чувствует жажды, а теперь предлагает пить с вами. Я выставляю на вид это обстоятельство. Вот и все.
— Это правда. На это ничего нельзя сказать. Ну, я не буду так горд, как мой товарищ.
Подойдя со стаканом в руке к столу, где сидел барышник, он сказал:
— За ваше здоровье, за смерть пруссаков!
Барышник встал, но это движение сделал он так неловко, что запнулся о стол и выронил стакан, который разбился.
— Мне несчастливится сегодня, — сказал он с видом досады, — меня преследует какая-то напасть. Конечно, я буду пить один, тем хуже.
— Какая странная неловкость! — сказал с насмешкой Оборотень. — Ну хорошо, я выпью, не чокнувшись с вами, так как вас преследует напасть. Но это не помешает нам разговаривать?
— О! Я сам очень этого желаю.
— Итак, вы говорите?
— Я ничего не говорил.
— Это правда, но все-таки вы хотели что-то сказать. Вы барышник, то есть ловите рыбу в мутной воде. Ремесло хорошее в настоящие времена и… простите за вопрос, давно ли вы исполняете его?
— Да, — ответил тот, улыбаясь, — уже лет десять.
— Скажите, пожалуйста! — сказал Оборотень, облокачиваясь о стол. — Вы это знаете наверно?
— Как! Наверно ли знаю? — спросил незнакомец с удивлением.
— Да, я вас спрашиваю, наверно ли вы знаете, что вы барышник уже десять лет. Кажется, это ясно.
— Да, это, действительно, ясно. Но для чего вы обращаетесь ко мне с этим вопросом?
— Я?
— Да, вы.
— Чтоб узнать.
— Разве это интересует вас?
— Может быть. Слушайте. В то время, в которое мы живем, хорошо знать, с кем имеешь дело. Я еще не знаю, но представляю себе, что вы, наверно, не знаете того, о чем говорите.
— Вот уж это чересчур. Кто может это знать лучше меня?
— Может быть, я.
— Как вы?
— Да, я. Видите ли, я много путешествую и мне кажется, что я вас где-то встречал.
— Где-то или в другом месте, — возразил барышник с притворным смехом, но он был гораздо более растревожен, чем хотел показать.
— Или в другом месте, это для меня все равно. Хоть, например, на другом берегу Рейна; вы знаете другой берег Рейна?
— Совсем не знаю, я всегда был на этом берегу.
— Что это вы говорите, господин Мейер? — сказал трактирщик, смеясь. — В последний раз, как проезжали здесь, вы рассказывали мне, что доезжали до Кобленца.
— Вот именно что я припоминал! — вскричал Оборотень, ударив себя по лбу и засмеявшись. — Я вас видел в Кобленце.
— Я! Что мне там делать? Право, подумаешь, прости Господи, что вы делаете мне допрос!
— Положим, что это и допрос. Разве это помешает вам отвечать мне?
— Конечно, помешает… Разве я обязан рассказывать вам про свои дела?
— Почему же нет? Ведь вы же хотите звать нашидела.
— Какая мне нужда до ваших дел!
— Как вы произнесли это слово?
— Так, как следует произносить. Я знаю мой язык.
— Вы эльзасец?
— Конечно.
— Мне очень вас жаль, но вы не эльзасец и бесстыдно лжете с самого начала нашего разговора.
— Это что значит, негодяй? — вскричал барышник, вставая и схватывая свой кнут.
— Это значит, что вы попались. Перестаньте храбриться и сдавайтесь.
— Сдаваться кому?
— Мне, или нам, если вы хотите.
— Но за кого же вы принимаете меня?
— За то, что вы есть на самом деле — за шпиона.
— Я шпион?
— Разумеется. И хотите доказательство? В один вечер в Люксенбурге, вследствие ссоры, был арестован и отведен к бургомистру один человек для допроса. У бургомистра в этот день были гости. Он давал обед. Однако, он приказал привести пленника к себе. По правую руку бургомистра сидел человек, которого собеседники называли графом фон Бризгау. Это были вы.
— Я?
— Да.
— Вы с ума сошли, любезнейший!
— Правда, что цвет ваших волос переменился; они были рыжие, а теперь сделались каштановые.
Он проворно сорвал парик с головы барышника. Тогда обнаружились волосы ярко-рыжего цвета, длинные пряди которых рассыпались по плечам.
Барышник совершенно растерялся. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Он дико поводил глазами и члены его судорожно подергивались.
— Пощадите! — закричал он.
— Вы признаетесь?
— Я признаюсь во всем, что вы хотите, но не лишайте меня жизни.
— Ваша жизнь принадлежит нам, граф фон Бризгау. Поручите вашу душу Богу, потому через час вы появитесь перед Ним.
— Вы хотите убить меня? По какому праву?
— По тому праву, какое имеет всякий честный человек раздавить голову змеи под кустом и убить бешеную собаку, да и то еще змея и собака заслуживают сострадания, бедные животные, потому что, делая зло, они этого не сознают. Они принуждены к этому невольно. А ты, презренный шпион, будешь повешен.
Вдруг бросившись на барышника, контрабандист схватил его и связал. Негодяй так был испуган, что не старался даже защищаться.
— Что мы сделаем теперь с этим молодчиком? — спросил он у трактирщика.
— Мы упрячем его в какую-нибудь каморку. Если гарпун подцепил акулу такого сорта, благоразумие требует наблюдать за веревкой, а то она перегрызет ее.
— Это ваше дело, дядя Легоф. Есть у вас местечко, куда мы могли бы запрятать его, не боясь, что он убежит?
— Я беру это на себя. Предоставьте это мне.
Он наклонился к его уху и сказал Оборотню несколько слов шепотом, на которые тот ответил знаком согласия, потом схватил шпиона за бока, как мешок с картофелем, набросил его на плечи и спокойно унес.
В ту же минуту Том вбежал в залу, приподнялся на задние лапы, положил их на грудь своего хозяина, махал хвостом и тихо визжал.
— Это ты, Том? — сказал Оборотень, лаская его. — Пруссаки идут, так ли, моя старая собака? Будь спокоен; все готово, чтобы задать им пляску. Вернись к моему мальчугану, старик, ты мне не нужен.
Собака замахала в последний раз хвостом, потом убежала так быстро, как прибежала.
— Теперь, капитан, если вы соглашаетесь следовать за мною, мы отправимся к нашим друзьям, потому что скоро дело выйдет жаркое… Но я не вижу Паризьена.
— Здесь! — ответил тот, являясь в дверях. — Настраиваю инструменты для танцев. Что теперь делать.
— Следовать за нами.
— Я готов.
— Итак — в путь!
Не говоря более ни слова, они вышли из хижины.
Глава XXV КАКОЙ БЫЛ ПЛАН ОБОРОТНЯ И КАК ОН ВЫПОЛНИЛ ЕГО
Был четвертый час пополудни.
Вчерашняя гроза совершенно расчистила небо, на лазури которого не осталось ни малейшего пятна.
Погода была великолепная.
Солнце проглядывало во многих местах сквозь густые ветви и освещало прогалину, на краю которой возвышался скромный трактир Легофа.
Птицы начали под листвой свое пение.
Все было безмолвно и пусто в окрестностях хижины.
Самая полная тишина царствовала в этом сельском пейзаже.
Вдруг быстрый топот многочисленного отряда всадников, смешанный с хлопаньем бича, поднялся среди тишины, увеличивался каждую секунду и скоро почтовый экипаж, в сопровождении двадцати всадников, выехал на прогалину и остановился перед гостиницей.
Ливрейный лакей соскочил наземь и отворил дверцу.
Мужчина лет тридцати, весь в черном, высокий, худощавый, с бледным лицом, с чертами отшельника, с мрачной, холодной физиономией, вышел из экипажа и почтительно подал руку даме, чтобы выйти из кареты.
Дама поблагодарила его движением головы, вошла в гостиницу и, обращаясь к Легофу, который почтительно стоял перед нею с колпаком в руке, сказала с улыбкой:
— Я желаю освежиться и отдохнуть у вас несколько минут. Что у вас есть?
— Угодно вам стакан пива? К несчастью, я ничего другого не могу предложить вам в эту минуту.
— Если у вас нет ничего кроме пива, — сказала она, — я должна довольствоваться этим; только, пожалуйста, поскорее.
Она села у первого стола, который находился возле нее.
Мужчина, сопровождавший эту даму, вошел за нею в гостиницу и скорее упал, чем сел на стул недалеко от двери.
Он скрестил руки на груди и, опрокинувшись на спинку стула, немедленно погрузился, по крайней мере по наружности, в серьезные и глубокие размышления.
Легоф поспешил подать незнакомке кружку пива с пеной ослепительной белизны.
Путешественница поднесла к губам стакан, в который налила из кружки, когда прусский офицер вошел в залу, подошел к даме и почтительно поклонился ей.
— А! Это вы, полковник фон Штаадт, — сказала она с улыбкой, обнаружившей великолепные зубы, — вы очаровательны. Я не знаю, как вас благодарить. Вы обращаетесь со мною с любезностью, восхищающей меня.
— Я очень рад, что вы удостаиваете оставаться довольной тем немногим, что я мог сделать. Долго ли намерены вы оставаться в этой лачуге? Признаюсь, я очень удивляюсь, что вы согласились остановиться здесь.
— Почему это, полковник?
— Потому что, — ответил он поклонившись, — эта жалкая лачуга недостойна той чести, которую вы оказываете ей вашим присутствием.
— Благодарю вас за комплимент, полковник; к несчастью, мне невозможно ответить на вопрос, который вы сделали мне.
— Почему это?
— Боже мой! Любезный полковник, просто потому, что я сама не знаю, сколько времени должна остаться здесь. Это будет зависеть не от моей воли, а от присутствия одного лица, которого я должна встретить в этом месте и которого очень удивляюсь, что не встретила еще.
— О! О! Баронесса, — продолжал полковник голосом слегка насмешливым, — это почти признание; уж не свидание ли назначено у вас здесь?
— Вы пророк, любезный полковник, — сказала дама, смеясь. — Именно о свидании и идет дело.
— Это становится чем-то сентиментальным, баронесса. Свидание в лесу… в хижине!..
— Любезный полковник, эта насмешка очень изящна, но, к несчастью, очень ошибочна.
— Гм! Гм! — произнес полковник, смеясь.
— Напрасно кашляете таким образом. Уверяю вас, вы совершенно ошибаетесь.
— Я буду иметь честь заметить вам, баронесса, что вы сами назвали это свиданием.
— Действительно, но знаете ли с кем?
— О! Что до этого, баронесса…
— Я вам скажу.
— О! — произнес полковник, сделав движение отрицания.
— Нет, нет, я ничего не скрываю, я живу открыто. У меня назначено свидание здесь, в этой хижине, сегодня, в половине четвертого; я выражаюсь точно, не правда ли?
— Баронесса, сделайте милость!
— Я хочу, чтоб наказание было полное. Вы любопытны, полковник фон Штаадт. Будьте довольны, вы узнаете все. Человек, которого я жду и с которым, сказать мимоходом, я должна иметь очень важный разговор, имеет наружность довольно пошлую. Ему от сорока пяти до пятидесяти лет; он очень безобразен и барышник по ремеслу. Что вы думаете теперь обо всем этом?
— Баронесса, я, право, не знаю, как извиниться перед вами. Я осмелился позволить себе шутку, за которую вы очень жестоко наказываете меня.
— Снисхождение необходимо, и если вы раскаиваетесь, я прощаю вам. Сядьте напротив меня и если возможно для вас, разделите со мною противный напиток, налитый в эту кружку. Это будет наказанием за ваш поступок.
Полковник сел, улыбаясь, и выпил стакан пива с легкой гримасой.
— Вы знаете наверно, баронесса, что этот человек придет скоро?
— Я удивляюсь, что его еще нет здесь. Это он просил у меня свидания. Я догадываюсь, что он хотел доставить мне сведения или, лучше сказать, известия чрезвычайно важные.
— То, что вы говорите, очень неприятно для меня.
— Это почему?
— Потому что мне приказано прибыть в Сент-Квирин, не останавливаясь, и по самой кратчайшей дороге.
— Кто вам мешает?
— Вы. Не обманывайтесь притворным спокойствием, царствующим около нас. Уже около недели в этом лесу, в котором укрылось, как уверяют, несколько отрядов французских вольных стрелков, происходят постоянные битвы. Я дрожу при мысли оставить вас здесь с таким слабым конвоем, подверженную, может быть, какой-нибудь серьезной опасности, от которой горячо желал бы вас предохранить.
— Разве вы приметили какие-нибудь признаки, заставляющие предполагать?..
— Ничего не приметил, баронесса. Я принужден признаться, что все кажется мне совершенно спокойно, и признаюсь вам, это-то самое спокойствие и тревожит меня. Вы не можете себе представить, баронесса, смелость вольных стрелков; она превосходит всякое вероятие. Они ведут с нами ожесточенную войну и делают нам громадный вред. Дела дошли до такой степени в этом краю, что мы опасаемся их гораздо больше, чем регулярных войск. Они нападают на наши отряды повсюду, где встречают их, как ни были бы сильны эти отряды, и я признаюсь вам потихоньку, баронесса, что почти всегда они одерживают верх. Наша дисциплина не может предохранить нас от людей, которые ведут с нами войну из-за заборов, из-за кустов, и которых мы чаще всего примечаем только когда они нападут на нас и когда уже слишком поздно обороняться.
— Чего я могу опасаться здесь, в двух лье от Сент-Квирина, почти в виду аванпостов немецкой армии?
— Это правда, баронесса; но хотя наши войска занимают весь край, необходима величайшая осторожность. Вы непременно хотите остаться здесь?
— Я должна, любезный полковник.
— Ну, хорошо! Я не стану настаивать более, баронесса. Я оставлю вам весь мой конвой. Я отправлюсь один в Сент-Квирин. Когда исполню поручение, данное мне, я возьму с собою человек двести и вернусь к вам сюда. Дай Бог, чтобы предчувствия обманули меня и чтобы во время моего отсутствия, как оно ни будет коротко, с вами не случилось несчастья!
— Благодарю, полковник, но я думаю, что все эти предосторожности бесполезны. Что ни говорили бы вы там, край этот пользуется совершенным спокойствием.
— Повторяю вам, баронесса, это спокойствие, о котором вы говорите, и тревожит меня. Оно мне кажется неестественным. С этими вольными стрелками никогда не знаешь, в чем дело. Их бьешь, заставишь разбежаться, думаешь, что они очень далеко, и вдруг в ту минуту, когда думаешь, что отвязался от них, они как раз сядут на шею. Но позвольте, баронесса, — прибавил он, вставая, — почему вы не расспросили трактирщика? Может быть, этот человек мог бы дать вам некоторые сведения… Вы позволите мне расспросить его?
— Извольте, полковник.
— Эй! Трактирщик! — закричал полковник. — Подите сюда!
Трактирщик пришел.
— Что вам угодно? — спросил он.
— Баронесса фон Штейнфельд назначила свидание в этом доме одному человеку, барышнику, по имени… Как зовут этого барышника, баронесса?
— Мейер. Это человек лет пятидесяти, немножко толстый, низенький; он должен был находиться здесь к трем часам.
— Не знаю, о ком вы говорите, сударыня. С утра у меня не было человека, похожего на того, кого вы описываете.
— Вы видите, полковник, я должна ждать. О! Он придет сию минуту.
— До скорого свидания, баронесса. Я велю приготовить все в Сент-Квирине для того, чтобы принять вас достойным образом. Вы увидите, что я хороший гоффурьер, — прибавил он, смеясь.
На этот раз, почтительно поклонившись баронессе фон Штейнфельд, он пошел к двери.
Однако, прежде чем переступил за порог, он опять передумал.
— Я не знаю почему, — пробормотал он сквозь зубы, — но мне кажется, что этот негодяй обманывает нас. Эй, Шмит! — закричал он.
Тотчас явился унтер-офицер.
— Я оставляю вам здесь двадцать пять человек конвойных. Велите немедленно окружить этот дом. Вы находитесь в распоряжении баронессы фон Штейнфельд. Поручаю вам беречь ее с величайшей заботливостью. Баронесса ждет одного барышника, который скоро должен явиться. Он один имеет право войти сюда после того, как вы удостоверитесь в его личности. Поняли вы?
— Понял, полковник, но…
— Что такое?
— Полковник, — почтительно сказал унтер-офицер, — позволите ли сказать одно слово?
— Говорите.
— Полковник, с тех пор, как вы в этом трактире, я стою у двери, как этого требует мой долг, и, следовательно, слышал, что вы сказали этому человеку, — прибавил он, указывая на трактирщика.
— Ну?
— Я слышал его ответ.
— Далее.
— Этот человек вам солгал.
— А! — сказал полковник, крутя усы. — Это как?
— Если, как он уверяет, никто еще не останавливался у него целый день, мне хотелось бы знать, какая это лошадь была привязана к воротам, когда мы приехали, и которую, приметив нас, этот человек поспешил отвязать и отвести в конюшню. Мне кажется, с позволения сказать, полковник, — прибавил унтер-офицер с боязливой улыбкой, — что лошадь-то не одна пришла в эту гостиницу и, конечно, не сама привязала себя.
— Шмит, вы преумный малый. Ваше замечание чрезвычайно логично. Приведите-ка ко мне трех ваших солдат и вернитесь поскорее. А ты, негодяй, — прибавил полковник, обратившись к трактирщику, все бесстрастно и неподвижно стоявшему среди залы, — ты слышал, что говорил этот человек?
— Я не говорю по-немецки, — холодно ответил трактирщик.
— Он мне сказал, что ты солгал.
Легоф пожал плечами и ничего не отвечал.
— Какую это лошадь ты спрятал в конюшню, когда увидал нас?
— Прошу у вас извинения, но если б вы говорили по-французски как следует, вы не сделали бы такой ошибки. Я не прятал лошади в конюшню, потому что конюшня сделана для лошадей. Я отвел лошадь туда, потому что там ее место.
— Ты, кажется, насмехаешься надо мною, негодяй.
— Во-первых, я не негодяй; во-вторых, я у себя дома. Вы меня спрашиваете, я отвечаю вам, не признавая, однако, в вас права, которое вы присваиваете себе, и прошу вас быть вежливым.
— Черт побери! Французская собака! — вскричал полковник, обнажая шпагу. — Ты хочешь, чтобы я тебя испотрошил?
— Да, да, я знаю, — сказал Легоф, пожимая плечами, — у вас уж такая манера. Грубость и угроза. Вы храбры, когда считаете себя сильнее. Ну хорошо, делайте что хотите, я отвечать не стану.
Без церемонии повернувшись спиною к полковнику, он стал за своим прилавком.
В эту минуту явился унтер-офицер с тремя солдатами.
— Схватите этого негодяя! — закричал полковник. — Бейте шпагами, если он станет сопротивляться.
Солдаты обнажили шпаги и бросились на трактирщика.
— Ну вот и прекрасно! — закричал тот. — Теперь мы посмеемся. На абордаж! На абордаж!
Он поднес к губам серебряный свисток и свистнул звонко и продолжительно.
Потом он наклонился и, схватив тяжелый топор, спрятанный под прилавком, замахал им над головой так грозно, что солдаты оторопели и остановились в нерешимости.
Вдруг раздалась страшная ружейная стрельба и в то же время человек двадцать вольных стрелков, выскочивших неизвестно откуда, ворвались в залу.
Все это случилось в одну минуту.
Баронесса сидела бледная и холодная как труп, опрокинувшись на спинку стула; она обводила вокруг глазами и казалась в сильном испуге.
Мрачный мужчина, о котором мы говорили выше и который оставался до сих пор чужд всем этим происшествиям, встал, вынул пару револьверов из-под своего платья и холодно стал возле молодой женщины, вероятно, с намерением защищать ее.
Но почти тотчас, вероятно рассудив, что помощь его будет недействительна и что сам он подвергается опасности быть захваченным или убитым, он положил револьверы в карман и воспользовался шумом, чтобы исчезнуть.
Полковника фон Штаадта схватили его солдаты и увели, несмотря на его усилия и беспрестанные приказания не думать о нем, а заниматься одной баронессой.
Если положение полковника в хижине сделалось на минуту критическим, то на дворе оно было не менее опасно.
Кроме нескольких солдат, оставшихся на седле, все сошли наземь, и солдаты, собравшись небольшими группами, разговаривали и курили.
Следовательно, неожиданное нападение удалось вполне, и когда раздался первый залп, ни одна пуля не пропала даром.
Испуганные лошади вырвались из рук державших их и разбежались во все стороны, что еще увеличило беспорядок.
Полковник фон Штаадт почувствовал себя погибшим. Всякое сопротивление было невозможно.
Оставалось только несколько человек, да и те до того перепугались, что вместо того, чтоб защищаться, клали оружие и умоляли о сострадании невидимых врагов.
Вольные стрелки не выходили из засады и стреляли наверняка.
Полковник, побуждаемый инстинктом самосохранения, скорее чем всяким другим чувством, машинально схватил повод лошади, мчавшейся мимо него, вскочил в седло, вонзил шпоры в бока и помчался во весь опор по направлению к Сент-Квирину среди насмешек вольных стрелков, которые тогда появились и проводили его градом пуль.
Но беглец исчез так быстро, что им невозможно было узнать, ранен ли он.
Пока на дороге происходили эти события, внутри трактира разыгрывались другие сцены, не менее интересные.
По знаку Легофа, вольные стрелки, занимавшие гостиницу, приблизились к баронессе с очевидным намерением взять ее в плен.
Тот, кто распоряжался ими, имел нашивки сержанта, был высокий человек футов шести, худой как тычина, резкие черты которого, и смешные, и насмешливые, напоминали нюрнбергские карикатуры, и мрачная физиономия которого казалась еще зловещее от огромных очков. Читатель, без сомнения, угадал, что это наш старый знакомый Петрус Вебер.
Достойный сержант вежливо поклонился баронессе, почти лишившейся чувств, и наклонившись в то же время к уху одного из товарищей, пробормотал вполголоса:
— Какая красивая женщина! Она напоминает мне Маргариту Гёте… после греха, — прибавил он с сардонической улыбкой. — Что мы будем с нею делать?
— Это нас не касается, — ответил капрал, — нам надо только арестовать ее. Остальное касается командира.
— Освальд, друг мой, — возразил Петрус, — я нахожу, что вы любите арестовывать немок, особенно когда они хорошенькие. Но довольно об этом. Позвольте мне объясниться с этой благородной госпожой. Милостивая государыня, — прибавил он, снова кланяясь баронессе, — с кем я имею честь говорить?
— Напрасно заговариваешь, — возразил Освальд, — она не будет отвечать тебе.
— Ты думаешь? Почему же, позволь спросить? Разве я невежливо говорю?
— Я тебе замечу со всем уважением к твоим нашивкам, что ты совсем не понимаешь женщин.
— Освальд! Освальд! Я очень боюсь, друг мой, что ты слишком хорошо их знаешь.
— Может быть, но не надо быть очень сведущим, чтоб видеть, что эта женщина почти лишилась чувств. Притом, она находится в таком нервном волнении, что если б даже хотела отвечать тебе, то не может.
— Это основательная причина. Стало быть, мы знаем, что ты должен делать.
Освальд сделал утвердительный знак и с помощью двух своих товарищей тихо поднял баронессу и вышел из большой залы.
— Что мы будем теперь делать, Легоф? — спросил Петрус.
— После того, что случилось, мне это место кажется довольно опасным. Что вы думаете об этом?
— Да. Вероятно, полковник, которого наши товарищи имели слабость выпустить из рук, скоро вернется.
— Мое такое мнение, что нам убраться бы отсюда поскорее…
— Да, да, — сказал Оборотень, входя, — я послал к моим товарищам моего мальчугана; они уже на пути в главную квартиру. Куда девалась женщина, которая была здесь?
— Я ее арестовал, Оборотень, друг мой. Она в безопасности. Будьте спокойны.
— Тем лучше, потому что мы затеяли это дело собственно из-за нее.
— Что хотите вы делать с женщиной?
— Господин Петрус, несмотря на все уважение к вашей науке, позвольте мне сказать вам, что вы глупец.
— Как очарователен этот Оборотень! — сказал Петрус. — Точь-в-точь колючий терновник! Продолжайте, друг мой, вы очень интересуете меня.
— Хорошо! Хорошо! Насмехайтесь надо мною, но скоро вы будете принуждены сознаться, что мы напрасно потеряли время, захватив эту женщину.
— Это может быть. Что делаем мы? Едем? Остаемся?
— Не занимайтесь этим, господин Петрус. Возьмите на себя заботу о вашей пленнице, а главное, не дайте ей убежать; вот все, о чем я вас прошу.
— О! Относительно этого вы можете быть спокойны. Она в хороших руках. Итак, я оставляю вас?
— Да. Я скоро к вам приду.
— Как знаете!
Не настаивая долее, сержант ушел, набив трубку, и исчез в ту самую дверь, в которую вошли его товарищи.
Оборотень следовал за ним глазами, потом подошел и свистнул особенным образом.
— Что вы там делаете? — спросил Легоф.
— Зову наших товарищей. Разве вы не знаете, о чем мы условились?
— А! Очень хорошо! — отвечал моряк со вздохом.
— Знаете, если вам неприятно это…
— Нет, это необходимо, — ответил Легоф с энергией. — Наше спасение зависит от этого. Притом, — прибавил он, осматриваясь вокруг, — для того, что я оставляю здесь, не к чему церемониться.
В ту же минуту вошли Мишель и Паризьен.
— Ну что? Какие известия? — с живостью спросил Оборотень.
— Ничего очень важного. Пруссаки бегут как зайцы.
— А наши?
— Должно быть, также ушли; я не мог найти ни одного. Однако, я надеялся, судя по тому, что вы мне сказали…
— Терпение, терпение! Вы скоро увидите их, капитан, будьте спокойны, и тогда вы сожалеть не будете, что ждали. Я приготовил вам сюрприз; но перейдем к самому спешному. Не пройдет и часа, как пруссаки вернутся в большом числе. Вы знаете их привычку. У них то хорошо, что манеры все одни и те же, и сейчас знаешь как себя держать: бегут, когда их мало, а потом вернутся, чтобы быть десятерым против одного; но на этот раз напрасно будут трудиться. Не найдут никого. Помогите-ка мне загородить двери мебелью.
— Что вы хотите делать? Не думаете ли запереться в этом доме? Вот было бы безумство!
— Не тревожьтесь.
Подавая пример, Оборотень начал запирать двери, ставни, потом стал громоздить столы, стулья, табуреты и даже конторку притащил на середину комнаты.
Его три товарища так деятельно помогали ему в этой работе, что она скоро была окончена.
— Теперь вот это, — сказал Оборотень, вытаскивая из шкафа бочонок с порохом и подкатив его на середину комнаты.
— Видали вы когда мышеловку? — смеясь, сказал Легоф. — Ну, смотрите-ка. Если она удастся, пруссаки будут иметь по возвращении очень приятный сюрприз. Принесите мне все камни и все бревна, какие только найдете.
Он поставил бочонок прямо, обложил его камнями и поленьями, которых наложил на высоту футов трех, оставив пространство свободное шириною в один фут над бочонком, из которого он выбил дно.
— Какой славный порох! — сказал он. — Смотрите-ка.
— Вы, верно, хотите взорвать дом? — раскричался Мишель.
— Вы увидите мою механику. Я уверен, что вы похвалите меня.
Говоря таким образом, он привязал одну веревку толщиною в мизинец к двери, другие две к каждому окну, потом связал все эти три веревки вместе и вернулся к бочонку.
— Теперь, товарищи, — сказал он, — вы хорошо сделаете, если дадите тягу. Если моя махина не удастся, мы можем все четверо полететь на воздух, а в этом нет никакой необходимости.
— Но зачем взрывать дом? — спросил Мишель.
— Зачем? Для того, чтобы пруссаки не открывали входа в подземелье, через которое мы убежим и которое прямо приведет их в нашу главную квартиру. О! Это известные пролазы; с ними надо принимать большие предосторожности.
— Это правда, однако подобный способ…
— Это согласно с правилами войны, капитан. Мы не солдаты, а крестьяне. Пруссаки делают с нами разные гадости. Если мы осмеливаемся сопротивляться, они нас вешают и стреляют под тем предлогом, что мы не имеем права защищать свои дома, наших жен и детей. Итак, вы, господа военные, извольте вести вежливую войну с этими варварами, а мы будем вести войну ожесточенную, беспощадную.
Когда контрабандист произносил эти слова, черты его лица приняли выражение неумолимой ненависти и свирепости.
— Да, — прошептал Мишель, — лютые поступки наших врагов оправдывают эту месть и вы говорите справедливо, что вы не солдаты, а отцы семейств. Я не смею ни оправдывать вас, ни обвинять. Поступайте как хотите; вас будет судить Господь.
— Да, капитан, Господь будет нас судить и, конечно, простит. Ступайте… оставьте меня одного.
— Вот если бы все так действовали, скоро сделалась бы перемена, — прошептал Паризьен. — Какой храбрец! Вот настоящий патриот!
Все трое вышли, спустились в погреб, потом в подземелье и скоро добрались до большой залы, о которой мы говорили.
Там Легоф спрятал самые дорогие свои вещи.
— Вот все, что остается мне! — сказал моряк с печальной улыбкой. — Но я не стану жалеть о моей бедной лачуга, если план Оборотня удастся.
— Механика эта не без приятности, — сказал зуав. — А какой это храбрец! Я солдат, а черт меня дери, если б у меня достало смелости так спокойно приготовить такую страшную и дикую махину!
Мишель сел на тюк и предался печальным мыслям.
Прошло полчаса. Потом в подземелье послышались поспешные шаги и почти тотчас явился Оборотень.
— Уф! — сказал он. — Порядком я пробегался. Но все готово. Пруссаки могут прийти, когда хотят. Впрочем, по всей вероятности, они не замедлят.
— Как это? — спросил Мишель.
— Да, в ту минуту, как я кончал привязывать веревку к заряженному пистолету, который положил над порохом, мне послышался лошадиный галоп по лесу.
— Черт побери! — вскричал Паризьен. — Если вы говорите правду, мне кажется, что нам не худо бы побегать немножко, чтоб развязать себе ноги; здесь опасно оставаться.
— Нет, нет! Напротив, останемся здесь. Опасности нет. Мы слишком далеко и слишком низко, так что до нас взрыв не дойдет, как бы ни был он силен.
— Вы знаете это наверно? А то ведь мне не очень весело быть этак похороненным заживо.
— Полно, трус! — возразил с насмешкой Оборотень.
— Ну да, признаюсь, я боюсь. Это первый раз в моей жизни. Странно, я никогда этого не чувствовал. Дух захватывает, брюхо подтягивает… Ах! Какое странное чувство страх!
В эту минуту послышался глухой взрыв. Земля задрожала, камни свалились со свода подземелья и эхо повторило шум нескольких обвалов.
— Наконец! — вскричал Оборотень. — Эти нас преследовать не станут. Нам нечего опасаться, чтобы они нас обворовали или убили.
— Бедные люди! — прошептал Мишель. — Они не были виноваты.
— Кто же виноват?
— Те, которые ими распоряжаются и управляют.
— Капитан, я человек бедный, но скажу вам прямо, что если б те, которые ими распоряжаются, не находили таких послушных сообщников, то не было бы ни тиранов, ни злодеев.
Мишель потупил голову и не отвечал.
— Хорошо сказано! — пробормотал зуав.
— Теперь, товарищи, нам нечего здесь делать. Обязанность наша кончена; следуйте за мною. Нас ждут в главной квартире.
Все четверо пошли тогда по темной галерее. Контрабандист шел впереди, держа в руке зажженный факел.
Глава XXVI ВОЗМЕЗДИЕ
До войны и во время ее существовала в нескольких ста метрах от местечка Абрешвилера деревушка, почти неизвестная, состоявшая из нескольких хижин и известная в краю под названием Бараки, название характеристическое и показывающее незначительность этой деревеньки.
Без сомнения, она теперь исчезла, разрушенная прусским огнем, как многие другие центры народонаселения гораздо важнее в нашем несчастном Эльзасе, а находилась она на вершине довольно высокой одной из вогезских передних гор.
Несколько лачуг, разбросанных на площадке посредственной величины, представляли любопытному глазу туриста самый живописный вид. Она представляла в малом виде самое поразительное зрелище горной жизни, жизни столь простой, столь свободной, самое искреннее выражение полуцивилизованной жизни, приспособленной к самым прочным и трудолюбивым условиям.
Население Бараков простиралось только до пятидесяти человек обоего пола, земледельцев, дровосеков, а по большей части сплавщиков.
Каждый год самые сильные и смелые люди с незапамятных времен имели обыкновение наниматься сплавщиками в Абрешвилер.
Эта неизвестная деревенька являлась как бы оазисом труда среди громадных лесов, окружавших ее со всех сторон.
Площадка Бараков обрабатывалась очень старательно. У каждого домика был свой сад с фруктовыми деревьями, огород и конопляник.
Но и в этом неизвестном уголке, не упомянутом ни на какой ландкарте, война тяжело дала чувствовать себя. Прусские войска побывали в этой деревеньке, опустошили хижины, срубили фруктовые деревья и увели скот, единственное имущество несчастных жителей, которых они оставили в самой страшной нищете и отчаянии.
Жители Бараков даже не знали, что война существует, и спокойно продолжали свою трудолюбивую жизнь, не подозревая того, что происходило вокруг них.
Поэтому велики были их горесть, их смятение, когда в одно утро, хотя они не подозревали приближения какой бы то ни было опасности, пруссаки вдруг ворвались в их жалкие хижины, как стая хищных зверей, ограбили их, оскорбили и оставили после себя трупы двух девушек и одного старика.
Было восемь часов вечера. Сильный южный ветер сгибал высокие сосны и потрясал их ветвями с печальным и таинственным шумом. Луна, закрываемая каждую минуту облаками, быстро пробегавшими по небесному пространству, бросала неверный свет на пейзаж.
Альтенгеймские вольные стрелки основали в этой деревеньке свою главную квартиру. Заняли они этот пункт с такою смелостью в присутствии пруссаков, что те, несмотря на все свои усилия, не могли этому помешать. Немецкие войска занимали только долину и Абрешвилер, а больше ничего. Напрасно старались они несколько раз вытеснить своих беспокойных соседей, все покушения их оставались безуспешными.
Эти мрачные победители, подвергшие выкупу самые важные крепости, волочившие свои сабли по улицам самых богатых городов, не могли захватить жалкую площадку, защищаемую простыми вольными стрелками, то есть работниками, крестьянами, из которых патриотизм сделал солдат, и они были принуждены глотать бессильный стыд у подножия этой площадки, которую никак не могли захватить.
Все дороги, все тропинки, ведущие к этой площадке, были уничтожены, и при каждом нападении пруссаков на них обрушивались скалы, и те, которые бежали, прихрамывая, не укрывались от метких пуль вольных стрелков.
Вольные стрелки, сообщаясь по неизвестным тропинкам гор с другими отрядами волонтеров, составляли на этом пункте авангард армии партизан, которые несколько месяцев, за недостатком армии, так подло выданной в Седане, останавливали неприятеля и заставляли его терпеть сильные поражения, как только он осмеливался ступать в горы.
Война из-за кустов была прочно организована. В Эльзасе и Лотарингии сражались не солдаты. Регулярные войска были преданы изменой и находились в плену в Германии. Место их занял народ. Он восстал весь и его героизм, высокое самоотвержение должны были доказать завоевателям, как они ошибались, предполагая, будто эльзасцы и лотарингцы могут когда-нибудь забыть, что они французы и сделаться немцами.
На площадке были разведены большие бивуачные огни.
Около этих огней одни волонтеры спали на соломе, закутавшись в одеяло, другие при сумрачном блеске пламени чинили одежду или чистили оружие, наконец, некоторые грелись, разговаривая и куря.
Часовые молча прохаживались с ружьем на плече и допрашивали патрули, постоянно ходившие дозором.
Словом, в Бараках караулили хорошо, не пренебрегали никакими предосторожностями.
В главной комнате хижины, перед которой стоял часовой, собрались многие наши знакомые.
Комната эта, совершенно опустошенная, в щели которой постоянно врывался холодный ветер, не имела никакой мебели кроме нескольких стульев и стола, на который было наброшено одеяло вместо скатерти и на котором находились перья, чернила, бумага и подробная карта Эльзаса и Лотарингии, и многочисленные пятна показывали, что с нею советовались часто.
Мы заметим мимоходом, что эта карта, где указаны были даже малейшие кусты, была происхождения немецкого.
Два фонаря цилиндрической формы, похожие на морские, присоединяли свой свет к огню, разведенному в камине, и распространяли свет достаточный для того, чтобы можно было читать и писать.
Лица, о которых мы говорили, сидели у камина и разговаривали с трубкой или сигарой во рту.
Первый и самый важный был Мишель Гартман, возле которого сидел его брат Люсьен.
Мы упомянем потом о Людвиге, командире вольных стрелков, о Петрусе Вебере, Адольфе Освальде и Паризьене.
Две двери, сообщавшиеся направо и налево с внутренними комнатами, были заперты, и перед каждой дверью стоял волонтер с ружьем.
В залу вошел Оборотень.
— Какие известия? Какие известия?
— Известия печальные, как всегда, но я могу сообщить их только совету.
— Хорошо, — сказал Людвиг, — сержант Петрус, потрудитесь сказать членам совета, чтобы они сию минуту явились сюда.
Петрус поклонился и вышел.
— Знаете вы что-нибудь о ферме «Высокий Солдат»? — спросил Мишель с беспокойством у Оборотня.
— Ничего, решительно ничего. Я не мог отправиться туда, как вам обещал. Скоро вы узнаете, что мне помешало, и я убежден, что вы извините меня.
— Притом, — сказал Люсьен, — мы условились, что как только будет возможно, мы отправимся на ферму и привезем сюда матушку и сестру.
— Да, да, — сказал Мишель с озабоченным видом, — я не знаю, почему я так тревожусь. Убежище, выбранное ими, ненадежно. Оно слишком близко к немецким войскам. Я боюсь несчастья.
— Прогоните эти мысли, капитан. Разве такой человек, как вы, должен приходить в уныние? Притом, если я не мог сам быть на ферме «Высокий Солдат», то послал туда моего мальчугана. Вы знаете, как он ловок и предан. Ваши дамы теперь предупреждены, и когда они узнают, что вы так близко к ним, то мужество и надежда воротятся к ним. Ах! Если б я знал, что господин Люсьен ваш брат, мы давно уже съездили бы на ферму за этими дамами.
— Однако, когда вы увидали моего отца в Страсбурге, он вам говорил, что мой брат находится в числе альтенгеймских стрелков. Разве вы этого не помнили?
— Я имею смутное воспоминание о том, что вы говорите, капитан; но признаюсь вам смиренно, что теперь мысли мои до того растерзаны печалью, что если мне и было говорено, то я совсем забыл.
— О! Я на вас не сержусь, храбрый товарищ; вы дали доказательства такой преданности с тех пор как я вас знаю, что я не могу упрекать вас за недостаток памяти. Дай Бог только, чтоб мы не опоздали!
— Полноте! Опять?
— Повторяю вам, меня терзают мрачные предчувствия.
— Хорошо, хорошо! Предчувствия все равно что сны, ложь, которой не следует приписывать важности. Но вот члены совета и мы займемся вещами очень серьезными.
Как мы сказали выше, альтенгеймские вольные стрелки учредили военный совет.
Совет этот, под председательством командира, состоял из двух капитанов, двух поручиков, двух унтер-офицеров и двух волонтеров.
— Господа, — сказал Людвиг, кланяясь вошедшим, — прежде чем совет соберется, позвольте мне отдать президентство человеку гораздо более сведущему в военном искусстве, чем я, и гораздо более способному, чем я, быть вашим начальником; словом, я уступаю мое место господину Мишелю Гартману, батальонному командиру в третьем зуавском полку и сыну человека, которого мы все любим как отца. Вы, без сомнения, помните, мои друзья и товарищи, что я согласился быть вашим начальником только до той минуты, когда обстоятельства позволят господину Мишелю Гартману принять начальство над нашим отрядом. Эта минута настала. Я исполняю обещание, данное мною, слагая с себя всю власть и передавая ее господину Мишелю Гартману.
Члены совета и другие офицеры, вошедшие за ними, так же как и волонтеры, наполнявшие комнату, ответили радостными криками согласия.
Мишель встал.
— Господа, — сказал он, — благодарю вас из глубины сердца за новое доказательство преданности, собственно не мне, а моему семейству. Я горжусь за своих и за себя искренней дружбой, которую мы вам внушили.
Но начальство, которое вы так великодушно предлагаете мне, принять я не могу по множеству причин, из которых вот самые серьезные. Я офицер регулярной армии и ничего не понимаю в войне партизанской, в битве из-за кустов. Невольно я захочу придерживаться теории военного искусства и, наверно, доведу вас до бедственных последствий. То, что возможно и необходимо с солдатами, я убежден, неприменимо с волонтерами. Вами предводительствует человек, который лучше кого бы то ни было сумеет исполнить трудную задачу, заданную им себе. Этот человек пользуется вашим полным доверием; он заслуживает его. Он вам доказал, что он умеет делать; сохраните же его начальником, вы не можете выбрать лучшего. Я желаю только, чтобы во все время, пока я могу остаться с вами, мне было позволено служить в ваших рядах простым волонтером, потому что вы знаете, я не свободен, я принадлежу армии, и не сегодня завтра я буду принужден оставить вас. Примите же всю мою признательность и считайте все сказанное мною выражением моей твердой воли. Я не могу и не хочу мешать начальству храброго Людвига и желаю быть одним из его солдат.
По твердому и решительному тону, которым были произнесены эти слова, присутствующие поняли, что всякая настойчивость с их стороны будет не только излишнею, но даже может оскорбить человека, которого они все любили. Они только пожали ему руку и выразили, как они сожалеют о его решимости.
По знаку Людвига члены совета сели за стол.
Петрус и Люсьен сели возле Людвига, Мишель остался у одного угла камина, а Паризьен у другого.
Глубину комнаты занимало несколько офицеров, унтер-офицеров и волонтеров, пожелавших присутствовать при рассуждениях совета.
— Господа, — сказал начальник вольных стрелков, обводя взором вокруг себя, — заседание открыто. Наш товарищ Оборотень должен сообщить нам важное известие. Мы поручили ему сделать рекогносцировку близ неприятельских линий, и он желает отдать отчет перед советом. Говорите, — прибавил он.
Оборотень подошел к столу и, опираясь прикладом о землю, а обе руки скрестив на дуле, начал таким образом:
— Друзья и товарищи, я скажу вам немного, но известия эти наполнят вас печалью, а мне они растерзали сердце.
После успешной засады, которую мы расставили около гостиницы Легофа, нам удалось добраться до нашей главной квартиры, но мы прежде взорвали гостиницу и увели с собою десять уланов, барышника, известного вам, и шпионку, которую нам удалось захватить.
— Эти пленники здесь, — сказал Людвиг.
— Я знаю и очень этому рад, — продолжал контрабандист, — потому что мы должны совершить правосудие, и надеюсь, что на этот раз не поддадимся чувству сострадания, которое придает смелость нашим врагам и поощряет их к новым зверствам. Бродя по лагерю, я приметил, что Легоф исчез. Я узнал, что добрый трактирщик не нашел своей жены здесь, как рассчитывал, и натурально сильно растревожился и отправился отыскивать ее. Я тотчас попросил у нашего командира позволения сделать рекогносцировку, и признаюсь вам, тайной моей целью было, если еще не поздно, помочь моему приятелю, неосторожности и отваги которого я опасался. Напрасно отыскивал я Легофа во всех местах, где мог предполагать найти его; я не находил его следов нигде и решился вернуться сюда, но сделав, однако, последнюю попытку. Я хотел пробраться в Абрешвилер и постараться узнать там известия о том, кого я отыскивал так долго. Известия эти я получил почти тотчас, и таким образом, воспоминание о котором заставляет меня дрожать в эту самую минуту. Легоф, жена его и трое из наших волонтеров, провожавших ее, были захвачены в плен прусским патрулем и уведены в Абрешвилер. В ту минуту, когда я входил на деревенскую площадь, я увидел как пленных выводили из ратуши.
Контрабандист остановился и судорожно провел по лбу, влажному от пота.
— Ну что? — спросил командир среди глубокой тишины.
— Наши три волонтера, трактирщик и его жена были присуждены к расстрелянию.
— И этот приговор?.. — вскричал командир с беспокойством.
— Немедленно был исполнен при мне, — продолжал контрабандист задыхающимся голосом. — Наши три товарища, бедный Легоф и его достойная жена были отведены на площадь и в присутствии толпы, онемевшей от отчаяния, пруссаки расстреляли их всех пятерых.
— О, это ужасно! — вскричали все присутствующие с трепетом негодования.
— Вот что я должен был вам сообщить, товарищи и друзья, — продолжал контрабандист прерывающимся голосом.
Поклонившись совету, он отошел в сторону.
— Вы слышали, господа, — сказал тогда командир. — И у нас также есть пленники; как мы должны поступить с ними?
— Мое мнение, — сказал Петрус, — а я позволяю себе говорить, потому что я один из младших членов совета, что мы должны обращаться с теми неприятелями, которые попадаются нам в руки, точно таким образом, как они обращаются с нами.
— Господа, — сказал, вставая, капитан Пиперман, — я подтверждаю слова, произнесенные нашим товарищем и другом Петрусом. Пруссаки объявили, что они ведут ожесточенную войну с вольными стрелками, что они не признают их воюющей стороной и что все, которые попадут к ним в руки, будут расстреляны без всякого суда. Пруссаки не признают прав войны. Они идут гораздо далее, они не признают права людей, потому что расстреливают даже женщин. Я требую, чтобы мы применили к ним закон возмездия: око за око, зуб за зуб.
— Именно так, — ответил Петрус, — нельзя ласкать тигров, их убивают безжалостно повсюду, где встречают. Я не солдат, я человек не кровожадный, — прибавил мрачный студент тоном облизывающегося кота, — но, по моему мнению, некоторые жестокости требуют неумолимого правосудия. Если пруссаки убивают нас без суда и таким образом подают пример жестокости, пусть пролитая кровь падет на их головы. Война, которую мы ведем, справедлива. Если люди имеют право защищаться, так уж, конечно, те, которых разоряют, собственность которых сжигают. Объявим же, что за каждого из нас, взятого в плен неприятелем и расстрелянного, мы будем безжалостно расстреливать десять пленных, которые попадутся нам в руки.
— Господа, — сказал Людвиг, — вы слышали слова двух ваших товарищей; как вы думаете по душе и совести, должны ли мы безжалостно платить за пролитую кровь кровью пролитой еще в большем количестве?
— Да, — тотчас ответил Люсьен, — потому что кровь, пролитая нашими неприятелями, была невинная.
— Я жду решения совета.
Офицеры поговорили несколько минут между собою шепотом, потом водворилась тишина.
— Господа, — сказал командир, — вот что мы решили: за каждого вольного стрелка, расстрелянного неприятелем, десять неприятельских солдат будут умерщвлены. Пусть введут пленных.
Страшная тишина царствовала в комнате.
Все присутствующие одобряли принятую решимость, но обстоятельства были до того важны, положение до того критическое, каждый так хорошо понимал свою ответственность, что никто не возвысил голоса для того, чтоб подтвердить свое согласие.
Человек десять волонтеров под предводительством сержанта вышли из рядов тесной толпы, направились к одной из дверей, о которых мы говорили выше, отворили их и привели пятнадцать человек, из которых на четырнадцати был уланский мундир. Пятый был барышник.
Пленников поставили в один ряд перед столом.
Волонтеры стали сзади с саблями и с ружьями в руках.
— Господа, — сказал Людвиг по-немецки, — ваши начальники без пощады расстреливают тех из наших, которые попадают в руки к ним. Они расстреляли час тому назад троих наших товарищей и еще трактирщика и пожилую женщину. Мы решили платить тем же и что за каждого расстрелянного вами француза десять немцев подвергнутся той же участи. Приготовьтесь умереть; но так как мы хотим, чтоб неприятель знал, что мы решили поступать неумолимо, один из вас останется свободен и принесет ближайшим прусским властям известие о принятом нами намерении. Ваши имена, написанные на бумаге, будут брошены в шляпу; тот, чье имя выйдет, будет вестником. Вы слышали? Секретарь, запишите имена этих людей.
Петрус, исполнявший это щекотливое поручение и уже приготовивший бумагу, тотчас встал и сделал Люсьену знак последовать его примеру.
Пленные были поражены; опустив руки, повесив голову, они оставались неподвижными, как будто уже были поражены смертью.
Однако, так как инстинкт самосохранения последнее чувство, переживающее в сердце человека, когда всякая надежда от него отнята, пленные не заставили себя просить, чтобы сказать свои имена секретарю. Тотчас записывал их на лоскутке бумажки и передавал ее Люсьену, который складывал бумажку и клал ее в шляпу.
Как человек, который тонет и в конвульсиях агонии цепляется со всею энергией отчаяния за куст травы, случайно попавший ему под руку, каждый улан ласкал себя надеждою, что выйдет его имя.
Подойдя к барышнику, Петрус остановился, глядел на него с минуту, потом обратился к президенту военного совета и сказал:
— Командир, я вам замечу, что этот человек не улан. Его арестовал Оборотень, подозревая его в шпионстве.
— Это правда, — ответил Людвиг, — он находится в положении особенном; его нельзя смешивать с другими пленными. Пусть его пока отведут назад. На нем не было никакого оружия и обвинение против него следует хорошенько доказать.
Ульрих Мейер не знал, что вольные стрелки захватили баронессу фон Штейнфельд.
С радостью, которую не трудился даже скрывать, дал он вести себя в комнату, из которой его вывели. Уланы также почувствовали облегчение, когда он ушел; это была для них лишняя возможность спастись.
Когда все имена были положены в шляпу, Люсьен тряхнул их, потом подал шляпу Адольфу Освальду, младшему из членов совета.
Тот вынул одну бумажку, которую не развертывая подал командиру.
— Химельман! — прочел командир.
— Это я! — подходя с живостью сказал один улан, лицо которого просияло.
— Секретарь, — сказал командир, — потрудитесь немедленно составить решение совета. Это решение будет немедленно подписано всеми нами и отнесено этим человеком тотчас после казни его товарищей. Капитан Пиперман, прикажите, чтобы все волонтеры взялись за оружие. Караульные, стерегите пленных; им дается четверть часа, чтобы примириться с небом. Ступайте!
Пленных увели в другую хижину.
Только один, тот, кому поблагоприятствовала судьба, остался в зале совета под караулом двух волонтеров.
Когда Петрус написал письмо к прусским властям, он прочел его членам совета, которые одобрили его и подписались.
Письмо было сложено, запечатано и передано улану.
Мишель Гартман и Паризьен остались равнодушны по наружности к тому, что происходило в совете.
Действительно, они должны были оставаться чуждыми к принятым решениям и, следовательно, не могли выражать ни одобрения, ни неодобрения.
— Господа, — сказал командир, — нам остается судить еще двух пленных, но я думаю, что человеколюбие приказывает нам не продолжать долее агонии несчастных, осужденных нами. Если вы разделяете это мнение, мы приостановим заседание, которое будет продолжаться тотчас после казни пленных.
Офицеры сделали знак согласия и встали.
Как было приказано, волонтеры взяли оружие и стали полукругом перед хижиной, где был собран совет.
Зажгли факелы, тускло освещавшие пейзаж и придававшие ему фантастический вид, имевший что-то грандиозное и поразительное.
Взвод вольных стрелков стоял неподвижно перед хижиной. Командир обнажил шпагу и поднял ее над головой.
В эту минуту привели пленных.
Ничего ни в наружности, ни в походке их не показывало храбрости и энтузиазма людей, умирающих за доброе дело.
У них нравственное отупление было полное; они шли не как солдаты, а как телята, которых ведут на бойню.
По отданному приказу, они стали на одну линию, потупив голову, с бледностью на лице и с тусклыми глазами. Они холодно выслушали чтение своего приговора, потом бросились на шею друг друга и минуту, две или три крепко обнимались.
Мы не преувеличим ничего, утверждая, что вольные стрелки были более взволнованы этой страшной сценой, чем те люди, которых обязанность принудила их осудить.
По знаку капитана Пипермана, взвод, назначенный для расстреляния, приблизился.
Осужденные стали в один ряд и заложили руки за спину.
Командир поднял шпагу. Раздался залп; тринадцать несчастных пленных упали.
— Правосудие совершено! — сказал командир. — Пусть сейчас похоронят этих людей. А вы, — прибавил он, обратившись к улану, который, ни жив, ни мертв, участвовал при казни своих товарищей, — вы свободны; вам развяжут глаза и отведут на аванпосты. Не забудьте поручение, данное вам, а особенно помните, что вы только чудом избавились от смерти. Старайтесь не попадаться к нам в руки. Господин адъютант, отведите этого человека на аванпосты, а мы, господа, вернемся в залу совета; пора продолжать наше заседание. Не все еще кончено. Нам остается судить еще двух шпионов.
Командир и его офицеры пошли в хижину, между тем как улан с завязанными глазами был уведен патрулем волонтеров.
Глава XXVII ШПИОНЫ
Когда члены совета собрались вновь, наступила минута молчания. Все эти честные люди с прирожденным чувством долга испытывали невыразимую скорбь после казни, которую так настоятельно требовали обстоятельства.
Мишель и Паризьен не вставали со своих мест. Почти немедленно обвиняемый был введен унтер-офицером и несколькими волонтерами.
Он вошел, по-видимому, очень спокойно, улыбаясь со свойственным ему видом добродушия, поклонился судьям, потом сел на приготовленный ему табурет и, заложив одну ногу на другую, небрежно играл цепочкою часов, в ожидании, когда председателю угодно будет обратиться к нему с речью.
Тот справился сначала с бумагами, которые лежали перед ним на столе, потом поднял голову, пристально поглядел на барышника, как бы стараясь дать себе отчет о характере человека, с которым ему предстоит иметь дело, и после этого беглого обзора спросил:
— Ваше имя?
— Ульрих Мейер.
— Откуда вы родом?
— Из Росгейма близ Страсбурга.
— Стало быть, вы эльзасец?
— Точно так, господин председатель, спокон века. Мейеры известны в наших краях.
— Который вам год?
— Сорок семь минуло три месяца назад.
— Чем вы занимаетесь?
— Мы все барышники и ремесло это у нас в роду передается от отца к сыну, Я продаю и покупаю лошадей, как делал это до меня отец, а до него дед.
— Где вы обыкновенно живете?
— В Страсбурге; но бываю там мало. По занятию моему, я в постоянных разъездах. Преимущественно я обделываю свои делишки на ярмарках и деревенских праздниках.
— Покажите ваши бумаги.
— У меня отобрали их, когда я был арестован на постоялом дворе Легофа. Вот они там на столе, — указал он пальцем на грязный бумажник, лежавший возле председателя.
— Бумажник заключает только ничтожные бумаги, которые не могут служить удостоверением вашей личности. Есть у вас другие?
— Нет, господин председатель.
— Вы уверены, что нет?
— Я утверждаю это.
— Хорошо; мы потом вернемся к этому вопросу. Итак, вы говорите, что давно уже ремеслом барышник?
— По крайней мере, лет двадцать.
— Вы торговали вне пределов Эльзаса и Лотарингии?
— Нет, господин председатель.
— А лошадьми какой породы преимущественно?
— Никогда других в руках не имел, как французской породы. Я мог бы доказать посредством господина Жейера, одного из первых банкиров в Страсбурге, что незадолго до войны я имел казенный подряд на ремонт трех кавалерийских полков.
— Вы знаете, что к свидетельству господина Жейера теперь прибегать нельзя. Он находится в Страсбурге, осаждаемом пруссаками.
— К несчастью, это справедливо, господин председатель, но я честный человек.
— Вы никогда не ездили за границу?
— О! Очень редко. Для моих дел езжал.
— В последнее время не были?
— Не был, господин председатель.
— Откуда вы ехали, когда вас остановили на постоялом дворе Легофа?
— Из Лоркена.
— А куда направлялись?
— Я собирался в Сент-Квирин, но узнав, что им овладели пруссаки, решился вернуться назад или, по крайней мере, объехать город на таком расстоянии, чтоб не подвергнуться нападению.
— Зачем вы остановились у Легофа?
— Чтоб дать моей лошади отдохнуть и овса поесть, да и самому перекусить.
— Только для того?
— Ни для чего более, господин председатель.
— Вы уверены, что это была ваша единственная цель, что вы не имели, например, в виду переговорить кое с кем?
— Я, господин председатель? — вскричал обвиняемый, остолбенев. — С кем же мне разговаривать на постоялом дворе Легофа, где никогда ни души не видать?
— Вы это положительно утверждаете?
— Разумеется, господин председатель.
— Хорошо.
Председатель подал едва заметный знак. Мгновенно дверь распахнули настежь и в ней показалась баронесса Штейнфельд.
— Боже, баронесса! — воскликнул барышник в крайнем изумлении.
— Что такое? — спросил председатель.
— Я ничего не говорю.
— Извините, при виде этой дамы вы вскричали: «Боже, баронесса!», что показывает, по крайней мере, что она вам знакома.
Он опять сделал знак.
Дверь затворилась и скрыла за собою баронессу.
— Позвольте мне одно замечание, господин председатель. Предположив даже, что я знаю эту даму, что ж в этом такого, что могло бы мне ставиться в вину?
— Ответьте сперва на вопрос: знаете вы или нет эту даму?
— Я? К чему мне вилять, когда я силен своею невинностью? Мне нечего бояться, чтоб поведение мое могло быть сочтено преступным кем бы то ни было. Давно уже я имею честь знать баронессу фон Штейнфельд. Она очень богата и любит хороших лошадей; я снабдил ее четырьмя парами, когда шесть месяцев назад она устраивала свой дом в Страсбурге.
— Все это очень правдоподобно. К несчастью только, когда баронессу арестовали на постоялом дворе, куда вы прибыли до нее, она заявила, что приехала для свидания, которое вы ей там назначили. Свидание, по-видимому, имело целью нечто очень важное. Заметьте, что это сказано было баронессою полковнику фон Штаадту, начальнику ее конвоя, который не без основания удивился желанию такой важной барыни остановиться на плохом постоялом дворе вместо того, чтоб ехать до Сент-Квирина.
— Я не могу быть ответствен в словах баронессы фон Штейнфельд, господин председатель. Каждый раз, когда еду по этой дороге, я останавливаюсь у Легофа. Может быть, баронесса желала мне сделать заказ, справилась обо мне у своего управляющего, с которым я очень давно дружен, и услышала от него, что она, вероятно, встретит меня у Легофа. Разумеется, это могло побудить ее остановиться на его постоялом дворе.
— Предлог благовиден. Я вижу себя вынужденным предупредить вас, что вы становитесь на опасную почву; мы военный совет, а не асизный суд. Мы не прилагаем всех усилий, чтоб найти вас виновным; напротив, наше величайшее желание выяснить вашу невинность.
— Позвольте, господин председатель, кажется, мои ответы до сих пор…
— Очень были искусны, с этим я согласен, но до сих пор в них слова нет правды.
— О! Господин председатель…
— Выслушайте меня. Вас вовсе не зовут Ульрихом Мейером, вы родились не в Росгейме близ Страсбурга, вам не сорок семь лет и три месяца, и вы не барышник. Хотите ли вы теперь, чтоб я сказал вам, кто вы? Все доказательства у меня в руках.
— Господин председатель…
— Молчать! Вы граф Ульрих фон Бризгау, родились в Кобленце, пятидесяти двух лет и занимаетесь шпионством ради пользы графа Бисмарка, вашего закадычного друга.
— Милостивый государь, подобная клевета…
— Это не клевета; здесь нет клеветников.
— Однако, мне кажется…
— Доказательство моих слов вы сейчас доставите мне сами. Оборотень, ступайте сюда!
Контрабандист вышел из толпы и стал перед барышником, к которому два волонтера молча подошли сзади.
Отвесив глубокий поклон, Оборотень сказал:
— Ваше сиятельство, позвольте мне снять с вас штиблеты.
— Снять с меня штиблеты? — повторил барышник, позеленев. — Для чего же?
— Чтоб вам было свободнее, — ответил контрабандист, посмеиваясь. — Не беспокойтесь, это минутное дело.
Барышник сделал было движение угрозы, но два волонтера тотчас схватили его за руки и заставили сидеть неподвижно.
Между тем контрабандист, нисколько не смущаясь свирепыми взглядами барышника, принялся снимать с него штиблеты, и, действительно, исполнил это мгновенно.
Штиблеты эти, как уже сказано, были кожаные и выше колена.
Контрабандист раскрыл свой нож и без дальних околичностей распорол их на икрах.
Из каждого образовавшегося отверстия он вынул по пачке бумаг, чрезвычайно тонких, которые положил на стол, говоря насмешливо:
— Вот оно! Однако тут еще не все; граф Бризгау не таковский, чтоб все яйца сложить в одну корзину. На нем должно быть еще три тайника, которые, мы, надеюсь, откроем не менее успешно. Во-первых, кнут, — заключил он, взяв со стола кнут барышника.
С минуту он осматривал его, потом подавил пружину, почти вовсе незаметную, и отвинтил пуговку на ручке.
В середине оказалась пустота.
Когда он стукнул по столу рукояткою, из нее вывалился сверток бумаги.
— Вот оно! — повторил контрабандист. — Теперь перейдем к обуви! О! Господа, вы не можете представить себе, до чего прусские шпионы хорошо знают свое дело. Вообще это благородные дворяне очень умные и тщательно выбранные, но благодаря Бога, мы знаем все их штуки, хотя они и превышают что только можно вообразить по части мошенничества.
Пока говорил таким образом, контрабандист без церемонии снял с несчастного барышника его толстые башмаки.
Тот уже принял серо-зеленый оттенок в лице. Вытаращенные глаза его дико вращались. Он чувствовал, что погиб, и не сознавал более, что вокруг него происходит.
Контрабандист срезал верх башмаков и преобразил их таким образом в сандалии, отодрал тонкую кожаную стельку, подавил пружину и в каждой подошве открыл удивленным взорам присутствующих искусно скрытый тайник, полный бумаг.
— Теперь приступим к четвертому и последнему тайнику. Не угодно ли вам будет нагнуть голову, ваше сиятельство?
Несчастный машинально опустил голову на грудь.
В одну минуту контрабандист отпорол воротник его камзола. Разумеется воротник этот набит был бумагами, которые перешли в руки председателя, как и остальные.
— Что касается парика, чрезвычайно искусно сделанного, который скрывает цвет волос его сиятельства графа, кажется, не к чему снимать его опять, когда это уже было исполнено на постоялом дворе.
— Нисколько не нужно, — ответил председатель. — Что вы теперь скажете, обвиняемый?
— Ничего, господа! — вскричал граф, бросаясь на колени и с отчаянием сложив руки. — Я презренное существо, недостойное сожаления и мне остается только молить о пощаде. О, не убивайте меня! Я отец семейства; одна нищета вынудила меня согласиться на гнусную роль. Во всем я готов сознаться, но пощадите меня, ради Бога, не лишайте меня жизни!
Офицеры обменялись взглядом отвращения. Петрус встал.
— Это уж слишком много цинизма! — вскричал он. — Уличенный, этот негодяй даже не имеет обыкновенной храбрости убийцы или вора, который знает, что в его гнусном ремесле он ставит на карту собственную голову и, проиграв, холодно смотрит на предстоящую ему смерть. Этот шпион труслив как отравители. Он говорит, что отец семейства. Нищета, видите ли, побудила его взяться за низкое ремесло! А мы-то! Разве у нас также нет семейства? Разве мы колебались пожертвовать нашими отцами и матерями, и женатые из нас своими детьми? Министр-палач, на службу которого он имел подлость поступить, разве не платит ему за кровь этих дорогих нам существ? Человек этот жил двадцать лет во Франции — это доказано — пользовался самым великодушным и братским гостеприимством, жирел нашим потом и составил себе богатство за наш счет. Принятый как друг во всех семействах, этот изверг в человеческом образе ловил сокровеннейшие тайны, и то, что доверялось ему у домашнего очага в течение двадцати лет, холодно, подло продавал подлецу еще гнуснее и презреннее его самого! Не щадите шпиона; с ним надо поступить как с бешеною собакой. Не расстреливайте его, это почетная смерть солдата. Повесьте его на виселице выше амановой, чтобы его соучастники, которые подсматривают за нами из глубины долины, бесновались от ярости при этом виде и знали, как мы наказываем изменников и шпионов. Вот мое мнение.
Слова эти, произнесенные с жаром, произвели на членов совета действие, которое мы отказываемся передать.
Шпион, все еще на коленях, тихо рыдал, бессильно опустив руки и свесив голову на грудь, между тем как все тело его подергивалось судорожным трепетом.
Все нравственное уже в нем умерло, оставалась одна животная натура.
Несколько мгновений длилось мрачное молчание. Только и слышно было, что глухое завывание бури и грозный ропот ветвей, которые сталкивались.
Наконец, председатель поднялся со своего места.
— Этот человек заслужил смерть, — сказал он. — Однако он недостоин казни людей благородных; он лишил себя всяких человеческих прав. Завтра на рассвете повесить его на виселице вышиною в двадцать футов и на груди его пусть будет дощечка с надписью его имени и титулов, а внизу буквами в два дюйма: «Прусский шпион». Уведите осужденного. До рассвета караулить его, не спуская глаз. Ступайте.
Вольные стрелки наклонились к несчастному, подняли его за руки и почти вынесли скорее, чем вывели в отворенную еще дверь комнаты, где он был заперт сначала и где два человека остались теперь караулить его по данному председателем приказанию.
Когда граф Бризгау был уведен, некоторое время длилось молчание.
Произнесенный приговор сильно подействовал на членов совета. Эти честные работники, которых любовь к отечеству превратила в солдат, невольно содрогались и со стесненным сердцем сознавали страшную ответственность, которую возлагали на них настоящие обстоятельства.
Хотя и проникнутые искренним убеждением, что исполняют долг свой, они проклинали войну, которая оторвала их от семейства, от обычных работ, и вынудила не только взяться за оружие отстаивать свои дома, но еще становиться судьями с правом на жизнь и смерть ближнего.
Глубокая грусть отражалась на их лицах. Ими овладело какое-то утомление.
Однако, они не все еще кончили; им предстояло исполнить самую тяжелую часть взятого на себя долга.
Надо было приступить к суду другого пленного лица — женщины.
— Господа, — наконец, решился заговорить председатель, — я вижу себя вынужденным просить вас вооружиться всем вашим мужеством. Сюда приведут женщину. Вам известно, при каких обстоятельствах она арестована. Уже давно нас предупреждали, что она служит шпионкою немецким войскам; что несколько лет назад она поселилась во Франции с целью разведывать наши политические тайны и военную организацию и выдавать эти сведения прусскому правительству. Кроме того, женщина эта с тех пор, как немецкие войска заняли Эльзас и Лотарингию, деятельно работала, чтобы привлечь немцам сторонников в этом краю. Утверждают, будто она имела частые совещания с предводителями партии пиэтистов; что эта партия действует исподтишка, но с необычайной деятельностью, чтоб мешать обороне и, распространяя ложные известия, способствовать упадку духа в населении и побудить его высказаться за Пруссию. Когда она остановилась у дяди Легофа, то ехала, по-видимому, с одним из влиятельных предводителей пиэтистов. К несчастью, человеку этому удалось бежать. Он подло бросил свою спутницу и воспользовался первою суматохой, чтоб скрыться, оставив в наших руках несчастную женщину, быть может, скорее неосторожную, чем виновную. Она только служила орудием изменникам, которые скрывались за нею, выставляя ее вперед. Надеюсь, господа, что взвесив все эти обвинения, вы себя выкажете в одно и то же время строго справедливыми и беспристрастными. Ввести пленницу, — прибавил он.
Дверь отворилась, и баронесса вошла.
Она была бледна, но владела собой. Покрасневшие веки изобличали, что она плакала.
В руках она держала платок, которым по временам отирала лицо.
Походка ее не имела ничего надменного или дерзкого; она держала себя просто.
Она поклонилась офицерам и села на поданный ей стул.
Командир Людвиг только что хотел обратиться к ней с речью, когда глаза молодой женщины случайно упали на Мишеля Гартмана, все сидевшего у камина.
Она вздрогнула, слегка вскрикнув, и сделала движение, как бы намереваясь встать и броситься к нему.
Со своей стороны Мишель, по-видимому, также узнал ее, потому что вскочил со стула с восклицанием.
Изумление отразилось на лицах председателя и членов совета.
— Как! Разве вы знаете эту даму? — спросил Людвиг.
— Да, я сейчас узнал ее, — последовал ответ Мишеля не без волнения.
— Но как же могло случиться, что когда имя ее произносилось в вашем присутствии несколько раз, вы ничем не выказали, что оно вам известно?
Мишель Гартман подошел к молодой женщине и вежливо раскланялся с нею, после чего обратился к Людвигу и ответил:
— Я, действительно, не знал имени этой дамы, господин председатель, потому и остался равнодушен, когда его произносили в моем присутствии, но увидев ее, разумеется, тотчас узнал.
— Можете ли вы дать нам какие-нибудь сведения о ней? — спросил председатель.
— Мое знакомство или, вернее, сношения с нею были чисто случайные и очень непродолжительны, говоря по правде. Однако я отдаю себя в полное распоряжение совета относительно всех сведений, какие в моей власти доставить.
— Говорите, мы вас слушаем.
— Незадолго до войны, месяцев за семь или восемь, я был поручиком и числился в штабе главнокомандующего в Константине. Получив от генерала приказание отправиться в Сетиф, я поехал с моим вестовым, который здесь налицо и теперь сержант, и небольшим конвоем из четырех африканских егерей и фельдфебеля. Не прошло часа, как мы выехали из Константины, когда в ущелье, в очень пустынном месте, грозе путешественников, я услыхал раздирающие крики и выстрелы; они раздавались за крутым поворотом дороги. Я дал шпоры лошади, конвой последовал моему примеру, и едва мы; успели обогнуть поворот, как я увидал шагах в пятидесяти опрокинутую карету и двух-трех человек, которые отчаянно отбивались от шести-восьми арабов, между тем как пять-шесть других разбойников силились увлечь за кусты, окаймлявшие дорогу, двух женщин, которые с распустившимися волосами вырывались из их рук, испуская крики отчаяния. Я пустил лошадь во весь опор и нагрянул на бездельников словно гром. Они почти не сопротивлялись. Перепуганные появлением егерей, они ударились бежать врассыпную, бросив на дороге бедных женщин почти без чувств. Из них одна была баронесса, другая ее служанка. Оказав им пособие, в котором они нуждались, я велел поднять карету и запрячь лошадей, так как разбойники обрезали постромки, и когда путешественница была в. состоянии продолжать путь, я уступил ей мой конвой, с которым она и поехала в Константину, а я направился в Сетиф.
— И вы не спросили имени особы, которой оказали. такую важную услугу?
— Право, в ум не пришло. На что мне было знать?
— Действительно, — сказала баронесса, — господину офицеру не могло быть интересно знать, кому он спас жизнь; но я спросила его имя у одного из солдат и тщательно сохранила его в благодарном сердце.
— Вы ничего прибавить не можете? — спросил председатель.
— Всего несколько слов. Исполнив мое поручение в Сетифе, я вернулся в Константину и осведомился о незнакомке, или вернее, генерал говорил мне о ней. Все дело это много произвело шума. Я спросил, в Константине ли еще путешественница, и получил в ответ, что она уехала два дня назад; однако, вероятно, в благодарность за оказанную ей помощь, она пожертвовала двадцать тысяч франков для раздачи половины этой суммы военным арестантам, а другой половины раненым и больным солдатам, находившимся тогда в военном госпитале. Тут я уехал из Константины, взяв отпуск, вернулся в Эльзас к родным и, сознаюсь смиренно, совсем забыл об этом похождении, когда с минуту назад узнал баронессу, как вы сами тому были свидетелями.
— Благодарю вас от имени совета за эти сведения.
— А я попросил бы вас, господа, так как судьба опять свела меня с этой дамой, позволить мне быть ее защитником теперь, как я имел счастье защищать ее в другом случае.
— Мы согласны. Вы слышали, что мною было сказано до входа баронессы Штейнфельд. Желаете вы говорить за нее или предпочитаете, чтоб я обратился к подсудимой с обычными вопросами?
— Я полагаю их лишними. Баронесса не отказывается от своего имени, она не отвергает, что немка; скажу более, она сознается во всех обвинениях, которые пали на нее, и сверх того признает ваше право привлекать ее к суду. Так ли, баронесса?
— Вполне. Я только прибавлю несколько слов, если мне позволят, перед тем как вы перейдете к дальнейшему.
— Мы вас слушаем.
— Господа, — начала баронесса, — я нисколько не буду отрицать моей вины или, вернее, преступлений, в которых меня обвиняют. Преступления эти, действительно, совершены мною. Поверьте, я говорю так откровенно не из цинизма, не из хвастовства и не из подлости. Если я открыто сознаюсь в вашем присутствии, то потому, что считаю вас людьми с прямым суждением, честными тружениками и по большей части отцами семейств, следовательно, и в состоянии понять меня. Я принадлежу к одному из древнейших родов Пруссии. Мой муж умер, оставив мне одного сына. Меня разорил бесчестный управляющий, скрыл духовную моего мужа и вышло так, что все мое состояние досталось младшей линии моего покойного мужа. Однажды первый министр пригласил меня к себе и сказал мне приблизительно следующее:
— «Вы хорошего рода; духовная вашего мужа была украдена и вы с вашим сыном, вследствие этого похищения, находитесь в нищете. Вот духовная, которой существование оспаривается. Я отыскал ее. Но важные политические интересы не дозволяют мне отдать ее вам. Я обязуюсь поместить вашего сына в военное училище, где он будет воспитываться на казенный счет. Деверя вашего, настоящего владельца вашего имения, я заставлю выплачивать вам ежегодно большое содержание; но всему этому я полагаю условие — чтоб вы подписались под этим обязательством немедленно уехать из Германии. Вы красивы и молоды, вы умны и принадлежите к высшему свету. Вы отправитесь во Францию и там будете жить на большую ногу; вы устроите у себя политический кружок и каждый месяц будете со мною переписываться, чтоб давать мне отчет во всем, что услышите. Если вы откажетесь, вас ждут нищета и презрение; если же согласитесь, будете богаты и со временем получите назад все ваше состояние.»
Я была мать. Бедность пугала меня еще более для сына, чем для меня самой. Разумеется, я согласилась. И тем легче дала я это согласие, что не уяснила себе всего позора, навязанного на меня обязательством. Спустя несколько месяцев я поняла его вполне, но было уже поздно. Тигр держал меня в своих когтях, и я волею-неволею должна была покориться. Вот, господа, что я хотела сказать вам. Заключу я, прибавив, что гнушаюсь того, что делала. То, к чему меня вынудили, возмутительно и справедливо презирается честными людьми. Если я так виновна, как кажусь, то казните меня; я не унижусь молить о пощаде, которой недостойна. Если же, наоборот, вы оцените мое откровенное сознание и оставите мне жизнь, клянусь, я приложу все старание, чтобы исправить насколько возможно то зло, которому я содействовала. Уже давно раскаяние мне запало в сердце; в уме все стало ясно и я ненавидела силою навязанное мне соучастничество. Теперь судите меня, господа; я покорюсь своей участи без ропота.
Она грациозно наклонила голову и села.
— Теперь речь принадлежит вам, — обратился председатель к Мишелю.
— После откровенного сознания, сделанного баронессою с таким достоинством, я полагаю, господа, что пытаться еще защищать ее было бы ошибкой. Вы видите бедную женщину, мать, удрученную горем и терзаемую раскаянием, которая проклинает навязанное ей соучастничество. Ничто не заставляло ее говорить то, что она сказала. Одно убеждение в своей вине могло побудить ее высказаться вам так прямодушно и — простите выражение — с таким благородством. Она раскаивается. Теперь ей очевидна вся чудовищность роли, которую она была вынуждена играть. Однако она не жалуется, а просто сознает себя виновною. Это раскаяние искреннее, господа, и верить ему вы должны. Баронесса фон Штейнфельд была виновною, но в моих глазах она уже не виновна. Когда хотят обманывать своих судей, не говорят с такой искренностью в голосе. Повторяю, она, действительно, раскаивается; вы должны простить ей и помочь исправить зло, которое заставляли ее делать.
Председатель обратился к Петрусу. Тот встал.
— Господа, — начал он, — возложенная на меня советом обязанность слишком тяжелое бремя для моих плеч. Я нахожусь перед женщиной, виновною во всех отношениях, которая сознается в этом. Эта женщина молода и красива, и, наконец, мать. Для сына, по ее словам, сделалась она виновною и ответственность за свои преступления слагает на тевтонского Макиавели, управляющего судьбами Пруссии. Это лютый зверь, как мы знаем; все средства для него хороши, лишь бы достигнуть цели; итак, единственный, настоящий виновный, разумеется, он. Но если б он не был уверен, что найдет соучастников в раболепстве прусского дворянства, которое ползает перед ним, думаете ли вы, чтобы он достиг результатов, каких добился? Конечно, нет. Вы знаете, господа, что я человек миролюбивый; я изучал медицину, когда война оторвала меня от моих занятий. Лучше кого-либо я знаю, какое снисхождение мы обязаны оказывать слабому и прекрасному полу. Сердце мое надрывается, когда я вижу перед собою молодую женщину, прекрасную и знатного рода, обвиненную в страшном преступлении. Я хотел бы спасти ее; рыдания душат меня, ведь я также имею мать, сестру… О! Господа, какую ужасную ответственность возлагают на нас жестокие события этой войны! Да, раскаяние этой женщины искренне, я убежден в этом, но разве жертвы ее измены менее оттого страдают? Что вы ответите на это? Увы! Я хотел бы, чтоб ей простили, чтоб ей было дозволено искупить свою вину долгою скорбью. Но ведь мы собрались не в обыкновенном суде. Наше призвание защищать и охранять население, несправедливо попранное ногами, в котором убивают женщин, девушек насилуют, детей калечат, селения предают огню. Господа, подсудимая виновна — она должна умереть.
Петрус тяжело опустился на стул и закрыл руками лицо.
Глава XXVIII КАК БАРОНЕССА ШТЕЙНФЕЛЬД ПРОСТИЛАСЬ С ВОЛЬНЫМИ СТРЕЛКАМИ
Когда баронессу фон Штейнфельд вывели из залы, Людвиг наклонился к Мишелю и сказал:
— Вы знаете, как мы преданы вашему семейству, как любим и уважаем в особенности вас. Я потому приказал увезти пленницу, что мне показалось, будто вы желаете сделать мне и моим товарищам возражение по поводу приговора, который мы собираемся произнести.
— Действительно, вы угадали мое намерение, любезный Людвиг.
— Видите, мы бедные люди, без образования и судим, руководясь одними внушениями чести, а главное беспристрастия; мы будем рады, если вы поможете нам, так как с глубокою грустью в душе видим себя вынужденными произнести приговор, справедливость которого может быть оспорена вследствие нашего полного неведения законов.
— Вы напрасно унижаете себя и относитесь к своей деятельности так смиренно. Высоко ваше призвание и до сих пор вы исполняли его с беспристрастием, которое вам делает честь. Однако, если вы желаете знать мое мнение, я буду говорить с вами откровенно и выскажу, что думаю.
— Именно, господин Мишель, говорите, мы вас слушаем с самым серьезным вниманием, тем более, что вы, как офицер, верно, несколько раз участвовали в военном суде.
— К несчастью, это слишком справедливо, господа. Два раза в Африке я участвовал в военном суде; но если вы желаете понять настоящее значение учреждения, стоящего в первом ряду военных законов и в силу которого вы собрались, я объяснюсь. Учреждение военных судов имеет начало в самые дурные времена французской истории. Это одна из кровавых пародий правосудия, обычай средневековый, который, неизвестно почему, пережил эпоху постыдного и свирепого варварства. Действительно, это учреждение нейдет к нашему времени. Оно должно было бы исчезнуть со всеми другими расправами, составляющими исключение и зависящими от произвола. Вследствие нелогичности, которой история Франции представляет столько доказательств, военные суды действуют у нас только в самые смутные времена, когда правосудие, сохраняя свою строгость, должно быть беспристрастно и разумно. А тогда, напротив, победители судят или, лучше сказать, наказывают виновных. Человек, являющийся перед военным судом, не есть для этого судилища обвиненный, может быть, невинный, а преступник, который должен быть наказан. Как ни велика добросовестность военных судей, они невольно увлекаются политическими страстями, ненавистью к партии, а приговор их всегда отзывается ненавистью, предубеждением и не одобряется общественным мнением. А между тем все эти офицеры — люди чрезвычайно добросовестные, взятые отдельно, и с обширным знанием. Но знание это относится только к наукам военным. Чем больше их способности, чем обширнее их ученость, тем менее способны они, по моему мнению, быть судьями и судить справедливо. Изучение законов есть наука специальная, очень длинная и очень трудная. Сверх того, чтобы оказывать правосудие, надо находиться в положении исключительном, не иметь ни привязанностей, ни интересов, ни связей, а только иметь в виду судить беспристрастно. Вот почему законодатели, составлявшие наш свод законов, требовали, чтобы судьи имели положение независимое и, следовательно, чтобы они не были подвержены никогда влиянию или стеснению, а чтобы могли произносить приговор, положа руку на сердце, с полным бескорыстием, совершенным беспристрастием. Военный, несмотря на все свои усилия, на свой здравый смысл, словом — на всю его добросовестность, не может ни в каком случае удовлетворить условиям, требуемым от беспристрастного судьи. Я говорю здесь только для памяти о совершенном незнании законов, незнании, в котором нельзя упрекать офицеров, по той простой причине, что они едва имеют время изучать военные вопросы. Поэтому законодатель признает военный совет только в условиях, относящихся специально к военному состоянию за нарушение законов, постановленных для военных, а также чтобы судить шпионов и изменников. Таким образом, военный суд, переносящий свои законы в жизнь гражданскую, есть злоупотребление. Вот единственное объяснение, которое я могу вам дать, господа, об этом учреждении, которого не одобряет здравый смысл и которое для чести человечества должно бы исчезнуть из наших законов. Я не знаю, поняли ли вы меня. Относительно же того, что касается вас, позвольте мне сказать, что в настоящем случае вы не только можете выказать милосердие, но что даже сделали бы ошибку, строго применив закон. Вот почему, вы имеете дело не с закоренелым преступником, как граф Бризгау, негодяем, который сделал из шпионства ремесло и за деньги, пожалуй, сам бы донес на себя. Нет. Перед вами женщина гораздо более несчастная, чем виновная, которая, побуждаемая материнской любовью и желанием возвратить сыну отнятое у него состояние, поддалась вероломным обещаниям министра, который, если б она осмелилась отказаться от постыдного условия, предлагаемого ей, не колеблясь — вы в этом убеждены так же, как и я, господа, — посадил бы эту несчастную в тюрьму, где от сильного отчаяния, наверно, она скоро погибла бы самым жалким образом. Эта женщина понимает всю обширность своего преступления. Мало того, заметьте хорошенько, ее раскаяние может быть для нас полезно, позволив нам повернуть против злодея, направившего ее на этот путь, оружие, которое он направил против нас. Взгляните на многочисленные документы, лежащие на вашем столе. Эти документы, очень важные, написаны цифрами, которых вы не знаете. Смерть этой бедной женщины не сообщит вам тайн, которые вы хотите открыть. Ее жизнь, напротив, может быть, поможет вам узнать важные тайны. Вы так умны, господа, что должны понять важность моих слов. Я не прибавлю больше ничего. Теперь вы должны произнести ваш приговор с таким беспристрастием, какое выказывали до сих пор.
— Мы вас искренно благодарим за все, что вы нам сказали, господин Мишель, — ответил Людвиг, — и воспользуемся вашими советами.
Офицер поклонился, пожал руку президенту суда и опять сел у камина.
Члены суда начали разговаривать между собою тихим голосом с некоторым одушевлением.
Рассуждение было продолжительно, оно длилось больше часа.
Наконец, когда Людвиг выслушал все замечания и собрали все голоса, он приказал снова ввести пленницу. Баронесса фон Штейнфельд вошла.
Она была спокойна по наружности, но, очевидно, в большом унынии. Войдя в комнату, она разменялась взглядом с Мишелем, взгляд которого возвратил ей мужество, потому что молодой человек улыбался. Баронесса стала перед столом.
— Милостивая государыня, — сказал тогда Людвиг, — военный суд, выслушал вас, а главное, выслушав слова, произнесенные в вашу пользу господином Мишелем Гартманом, хотя признает вас виновною, но принимает в соображение ваше признание, раскаяние и обязательство отказаться служить нашим врагам способами такими бесславными и для вас, и для них. Суд единогласно решил даровать вам полное прощение; ваш экипаж и все принадлежащее вам будут вам возвращены и вы можете свободно отправиться куда пожелаете. На рассвете вас проводит конвой к деревне, где находятся в эту минуту ваши слуги и ваш экипаж.
— Господа, — ответила баронесса, — благодарю вас из глубины сердца за решение, принятое вами относительно меня, не за себя, а за моего сына, которым восхищается мать. Я не смела надеяться найти в вас столько доброты и милосердия; я не буду неблагодарна. Обещание, данное вам, я строго сдержу; я сделаю даже более. Когда меня привели сюда, в первую минуту я спрятала в этой комнате, где провела столько часов в сильном отчаянии, связку ключей. Один из этих ключей отворяет тайник, сделанный в моей карете и так хорошо скрытый, что вам было бы невозможно найти его, даже если б вы разломали карету. В этом тайнике вы найдете бумаги чрезвычайно важные и азбуку, посредством которой можете прочесть эти бумаги. Я думаю, что открытие секретов, заключающихся в этих депешах, докажет вам, как я желаю загладить сделанный мною вред. Будьте уверены, господа, что не боязнь, а только одно раскаяние и желание доказать вам мою признательность, побуждают меня действовать таким образом.
— Благодарим вас за это доказательство добросовестности. До вашего отъезда вас будут считать здесь гостьей и обращаться с вами со всем уважением и вниманием, на которые вам дают право ваше имя и ваш пол.
Баронесса поклонилась и пошла за офицером, который должен был проводить ее в соседнюю хижину, где для нее приготовили комнату как могли удобнее.
— Ну, — сказал Мишель, — был ли я прав, любезный Людвиг?
— Господин Мишель, вы были до того правы, что мы это поняли; вы видите, что мы поступили как вы желали.
— Мы не людоеды и не убийцы женщин, — сказал Петрус, — а я со своей стороны, исполняя неприятную обязанность, возложенную на меня, внутренне был в отчаянии, что должен требовать смерти этой женщины, такой красавицы, которая часто будет сниться мне, — прибавил он с восторгом.
— Полно, полно! — сказал Людвиг, смеясь. — Ты подавал голос за ее смерть.
— Нет, отпираюсь. Я исполнял мою обязанность, требуя смерти, потому что не мог поступать иначе. Но я был уверен, что господин Мишель докажет мне, что я ошибаюсь, поэтому я пойду выкурить трубку; вот все, что я вам скажу.
— Постойте, — сказал Людвиг, — дама эта должна ехать завтра утром; кто будет ее провожать?
— Я, если вы хотите! — закричал Петрус.
— Нет, — сказал Людвиг, — ты будешь способен уморить ее со страха; я уверен, что, увидев тебя, она упадет в обморок.
— О! Неужели я так безобразен?
— Нет; это не оттого, чтобы ты был слишком безобразен, любезный друг, — сказал Люсьен, смеясь, — но, между нами сказать, ты не похож на Адониса, и если уж кто должен провожать эту даму, так скорее тот, кто защитил ее перед судом, мой брат Мишель.
— Есть способ согласить вас, — возразил Людвиг, — и если господин Мишель согласен, мы будем очень ему обязаны; он проводит эту даму до Войера весте с вами, господин Люсьен, а сержант Петрус будет начальником над конвоем.
— Вот это решено, так хорошо, — сказал Петрус. — Вы согласны, господин Мишель?
— Совершенно, любезный Людвиг; вы знаете, что я вполне к вашим услугам.
— Господа, заседание кончено. Прошу вас вернуться на свои места, а я пойду дозором. Господин Мишель, вы здесь у себя дома. Здесь есть несколько пучков соломы, это не Бог знает что такое, но больше ничего я не могу вам предложить.
— Хорошо, хорошо; не тревожьтесь. Ночь провести недолго.
— Позвольте, командир, — сказал Паризьен, — я сделаю вам пуховик, на котором мы будем спать как белки.
— Но прежде, чем мы уснем, — сказал Мишель, — мне хотелось бы поговорить с Оборотнем.
— Я уж думал об этом, брат; я схожу за ним и приведу его к тебе.
Люсьен вышел вместе сдругими членами суда.
В комнате остались только Мишель и Паризьен, который делал пуховик из пучков соломы, отданных в его распоряжение.
На другой день солнце взошло на безоблачном небе. Большое одушевление господствовало на площадке Бараков. Бивуак вольных стрелков представлял в малом виде лагерь. Часовых сменяли. Одни таскали дрова и воду, другие деятельно приготовляли завтрак, более чем умеренный. Несколько молодых людей, только что поступивших, учились у старого солдата первым правилам военного искусства. Наконец, повсюду царствовали чрезвычайное движение и одушевление.
На краю площадки, как раз против деревни Абрешвилер, несколько вольных стрелков, без верхнего платья и с засученными рукавами, приготовляли высокую виселицу.
В назначенную минуту зазвучали трубы. Волонтеры бросились к оружию и составили ряды. Вольные стрелки стали полукругом несколько позади виселицы, о которой мы говорили выше.
По данному сигналу Людвиг и другие офицеры вышли из хижины, служившей главной квартирой, и стали на несколько шагов впереди батальона.
Трубы снова зазвучали. Взвод из десяти человек под командою сержанта Петруса вошел в одну из казарм и тотчас опять вышел, ведя человека, едва державшегося на ногах и казавшегося полумертвым от страха.
Человек этот был не кто иной, как шпион, осужденный накануне, барон фон Бризгау. Негодяй был приведен впереди батальона.
Унтер-офицер прочел приговор, поднял шпагу над головой и сказал громким голосом:
— Да будет совершено правосудие!
Осужденный почти без чувств был приведен к виселице, и как составился приговор, ему связали руки за спиною, пришпилили к груди огромную бумагу, на которой было написано черными буквами его имя, звание, а под этим два слова: «Прусский шпион».
Зазвучали трубы; осужденный был вздернут на веревку и с минуту тело судорожно трепетало, а потом осталось неподвижно…
Правосудие было совершено.
Вольные стрелки прошли с музыкантами мимо виселицы, потом разошлись и каждый вернулся к своим занятиям.
Виселица была так поставлена, что не только была видна из долины, занятой немецкими войсками, но в хорошую трубу легко было прочесть надпись на груди казненного.
Велико было бешенство присутствовавших при этой казни, которой они не могли помешать. Скоро немецкие барабаны ответили на французские трубы и из деревни вышел длинный ряд солдат.
Новый приступ был неизбежен. Но вольные стрелки приготовились к нему.
Почти немедленно склоны холма покрылись застрельщиками, которые старались подняться на гору и проложить дорогу своим товарищам.
Площадка казалась пуста. Ничья голова не высовывалась из-за баррикад. Одно французское знамя развевалось над главной квартирой.
Вдруг, по данному сигналу, когда уже немцы ценою крайних затруднений поднялись наполовину, послышался звук трубы и в ту же минуту громадные скалы, движимые невидимыми руками, заколебались на своем основании, отделились от площадки и рухнули на склоны холма; громадные сосны зашатались и устремились сверху вниз.
Страшный крик агонии и отчаяния поднялся из долины.
Немногие солдаты, не раздавленные этими страшными махинами, бежали с криками ужаса и испуга, преследуемые пулями неумолимых волонтеров.
Опять на этот раз пруссаки были отражены.
Ярость их разбилась бессильно у подножия этих грозных гранитных укреплений.
Вольные стрелки заиграли веселый марш и проводили криками: «Да здравствует Франция!» жалкий побег тевтонцев.
Виселица, на которой был повешен шпион, продолжала обрисовывать свою большую тень на небе и поддразнивать неприятеля, который воображал в своей гордости, что легко преодолеть французский патриотизм.
Казненный висел до заката солнца, потом веревка была перерезана и труп с пренебрежением брошен в долину, где пруссаки могли тогда поднять его и похоронить, если хотят с почетом, должным его благородному имени.
Было около десяти часов утра, когда из главной квартиры вышли на площадку двое мужчин и одна женщина. Женщина была баронесса фон Штейнфельд. Провожали ее Мишель и Люсьен Гартманы.
Приметив их, Петрус, стоявший неподвижно в нескольких шагах во главе отряда из двадцати человек, опираясь на ружье, велел отдать честь и скомандовал направляться к площадке, связывавшейся с дорогой.
Баронесса и ее два спутника следовали за ним.
Холм, на котором возвышались Бараки, связывался с горой мостом в тридцать футов длины и двадцать ширины, брошенным над пропастью и возвышавшимся над долиной более чем на двести метров.
Мост этот был сделан из громадных стволов сосен, крепко связанных пеньковыми веревками и покрытых глиной.
Две громадные баррикады на каждой стороне моста защищали его. Впрочем, приготовлены были рычаги чтоб в случае решительной необходимости менее чем вдесять минут свалить сосны в бездну и таким образом пресечь путь.
Двадцать других сосновых стволов лежали на земле, чтоб немедленно сделать мост вновь, если б по какой-нибудь непредвиденной случайности были принуждены разрушить его.
Маленький отряд пошел по узкому мосту через несколько баррикад, сделанных для защиты лагеря. Разумеется, у каждой баррикады разменивались с истинно военной строгостью лозунгом.
В трехстах метрах от последней баррикады прошли последнюю линию часовых, расставленных за кустами и возвышенностями, так чтоб можно было издали приметить неприятеля незаметно от него.
Потом Петрус послал двух человек вперед осмотреть дорогу, а двух других в обе стороны, к долине и к горе.
Оставшихся он расположил таким образом, что волонтеры правой стороны наблюдали за левой, а с левой стороны за правой.
Баронесса фон Штейнфельд, Мишель и Люсьен Гартманы были помещены среди рядов.
Мишель и Люсьен были вооружены и шли гуськом, то есть Люсьен первый, баронесса в середине, а Мишель за ними, чтоб защищать ее.
Баронесса фон Штейнфельд и ее конвой шли в лесу по тропинке довольно широкой, извивавшейся по бокам горы.
С тех пор, как началась война, дороги эти были перерезаны в некоторых местах траншеями, чтоб сделать их неудобными для регулярного войска. Следовательно, идти необходимо было медленно, а в особенности утомительно.
Деревня, в которую Петрусу было приказано отвести баронессу, отстояла от Бараков только на одно лье, а между тем вольные стрелки вышли из лагеря полтора часа тому назад. Им оставалось еще пройти довольно большое пространство, как мы сказали, по причине затруднений всякого рода, какие встречались им на каждом шагу.
К полудню Петрус, останавливавшийся несколько раз из жалости, как он говорил, к хорошеньким ножкам очаровательной путешественницы, объявил баронессе фон Штейнфельд, что через четверть часа или двадцать минут, никак не позже, она прибудет в Войер.
— И если вы хотите удостовериться в справедливости моих слов, — прибавил он, почтительно кланяясь, — вам стоит только взглянуть вниз. Деревня находится в долине, над которою мы идем теперь; нам стоит только спуститься.
— Благодарю вас, — кротко ответила баронесса. — Признаюсь вам, что я очень спешу дойти; я разбита усталостью.
— Усталость ли это только? — робко спросил Петрус своим зловещим тоном, а глаза его сверкали как горячие уголья сквозь очки.
— Какую же другую причину могу я иметь, чтоб желать дойти до этой деревни? Вы не переставали окружать меня вниманием, обращаться со мною с великодушной вежливостью.
— Действуя таким образом, я исполнял только мою обязанность, как в эту ночь, когда обвинял вас так усиленно.
— Не будем говорить об ужасной сцене нынешней ночи, — возразила баронесса с легким трепетом и в то же время смертельная бледность покрыла ее лицо. — Позвольте мне вспоминать эту сцену только как страшный кошмар.
— О! Я вижу, — сказал Петрус, качая головой с отчаянным видом, — вы никогда не простите мне кошмара, как вы это называете, главною причиною которого был я.
— Простить вам! — вскричала баронесса с живостью. — Вы с утра такой добрый, такой услужливый, вы заботитесь обо мне так внимательно!
— С утра? — повторил Петрус плачевным тоном. — А в ночь?
— О! — продолжала баронесса, притворившись, будто не слышит этого вопроса, чтоб не отвечать на него. — Я, напротив, прошу вас простить мне. Поверьте, я буду помнить толькоодно: доброту, которую вы постоянно оказывали мне в продолжительном пути, который мы делали вместе. Сохраните обо мне, господин Петрус, воспоминание такое же приятное, какое я сохраню о вас. Я ничего другого не прошу у неба.
— Баронесса! — вскричал Петрус. — Вы ангел, вот мое мнение!
— Ангел падший! — сказала она, печально улыбаясь.
— Что до этого в тех обстоятельствах, в которых мы находимся? Кто из нас не делал ошибок? Счастлив тот, кто может их загладить так благородно, как вы. Повторяю вам, сердитесь, если хотите, вы ангел; говорю вам это без обиняков. Вы теперь имеете во мне преданного друга. Петрус Вебер, студент медицины, родившийся в Страсбурге, принадлежит вам и телом, и душой. Делайте с ним что хотите, и при первом случае увидите, на что я способен для тех, кого люблю.
Он выпустил четыре клуба дыма из своей трубки, раздвинул свои громадные ноги и зашагал во главе своего отряда.
Через несколько минут наши три путешественника вошли в Войер.
Деревня была пуста. Пруссаки были там несколько раз и оставляли следы, к несчастью, слишком очевидные, своих многочисленных посещений.
Только в одном доме оставались жители, в гостинице, издали обозначаемой глазам путешественников большой вывеской из листового железа, представлявшей солдата старой императорской гвардии с надписью: «Великий Победитель».
Немцы стерли голову солдата и вместо нее нарисовали белым и желтым карандашом огромную прусскую каску. Ничего не могло быть смешнее этой вывески. Перед дверью гостиницы стоял толстяк с веселой физиономией и курил огромную трубку.
В эту войну слишком много было доказательств того, что в деревнях кабатчики и трактирщики очень сговорчивы с политической точки зрения. Они с одинаковым восторгом продают и врагам, и друзьям, только бы получить хорошую плату.
Трактирщик, о котором мы говорим, принадлежал к этой категории платонических патриотов. Он принял прибывших с самыми горячими выражениями удовольствия и тотчас отдал в их распоряжение себя самого и всю свою гостиницу.
Вольные стрелки расположились на площади, приняв предосторожность поставить часовых и у всех входов в деревню, чтоб избежать неожиданного нападения.
Карета баронессы фон Штейнфельд стояла под навесом на дворе гостиницы.
Кучер и лакей баронессы, не надеявшиеся уже увидеть свою госпожу, радостно выбежали к ней на встречу. Но радость их превратилась в испуг, когда они увидали, что ее провожают вольные стрелки.
Мишель с трудом успокоил их и растолковал им, что они свободны и что никто не имеет намерения тревожить их.
— Пойдемте, — обратилась баронесса к Мишелю и Люсьену, направляясь к карете. — Снимите дышло, — приказала баронесса кучеру.
Тот посмотрел на нее с удивлением, почти с испугом.
— Делайте, что я вам приказываю, — продолжала баронесса фон Штейнфельд.
Кучер повиновался.
— Теперь отвинтите дышло.
Кучер бросил на баронессу отчаянный взгляд. Дышло в двух местах было обтянуто колеей. Кучер, принужденный повиноваться, а главное заметивший, что Мишель небрежно гладил дуло револьвера, заткнутого за пояс, ухватился, как говорится, обеими руками и развинтил дышло, разделившееся почти на две ровные части. Перелом был совершенно скрыт кожей, обтягивавшей его.
Дышло, довольно толстое, было пусто в той части, которая приспособлялась к карете.
Люсьен велел отнять этот кусок и длинный футляр из жести упал на землю.
— Вот что я обязалась вручить вам, господа, — сказала баронесса, подавая футляр Мишелю.
Тот взял и поклонился, потом наклонился к Люсьену и сказал ему шепотом несколько слов.
Молодой человек сделал знак согласия и удалился бегом.
— Гребен, — сказала баронесса, — привинтите дышло на место.
Кучер повиновался. В ту же минуту Люсьен вернулся на двор в сопровождении Петруса. Два вольных стрелка шли позади.
— Баронесса, — сказал Мишель, — вы честно сдержали обещание, данное нам, и я благодарю вас.
— Не совсем еще, — возразила она, улыбаясь и подавая Мишелю маленький ключ странного фасона. — Возьмите этот ключ; он отопрет футляр, который я отдала вам. Вы найдете там все документы, о которых я говорила вам.
— Еще раз благодарю, баронесса. Сержант Петрус!
— Что прикажете, капитан? — ответил студент, поднося руку к шляпе.
— Схватите этого негодяя, — продолжал Мишель, указывая на кучера. — Велите его покрепче связать. Вы отвечаете мне за него.
— Отвечаю, капитан.
Приказание было исполнено в несколько секунд.
— Что это значит? — вскричала баронесса.
— Позвольте; тут ничего не должно вас пугать, напротив. У этого негодяя изменническое лицо, которое не внушает мне никакого доверия. Для меня очевидно, что если вы оставите его у себя, то он на первом прусском мосту донесет на вас. Следовательно, я велел его арестовать собственно для вашей пользы. Но успокойтесь, с ним не случится ничего неприятного. Он останется пленником до конца войны и больше ничего.
— Вы обещаете мне это?
— Клянусь вам, баронесса.
Петрус, вольные стрелки и кучер ушли. Мишель позвал трактирщика, который пришел в сопровождении лакея баронессы фон Штейнфельд. Занимаясь чемоданами своей госпожи, которые он раскрыл на случай, не нужно ли ей чего-нибудь, и опять запер, лакей не знал ничего о случившемся.
— Вильгельм, — сказала баронесса, — вы умеете править?
— Умею.
— Хорошо; править будете вы. Велите заложить; я еду сию минуту.
— Я почтительнейше замечу вам, что Гребен…
— Гребен уже не служит у меня. Он арестован. Поторопитесь, я спешу.
— А я-то? — прошептал камердинер с испуганным видом.
Он поспешил запрячь лошадей, с помощью трактирщика, который, без сомнения, опасаясь для себя участи несчастного кучера, высказал величайшее усердие, чтобы заслужить благосклонность вольных стрелков.
Десять минут спустя карета была заложена и баронесса готова ехать.
Мишель любезно предложил ей руку, чтобы помочь сесть в карету. Баронесса фон Штейнфельд задержала на минуту эту руку в своей руке; она сказала со сдерживаемым волнением:
— Господин Мишель Гартман, я обязана вам жизнью и никогда не забуду этого. Я знаю многое о ваших родных, многое чрезвычайно интересное для вас. У меня нет времени объясниться яснее. Мы увидимся, господин Мишель Гартман. Мы увидимся, может быть, гораздо скорее, чем вы предполагаете. И тогда я надеюсь доказать вам мою признательность.
— Милостивая государыня! — вскричал молодой человек. — Говорите ради Бога! Что хотите вы сказать?
— Я не могу сделать этого теперь, но положитесь на меня. До свидания, господин Мишель Гартман; да благословит вас Бог! Вы возвратили мать сыну. Вильгельм, в Нанси!
Мишель остался на своем месте неподвижен и как бы поражен оцепенением. Он следил диким взором за каретой, увозившей ту, которая могла бы сообщить ему драгоценные сведения об особах, драгоценных для него.
Глава XXIX ВОГЕЗСКИЕ АНАБАПТИСТЫ
Мы оставим на время альтенгеймских вольных стрелков, с которыми, впрочем, опять скоро сойдемся, и воротимся к тем важным действующим лицам в этой истории, которыми мы пренебрегали слишком долго. Однако, вместо того, чтобы оставить Вогезы, мы, напротив, глубже проникаем в их непроходимые ущелья и подробнее знакомим читателя с этой страной, столь живописной и столь поэтичной, а между тем еще неизвестной, несмотря на события, происходившие в ней во время страшной войны, перенесенной нами.
По мере того, как поднимаешься по извилистым тропинкам гор, чувствуешь, что температура изменяется, а растительность постепенно преобразовывается; на известной высоте растительность становится блеклою; сначала ветви буков и сосен покрываются сплошным мхом, который скоро покрывает все дерево как бы мрачным плащом, потом несколько выше высота деревьев уменьшается и, наконец, сосны совершенно исчезают, а буки составляют только тощие кусты; один можжевельник показывает упорную настойчивость и отчаянно борется с температурой вершин; там, где жалко изнемогают гиганты леса, можжевельник горделиво выставляет свой беловатый золотушный и растрескавшийся стебель, свою мрачную и широкую зелень; видишь издали на высоких вершинах, как он дрожит от печального и однообразного ветра, ледяное дуновение которого как будто обозначает своим движением.
Можжевельник показывает крайнюю границу области, которая производит только живучие травы, там начинаются душистые пастбища, где лишай и мох оспаривают почву малорослой черники с розоватыми, белыми ягодами, как кальвильские яблоки, у благовонных растений высоких местностей, горчанки, прозрачной травы, молочника, пятилистника, гулявицы.
Мы сказали уже выше, что Вогезы оканчиваются не пиками, не скалами и не остроконечными верхушками, но настоящими куполами; их вершины составляют обширные пастбища, столь же богатые, бархатистые и мягкие, как самые великолепные ковры.
В Эльзасе и Лотарингии эти купола называют лысинами; действительно, они походят на обнаженные черепа; в продолжении восьми месяцев они совершенно покрыты толстым слоем снега, скрывающим их наготу.
Тогда они преобразовываются в настоящие мрачные пустыни, в безмолвные и ледяные степи, куда не отваживается никто без решительной необходимости, потому что их нельзя проходить, не подвергаясь серьезным опасностям.
Между многочисленными лысинами, возвышающимися на лесистых боках Вогезов, являются там и сям как гигантские ступени, ведущие к высоким вершинам, внутренние площадки, выходящие из середины столетних лесов, грациозные и веселые оазисы, созданные упорным и разумным обрабатыванием среди этих грандиозных пустынь.
24 сентября 1870, к трем часам пополудни, небольшая толпа из семи человек, четырех женщин и трех мужчин, или, лучше сказать, двух мужчин и одного ребенка, потому что третьему было лет двенадцать или тринадцать, с трудом подвигались по бесчисленным извилинам широкой тропинки, проложенной по густому лесу, покрывающему крутые склоны Донона.
Мальчик служил проводником каравану и шел на двадцать шагов впереди; за ним ехали женщины на ослах, старательно закутавшись в плащи, капюшон которых был опущен на лицо, или чтобы предохранить от холода, довольно сильного в этих высоких местах, или чтобы не быть узнанным; впрочем, костюм этих путешественников, во всем похожий на одежду эльзасских крестьянок, ничем не мог привлечь внимания.
Мужчины, одетые так же как эльзасские крестьяне, шли позади; только, без сомнения по случаю войны, у каждого на плече было ружье, за поясом пара длинных шестиствольных револьверов, сабля-штык и патронташ, а через плечо на перевязи висела большая сумка, вероятно, наполненная провизией всякого сорта.
После густой чащи елей, с ветвей которых, так изящно расположенных природой, зелень висит как бахрома, взоры путешественников, до сих пор замкнутые узкой стеной листвы, могли свободно обнять все пространство огромной прогалины.
Они добрались до площадки Сальм, одной из самых живописных и наилучше обработанных. Перед ними на расстоянии нескольких сотен метров, не более, кровли домов двадцати виднелись над вершинами фруктовых деревьев.
— Где мы здесь? — спросила одна из дам. — Боже мой, какая очаровательная деревня!
— Какая тишина, какое спокойствие! — вскричала вторая, приподнимая капюшон с грациозным движением и обнаруживая восхитительное личико, похожее на пастель Латура.
— Это уголок земного рая, — прибавила, смеясь, ее спутница, такая же хорошенькая и молоденькая, как она.
— Эй, мальчик! — закричала та дама, которая заговорила первая, сделав дружелюбный знак молодому проводнику. — Поди сюда, дитя.
— Я здесь, сударыня; что вам угодно? — спросил мальчик, подходя.
— Я хочу знать, где мы.
— На площадке Сальм.
— Очень хорошо; но какая это деревня?
— Это деревня анабаптистов, — возразил мальчик, смеясь, — ведь я вам сказал, что вы на площадке Сальм.
— Ну?
— Вы разве не знаете, что анабаптисты живут на этой площадке; ведь это они обработали ее всю; вот странные-то люди!
— Благодарю тебя за это сведение, дитя; я не знала того, что ты мне сказал, а теперь скажи нам, куда ты нас ведешь.
— Куда вы хотите; но день почти уже прошел; далеко мы сегодня не дойдем; лучше уж остановиться здесь.
Все путешественники остановились и внимательно прислушивались к этому разговору.
— Разве мы далеко от озера Мэ? — продолжала дама.
— Около трех лье; ослы устали, а дорога трудная, особенно в это время года.
— Как же быть? — сказала дама с видом досады.
— Я вам говорю, остановиться здесь.
— Я не вижу гостиницы.
— Постучись в какой угодно дом, вы будете приняты не только с усердием, но с радостью; анабаптисты очень гостеприимны.
— Однако, мне кажется, — сказала дама, улыбаясь, — что нас здесь очень много и мы не можем отваживаться таким образом.
— Попробуйте и увидите, а я их знаю и говорю вам, что это люди престранные.
— Мальчик прав, — сказал один из мужчин, подходя, — последуйте его совету; ваша просьба будет принята хорошо.
— Пожалуй, если вы хотите, — отвечала дама.
— В какую дверь постучаться? — спросил мальчик.
— В какую хочешь.
— Вот в эту, — продолжал он, указывая на ближайшую.
— Хорошо, в эту.
Караван пустился опять в путь. Мальчик занял свое место в авангарде, решительно направляясь к дому, на который он сам указал и который, действительно, был первый в деревне.
Дом этот имел вид самый привлекательный; он состоял из двух этажей с чердаком; пять окон фасада были обрамлены розовым песчаником; на косяке и притолоке двери была даже легкая резьба, очень хорошо исполненная; красная черепица покрывала прочно этот дом и укрывала его от осенних дождей, зимнего снега и сильных равноденственных ветров.
У двери этого дома стоял старик высокого роста, лет восьмидесяти, но еще бодрый; волосы ослепительной белизны падали крупными кудрями на его плечи и смешивались с такой же белой бородой, спускавшейся на его грудь; человек этот, с резкими чертами, с кроткой и доброжелательной физиономией, по-видимому, ждал с улыбкой на губах прибытия путешественников.
Одежда его, очень скромного цвета, была чрезвычайно проста.
— Добро пожаловать в этот неизвестный уголок, — сказал он кротким голосом, снимая шляпу и кланяясь дамам, — вы чужестранцы; могу я быть полезен вам в чем-нибудь?
— Мы устали от продолжительного пути по дурным дорогам, — ответила одна из дам, отвечая на поклон старика, — мы ищем пристанища на ночь.
— Не ищите; мой дом отворен для вас. Благодарю Господа, позволившего мне предложить вам гостеприимство, в котором мне позавидуют все другие жители этой деревни. Меня зовут Иоган Шинер; мой дом будет вашим на все время, в которое вы удостоите его вашим присутствием.
— Искренне благодарю вас за себя и за особ, сопровождающих меня, господин Шинер, — ответила дама с веселой улыбкой, — но я надеюсь, что мы не употребим во зло вашего трогательного гостеприимства; однако, — прибавила она вполголоса и как бы говоря сама с собою, — может быть, нам не следовало бы принимать его.
Старик притворился, будто не слыхал этих слов, и так как караван остановился у дверей, он предложил руку молодой женщине, чтобы сойти на землю.
Путешественники оставили своих лошадей на попечение работника, поспешно прибежавшего, который увел их в конюшню, примыкавшую к дому.
— Пожалуйте, — сказал старик, — к вам, а не ко мне; еще раз, переступая за порог этого скромного жилища, добро пожаловать. Посетители посылаются Богом!
Вошли в дом; внутренность соответствовала наружности; все в этом жилище дышало спокойствием, достатком, говорило и глазам, и душе и придавало охоту поселиться тут и искать уединения и отдыха.
Зала, в которую ввели путешественников, была средней величины и меблирована очень просто; выбеленные стены, сосновый пол, где нельзя было найти пятнышка, скамейки, стол, так часто мытый, что поверхность сделалась гладка как от трения пемзы, белизна простынь в глубине алькова, чистота стекол — все сияло опрятностью и громко расхваливало хозяйку.
Во все окна, отворенные в эту минуту, виднелся великолепный пейзаж, расстилавшийся как огромная панорама до крайних пределов горизонта, позлащенного последними лучами солнца и мало-помалу утопавшего в вечернем тумане.
Удостоверившись, что все путешественники сели, старик сказал, возвысив голос:
— Жена, подай нам полдник пока до ужина.
Отворилась дверь и появилась женщина лет шестидесяти пяти с улыбкой на губах; женщина эта, должно быть, была очень хороша собой в молодости; физиономия ее имела выражение кротости и доброжелательства, которое очаровывало с первого взгляда.
Любезно поклонившись гостям, она очень деятельно принялась угощать их полдником.
Свежее масло, мед в сотах, ситный хлеб, белое вино, бутылки которого показывали старость, свежие фрукты скоро покрыли стол, а хозяин дома сам сходил в погреб за превосходной водкой из черники, которую поставил на стол с веселой улыбкой.
Эльзасцы очень ценят эту водку, которой запах, вкус и удивительная прозрачность льстят воображению почти столь же, как и вкусу, и которая делается из черники, куста, растущего на высоких горах, ягоды которого имеют форму и величину черноголовника, но вкус слегка сладкий.
Эта водка — напиток национальный эльзасцев и лотарингцев и справедливо ценится истинными знатоками.
Когда путешественники закусили, мужчины, разменявшись шепотом несколькими словами с дамой, которая до сих пор постоянно говорила от имени всех, взяли ружья и вышли.
Трех других дам увела жена хозяина в комнаты, наскоро приготовленные для них, а молодая женщина осталась одна со стариком; оба сидели по разные углы камина, в котором пылал огонь.
Молодая женщина, откинувшись на спинку стула, опустив голову на грудь, казалась погружена в глубокие размышления.
Иоган Шинер рассматривал ее с выражением сострадательной печали; несколько раз раскрывал он рот, чтобы заговорить с нею, но каждый раз слова замирали на его губах и он не смел их произнести, опасаясь, без сомнения, показаться докучливым; вдруг молодая женщина приподняла голову и, наклонившись к старику с принужденной улыбкой, сказала:
— Господин Иоган Шинер, вы давно живете здесь?
— Я здесь родился, да и отец мой также.
— Есть у вас дети?
— Двое, высокие и красивые молодые люди.
— Их, стало быть, нет здесь в эту минуту? Я их не видела.
— Увы! Их нет здесь, — ответил старик печальным голосом, — они в армии.
— Оба?
— Оба.
— В каком корпусе служат они?
— При обозах.
Наступило минутное молчание; его прервала молодая женщина.
— Вы, вероятно, хорошо знаете этот край? — спросила она.
— С самого моего рождения проходил я его во все часы дня и ночи; я знаю малейший куст.
— Стало быть, вы знаете, где находится озеро Мэ?
— Конечно, знаю.
— Далеко оно от этой деревни?
— За три или два лье, то есть на три четверти часа ходьбы для горца.
— Не более?
— Нет.
— Прежде чем дойдешь до этого озера, не находятся ли развалины старинного приората?
— Извините, развалины, о которых вы говорите, находятся на самом краю озера, на правом берегу; впрочем, они теперь не важны, а через несколько лет совсем исчезнут.
— Вы правы, господин Иоган Шинер, я ошиблась; я не знаю, зачем я говорила вам об этих развалинах, которые, признаюсь вам, мало меня интересуют. А на дороге, ведущей отсюда к озеру, нет никакой деревни?
— Никакой.
— Повсюду леса, совершенное уединение?
— Леса, да; но уединение не такое полное, как вы предполагаете.
— Это как?
— За полтора лье отсюда находится домик лесничего, служащий в то же время гостиницей редким путешественникам, которых случай приводит в эту сторону.
— Как! Здесь так близко есть гостиница?
— Есть, но очень неудобная; ее содержит лесничий, и небольшая выгода, которую она доставляет, помогает ему жить и содержать семью; вы знаете, без сомнения, что лесничие получают очень небольшое жалованье, поэтому им позволяют заниматься скромной торговлей.
— Я этого не знала; бедные люди! Итак, Прейе только за полтора лье от этой деревни?
— Вы знаете название этого дома! — вскричал хозяин с удивлением.
— Вы, кажется, сами произнесли его, — сказала она, краснея.
— Не думаю.
— Это правда. Теперь помню. Мне сказал это название мальчик, который привел нас сюда; но я думала, что Прейе село или, по крайней мере, маленькая деревенька.
— Нет, это просто дом лесничего.
— Благодарю, — сказала она и опять сделалась безмолвна.
— Вы ничего не желаете более знать? — спросил старик через минуту.
Молодая женщина приподняла голову, смотрела на старика со странным выражением две-три секунды, а потом вдруг как будто решилась и сказала с очаровательной улыбкой:
— Послушайте, господин Иоган, извините меня, мои вопросы должны были показаться вам очень странны и безрассудны, не так ли? Я буду откровенна с вами, тем более, что хочу просить у вас услуги.
— Ложь всегда дурной способ.
— Моя ложь имеет извинение, господин Иоган. Мы живем в несчастное время, когда необходима величайшая осторожность; мне не хотелось бы, чтоб мое присутствие внесло в ваше спокойное жилище несчастье и погибель.
— Так поэтому-то, когда я имел честь предлагать вам гостеприимство, вы сказали шепотом, что, может быть, сделаете лучше, если не примите его!
— А! Вы слышали?
— Вы видите; но это все равно; я человек простой и всегда старался исполнять свои обязанности к другим как к себе самому, вы сказали, что хотите просить у меня услуги, говорите. И если эта услуга не может оскорбить мою совесть, я постараюсь исполнить ваше желание.
— Я этого ожидала от вас, господин Иоган, а относительно того, о чем я хочу вас просить, успокойтесь, я не стану требовать ничего такого, что могло бы оскорбить вашу добросовестность; меня удерживает только опасение навлечь несчастье на вас, и это в награду за всю вашу доброту и дружелюбное гостеприимство.
— Несчастье — гость дорогой, когда идет вслед за долгом; говорите без опасения; я слушаю вас.
— Прежде всего позвольте мне сказать вам, кто я; когда вы узнаете мое имя и…
— Позвольте мне остановить вас, — с живостью перебил старик, — вы и лица, сопровождающие вас — путешественники, которым я очень рад предложить гостеприимство; мне не нужно знать ничего более. Я прибавлю, что, может быть, для нашей взаимной пользы, в виду событий, могущих случиться, мне лучше сохранить полное неведение на этот счет; это позволит мне действовать с большей свободой в услуге, которую вы ожидаете от меня.
— Вы правы, — ответила молодая женщина, подумав несколько минут, — я приступлю к делу; вот в двух словах о чем идет речь: сегодня вечером в половине одиннадцатого никак не позже, я должна быть в Прейе.
— Ничего не может быть легче.
— Для вас — да, но для женщины, не знающей дороги…
— Стало быть, вы желаете проводника?
— Да, господин Иоган, во-первых, и потом еще кое-чего.
— Говорите!
— Прежде всего никто не должен знать об этой небольшой экспедиции. Есть у вас здесь лошадь и тележка?
— Этого ничего нет; притом ни лошадь, ни тележка не проедут по дорогам, ведущим отсюда в Прейе.
— Стало быть, я пойду пешком, и прошу у вас только решительного молчания об этой прогулке, проводника и мужской костюм; мое платье неудобно для ходьбы через кусты.
— Никто не будет знать о вашей прогулке, я даю вам слово, а мужское платье вы получите через час.
— А проводника?
— Это буду я, с вашего позволения; повторяю вам, никто лучше меня не знает здешних гор.
— Благодарю вас; но не боитесь ли вы, что такой продолжительный путь будет свыше сил в ваши лета?
— Не беспокойтесь об этом, — ответил старик, смеясь, — вероятно, из нас двоих устану не я; я каждый день хожу гораздо дольше осматривать мои пастбища.
— Хорошо, вы пойдете со мною. В котором часу отправимся мы?
— Вам нужно, не так ли, быть в Прейе до половины одиннадцатого?
— Не только нужно, но и необходимо, господин Иоган.
— Очень хорошо; теперь четыре часа, в шесть мы поужинаем, в половине девятого отправимся в путь, если для вас это удобно, и успеем, не торопясь, дойти до Прейе к тому часу, к которому вы желаете.
— Это решено; прошу вас о моем костюме.
— Вы будете его иметь через час.
— Теперь, если вам угодно, покажите мне комнату где я могла бы отдохнуть несколько минут.
— Я к вашим услугам; пожалуйте за мною. Старик встал и отвел молодую женщину в комнату довольно маленькую, просто меблированную и в которой уже находилась другая путешественница, потом ушел, оставив двух дам одних.
Они оставались с минуту неподвижны, наклонившись вперед и прислушиваясь; потом, когда шаги старика замолкли, первая, занявшая комнату, подошла к той, которая пришла.
— Ну что, моя милая барыня? — спросила она с участием.
— Все устроено и решено; сегодня вечером в половине девятого, — ответила молодая дама, садясь на стул у окна.
— Идти мне с вами?
— Нет, Элена, это невозможно.
— Однако вы мне обещали, — сказала Элена тоном упрека.
— Ты говоришь вздор, я ни слова не упоминала об этом; впрочем, успокойся, я пойду не одна, сам наш хозяин господин Иоган будет провожать меня.
— Хороша защита, анабаптист?
— Анабаптист такой же мужчина, как и всякий другой, как мне кажется; я видала их много в Германии.
— Очень может быть, графиня, — возразила молодая девушка нравоучительным тоном, — но между анабаптистами немецкими и французскими большая разница.
— Скажите, пожалуйста! Неужели здешние люди бесчестные?
— О, нет! Напротив, это честнейшие люди на свете.
— Так в чем же ты их упрекаешь?
— Ни в чем, только для женщины это жалкие защитники.
— Уж не трусы ли они? — спросила, улыбаясь, графиня, в которой читатель, без сомнения, узнал госпожу де Вальреаль.
Каким образом графиня де Вальреаль успела выбраться из Страсбурга, так тесно обложенного немецкой армией, это мы скоро объясним.
— Трусы анабаптисты! — с живостью вскричала молодая девушка. — Нет, графиня, напротив, они очень храбры.
— Действительно, те, которых я знала, славились своею храбростью.
— О! Погодите, графиня; мужество здешних анабаптистов совсем не похоже на немецких; это, если я могу выразиться таким образом, мужество, независящее от пылкости крови, не имеющее ничего воинственного, напротив, чисто нравственное.
— Знаешь ли, что я совсем тебя не понимаю, — сказала графиня, улыбаясь.
— Однако это очень просто; хотите, я объяснюсь?
— Ничего лучше не желаю; но мне любопытно знать, кто научил тебя такой учености?
— Карл Брюнер, графиня. Он, кажется, находился в сношениях в Страсбурге с вогезскими анабаптистами.
— Очень хорошо; теперь, когда я знаю твоего учителя, сообщи мне сведения, которые он передал тебе.
— Вам, без сомнения, известно, графиня, что немецкие анабаптисты — последователи Карлштадта, Мюнстера и Иоанна Лейда, желавших вооруженной борьбы и всех жизненных наслаждений.
— Я знаю это; а здешние разве не такие?
— О, нет! Здешние анабаптисты называются голландскими; они последователи Мено Симониса, оттого их часто называют менонитами. Это люди простые, добрые, сами с гордостью называющие себя беззащитными христианами, потому что закон их запрещает им носить оружие и противопоставлять силу силе; им предписано переносить без сопротивления и даже без ропота величайшие несправедливости и отвечать кротостью и полным самоотвержением на дурное обращение, на несправедливое наказание — словом, на неприятности всякого рода, какими их врагам вздумается их терзать.
— Ты знаешь это наверно?
— Наверно. Меня в этом уверил Карл Брюнер.
— А, может быть, он ошибается, тем более, что господин Иоган уверил меня, что оба его сына служат в эту минуту в армии.
— Это не доказывает ничего.
— Как, не доказывает ничего, когда они солдаты?
— Конечно, графиня; не все солдаты дерутся; те, например, которые служат в лазаретах или при обозах.
— Кажется, точно, я припоминаю, наш хозяин сказал мне, что его сыновья служат при обозах.
— Вы видите, что я права, и Иоган Шинер будет для вас жалким защитником.
— Может быть; но успокойся, милая моя, я приняла предосторожности; в Прейе я найду защитников, если они понадобятся мне.
— Это может быть; вам это известно лучше меня; но если на дороге вас остановят разбойники…
— Я не думаю, чтобы на таких высоких горах находились разбойники; я подвергаюсь опасности встретить только разве заблудившегося мародера.
— Мародеры часто бывают хуже разбойников.
— Это правда, но ты забываешь, что для этих у меня есть пара револьверов, прелестных игрушечек не длиннее пальца, укладывающихся в кармане жилета и пули которых пробивают на пятнадцати шагах дубовую доску в двадцать сантиметров толщины; ты знаешь мои револьверы. Будь же спокойна, я возьму их с собой и обещаю тебе, что если представится случай, я, не колеблясь, прибегну к ним.
— Вы осмелитесь убить человека, графиня?
— Милая моя, — ответила графиня, улыбаясь, — пословицы — мудрость народов, а французские простолюдины говорят, что лучше убить черта, чем быть убитым им; если нападут на меня, я стану защищаться; тем хуже для того, кто отважится остановить меня. Итак, ни слова более об этом. Мое намерение принято, и все твои убеждения будут бесполезны. Как здоровье госпожи Вальтер?
— Мать здорова, а барышня Шарлотта кажется мне печальнее и растревоженнее обыкновенного.
— Бедное дитя! — прошептала графиня с подавленным вздохом. — В этом нет ничего удивительного: она должна так страдать; поручаю тебе, Элена, окружить ее величайшими попечениями.
— О! Это не трудно, графиня; эти дамы так добры!
— А, главное, молчи обо всем, что относится ко мне.
— Вам не к чему поручать мне это, графиня. Притом, они не любопытны: ни мать, ни дочь еще не делали мне вопросов.
— Тем лучше; во всяком случае ты знаешь, что им отвечать.
— Знаю, графиня, не тревожьтесь об этом.
Ужин происходил в шесть часов, как сказал хозяин дома; обед был простой и умеренный; он состоял только из вареного картофеля, молока и меда; только в честь приезжих прибавили ситный хлеб, несколько бутылок эльзасского белого вина и огромное блюдо яичницы с мукой, наконец, салат и большой кусок брюерского сыра, делаемого в краю, который, действительно, превосходный.
Мужчины, провожавшие путешественниц, вошли в залу в конце ужина; они поклонились всем, поставили ружья в угол, сели на места, назначенные для них, и, не произнося ни слова, принялись за кушанья с таким жаром, который показывал их аппетит и желание наверстать потерянное время.
Когда ужин был кончен, а он продолжался не более часа, все встали и приготовились отправляться спать.
Хозяйка дома непременно захотела проводить дам в их комнаты, чтобы удостовериться, что они не будут иметь недостатка ни в чем.
Однако, среди шума, поднявшегося, когда вставали из-за стола, графиня успела подойти к своим провожатым.
— Ну что? — спросила она шепотом одного из них.
— Сделано, — ответил этот человек таким же тоном.
— Вам удалось?
— Вполне; вам нечего бояться, графиня.
— Я ничего не боюсь, — ответила она со странной улыбкой.
— Какие будут ваши приказания, графиня?
— Все те же, ничего не переменилось.
— Следовательно?
— Следовательно, вы можете действовать.
Оба человека почтительно поклонились, отступили назад и примешались к работникам, наполнившим залу.
Графиня де Вальреаль присоединилась к госпожам Вальтер, не слышавшим этого краткого разговора, и вышла из комнаты, разговаривая с ними.
Она пошла за своими спутницами в их комнату, смежную с ее комнатой, оставалась с ними с полчаса, потом, ссылаясь на усталость, пожелала им спокойной ночи и ушла к себе, где ее ждала Элена.
Во время ее отсутствия Иоган принес довольно большой сверток; графиня развязала его. В нем заключался полный костюм эльзасского крестьянина, почти новый и очень опрятный; он был сделан, как это легко было видеть, для молодого человека лет шестнадцати, не более.
Графиня сделала движение, выражавшее удовольствие, заперла дверь на ключ, чтобы ей не помешали, и обернувшись к субретке, которая смотрела на нее с изумлением, смешанным с беспокойством, сказала:
— Подай мне все, что нужно, Элена; необходимо, чтобы меня нельзя было узнать, а главное поторопись; нам нельзя терять ни минуты.
Ничего не отвечая, молодая девушка отперла чемодан, вынула оттуда несколько вещей, которые положила на стол, потом начала помогать превращению своей госпожи.
Никогда не бывало более полного превращения; самая опытная актриса не могла бы лучше изменить себя и сделаться неузнаваемой.
Вместо молодой женщины с гордой и аристократической красотой, с грациозными движениями, с изящной и величественной осанкой, очутился юноша лет двадцати, с лицом загорелым от солнца, с желтоватыми и несколько растрепанными волосами, падавшими на плечи, с маленькой бородкой, с хитрыми глазами, никогда не останавливавшимися на одном предмете, и с грязными руками; костюм соответствовал наружности так же, как медленная и несколько разбитная походка.
Графиня окончательно рассматривала свой костюм, когда слегка постучались в дверь.
По знаку барыни, Элена поспешила отворить.
Вошел Иоган и не мог не вскрикнуть от удивления, приметив графиню; все в ней переменилось, даже ее голос; как она сама сказала, ее никак нельзя было узнать.
— Пора, — сказал Иоган.
— Я готова, — отвечала графиня, сунув в карман жилета два очаровательных револьвера, — но для чего вы держите в руке эти две палки, господин Иоган?
— Одна для вас; она вам понадобится в дороге. Он подал ей палку.
— Благодарю, — сказала она, — называйте меня Людвигом и обращайтесь со мною как с вашим работником. Вы обещаете мне это, не так ли?
— Обещаю. Как вы хорошо переоделись! Вы похожи как две капли воды на моего племянника Корника, маркара.
— Как маркара? — с удивлением спросила графиня. — Разве ваш племянник взялся за оружие, несмотря на свою религию?
— Я вас не понимаю… Может ли мой племянник взяться за оружие, когда он анабаптист!
— Я тоже говорю… Разве вы не знаете, что пруссаки назвали маркарами всех крестьян и работников ваших гор, которые, побуждаемые патриотизмом, бросили дома и составили отряды вольных стрелков, чтобы вести истребительную войну с неприятелем. Альтенгеймские вольные стрелки и все другие французские партизаны, защищающие ущелья гор, для немцев маркары, то есть возмутившиеся работники, поэтому они и гоняются за ними как за хищными зверями и поступают с ними безжалостно.
— Я этого не знал, и повторяю вам, мой племянник мальчик честный, трудолюбивый и имеющий отвращение к крови.
— Тем лучше; стало быть, я не подвергаюсь опасности быть узнанной.
— О! Опасности нет; идем?
— Когда вы хотите; милая Элена, ложись и спи хорошенько без меня.
— Нет, — ответила Элена, качая головой, — я спать не буду.
— Что же ты будешь делать?
— Молиться за вас, милая госпожа моя.
— Ты знаешь, что со мною сам Господь, — пошептала графиня на ухо, целуя ее. — В путь, господин Иоган! — прибавила она, обернувшись к старику.
— В путь, Людвиг! — ответил он, смеясь.
— В добрый час! — сказала графиня.
Они вышли. Элена заперла дверь, стала на колени у кровати и молилась, заливаясь слезами.
Глава XXX ДОМ ЛЕСНИЧЕГО
Иоган Шинер держал в руке фонарь, потому что глубокая темнота царствовала в доме, обитатели которого все давно были погружены в крепкий сон.
Попросив шепотом свою спутницу идти как можно тише, анабаптист сделал ей знак следовать за ним. Оба молча прошли по коридорам и достигли, наконец, низкой двери, искусно скрытой в стене.
Старик осторожно отворил ее, погасив сначала фонарь, который спрятал в такое место, откуда мог взять его по возвращении.
Наши два ночных путешественника шли так осторожно, что ничто около них не пошевелилось; они вышли из дома, старательно заперев дверь, и очутились в переулке, который через несколько шагов выходил в поле.
Ночь была теплая, атмосфера чрезвычайно чистая, небо темно-голубое, усыпанное звездами, сверкавшими как бриллианты. Луна, почти полная, плавала в эфире как громадный металлический шар и обильно проливала на землю свои бледные, меланхолические лучи, придававшие фантастический и грандиозный характер пейзажу; величественная тишина господствовала на горе, склоны которой исчезали в тумане, поднимавшемся из долины; тишина нарушалась время от времени однообразным звуком пильной мельницы и отрывистым лаем собак. В ту минуту, когда анабаптист и его спутница вышли из дома, половина девятого пробила на отдаленной колокольне; звук колокола, повторенный эхом, печально замер в ушах графини, которая инстинктивно задрожала.
Оба путешественника прошли наискось площадку Сальм и спустились в узкое ущелье, возле которого находилась пильная мельницы, упомянутая выше, постоянное движение которой производило шум, довольно похожий на ускоренное и стесненное дыхание; спускаясь около десяти минут по этому ущелью, которое суживалось все более и более, путешественники достигли густого леса, в который вошли по извилистой и едва проложенной тропинке, где графиня шла с чрезвычайным трудом, по причине темноты, заменившей меланхолический свет луны, лучи которой не проникали сквозь густой купол листвы, замыкавший двух искателей приключений как бы роковым кругом; темнота все более сгущалась; графиня спотыкалась на каждом шагу о камни и пни, попадавшиеся ей под ноги. Несмотря на всю ее решимость, она чувствовала, как сильная печаль овладевала всем ее существом, печаль еще увеличивавшаяся от шума невидимых потоков, низвергавшихся со склонов горы.
Молодая женщина трепетала, когда надо было проходить эти потоки по наскоро устроенным мостам из толстых ветвей, покрытых землею, которые колебались под ее ногами; вода, струившаяся с высот, кипела под этими мостами и устремлялась в глубину долин, обвивая графиню сырым туманом, среди которого она исчезла, точно будто хотела приподнять ее как вихрь и сбросить в бездну неизмеримой глубины; но Иоган вовсе не заботился о страхе, овладевшем его спутницей; он шел твердым, размеренным шагом и никогда не колебался, направляясь как днем, не оборачиваясь, чтоб удостовериться, идет ли за ним его спутница, и вовсе не думая помогать ей в опасных местах, где раз двадцать бедная женщина чуть не потеряла равновесие и не разбилась о скалы; это не было равнодушием со стороны старика, привыкшего во всякое время ходить по этим опасным местам, где он мог бы направляться с завязанными глазами; он не сознавал опасности, представляемой этими местами чужестранцам, ноги которых не были ни так тверды, ни так опытны как у него.
Между тем лес стал редеть, мало-помалу деревья становились дальше одно от другого справа и слева, наконец, совсем исчезли и путешественники очутились у входа в какой-то природный коридор, обрамленный голыми и крутыми скалами, покрытыми изредка только тощим, почти высохшим мхом; среди этой пустынной фиваиды римский путь из огромных плит обрисовывал широкую черную ленту, которую столетия истрескали там и сям, но не сделали в ней ни одной щели.
Этот монументальный путь среди пустыни, это гигантское доказательство терпения римлян является почти в целости там, где современный народ проложил только тропинки; поэтическое воображение молодой женщины укрепило ее мужество и возвратило ей в одно мгновение всю свободу ума; она тряхнула своей очаровательной головкой с лукавым видом, улыбнулась над своим прошлым страхом, забыла свою усталость и спросила проводника веселым голосом:
— Мы приближаемся?
— Да, молодой барин, — ответил старик улыбаясь, — вот посмотрите-ка, — прибавил он, протягивая руку, — на свет, похожий на блуждающий огонек в кустах.
— Вижу, — ответила он.
— Ну, этот свет, слабый по причине отдаленности, зажжен в том доме, куда мы идем.
— Да благословит вас Господь за это приятное известие, господин Иоган! Скоро мы придем?
— По извилинам, которые должны делать, мы придем не прежде, как через двадцать минут.
— Так долго?
— По крайней мере, Людвиг; вы не привыкли к ночным путешествиям и не можете в точности рассчитывать расстояние.
— Это может быть. А знаете ли вы, который час? Старый горец поднял голову и внимательно посмотрел на звезды.
— Десять часов, — сказал он через минуту.
— Вы думаете?
— Я это знаю наверно, — ответил старик улыбаясь, — звезды не обманывают; сам Господь управляет их путем.
В эту минуту, как бы в подтверждение его слов, невидимые часы медленно пробили десять раз.
Звук, хотя довольно отдаленный, достиг однако ясно слуха молодой женщины.
— Ошибся я? — спросил старик, улыбаясь.
— Нет, — ответила графиня, — это я напрасно сомневалась в вас.
Они молча продолжали путь около четверти часа; свет делался все ярче и быстро приближался.
Среди ущелья, окруженного деревьями, смутно начинала виднеться мрачная масса.
Молодая женщина тихо дотронулась до руки своего проводника.
— Остановитесь на минуту, — сказала она.
— Для чего? Мы находимся только в нескольких шагах от дома, куда вы просили меня проводить вас.
— Именно поэтому-то, господин Иоган, остановитесь и позвольте действовать мне.
— Как вам угодно.
— Станьте здесь возле меня за этой скалой.
— Для чего?
— Для того, что нас не должны видеть из дома, прежде чем я удостоверюсь, что нам нечего бояться.
— Как вы сделаете это?
— Это мое дело, господин Иоган.
— Правда.
Старик послушно опустил голову и стал на то место, которое указала ему молодая женщина.
Графиня бросила вокруг себя проницательный взгляд, потом поднесла к губам серебряный свисток, который вынула из кармана жилета, и так искусно крикнула по-совиному, что старый горец, не будучи предупрежден, поднял голову и машинально искал глазами птицу, которая пропела.
Почти тотчас такой же крик ответил, на близком расстоянии послышался шум шагов, и явился человек.
Человека этого Иоган Шинер сейчас узнал; это был один из провожатых графини.
— Это вы, Карл? — сказала молодая женщина.
— Да, господин Людвиг, — ответил молодой человек, подходя.
— Все идет хорошо?
Карл Брюнер не решался отвечать.
— Вы можете говорить при господине Иогане, — с живостью сказала графиня, — разве вы не узнали нашего хозяина?
— Как не узнать! Но ему лучше не знать, того что будет происходить. Господин Иоган по своим летам, а главное по своим религиозным правилам, не должен быть посвящен в наши тайны.
Анабаптист сделал движение, чтоб удалиться.
— Останьтесь, — сказала графиня, положив руку на его плечо, — вы честный человек; я ничего не хочу скрывать от вас, тем более, что причины, которые привели меня сюда, благородны и я хочу убедить вас в этом для того, чтоб вы не сожалели о том, что сделали для меня; притом, может быть, лучше для вас самих не оставаться долее в неведении.
— Как вам угодно, — ответил старик с притворным равнодушием, потому что слова графини произвели на него впечатление гораздо сильнее, чем он хотел показать, — только не рассчитывайте на меня, если б вас пришлось защищать в случае ссоры или нападения с какой бы то ни было стороны.
— Случай, который вы предвидите, невероятен; но успокойтесь, я не стану требовать вашей помощи; если будет битва, у меня в защитниках недостатка не будет. Карл, объяснитесь.
— Я все скажу в двух словах. Герцог и его семья преданы вам; вы будете у них как у себя дома.
— Вы ничего не сказали ни тем, ни другим?
— Ничего; я заплатил им, вот и все, а лесничий дал мне слово.
— Это был лучший способ удостовериться в их преданности, — сказал старик, смеясь. — Герцог любит деньги и честный человек, а жена его молчать будет.
— Итак, мы можем войти?
— Сейчас; я оставил Ото в доме; он пьет с Герцогом.
— Вы хорошо сделали; только не пейте слишком много.
— Опасности нет; мы слишком хорошо знаем, как было бы гибельно для нас не сохранить хладнокровия.
— Покажите мне дорогу.
— Пожалуйте.
Все трое направились к Прейе.
Мы сказали, что в этом доме жил лесничий, сделавший из него гостиницу, к несчастью, слишком мало посещаемую по милости своего уединенного положения в этой пустыне, несмотря на все усилия достойного Герцога, который старался как можно лучше услуживать редким путешественникам, посылаемым ему судьбой.
Комната, в которую вошла графиня за своими двумя спутниками, была большая зала, где бревна были наружи, а стены выбелены известью; в нише, устроенной возле прилавка, топилась печь, без сомнения, затопленная с утра и распространявшая по комнате приятную теплоту; несколько столов со скамьями стояли у стен; другой стол, очень длинный и пропорционально довольно узкий, занимал середину комнаты, две лампы, прибитые между окнами, и третья, поставленная на прилавок, распространяли довольно яркий и более чем достаточный свет; несколько дверей, справа, слева и в глубине, вели во внутренние комнаты.
Герцог был человек лет сорока, высокого роста и крепкого сложения; его открытые черты дышали веселостью и беззаботностью; приметив вошедших, он встал, снял шляпу и вежливо пошел им навстречу.
— Вы меня ждете, следовательно, знаете, чего я жду от вас, господин Герцог? — прямо сказала ему графиня, отвечая на его поклон.
— Ждал, молодой барин; вот я готов служить вам всем, что зависит от меня.
— Я не прошу у вас ничего другого кроме того, что вы обещали мне.
— Пойдемте же, это недолго.
Он взял лампу с прилавка и отворил дверь в глубине залы.
Графиня пошла за ним с тремя спутниками.
Дверь эта выходила на площадку. Налево была лестница очень крутая, которая вела в первый этаж, направо дверь в погреб.
Трактирщик отворил эту дверь. Погреб был наполнен дровами, пустыми бочонками и множеством предметов разного сорта, разбитых или бесполезных.
Пройдя погреб, Герцог отодвинул несколько бочонков, нагроможденных один на другой, и отворил другую дверь.
Посетители очутились тогда в комнате довольно большой, с необходимой мебелью для сиденья, в комнате этой не было окна и воздух входил в отдушину, находившуюся почти в уровень с землей; подняв свою лампу так, что графиня могла свободно рассмотреть комнату, Герцог спросил, смеясь:
— Как вы находите эту гостиную?
— Она очень красива, — ответила графиня таким же тоном, — остается узнать, выполняет ли она требуемые мною условия.
— Ваше желание будет исполнено. Смотрите.
Герцог подошел к стене, прижал гвоздь направо от камина; камин повернулся без шума и обнаружил коридор, довольно узкий и темный.
— Куда ведет этот коридор? — спросила графиня.
— К двери, выходящей к Дуву. Я все это показывал Карлу Брюнеру.
— О! Когда так, я ничего больше не желаю.
— Теперь пожалуйте сюда, — продолжал трактирщик, направляясь к противоположной стене.
Там находилась железная розетка, похожая на отдушник, с проволочной решеткой; приблизившись к этой розетке, можно было видеть и слышать все, что делалось и говорилось в общей зале.
— Прекрасно! — с удовольствием сказала молодая женщина. — Вы довольно честно заработали свои деньги, а счет дружбе не мешает, — прибавила она, шаря в кармане.
Трактирщик остановил ее.
— Нет еще, — сказал он, — мои деньги будут заработаны тогда, когда вы здраво и невредимо выйдете из этого дома, а до тех пор я в вашем распоряжении.
— Хорошо, я согласен; но вы ничего не потеряете, если подождете.
— Знаю, — сказал Герцог, чистосердечно засмеявшись.
— Вы знаете наверно, что этот тайник неизвестен никому?
— Никому кроме меня, барин; до первой революции дом этот был местом сборища для охоты графов фон Сальм, здешних помещиков; в 1790 отец мой купил его и очень удивился, что его занимал бывший помещик, которого все считали переселившимся в Германию и которому, казалось, проще прятаться здесь, где, впрочем, он находился в такой безопасности, что отец мой увидал его только потому, что граф сам вышел из тайника; он знал, что мой отец, его молочный брат, не изменит ему.
— И граф долго прятался в этой комнате?
— Во все время террора; после того, так как никто не может предвидеть будущее, мы сохранили в секрете комнату графа, как я называю тайник; признаюсь, я не понимаю сам, как я решился показать ее вам.
— Вы не станете раскаиваться в этом, — серьезно сказала графиня, — дурные дни вернулись. Кто знает, может быть, по милости доверия вашего ко мне, большие несчастья будут устранены.
— Дай Бог! Барин, теперь пора оставить вас. Не оставляйте огня, свет изменит вам.
— Не бойтесь ничего; я буду осторожен: а вы, мои друзья, — обратилась она к Карлу Брюнеру и его товарищу, — вы знаете в чем мы условились?
— Да, да, господин Людвиг, не беспокойтесь.
Все трое вышли из тайника, дверь которого лесничий старательно запер за собой, а графиня осталась одна с Иоганом Шинером.
Глубокая тишина царствовала в доме; жена и дети лесничего легли спать и уже спали около часа.
Лесничий один в большой зале курил свою огромную фарфоровую трубку, прихлебывая пиво, стоявшее в кружке на столе под рукою у него.
Более часа прошло таким образом; ничто не шевелилось на дворе, не слышалось ни малейшего шума.
Вдруг голос, слабый как дыхание, шепнул два слова на ухо молодой женщине:
— Они приближаются.
Графиня сделала движение, как бы сбрасывая с себя оцепенение, начинавшее овладевать ею, приподняла голову и странная улыбка промелькнула на ее губах, побледневших от волнения. Она стала прислушиваться.
Шум голосов, смешанный с лошадиным топотом, раздавался на дороге с такою силой, которая показывала приближение значительного количества людей.
Лесничий погасил огонь и, вероятно, ушел в свою комнату, потому что зала была пуста.
— Стой! — закричал грубый голос по-немецки. — Мы приехали.
— Не ошибаетесь ли вы? — ответил другой голос с легкой насмешкой.
— Разве вы принимаете меня за дурака, — продолжал первый, — разве вы не видите этой лачуги. Притом, мы сейчас узнаем; привести проводника!
Наступило несколько секунд тишины, потом тот же голос продолжал по-немецки:
— Подойди сюда, негодяй; хорошо. Где мы? На этот вопрос ответа не было.
— Разве ты не понимаешь по-немецки?
— Gar nicht[5], — ответил голос, который графиня узнала и который заставил ее вздрогнуть.
— О! О! — продолжал первый голос. — Это мы увидим.
Послышалось несколько ударов хлыстом, смешавшихся со стонами и с болезненными восклицаниями.
— Das shmeckt ihnen nicht?[6], — продолжал первый насмешливым голосом.
— Es ist abscheulich[7], — ответил холодно другой. Потом прибавил по-французски решительным тоном:
— Повторяю, я не говорю на вашем собачьем языке, я только понимаю его; теперь делайте, что хотите.
— Я спрашиваю у тебя, как называется это место; зачем ты ответил не сейчас, если понял?
— Вы хотите знать?
— Да.
— А если я отвечу вам откровенно?
— Тебе ничего не сделают.
— Хорошо; я вам не ответил только потому, что хотел удостовериться сам, так ли вы злы и грубы, как уверяют все.
— А теперь что ты думаешь?
— Я был не прав, предполагая по наружному виду, что вы люди; вы, действительно, разбойники и варвары.
— Негодяй! — закричал офицер тоном угрозы. — С кем ты осмеливаешься говорить?
— Вы человек, а ваше звание ничего не значит для меня.
— Отвечай на мой вопрос.
— Это Прейе, бывшее место сборища охоты графов фон Сальм, грабителей и воров, каких у вас много, а теперь это гостиница Герцога, моего приятеля, лесничего, имеющего надзор за всем лесом, простирающимся около вас; довольны вы или еще что хотите сказать?
— Да, я хочу тебе сказать, что ты будешь повешен сию же минуту на одном из деревьев леса, о котором ты говоришь.
— Таким-то образом вы опровергаете слова тех, которые обвиняют вас в разбое?
— Уведите этого негодяя и повесьте его!
— Когда поймаете, — с насмешкой возразил француз.
Послышался шум борьбы, потом голос офицера, заглушая другие голоса, закричал с бешенством:
— Донерветер! Эта проклятая собака ускользнула от нас. Стреляйте! Стреляйте!
Шум увеличился, послышались даже ружейные выстрелы.
— Надо отказаться, — сказал, наконец, офицер с досадой, — у этого негодяя оленьи ноги. Донерветер! Пусть он не попадается в мои руки. Эй! Кто там?
— Что вам нужно? — спросил лесничий, показываясь в окно.
— Отвори дверь, негодяй, — грубо сказал офицер, — проворнее, если не хочешь, чтобы она была выбита.
Лесничий знал, с какими людьми имел дело. Не давая себе труда затворить окно, он поспешил отодвинуть запоры двери, и хорошо, что поспешил: уже удары ружьями сыпались как град на гнилые доски несчастной двери, которую угрожали выломать совсем.
Забренчали сабли; это немецкие офицеры сходили с лошадей и тотчас же вошли в залу гостиницы; графиня, все подстерегавшая за железной розеткой, сосчитала их.
Их было девять человек, кроме полковника, казавшегося начальником отряда; все другие офицеры были поручики и капитаны.
Они делали большой шум, говорили громко и стучали по столу ножнами сабель.
— Вина! — приказал полковник.
— Какое прикажете подать? — смиренно спросил трактирщик, бледный от гнева и стыда.
— Всякое, какое у тебя есть, — грубо отвечал полковник, — мы здесь хозяева; все, что у тебя есть, принадлежит нам; принеси вина, пива и водки из черники.
— Не забудь хлеба, меду, масла, шпика и всех снадобьев, которые у тебя в запасе, — подтвердил капитан, высокий, сухой, тощий и красный, с идиотской физиономией, крутя свои огромные рыжие усы, чтобы придать себе грозный вид.
— Капитан Шимельман прав, — продолжал полковник, — проворнее! Но прежде слушай, ты здесь один?
— Один с женою и детьми, полковник.
— Хороша твоя жена, негодяй?
— Что вам до этого за дело?
— Мне дело большое, — сказал полковник, с громким хохотом покручивая усы.
— Вели ей встать, да и детям твоим; мы хотим, чтобы ты представил нам твою семью; ступай, проворнее!
— К чему их будить? Я один могу служить вам.
— Ты, кажется, возражаешь, негодяй! — закричал полковник. — Донерветер! Повинуйся, а не то…
Лесничий нахмурил брови, сжал кулаки, несколько секунд измеривал глазами своего противника, но вдруг лицо его прояснилось, он улыбнулся, потупил голову и, ничего не ответив, вышел из залы.
— Все эти проклятые собаки одинаковы, — сказал капитан, пожимая плечами, — одной угрозы достаточно, чтобы сделать их кроткими как ягнята.
— Я не разделяю вашего мнения, — заметил другой офицер, — человек этот не так испуган, как вы думаете; я предположил бы даже, что он замышляет какое-нибудь злодейство; мы хорошо сделаем, если будем присматривать за ним.
— Не забудьте, господа, — сказал полковник, — что мы находимся среди гор, в нескольких милях от наших укреплений, и что с нами не более трехсот человек; будем осторожны; позаботились ли о постах, которые я назначил?
— Точно так, полковник, — ответил молодой безбородый поручик тоненьким голоском, — наши солдаты расставлены около этого дома; неожиданное нападение невозможно.
— Хорошо, поручик фон Штейнбург, позаботьтесь, чтобы надзор не слабел во все время, пока мы останемся здесь.
Поручик сделал почтительный поклон и вышел.
В эту минуту появился трактирщик; с ним шли его жена и трое детей; жене было лет тридцать восемь; она, должно быть, отличалась большой красотой в первой молодости и была еще очень привлекательна, к ней боязливо прижимались двое юношей, один лет семнадцати, высокий, хорошо сложенный и с решительным видом, другой лет пятнадцати и по наружности сложения такого же крепкого, и девушка лет четырнадцати, светло-русая, тоненькая, с большими голубыми и задумчивыми глазами, прятавшаяся в складках платья матери и дрожавшая всеми членами.
— О, какой прелестный ребенок! — вскричали офицеры, приметив молодую девушку и делая движение к ней.
— И матерью пренебрегать нельзя, — прибавил капитан Шимельман, глаза которого сверкали как карбункулы.
— О, матушка! Я боюсь, — прошептала молодая девушка, бледнея.
— Не бойся ничего, дитя, — гордо ответила трактирщица, — твоя мать с тобою.
По безмолвному знаку мужа, она подошла к столу, за которым сидели офицеры, поставила стаканы и бутылки, которые принесла с собой; лесничий и его дети делали то же самое, так что стол в одно мгновение покрылся напитками всякого сорта.
Немецкие офицеры чувствовали невольный восторг при виде этой прекрасной и гордой женщины, которую, по-видимому, ничто не волновало и которая, по наружности по крайней мере, исполняла с полною свободой духа тягостную обязанность, возложенную на нее.
— Э! Э! Красавица, — сказал ей, улыбаясь, полковник, — будьте поприветливее, пожалуйста; у нас терпения мало и вы, кажется, забываете, что мы здесь у себя.
— У себя! — сказала трактирщица с гордым движением.
— Разве мы не победители? — возразил полковник, смеясь.
— Да, победители изменников, которые выдали вам нашу беззащитную страну.
— Эта страна немецкая.
— Французская! — вскричала трактирщица с энтузиазмом. — Французскою и останется, несмотря на все ваши усилия.
— Жена, жена! Будь осторожна, — прошептал лесничий, испугавшись ее волнения.
— Нет, нет! Дай ей говорить, негодяй, она нас забавляет, — сказал полковник.
— Притом, — прибавил капитан Шимельман с насмешкой, — мы не прочь узнать, какое мнение имеют о нас эти ренегаты; продолжайте.
Трактирщица пожала плечами и сказала с презрительной улыбкой:
— Пейте, ешьте, рыси вы эдакие, давно уже умираете вы с голода в вашем жалком краю.
Послышался ропот негодования.
— Позволим ли мы этой презренной женщине оскорблять нас таким образом? — сказал один поручик, ударив кулаком по столу.
— Раздавим эту ехидну, — сказал другой. Несколько офицеров встали и угрожали ей телодвижениями.
— Это вы оскорбители и презренные, — вскричала она с энергией, — мало того, что вы налетаете, как коршуны на хижины бедняков и грабите у них все, вы еще осмеливаетесь оскорблять беззащитных женщин!
— Это уже слишком! — закричало несколько раздраженных голосов.
— Мщение! — заревели все офицеры.
— Ты оскорбила нас, — сказал тогда полковник ледяным тоном, — и заслуживаешь наказания.
— Что намерены вы делать? Мстить женщине? Ведь вы мужчины, — вмешался трактирщик.
— Схватите этого негодяя и привяжите его к прилавку. Приказание это было исполнено солдатами, бывшими наготове действовать.
— Матушка! Матушка! Ко мне! Помоги мне, меня убивают! — вскричала молодая девушка, напрасно вырываясь из рук офицеров, схвативших ее и тащивших в смежную комнату, дверь которой была выбита.
При этом крике тоски и страдания, испущенном дочерью, обезумевшей от страха, трактирщица бросилась как львица на офицеров и с силою, к которой ее нельзя было считать способной, оттолкнула негодяев, которых принудила отступить со стыдом и бессильной яростью, схватила дочь в объятия и, прижимая к груди бедного ребенка, полумертвого от страха, выбежала из залы и исчезла, прежде чем офицеры опомнились от неожиданности ее нападения.
Молодые люди, переглянувшись значительно с отцом, тщетно усиливавшимся вырваться из сдерживавших его уз, бросились по следам матери и заперли за собою дверь.
Трактирщица не вернулась в свою комнату, где ей невозможно было спрятаться, а побежала искать убежища в горах, перепрыгнув через забор сада, как вдруг чья-то рука дотронулась до ее плеча и кроткий голос шепнул ей на ухо:
— Следуйте за мною и вы спасены.
— Кто вы? — спросила она с трепетом опасения.
— Друг, — ответил незнакомец, — следуйте за мною, повторяю вам, вы спасены; но поторопитесь, слышите, как те, которые гонятся за вами, ломятся в дверь? Через минуту они будут здесь.
— Это правда, — прошептала она с горестью, — о! Дитя мое, как тебя избавить от оскорбления этих негодяев?
— Повторяю вам, следуйте за мною; нам нельзя терять ни минуты.
— Хорошо, — сказала трактирщица с решимостью, — ведите меня, я следую за вами; но подумайте, что нас видит Господь; если вы меня обманете, будьте прокляты!
— Бедная мать, я друг, поверьте, следуйте за мною с доверием.
— Пойдемте.
Они побежали по аллеям сада, где скоро исчезли.
Почти тотчас послышались торопливые шаги и несколько факелов, которые несли солдаты, осветили темноту своим бледным и зловещим светом.
Ярость офицеров, опомнившихся от удивления и по большей части пьяных, усилилась, когда добыча ускользнула от них; они дали клятву захватить обеих женщин во что бы то ни стало, хотя бы пришлось поджечь эту бедную лачугу и отомстить им бесчестием за стыд, которые они вынесли.
Капитан Шимельман, в котором грубые инстинкты были развиты в страшных размерах, был оживленнее всех. Офицеры бросились на дверь и стали выбивать ее всем, что попадалось под руку; понадобилось, однако, несколько минут, чтобы выбить дверь; тогда, в сопровождении солдат с зажженными факелами, они разбежались по всему дому с неописанной яростью, обыскивали комнаты, ломали мебель саблями, протыкали шкафы — словом, ничего не оставили в целости, спустились в погреб, где перевернули все вверх дном; но поиски их были напрасны, они не нашли ничего; женщина и дети трактирщика как будто вдруг провалились сквозь землю.
Это исчезновение походило на чудо, поразившее офицеров изумлением; осмотрев весь сад, проткнув кусты саблями, они вернулись в дом, который осмотрели снова с неистовым жаром, усиливавшимся от бесполезности поисков.
Наконец, они были принуждены вернуться в залу, повесив нос, и в гневе тем более сильном, что не знали, на ком его выместить.
Приметив их, Герцог, до сих пор находившийся в глубоком и тревожном отчаянии, понял, что те, которых он любил, оставались невредимы; он выпрямился, взгляд его бросил молнию торжества и ироническая улыбка сжала его побледневшие губы.
— Ну что? — спросил полковник, смеясь. — Удачна была ваша охота?
— Ничего! Мы не нашли ничего! — вскричал Шимельман с досадой, топнув ногой. — Этих негодных женщин нигде нельзя найти.
— О! — сказал поручик с кротким голосом и с женственной наружностью. — Я клянусь, что найду их, хотя бы пришлось поджечь дом.
— Вот это идея! — сказал капитан с громким хохотом. — Когда эти шлюхи станут поджариваться, они должны будут выйти.
— Это, действительно, средство хорошее, — небрежно продолжал полковник: — но я знаю средство еще лучше.
— Какое? Какое? — закричали все офицеры, столпившись около полковника.
— Постойте, господа, — сказал он, смеясь, — черт побери, как эти женщины для вас драгоценны!
— Они хорошенькие, — сказал капитан, крутя свои рыжие усы с победоносным видом.
— Я предпочитаю дочь, — ответил полковник, — я охотник до незрелых плодов.
— У вас губа не дура, любезный полковник; эта девочка лакомство царское, — сказал офицер, улыбаясь.
— Не правда ли? Ну, господа, сделаем условие. Я мог бы сослаться на мой чин и объявить вам мою волю, но здесь дело идет не о службе; я предпочитаю предложить вам условие.
— Говорите, полковник, — отвечали все, кланяясь с очевидным удовольствием.
— Вот дело в двух словах: я отказываюсь от матери, но оставляю себе дочь.
Его прервал ропот неодобрения.
— Подождите, господа, дайте мне кончить, — продолжал полковник, улыбаясь, — я оставляю себе дочь, но только на один час, потом делайте с нею что хотите; согласны вы? Я только поговорю с этой девочкой и подам ей добрые советы, в которых, как мне кажется, она очень нуждается, — прибавил он с насмешливой улыбкой.
— Мы согласны, — тотчас сказал капитан, — какое же другое средство?
— А вы, господа?..
— Пусть будет так, — сказали другие офицеры.
— Хорошо, вы дали мне слово; теперь выслушайте меня. Вместо того, чтобы терять время на бесполезные поиски, почему не допросить этого негодяя? — прибавил полковник, указывая на трактирщика, бледного от горести и отчаяния.
— Он отвечать не станет; эльзасцы упрямы как лошаки.
— Нет, если вы сумеете взяться; посмотрите, какой славный огонь в этой печке; человек этот, должно быть, очень озяб; может быть, если вы поможете ему согреться, он не откажется сообщить вам желаемые вами сведения; теплота может сделать болтливыми самых угрюмых людей.
Офицеры расхохотались.
— Попробуйте, подлые убийцы! — сказал трактирщик твердым голосом и презрительно улыбаясь.
— Вот это мы и сделаем! — вскричал капитан, весело потирая руки.
Немедленно были отданы приказания; пока солдаты подкидывали дров в печь, чтобы огонь ярче горел, другие схватили несчастного трактирщика, сняли с него обувь и положили его наземь.
Подобных ужасов выдумать нельзя; романист не стал бы описывать таких гнусных поступков, если бы, к несчастью, они не были достоверны; но истину обнаружить следует; вот почему, несмотря на ваше отвращение, мы считали обязанностью не пройти молчанием этой сцены, достойной свирепых живодеров средних веков.
Скоро кожа растрескалась и неприятный запах распространился по зале.
Трактирщик, лицо которого приняло мертвенный оттенок, изгибался в своих узах; холодный пот выступил у него на лбу, нервный трепет пробегал по всему его телу, но из губ, сжатых судорожной силой, не вырвалось ни вздоха, ни слова.
На этот раз опять побежденный преодолел победителя; офицеры переглядывались с испуганным видом; они начали сознавать, что беззаконное мщение их к этому невинному человеку перешло меру; они рассчитывали на крики, просьбы, угрозы, а вместо того видели человека, решившегося скорее умереть, чем выдать свою тайну; этим людям сделалось стыдно поступка, клеймившего их без достижения цели; сцена эта сделалась еще нестерпимее для них, чем для их жертвы; надо было во что бы то ни стало кончить ее. Но каким образом? Гордость мешала им признать себя побежденными.
Случай, или скорее Провидение, прекратило это положение, которое каждую секунду становилось невозможнее прекратить.
Вдруг дверь с шумом отворилась и на пороге показался человек.
— Ей-богу! — вскричал он. — Что такое здесь происходит? Какую адскую стряпню затеяли вы, господа? У меня от этого запаха захватило дух.
— Барон Фридрих фон Штанбоу! — сказал полковник, обернувшись с живостью.
Он знаком приказал прекратить пытку несчастного трактирщика и поспешно пошел навстречу барону, глаза которого обыскивали с упорством, не предвещавшим ничего хорошего для присутствующих, все закоулки этой обширной комнаты.
Примечания
1
Так как труп.
(обратно)2
Бог, король Вильгельм.
(обратно)3
Отечество.
(обратно)4
Все потрясающие события этого бегства переданы со строжайшей точностью. Доказательства находятся в наших руках. Г.Э.
(обратно)5
Ничего не понимаю.
(обратно)6
Это вам не по вкусу?
(обратно)7
Это ужасно.
(обратно)
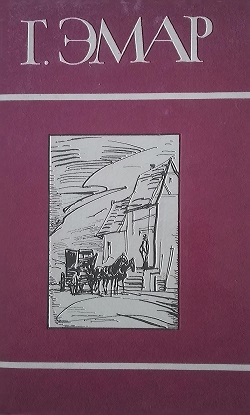
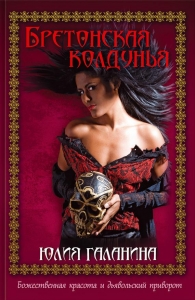
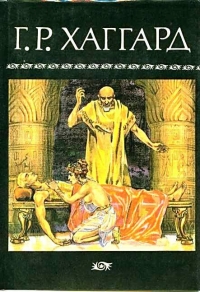

![Приключения студентов [Том I]](https://www.4italka.su/images/articles/528140/primary-medium.jpg)



Комментарии к книге «Том 21. Приключения Мишеля Гартмана. Часть I», Гюстав Эмар
Всего 0 комментариев