Председатель имперского народного суда Фрейслер то и дело срывался на крик. Он просто не мог слушать показаний обвиняемого, перебивал его, стучал кулаком по столу и чувствовал, как от гнева холодеют ноги.
— Вы даже не свинья! — кричал он. — Вы гибрид осла и свиньи! Отвечайте: какими мотивами вы руководствовались, передав красным сведения государственной важности?!
— Я руководствовался только одним мотивом — любовью к родине, — ответил обвиняемый, — только любовью к родине…
— Наглец! Вы не смеете говорить о любви к родине! У вас нет родины!
— Я очень люблю свою родину.
— Какой же любовью вы ее любите?! Вы ее любите любовью гомосексуалиста! Ну?! Кому вы передали эти данные в Кракове?
— Этот вопрос уже не представляет для вас интереса. Те, кому я передал сведения, вне сферы вашей досягаемости.
— Вы не просто гибрид осла и свиньи! Вы еще и дурак! В горах Баварии уже создано сверхмощное оружие уничтожения, которое сокрушит врагов рейха!
— Не тешьте себя иллюзиями. Сейчас март сорок пятого, а не июнь сорок первого, господин председатель.
— Нет, вы не просто дурак! Вы наивный дурак! Возмездие грядет так же неумолимо, как рассвет и как восход солнца нашей победы! Лишь такие разложившиеся типы, как вы, не видят этого! Отвечайте суду всю правду — это единственное, что может сохранить вашу вонючую, трусливую, продажную жизнь!
— Я не буду больше отвечать.
— Вы отдаете себе отчет, чем это вам грозит?
— Мне уже больше ничего не грозит. Я сплю спокойно. Не спите вы.
— Уведите этого негодяя! Уведите его! Мне противно видеть это гнусное лицо!
Когда обвиняемого увели, Фрейслер надел свою четырехугольную шапочку, оправил мантию и сказал: — Объявляется перерыв для вынесения приговора!
Он всегда объявлял перерыв за десять минут перед обедом: председатель имперского народного суда страдал язвенной болезнью, и врачи предписали ему не только тщательнейшим образом соблюдать жесткую диету, но и принимать пищу по минутам.
Все это, происшедшее в марте 1945 года, было одной из развязок истории, начавшейся прошлым летом…
Центр.
Совещание в полевом штабе Гиммлера 12 мая 1944 года было прервано в связи с вызовом рейхсфюрера СС к Гитлеру. Однако часть вопросов, включенных в повестку совещания, была обсуждена. Вопрос о переводе партийных руководителей Восточной Пруссии на нелегальное положение в связи с акциями русских войск был оставлен до следующего совещания.
Был рассмотрен вопрос о судьбе крупнейших центров славянской культуры. Привожу запись:
«Гиммлер. Одной из наших серьезных ошибок, я убежден в этом, было крайне либеральное отношение к славянам. Лучшим решением славянского вопроса было бы копирование, несколько, правда, исправленное, еврейского вопроса. К сожалению, мои доводы не были приняты во внимание, победила точка зрения Розенберга.
Кальтенбруннер. Я глубоко убежден, что хорошее предложение никогда не поздно провести в жизнь.
Гиммлер. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Если бы мы начали активное, энергичное решение славянского вопроса два года назад, нам бы сейчас не приходилось готовить себя к уходу в подполье.
Давайте трезво смотреть на вещи. Теперь мы обязаны саккумулировать наши усилия, с тем чтобы постараться решить в максимально короткий срок то, что не было до сих пор решено.
Кальтенбруннер. Я думаю, наши предложения о полном уничтожении исторических очагов славизма — Кракова, Праги, Варшавы и других подобных им центров — наложат определенную печать даже на возможное (я беру крайний случай) возрождение этой нации. По своей природе славянин не просто туп, но и сентиментален. Вид пепелищ будет соответствующим образом формировать будущие пцколения славян.
Крушение очагов исторической культуры есть форма крушения духа нации.
Гиммлер. Армия не согласится на немедленное уничтожение всех подготовленных по вашему проекту центров. Армия не может воевать в пустыне. Вопрос, если мы думаем его решить согласованно, вероятно, может ставиться таким образом, что уничтожение центров славизма должно быть непреложно проведено в жизнь либо после нашей окончательной победы, либо, на худой конец, в последние дни перед отступлением армии из названных вами городов.
Бройтигам. Стоило бы продумать вопрос об эвакуации части наиболее ценных исторических памятников.
Кальтенбруннер. Бройтигам, мне смешно вас слушать.
Вы дипломат, а несете чушь.
Гиммлер. Определенный резон в предложении Бройтигама есть.
Но к этому пункту мы вернемся на следующей неделе. Кальтенбруннер, свяжитесь с Кейтелем или Йодлем; по-видимому, лучше с Йодлем, он умнее. Обговорите с ним частности и детали. Выделите несколько наиболее крупных центров — я согласен с вами: Краков, Прага, София,
Братислава…
Кальтенбруннер. Братислава — чудный город, в окрестностях прекрасная охота на коз.
Гиммлер. Перестаньте перебивать меня, Кальтенбруннер, что за дикая манера!
Кальтенбруннер. Все-таки Братислава — пока что столица дружественного нам словацкого государства.
Гиммлер. Порой я не знаю, как реагировать на ваши умозаключения: то ли смеяться, то ли бранить вас. Я порву листок соглашения со Словакией в тот час, когда мне это будет выгодно. Не думаете ли вы, что договор со славянами — любой их национальной формой — может быть серьезным?
Кальтенбруннер. Итак, мне нужно получить принципиальное согласие армии на акцию по уничтожению этих центров?
Гиммлер. Да, обязательно, а то генштаб начнет тревожить фюрера жалобами на нас. К чему нам лишняя склока! Мы все смертельно устали от склок. До свидания, друзья…
Бройтигам. Всего хорошего, рейхсфюрер.
Кальтенбруннер. До свидания. Рейхсфюрер, вы забыли свое перо.
Гиммлер. Благодарю, я очень к нему привык. Швейцария делает великолепные ручки. Молодцы! «Монблан» — это во всех смыслах высокая фирма…»
Как мне стало известно, Кальтенбруннер уже договорился с Йодлем о совместной (гестапо, СС, СД и армия) акции по уничтожению крупнейших центров славянской культуры.
Юстас.
Эта шифровка пришла из Берлина в Центр 21 мая 1944 года. В тот же день она была передана с нарочными всем командующим фронтами. Одновременно в Берлин — по каналу Эрвина и Кэт, радистов Штирлица, работавших с ним в Берлине уже не первый год, — была отправлена радиограмма:
Юстасу.
Найдите возможность посетить Краков лично.
Центр.
Через месяц в разведотделе штаба фронта были составлены документы следующего содержания:
Группа военной разведки в составе трех человек: руководитель — Вихрь, заместитель по разведработе — Коля и радист-шифровальщик — Дня, откомандированные Генеральным штабом РККА для выполнения специального задания, прошли подготовку по вопросам, связанным с паспортным режимом генерал-губернаторства и — отдельно — Кракова; уточнены легенды, шифры, время и место радиосвязи.
Задачи группы — установление способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова.
Способы выполнения оговорены с руководителем-Центра по выполнению специального задания полковником Бородиным.
Работа: после выброски и приземления — сбор. Определять местонахождение друг друга по миганию фонариков. Центром сбора является Аня. Если у кого-либо ушиб или ранение — необходимо перемигиваться фонариками чаще, с интервалом через одну минуту, а не через три, как это установлено. Световые различия: радистка — белый цвет, руководитель — красный, заместитель — зеленый.
Сразу после приземления закапывают парашюты и начинают передвижение к северу — три километра. Здесь — привал; переодеваются и устанавливают связь с Бородиным. После этого рация должна быть закопана, двое остаются в лесу возле рации, а заместитель по разведке отправляется в село Рыбны. Там он должен выяснить наличие немецких патрулей. Если в селе нет войск и патрулей. Вихрь идет в город Злобнув, на улицу Грушову, дом 107, к Сигизмунду Палеку и передает ему привет от его сына Игнация, полковника Войска Польского, Сигизмунд Палек выводит Вихря через своих людей на связь с шифровальщиком Мухой. Вихрь подчиняет себе Муху.
Если по каким-либо причинам все члены группы не собрались после приземления или дом Палека занят немцами, местом встречи устанавливается костел в селе Рыбны: каждый день, с седьмого по десятое, с десяти до одиннадцати утра. К руководителю подойдет Муха — молодой человек в потрепанной немецкой форме без погон. Вихрь должен быть одет в синий костюм, кепка в правой руке, в левой — белый платок, которым он будет утирать лоб справа налево быстрым движением. Пароль: «Простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели?» Отзыв: «По-моему, она недавно уехала с попутной машиной».
Оснащение группы «Вихрь»:
оккупационных марок — 10000
рейхсмарок — 2000
золотых часов — 8 штук
костюмов — 4 (два бостоновых,
два шевиотовых, сшитых по
спецзаказу во Львове)
ботинок — 4 пары
сапог — 2 пары
сорочек — 2 пары
носков шерстяных — 2 пары
носков нитяных — 3 пары
платков носовых — 4 штуки
пистолетов парабеллум — 3 штуки
обойм к ним — 6 штук
гранат — 8
автоматов ППД — 3 штуки
рация — одна
комплектов питания — 2
Вещи переданы капитаном Высоковским (подпись).
Вещи приняты майором Вихрем (подпись).
В тоненькую папку, приобщенную к материалам операции «Вихрь», были вложены следующие характеристики:
Бурлаков Андрей Федорович, русский, родился и Тамбове в 1917 году, холост, член ВКП(б) с 1939 года В 1935 году поступил в педагогический институт, на фа культет филологии и истории. Окончив пединститут, тов Бурлаков А. Ф. был направлен учителем в школу с. Ша поваловка. Участвовал в войне с белофиннами. После ра нения и демобилизации вернулся, в Тамбов, где начал работать инструктором горкома партии. В начале Вели кой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт Впоследствии откомандирован в спецшколу Генерального штаба РККА. По окончании спецшколы был заброшен в Днепропетровск, где стал во главе резидентуры. Год жил на нелегальном положении, три месяца — легально устроившись переводчиком в организации Тодта на объект 45/22. За успешное выполнение заданий командования награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1 степени. К суду и следствию не привлекался. Выдержан, морально устойчив. Делу партии беззаветно предан.
Исаев Александр Максимович, русский, родился во Владивостоке в 1923 году, холост, член ВКП(б) с 1943 года, в 1940 году поступил на физический факультет МГУ. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт Великой Отечественной войны. За мужество, проявленное во время боев под Гжатском, был награжден медалью «За отвагу». Направлен в спецшколу Генштаба РККА. По окончании спецшколы три раза забрасывался в глубокий тыл со специальными заданиями. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Выдержан, морально устойчив. К суду и следствию не привлекался. Делу партии предан беззаветно.
Лебедева Евгения Сергеевна, русская, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, не замужем, родилась в г. Тайшете Красноярского края. В 1940 году окончила среднюю школу. Работала коллектором в управлении изыскательских работ филиала Южсиба. В 1941 году подала заявление в райвоенкомат. Была направлена в части противовоздушной обороны Ленинграда. Оттуда, после пребывания в госпитале, направлена в школу радистов. Забрасывалась в тыл со специальным заданием. Награждена орденом Красной Звезды. К суду и следствию не привлекалась. Выдержана, морально устойчива. Делу партии предана.
Здесь же хранились тексты легенд, разработанные для внедрения и легализации, а также на случай провала.
Я, Попко Кирилл Авксентьевич, украинец, родился 24 октября 1917 года, в Днепродзержинске в семье учителя. Моя мать, член бюро райкома партии, была расстреляна НКВД осенью тридцать седьмого года. Я работал грузчиком на железнодорожной станции Кривой Рог, в седьмой дистанции пути Сталинской железной дороги. Проходил действительную службу в рядах РККА в войсках Киевского военного округа, в первом стрелковом полку отдельной кавдивизии, дислоцированной в районе Белой Церкви. Во время боев под Киевом сдался в плен. После проверки в фильтрационном лагере № 56/а был освобожден и устроился работать помощником начальника цеха на мельзаводе Днепропетровска. Отец работал директором школы, и вскоре я перешел с мельзавода на работу в школу завхозом. При наступлении частей Красной Армии отец погиб во время воздушного налета. Я отступил с частями немецкой армии во Львов, где работал на железнодорожной станции диспетчером службы депо. В настоящее время ушел оттуда в связи с наступлением большевиков. Аусвайс № 7419, выданный городским бургомистратом Львова.
Я, Гришанчиков Андрей Яковлевич, русский, родился 9 мая 1922 года в Москве. Учился в педагогическом институте, на физическом факультете. Был отправлен в сентябре 1941 года под Москву рыть окопы. В октябре сдался в плен. Был отправлен в Минск, где работал сначала строительным рабочим, потом парикмахером в мастерской Ереминского, которая находилась на Угольной улице, в доме 7. Отступал вместе с немецкими войсками, в настоящее время иду в Краков, где, как мне сказали в эшелоне, есть пункт для оказания помощи лицам, бежавшим от большевистского террора. Аусвайс, № 12/299, выданный 22 июля 1942 года бургомистратом Минска.
Я, Грудинина Елизавета Родионовна, русская, родилась 16 августа 1924 года в деревне Выселки Курской области. Мои родители были раскулачены в 1929 году и сосланы на поселение в Хакасскую автономную область, в деревню Дивное. За месяц перед войной, после окончания девятого класса, я поехала в гости к тетке в Курск Здесь, у тетки, проживавшей на улице Ворошилова, дом 42, квартира 17, меня и застала война. После того как большевики ушли из города, я стала работать в офицерском клубе официанткой. В дальнейшем была секретарем-машинисткой в городской больнице. Вместе с семьей моей тетки, Лакуриной Прасковьи Николаевны, отступила в Киев, там устроилась работать горничной к вице-прокурору Штюрмеру. Из Киева, отстав от семьи тетки, я переехала в Ужгород, где встретила моего знакомого по Курску, офицера русской освободительной армии Шевцова Григория, который сказал, что видел мою тетю при отступлении из Львова. Тетя собиралась ехать в Германию через Краков. Поэтому я сейчас иду в Краков, чтобы обратиться к властям с просьбой о помощи. Вместе с семьей тетки я также собираюсь ехать в Германию. Аусвайс № 7779, выдан 3 августа 1942 года.
Следующие три листочка бумаги были написаны от руки.
Я, Бурлаков Андрей Федорович, майор Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моим родителям по адресу: Астрахань, Абхазская, 56, Бурлаковым Федору Федоровичу и Тамаре Михайловне.
Я, Исаев Александр Максимович, старший лейтенант Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моей матери, Гаврилиной Александре Николаевне, по адресу, имеющемуся в моем личном деле.
Я, Лебедева Евгения Сергеевна, младший лейтенант Красной Армии, прошу переводить мой оклад на сберегательную книжку, так как родственников после смерти родителей не имею. Сберкнижку прилагаю.
И — последний документ:
Сегодня, 27 июня 1944 года, в 23 часа 45 минут в квадрате 57 произведен сброс трех парашютистов. В связи с низкой облачностью и сильным ветром возможно небольшое отклонение от заданного района. Капитан Родионов.
Летчик Родионов оказался прав — облачность была низкая, а ветер сильный. Он был не прав в другом: отклонение от заданного района вышло очень большое. Группа выбросилась в семидесяти пяти километрах от заданного места приземления. Ветер расшвырял парашютистов в разные стороны. На сигналы белого луча Аниного фонарика никто не отвечал. Земля была не по-летнему холодной. Лужи пузырились дождевыми нарывчиками. В лесу пахло осенними листьями. Где-то вдали выли собаки. Аня закопала парашют, комбинезон и рацию, причесалась, вымыла руки в луже и пошла на север.
1. ПОПКО
Под утро Вихрь выбрался к шоссе. На асфальте лежала молочная роса, будто первый осенний заморозок. Облака поднялись и теперь уже не разрывались, как ночью, натыкаясь на верхушки деревьев. Было очень тихо, как бывает на рассвете, когда ночь еще пытается противоборствовать утру.
Вихрь шел вдоль дороги, по мелколесью. Мокрые листья мягко касались его лица, и он улыбался, вспоминая отчего-то, как отец сажал деревья на участке вокруг их дома. Он откуда-то привез саженцы американского ореха — широколистого, изумительной красоты дерева. Когда два саженца принялись и бурно пошли вверх и вширь, отец, возвращаясь домой, останавливался и здоровался с деревьями, как с людьми, осторожно пожимая двумя пальцами их большие листья. Если кто-то замечал это, отец делал вид, что щупает листья, а если рядом никого не было, он подолгу, тихо и ласково, разговаривал с деревьями. То дерево, которое было шире и ниже, считалось у него женщиной, а длинное, чуть заваленное на один бок — мужчиной. Вихрь несколько раз слышал, как отец шептался с деревьями, спрашивал их про жизнь, жаловался на свою и внимал подолгу, что они ему отвечали — шумом листвы своей.
Воспоминания не мешали Вихрю думать: то, что он вспоминал, медленно проплывало у него перед глазами, становясь некоей зримой связью с домом, с тем, что отныне стало прошлым. А думал он сейчас о настоящем, о том, что случилось этой ночью с товарищами. — Он перебирал все возможные варианты — худшие сначала, а потом, постепенно, самые благоприятные для членов его группы.
«Видимо, нас разбросал ветер, — думал Вихрь. — Стрельбу я должен был услыхать, потому что ветер был на меня, а они прыгали первыми, следовательно, они приземлились в том направлении, откуда налетал ветер. Вихрь, — усмехнулся он, — налетал вихрь… Глупая кличка, просто на манер Айвенго, право слово… Надо было взять кличку Ветер — хоть без претензий».
Он остановился — толчком — и замер. Впереди асфальт был перегорожен двумя рядами колючей проволоки, подходившей вплотную к полосатому пограничному шлагбауму. Вдоль шлагбаума ходил немецкий часовой. На опушке леса темнела сторожевая будка. Из трубы валил синий дым — клубами, ластясь к земле: видимо, печку только-только растопили.
Несколько мгновений Вихрь стоял, чувствуя, как все тело его сводит тяжелое, постепенно пробуждающееся напряжение. Потом он стал медленно приседать. Он знал лес. Еще мальчишкой он понял, что нет ничего более заметного в лесу, как резкое движение. Зверь бежит через чащобу, и его видно, но вот он замер — и исчез, до тех пор исчез, пока снова не выдаст себя движением.
Вихрь лег на землю, полежал так с минуту, а потом стал потихоньку отползать в лес. Он забрался в чащобу, повернулся на спину, закурил и долго смотрел на причудливое переплетение черных веток над головой.
«Видимо, я вышел к границе рейха с генерал-губернаторством, с Польшей. Иначе — откуда граница? По-видимому, мы выбросились много западнее Кракова, значит, патрулей здесь до черта. Хреново!»
Вихрь достал карту, расстелил ее на траве и, подперев голову кулаком с зажатой в нем папиросой, стал водить ногтем мизинца по шоссейным дорогам, ведшим из Кракова: одна на восток, другая в Закопане, третья в Силезию, четвертая на Варшаву.
«Точно. Это дорога на Силезию. В километре отсюда — территория третьего рейха, мать его так… Надо назад. Километров семьдесят, не меньше».
Вихрь достал из кармана плитку шоколада и лениво сжевал ее. Выпил из фляги немного студеной воды и стал отползать еще дальше в чащобу, то и дело замирая и вслушиваясь в утреннюю ломкую, влажную тишину.
(Вихрь верно определил, что перед ним граница. Он также совершенно правильно предположил, что здесь больше, чем в каком-либо другом месте, патрулей. Но Вихрь не мог знать, что вчера их самолет был засечен пеленгаторными установками. Более того, было точно запеленговано даже то место, где «Дуглас» лег на обратный курс. Поэтому шеф краковского гестапо дал указание начальнику отдела 111-А прочесать леса в районе тех квадратов, где, предположительно, был сброшен груз или парашютисты красных.)
Вихрь шел по лесной дороге. Она то поднималась на взгорья, то уходила вниз, в темные и холодные лощины. В лесу было гулко и тихо, дорога была неезженая, но тем не менее отменно хорошая, тугая, не разбитая дождями. Вихрь прикинул, что если он пойдет таким шагом через лес, то завтра к вечеру будет совсем неподалеку от Рыбны и Злобнува. Он решил не заходить в села, хотя по-польски говорил довольно сносно.
«Не стоит, — решил он, — а то еще наслежу. Здешнюю обстановку я толком не знаю. Лучше проплутать лишние десять километров. Так или иначе, компас выручит».
Выходя на поляны, он, так же как и на границе, замирал, медленно опускался на землю и только потом обходил поляну. Один раз он долго стоял на опушке молодого березняка и слушал, как глухо гудели пчелы. Он даже ощутил во рту медленный, откуда-то изнутри, липовый вкус первого, жидкого светлого меда.
К вечеру он почувствовал тяжелую усталость. Он устал не оттого, что прошел более сорока километров. Он устал оттого, что шел через лес — настороженный, молчаливый; каждый ствол — враг, каждая поляна — облава, каждая река — колючая проволока.
«Сволочь, — устало думал Вихрь об этом тихом лесе, — растет себе — и плевал семь раз на войну. Даже макушек, срезанных снарядами, нет. И выгоревших секаторов тоже. Горелый лес жалко. Попал в людскую перепалку и страдает ни за что ни про что. А этот — благополучный, тихий, пчелиный лес, мне его совсем не жаль».
Когда стало темно, Вихрь сошел с лесной дороги и двинулся по мокрому мягкому мху куда-то вниз, туда, где шумела река. Он решил там заночевать. Чем ниже он спускался, тем труднее было идти: начиналось болото. Вихрь решил посветить вокруг фонариком, но потом подумал, что делать этого не стоит, свет в лесу издалека виден, всякое может случиться.
Он начал подниматься обратно — вверх к дороге, упал, промочил колени, рассердился, потому что завтра рассчитывал войти в Рыбны, а входить в село в измазанных брюках неразумно: сразу видно, что из лесу. Достал из немецкого, свиной кожи портфеля фонарик и быстро осветил место, где упал. Мох под лучом фонаря стал неестественно зеленым, каким-то изумрудным даже, светился изнутри, как фосфор ночью в кабине пилота.
Вихрь вышел на дорогу, долго чистил березовой листвой свои щегольские тупорылые полуботинки, изношенные настолько, чтобы не казаться новыми: гестапо здорово осматривает вещи при задержании, они в этом доки, а новые вещи всегда подозрительны. Сверился по карте, где он сейчас должен находиться, и полез вверх — по левую сторону от дороги. Ночной лес был ему приятен — совсем иной, особой, столь нужной сейчас тишиной. Леса незнакомого, и особенно ночного, боятся все: и те, которые ищут в нем, и те, которые в нем скрываются. Но те, которые ищут, боятся его больше.
Не разводя костра, он устроился под большой теплой елкой; вытянулся с хрустом и не заметил, как уснул — тяжелым сном с липкими, тягучими сновидениями.
Проснулся он словно от удара: ему послышалось, что рядом кто-то тяжело дышит. Он даже отчетливо понял, что дышит человек с насморком — в носу при каждом вдохе хлюпало.
2. КОЛЯ, ОН ЖЕ ГРИШАНЧИКОВ
Он, пожалуй, дольше остальных ходил вокруг места приземления — сначала маленькими кругами, а потом все большими и большими, — но безрезультатно. Никаких следов товарищей он не обнаружил.
Под утро Коля вышел на проселок. Возле развилки стояла маленькая часовенка. На чисто беленной стене был прибит большой коричневый крест. На кресте был распят Христос. Художник тщательно нарисовал на белом теле Христа капельки крови в тех местах, где его руки и ноги были пробиты гвоздями. Над входом в крохотную часовенку висела иконка пресвятой девы Марии: детское лицо, громадные глаза, тонкие пальцы прижаты к груди, словно при молитве.
На полочке под крестом стоял стакан. В стакане догорала свеча. Пламя ее в рассветных сумерках было зыбким и тревожным.
«Заграница! — вдруг подумал Коля. — Я — за границей! Как мы смотрели на Ваську, когда он приехал с родителями из-за границы! Он приехал из Польши в тридцать восьмом. Смешно: он сочинял небылицы, а мы ему верили. Он говорил, что купался в гуттаперчевом море. Можно плавать, даже если не умеешь. «Вода, — говорил Васька, — держит. Специальная, американская вода». Мы его даже не били, потому что он был за границей».
Коля вздрогнул, услыхав за спиной кашель. Обернулся. В дверях стояла старуха. Она прикрывала рукой большую, только что зажженную свечу.
— Доброе утро, пани, — сказал Коля.
— Доброе утро, пан, доброе утро.
Старуха выбросила огарок из стаканчика, что стоял под распятием, и укрепила в нем новую свечу, покапав стеарином на донышко. Ветер лизнул пламя, оно взметнулось, хлопнуло раза два и исчезло. Коля достал зажигалку, высек огонь, зажег фитиль.
— Благодарю пана.
— Не стоит благодарности.
— Пан не поляк?
— Я русский.
— Это чувствуется по вашему выговору. Вы что, из лагеря в Медовых Пришлицах?
— Нет. А какой там лагерь?
— Там живут те русские, которые ушли с немцами. Туда каждый день приходит много людей.
— А мне сказали, что этот лагерь под Рыбны…
— Пану сказали неверно.
— Вы не покажете, как туда идти?
— Покажу, отчего же не показать, — ответила старуха и опустилась на колени перед распятием. Она молилась тихо, произнося неслышные быстрые слова одними губами. Порой она замолкала, упиралась руками в пол и склонялась в низком поклоне.
Коля смотрел на старуху и вспомнил бабушку, мамину тетю. Она была верующая, и Коля очень стыдился этого. Однажды у бабушки упала ее старенькая красная сумочка, в которой она носила деньги, когда ходила за покупками. Из сумки выпало медное квадратное распятие. Коля засмеялся, схватил с пола распятие и стал дразнить бабушку, а после зашвырнул распятие в угол, под шкаф. Бабушка заплакала, а двоюродный брат мамы дядя Семен, войдя в комнату, в гимнастерке без портупеи — он только что принимал ванну, — ударил Колю по шее, не больно, но очень обидно. Лицо его потемнело, он сказал:
— Это свинство. Не смей издеваться над человеком, понял?
— Она верующая! — мальчик заплакал. Тогда ему было двенадцать лет, и он был не безликим Колей или Андреем Гришанчиковым. Он был Сашенькой Исаевым, баловнем дома, и его никто ни разу не ударял — ни мать, ни дядя Семен, пока он жил у них, ни бабушка. — Она верующая! — кричал он, заливаясь слезами. — Поповка! А я пионер! А она верующая!
— Я тоже верующий, — сказал дядя Семен. — Я в свое, она — в свое.
Уже много позже он рассказал Коле, как в первые годы революции они брали дохлых кошек и бросали их в окна холодной церкви, где молились старики и старухи, вымаливая у своего Бога победы красным, своим детям-безбожникам. И у одной старухи случился разрыв сердца, когда в нее попали дохлой кошкой, а у нее на руках были четверо малышей: мать их умерла от голода, а отец был красный командир у Блюхера.
Полька поднялась с колен:
— Пойдемте, я покажу вам, как добраться до Медовых Пришлиц.
Коля достал из кармана пачку немецких галет:
— Вот, мамаша, возьмите. Внукам.
— Спасибо, пан, — ответила старуха, — но мы не едим немецкого…
Они шли со старухой по дороге, которая вилась среди полей. Вдали, на юге, громоздились горы. Они были в сиреневой утренней дымке. Когда Коля и старуха поднимались на взгорья, распахивался громадный обзор: места были красивые, холмистые, поля разрывались синими лесами, торчали островерхие крыши костелов, они казались игрушечными, видно их было за многие километры, потому что воздух был прозрачен, как вода ранним утром в маленьких речушках с песчаным дном — каждую песчинку видно, словно под микроскопом. Только иногда налетит ветер, тронет воду, замутит ее — песчинки исчезнут, останется желтая масса песка. А потом вдруг настанет тишина, ветер улетит вверх — и снова песчинка отлична от песчинки, лежи себе и рассматривай их. Так и сейчас: иногда налетал ветер, гнал быстрые серые облака, крыши костелов скрывались, но ненадолго. Были видны красные черепичные крыши домиков. Курились дымки. Голосили петухи. Шло утро.
— Большевики такие страшные, что пан бежит от них? — спросила старуха.
— Я ищу свою невесту. Она ушла с родителями. Все уходили, и они ушли.
Старуха взглянула на Колю и сказала:
— Пан знает, что у него порван пиджак на спине?
— Знаю, — ответил Коля, хотя он не знал про это — видимо, порвал в лесу.
— Немцы любят опрятных панов, — сказала старуха и внимательно посмотрела на Колю.
— Я тоже люблю опрятность, — ответил он. — Приду туда и зашью.
От дороги отходила тропинка к маленькому домику стоявшему возле леса.
— Мне сюда, — сказала старуха. — До свидания, пан.
— Всего хорошего. Спасибо, пани. Вы что, специально носили свечу в часовенку?
— Нет, я шла из Кракова, там в тюрьме мой сын.
— За что ж его?
— За разное, — ответила старуха.
— Если хотите, я могу прийти помочь вам по хозяйству, — сказал Коля. — Отсюда недалеко до лагеря?
— Километров пять. Не беспокойтесь. У меня два внука, мы управляемся. А пиджак зашейте, немцы не любят тех, кто неопрятно одет.
В Медовых Пришлицах Колю допрашивал старый немец в мятой армейской форме. Он мотал его часа четыре. Потом заставил написать подробное изложение своей истории, забрал его аусвайс, посадил в маленькую комнатушку без окон, запер дверь на французский замок и выключил свет.
Коля знал про лагеря, в которых группировались те, кто уходил с немцами. Такие лагеря стали организовываться месяца три-четыре назад и поэтому не успели обрасти немецкой пунктуальностью — текучесть была громадная, лагерный персонал не особенно квалифицированный, потому что в основном сюда, в эти лагеря, стекались люди, верные фашистам: полицаи, служащие бургомистратов, торговцы. Проверка носила характер поверхностный: немцы не успевали толком заниматься с явными врагами, им было не до прислужников.
Коля считал, что со своими документами наверняка пройдет проверку. Потом он рассчитывал получить направление на работу — таким образом произойдет легальное внедрение. А это всегда самое главное в работе разведчика. Он знал по материалам генштаба, что людей, прошедших такие лагеря, направляли на строительство оборонительных сооружений, без конвоя и со свободным жительством у цивильных граждан.
«Конечно, элемент риска во всем этом есть, — думал Коля, по-стариковски медленно поглаживая свои колени, — но это риск разумный. Во всяком случае, более разумный, чем торчать в Рыбны на площади возле костела или ночевать в лесу. Я играю ва-банк, но у меня козырная карта и я знаю психологию моего противника в такой ситуации. Ворота этого лагеря не охраняются. Охраняют, и то два инвалида, только один барак, где содержатся человек пятнадцать новеньких — обычная и естественная проверка».
В темноте трудно уследить за временем. Кажется, что оно ползет медленно, как старая кляча. Сначала в кромешной темноте хочется двигаться, а после — исподволь — находит на человека медленное оцепенение, остро чувствуется усталость, а потом начинает клонить в сон, но сон не идет, и человек барахтается в тягучей дреме. Все в нем обнажено, он слышит какие-то шорохи, потом начинаются слуховые галлюцинации, а потом ему видятся светлые полоски, и он думает, что в щели пробивается свет, а на самом деле это в глазах звенит темнота; она ведь звенящая — эта полная темень, положенная на гулкую, напряженную тишину.
«А может быть, стоило все же идти на встречу к костелу? — думал Коля. — Но это слишком безынициативное решение. С моим польским языком было бы глупо два дня околачиваться по здешним местам без связи. А сидеть в лесу — значило бы попусту переводить время. А так я использовал шанс. Он обязан быть моим, этот шанс. Все за меня. И нечего психовать. Это все из-за темноты. Надо думать о том, как жить дальше. И все. Нечего пугать самого себя. Разведчика губит не риск, и не случай, и не предательство. Разведчика может погубить только одно — страх».
Его продержали в темной комнате, как ему казалось, часов десять, не меньше. Он ошибся. Он просидел там пять часов. Старик офицер, тот, что его допрашивал, сказал:
— Теперь идите в барак. Мы проверяем ваши документы. Ничего не поделаешь: война есть война.
— А я и не в претензии, — Указал Коля, — только обидно: как с врагом обращаетесь. У меня от темноты глаза разболелись.
— Ничего, ничего… Идите в барак, завтра все решится… Часовой, отведите этого господина в зону.
Часовой довел Колю до колючей проволоки, а там пустил его одного.
Когда Коля шел через темный двор к бараку, над входом в который горела синяя лампочка, кто-то вышел из другого барака. На крыльце возле синей лампочки Коля остановился, чтобы закурить. И вдруг он услышал чей-то тихий, до ужаса знакомый голос:
— Санька!
Коля врос в крыльцо, спрятал в карман зажигалку и, не оборачиваясь, пошел в барак.
— Санька, — негромко повторили из темноты. — Ты что, Сань?!
К Коле подошел человек — молодой еще, но с сединой в волосах. Коля лениво глянул на него и судорожно сглотнул комок в горле: перед ним стоял Степан Богданов, его приятель по Москве, из тридцать седьмой квартиры. Он пропал без вести в сорок первом — так говорил его отец.
— Вы ошиблись, — сказал Коля, — вы меня с кем-то путаете. Я не Саня, я Андрей. Спокойной ночи…
— Стой, — сказал Богданов и взял Колю за рукав пиджака. — Не сходи с ума, понял? Не сходи с ума!
3. АНЯ
Она добралась в Рыбны на второй день под вечер. Аня вываляла в дорожной пыли свою шерстяную кофту, испачкала грязью лицо и, согнувшись, как больная, пуская слюни — к блаженным немцы не приставали, — медленно прошла через большое село: сначала кружным путем, по окраинным улочкам, а потом через центр, мимо костела, двухэтажного каменного дома сельской управы, мимо большого магазина и нескольких указателей, укрепленных на площади. Синие стрелки показывали расстояние до Кракова и Закопане.
Аня вышла из Рыбны и двинулась через перелесок на юго-восток, к гряде синих карпатских гор. Она решила переночевать в лесу неподалеку от Рыбны, чтобы послезавтра идти на площадь перед костелом — искать Вихря или самой пытаться выйти на связь с Мухой. Центр ждал сеанса.
Она сошла с дороги и через скошенное желто-коричневое поле двинулась к опушке частого леса; среди берез торчали сосны и лиственницы. Лес был красив — листва звонко трепетала под ветром, в глухой чаще кукушка отсчитывала годы чьей-то жизни, ручей, спрятанный в разросшемся кустарнике, бормотал свою быструю и невнятную речь.
Аня отошла от опушки с полкилометра и решила остановиться на ночлег, но потом отошла еще подальше — огонь костра виден с дороги, а в глубине леса можно развести большой огонь, и греться возле него всю ночь, и вскипятить воды в маленьком немецком котелке, а потом развести в нем концентрат и сделать венгерский гуляш. Аня однажды ела этот гуляш — с сушеной морковью, черным перцем и кусочками вяленого мяса. Он был очень вкусный, почти как похлебка, которую в тайге варил отец, когда Аня приезжала к нему на каникулы из Тайшета. Только отец резал вяленое мясо большими кусками и бросал в котел несколько сушеных морковин, а не десять — двадцать стружечек, как было в венгерском трофейном концентрате.
Капитан Высоковский два раза угощал Аню этим венгерским гуляшом и уговаривал ее выпить спирту, но Аня не хотела пить спирт, потому что в тайге несколько раз пробовала его с геологами и у нее до сих пор, когда заговаривали о спирте, появлялся во рту сухой, ржавый привкус.
— Я бы вина выпила, — говорила Аня красивому капитану с воловьими иссиня-черными глазами, — вино хоть сладкое, а это — гадость.
— Лапочка моя, — смеялся капитан, допивая свой стакан, — сладким вином вас будет поить муж после победы. Спирт — для начала интриги. Чисто дружеской, никак не иначе…
Выросшая в тайге среди сильных, добрых мужиков, Аня научилась понимать людей сразу — с первого часа. Там, где она росла, иначе было нельзя. Там надо сразу определить: можно с этим человеком идти через зимнюю тайгу за десять километров на Артемовские рудники кино смотреть или нельзя. Тайгу всяк любит, да не каждый выдержит — даже десять километров.
Ане было занятно, когда волоокий красавец капитан говорил с ней заумными, многозначительными фразами. Аня прекрасно понимала, чего он хотел, и ей было смешно, что он так хитро и издалека начинал осаду. Ей было так же смешно, когда впервые в тайге, в поисковой партии, к ней, семнадцатилетней девчонке, полез геолог из Красноярска. Аня поначалу, когда он обнимал ее, смеялась, а потом ей все это надоело, она оттолкнула геолога, взяла полено, лежавшее возле печки, и сказала:
— Сейчас как врежу по кумполу!
Ей казалось странным, когда ее подруги, влюбленные в ребят, не позволяли им себя целовать.
«Зачем так? — думала тогда Аня. — Когда любишь, нельзя кокетничать. Ведь кокетничают только с нелюбимыми или если дело какое».
Ее раз послали в Красноярск за реактивами. Реактивов не было. Аня пошла в парикмахерскую, ей соорудили на голове крепость из ее кос, она отправилась к заместителю начальника отдела материально-технического снабжения, и он ей выписал реактивы. Но не отпускал от себя часа два, все баклуши бил и вздыхал, глядя ей в глаза.
Аня знала, что она хороша, но относилась к этому спокойно, как хороший солдат к оружию: есть и есть, злоупотреблять не следует, а когда нужно — сразу в дело.
Она влюбилась в Ленинграде в политрука своего дивизиона. Она ждала, что он позовет ее к себе в блиндаж. Она бы пошла не задумываясь. Но политрук все не звал ее, только, встречая, шлепал по щеке и дарил корочку хлеба. Аня хотела прийти к нему сама и сказать, что любит его и что хочет быть с ним, но не успела. Политрук умер от голода — замерз по пути от трамвайной остановки до передовой.
Костер загорелся сразу — выстрелил в небо белым шипением, потом разъярился, затрещал красными искрами окрест себя, а потом успокоился, захлопал желтыми руками и стал греть Аню. Она поворачивалась к костру по-таежному: сначала левым боком, потом спиной, после правым боком, а уже потом, зажмурившись, чтобы не портить глаза, обернулась к огню лицом.
«Наверное, идолопоклонники очень правильно делали, что поклонялись огню, — думала Аня. — Зря поддались христианам. Там было во что верить: разведи себе костер — и молись. А я как выдумываю? И лесу молюсь, и небу, и реке…»
Аня собрала сухого валежника, принесла его к костру и сделала себе подстилку. Легла, потянулась, подвинулась еще чуть ближе к огню и почувствовала, что вот-вот уснет. Она заставила себя открыть глаза и поглядеть на костер, хватит ли на всю ночь? Она сделала себе сибирский костер: нашла сваленную елку, срезала тесаком сучья, принесла березовой коры и подожгла сухое дерево. Надо только через каждые три часа просыпаться и чуть пододвигать вперед елку, чтобы она равномерно обгорала, а не пузырилась огоньками вдоль по всему стволу.
Аня подвинула древесину — вокруг заискрило, пламя на мгновение замерло, а потом вспыхнуло с новой силой. Аня завернулась в легкое пальтишко, выданное ей сверх утвержденного комплекта капитаном Высоковским, и сразу же уснула.
4. ТОЛЬКО НАЧАЛО
«Дурацкие сны», — подумал Вихрь, не открывая глаз. Человек в ночном чужом, враждебном ему лесу, чтобы выжить и победить, обязан быть как зверь — то есть сначала жить инстинктом, а после уж разумом. Инстинкт сейчас решал вместо Вихря: открыть глаза, или вовсе не поверить этому сопению, или повернуться, словно во сне, но так, чтобы правая рука обязательно ощутила под собой кожу портфеля, в котором гранаты и парабеллум. Он всегда клал этот портфель справа от себя, под боком: со сна очень трудно вытаскивать оружие из карманов — карманы перекручены, и, пока вырываешь оттуда оружие, теряются те мгновения, которые могут спасти. Он повернулся, будто во сне, зачмокав губами. Он не приказывал себе играть это чмоканье спящего человека — это было помимо него, это шло само собой как результат последних трех лет его жизни.
Портфеля не было, хотя Вихрь хорошо сыграл жест правой рукой, выбросив ее далеко вперед, чтобы захватить побольше мха, если разметался во сне и портфель остался в стороне.
Еще отчетливее он услышал близкое сопение. «Наверное, коза, — сказал себе Вихрь, все еще не открывая глаз. — Стоит и слушает, прежде чем переходить дорогу, спускаясь к реке, на водопой. И вся содрогается при малейшем ветерке».
Так он говорил себе, прекрасно понимая, что сейчас врет. Это уже в нем верховодил разум, а ведь разум способен врать. В инстинкте больше правды: земной, живой, честной.
— Неплохой сон у этого парня, — услышал он немецкую речь у себя над головой.
Вихрь открыл глаза. Прямо над ним стояли три гестаповца. В руках у одного из тех, что стояли чуть поодаль, ближе к дороге, был его желтый портфель.
— Кто вы такой? — спросил Вихря человек в штатском, когда в полдень его привезли в краковское управление гестапо.
На окнах были тяжелые, витые, очень красивые решетки. Стекла были вымыты до «зайчиков». За окном было солнечно и тихо — как вчера в лесу.
Вихрь понял вопрос, он знал немецкий, но ничего не ответил, а только подобострастно улыбнулся и недоуменно пожал плечами. Тогда второй человек, длинный, жилистый, тот, который держал его портфель при аресте в лесу, слез с подоконника, подошел к Вихрю и спросил:
— Вам нужен переводчик?
— Я не понимаю по-немецки, — сказал Вихрь, — вернее, понимаю, но очень слабо.
— Шеф отдела спрашивает, кто вы такой.
— Человек, — подобострастно улыбнулся Вихрь. — Попко, Кирилл Авксентьевич.
Длинный перевел. Шеф попросил:
— Расскажите о себе.
— Вас просят рассказать о себе.
— Что ж… Я готов. Попко я, Кирилл, украинец… Позвольте закурить, а то мои при обыске изъяли…
— Пожалуйста.
— Спасибо. Очень хороший табак. Откуда у вас турецкие?
— Воруем, — усмехнулся длинный. — Дальше!
— Я из Днепродзержинска. Папаша — сеял разумное и вечное, мама была членом бюро райкома. Ее расстреляли в тридцать седьмом.
— Минуту, — сказал длинный и перевел сказанное Вихрем шефу.
Вихрь отметил, что переводил немец слово в слово, совершенно не спотыкаясь, без пауз.
— Продолжайте.
— Работал грузчиком, потому что в институт не принимали, сами понимаете. Потом служил в армии. Сдался во время боев под Киевом. Сидел в вашем фильтрационном лагере пятьдесят шесть дробь «а». После работал на мельзаводе. Отступил с частями немецкой армии во Львов. Сейчас иду в Краков, хочу здесь устроиться на железную дорогу.
— Минуточку, — попросил длинный и перевел все шефу.
Тот слушал, улыбаясь уголками четко вырезанного, капризного, очень красивого рта.
— Очень хорошо, — сказал он. — Пусть расскажет свою историю еще раз, только подробней.
— Я родился в Днепродзержинске в семнадцатом году. Из интеллигентов. Мать расстреляли чекисты, отец учитель, погиб в сорок третьем под бомбежкой. Работал грузчиком, служил в армии, в Киевском военном округе. Сдался в плен под Белой Церковью. Работал на Днепропетровском мельзаводе помощником начальника мукомольного цеха. Отступил во Львов с войсками.
Шеф выслушал Вихря, помахал длинному пальцами — мол, переводить не надо — и попросил:
— Ну, расскажите-ка вашу столь печальную историю еще раз. Пока вы чувствуете себя скованным и чересчур старательно повторяете заученный вами текст.
Длинный переводил слова шефа, а Вихрь в эти секунды, пока ему переводили то, что он и без того понял, мучительно старался найти объяснение двум главным вопросам, которые ему еще не задавали, но зададут обязательно: откуда в его портфеле пистолет и гранаты.
— Вы не верите мне? — спросил Вихрь, когда длинный перевел слова шефа.
— А вы себе верите? Сами-то вы себе верите? — сказал длинный.
— Я не понимаю… — улыбнулся Вихрь. — Можно подумать, что я совершил нечто предосудительное. Мой аусвайс в полном порядке, в портфеле должны лежать характеристики с работы, подписанные вашими людьми.
Он упомянул про портфель, ожидая сразу же вопроса о его содержимом, но ошибся.
— Хорошо, хорошо, — сказал шеф, — мы ждем. Повторите вашу историю, она занятна.
— Я готов повторить ее хоть сто раз — она не станет иной, моя история, как бы я ни хотел этого. Вы думаете, мне очень легко повторять вам о зазря погибшей матери, о вашем фильтрационном лагере, где не так сладко, говоря откровенно? Разве легко рассказывать о гибели отца, об отступлении — страшном, голодном отступлении под бомбежкой с вашими войсками во Львов?
— Мне искренне жаль настоящего Попко, — сказал шеф. — Аусвайс подлинный, мы проверили. История Попко тоже правдива. Но меня интересует: какое вы имеете отношение к господину Попко? Настоящий Попко в данное время проживает в Бреслау, на Моцартштрассе, 24, в общежитии рабочих, которые трудятся на фабрике музыкальных инструментов.
«Грубо работает, — решил Вихрь. — Попко сидит у нас».
— Либо это мой однофамилец, — сказал Вихрь, — либо вас вводят в заблуждение. Я готов к очной ставке.
— Ого!
— Конечно… Мне нечего бояться, я чистый перед вами. Я всегда был лояльным по отношению к новой власти.
— Послушайте, — сказал шеф, — я вижу, как вы напряженно ждете того момента, когда я стану спрашивать вас о парабеллуме и гранатах. Вы уже приготовили версию, видимо вполне правдоподобную: мол, пистолет нашел во время отступления и гранаты тоже. Вы, верно, станете говорить, что вам это оружие было необходимо для личной безопасности — все это мне понятно. Я не буду вам морочить голову. Я вам сейчас покажу ваш парашют и отпечатки ваших пальцев на шелку и стропах.
— Здесь какая-то досадная ошибка, господин начальник.
— Бросьте. Вас выбросили ночью, и вы закопали свой парашют в двух километрах от наших казарм: солдаты в том лесу заготавливают дрова. Случайность — не спорю, но для вас эта случайность оказалась роковой.
— Пошли, — сказал длинный, — мы вам предъявим парашют для опознания.
— Мне нечего опознавать…
— Бросьте… Вы его закопали под двумя соснами, разве нет? И еще муравейник порушили — большой муравейник. В темноте, видно, упали: прямо в муравейник.
Вихрь почувствовал, как у него зацепенели руки: он действительно упал в муравейник.
— Пошли, пошли…
И они пошли сквозь анфиладу комнат в большой зал. Здесь на вощеном паркете лежал его парашют. Вихрь пожал плечами и заставил себя улыбнуться.
— Не ваш? — спросил гестаповец.
— Конечно, не мой.
— Понятно.
Они вернулись в кабинет шефа. Тот расхаживал вокруг стола и говорил по телефону, прижав плечом трубку к уху. Длинный шнур волочился за ним по полу. Шеф молча кивнул Вихрю на несколько листочков бумаги с отпечатками пальцев. Он, видимо, говорил с женщиной, потому что время от времени улыбался и играл бровями. Вихрь посмотрел листочки с отпечатками пальцев и сказал длинному:
— Я вообще-то в этой хитрости ничего не понимаю.
— От вас и не требуется ничего понимать. Просто поглядите: здесь заключения наших экспертов. Этого достаточно для того, чтобы расстрелять вас сегодня же.
— От таких шуток мороз дерет по коже…
— А нам не до шуток.
Шеф повесил трубку, закурил и, сев в кресло напротив Вихря, заговорил:
— Слушайте меня внимательно: сейчас не первый год войны, а четвертый. Время убыстрилось, у нас нет возможности держать вас в камере и разрабатывать тщательным образом. Для нас бесспорно, что вас сюда забросили. Вся ваша история с Попко была бы темой для разговоров, не найди мы — абсолютно случайно — парашют. Продолжайте слушать меня внимательно: мне вообще не нужно доказательств вашей вины, чтобы пустить вам пулю в лоб, хотя бы потому, что вы славянин. Сейчас я во всеоружии: вы не просто славянин, вы русский парашютист. Я попробую с вами поработать: два дня вас будут пытать — больше у меня просто-напросто нет времени, а потом либо вы сломитесь, либо мы вас устраним. Я сейчас сказал вам абсолютную правду. Нам трудно, у нас мало времени и много дел. Решайте, как вам поступать. Выбирайте: смерть или работа с нами. Правда, которую вы нам откроете, может быть достаточной гарантией вашей жизни. Вообще-то говоря, запираться вам глупо: игра проиграна, в жизни всякое бывает, как ни обидно.
Вихрь хрустнул пальцами:
— Позвольте сигаретку…
— Курите, курите, — сказал длинный, — сигареты действительно хороши.
— Спасибо.
Длинный щелкнул зажигалкой, дал Вихрю прикурить, отошел к окну, сел на подоконник и распахнул створки. В кабинет ворвался свежий ветер, пробежал по бумагам, лежавшим на столе, поднял их, покрутил и снова опустил на место. Захлопали белые шторы.
Длинный сказал:
— Действительно, случай редкостный: все очевидно с самого начала, нечего доказывать.
— Ладно, — сказал Вихрь, — ладно. Раз проиграл — значит, проиграл. Да, действительно, я не Попко. Я майор Красной Армии, из военной разведки…
ПРИКАЗ ОКБ О ПОДГОТОВКЕ ОБОРОНЫ РЕЙХА
Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил. Штаб оперативного руководства вооруженными силами.
По вопросу: подготовка обороны рейха.
Ставка верховного главнокомандующего вооруженными силами.
Совершенно секретно.
…В своей деятельности, касающейся подготовительных мероприятий, инстанции вооруженных сил должны руководствоваться принципом, что в их компетенцию входят только чисто военные вопросы, в то время как задачи мобилизации всех сил на территории Германии, ставшей театром военных действий, а также обучение личного состава и особенно мероприятия, связанные с эвакуацией гражданского немецкого населения, являются исключительно задачами партийных инстанций…
I
Порядок подчинения.
1. Подготовка обороны территории Германии, на которой ведутся боевые действия, входит… в компетенцию начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией резерва…
2. Принципиальные указания по вопросам подготовки обороны страны исходят от штаба оперативного руководства вооруженными силами…
4. Остаются в силе распоряжения по вопросам:
а) борьба с вражескими парашютистами и десантными частями на территории Германии;
б) борьба с отдельными парашютистами;
в) борьба с авиационными и речными минами на водных магистралях Германии;
г) защита военных и важных в военном отношении объектов и сооружений…
6. Оборона территории страны, оказавшейся театром военных действий, опирается на готовность всех слоев населения и возглавляется в областях гауляйтерами и государственными комиссарами обороны…
II
Задачи.
К осуществлению подготовительных мероприятий, касающихся обороны территории Германии, ставшей театром военных действий, командующие войсками военных округов привлекают все командные инстанции, расположенные на территории данного военного округа, войска, учреждения и организации вермахта и войск СС, а также дополнительные силы, предоставляемые в их распоряжение гауляйтерами и высшими руководителями СС и полиции…
Задачи подготовки к обороне охватывают в основном следующий круг вопросов.
1. Надзор за размещением, численностью, обеспечением средствами транспорта и вооружением сил, предназначенных для боевого использования.
2. Планирование сосредоточения этих сил…
3. Планирование привлечения и подготовки резервов за счет гражданского населения, предоставляемых по указанию партийных руководителей соответствующих областей в распоряжение вермахта для задач обороны…
4. Освобождение руководящих кадров партии и работников госаппарата от военной службы по согласованию с гауляйтерами и государственными комиссарами обороны соответствующих областей.
5. Подготовка распределения сил по объектам для сооружения укреплений и выполнения других оборонительных и боевых задач…
6. а) Подготовка к эвакуации военнопленных во взаимодействии с государственными комиссарами обороны.
б) Информирование о мероприятиях по эвакуации иностранных рабочих, осуществляемой рейсхфюрером войск СС.
в) Информирование о подготовительных мероприятиях по эвакуации немецкого гражданского населения, входящих в компетенцию только гауляйтеров.
7. а) Подготовка к рассредоточению, эвакуации и выведению из строя объектов, а также к подрывным работам в зоне военных действий.
б) По требованию государственных комиссаров обороны и во взаимодействии с ними участие в подготовке плана мероприятий по рассредоточению, эвакуации и выведению из строя или уничтожению объектов в районах, не охваченных боевыми действиями, что входит в компетенцию государственных комиссаров обороны, действующих в соответствии с директивными указаниями высших государственных инстанций, а также оказание поддержки госкомиссарам обороны при осуществлении указанных мероприятий…
Кейтель.
5. АДВОКАТ ТРОМПЧИНСКИЙ И СЫН
Как всегда по средам, в маленьком лесном поместье Тромпчинского, что за Рыбны, собирались пан Рогаль-ский, бывший издатель «Жиче Краковскего»; герр Трауб, немецкий писатель, военный корреспондент при штабе группы армий «А» в Вавельской крепости, давнишний знакомый Кейтеля, еще с тех пор, как он был в милости у имперского министра пропаганды Геббельса; и пан Феоктистов-Нимуэр, полукровка — мать немка, отец русский — известнейший актер, исполнитель жанровых песен, приехавший на гастроли в войска.
Адвокат Тромпчинский принимал этих людей у себя в поместье, закусывали чем бог послал, пили самогон, который Тромпчинский выменивал на бумагу и перья, а после ужина садились за преферанс.
Сын Тромпчинского Юзеф готовил кофе, а когда отец выходил на кухню заняться закусками, он заменял его за зеленым ломберным столом.
Адвокат держал тридцать кур. Это считалось богатством. Он готовил для гостей прекрасный омлет — его рецепт славился не только в Кракове. Омлеты адвоката Тромпчинского до войны знали в Варшаве и в Париже, куда он частенько ездил по делам фирм, представляя их интересы на всяческих деловых конференциях и при торговых переговорах.
— Господа, — говорил Тромпчинский, сдавая карты, — я вчера наслаждался Цицероном. Я позволю себе прочесть маленький кусочек. — Он бегло посмотрел на свои карты, пожал плечами и коротко бросил: — Пас. Так вот, прошу… — И, полузакрыв глаза, по памяти начал цитировать: — «Если бы духовная доблесть царей и вообще правителей в мирное время была такой же, как и на войне, то человеческие отношения носили бы характер ровный и устойчивый и не пришлось бы наблюдать ни смещений одних правительств другими, ни бурных революционных порывов, изменяющих и ниспровергающих все. Ведь власть легко удерживается при условии сохранения тех принципов, под влиянием которых она вначале создавалась. Но стоит только внедриться в обществе праздности вместо трудолюбия, произволу и надменности вместо выдержки и справедливости, как сейчас же вместе с нравами коренным образом изменяются внешние условия жизни…»
Юзеф поморщился: он не любил, когда отец щеголял своей профессиональной адвокатской памятью.
Писатель Трауб буркнул:
— Чепуха. Цицерон — не история, а современность. Я отношусь к этой его тираде как к передовице в «Дас шварце кор». Юлиус Штрайхер любит подобные отступления в стиле антики, перед тем как перейти к очередным призывам против пархатых американцев и кровавых большевиков.
Тромпчинский тонко улыбнулся: он обожал спорить, сознавая за собой достаточную силу, чтобы побить противника изяществом аргументации.
— Мой друг, — сказал он, поправив пенсне, — Цицерон утверждал: «Удачи оказывают растлевающее влияние даже на мудрецов».
— Какие к черту удачи? — удивился Трауб. — Бьют повсюду, а вы говорите об удачах.
Все сразу замолчали. О неудачах немцев мог говорить только немец. Остальные обязаны были этого не слышать.
— У меня мизер, — сказал Рогальский и потер свои маленькие веснушчатые руки, — чистый мизер, господа, можете не переглядываться.
— А я буду играть девять пик, — сказал Феоктистов-Нимуэр.
— В таком случае я беру мизер без прикупа.
Трауб хмыкнул:
— Славяне начали драчку, будет чем поживиться арийцу. Как думаете, Юзеф?
— Думаю, что ариец останется с пиковым интересом, — сказал Юзеф.
— Все злитесь, все злитесь, — вздохнул Трауб. — И правильно делаете. Глупый немецкий писатель только к старости понял, что единственное губительное снадобье для искусства — это национализм.
— Господа, — сказал Рогальский, — у меня начинает ломить в висках от вашей политики. Я не хочу политики, я чураюсь ее, потому что боюсь того, чем ее подтверждают.
— У гестапо плохо с пленкой для диктофонов, — сказал Трауб, — и потом, здесь нет электричества, А если кто из вас донесет — все равно поверят мне, а не вам. Правильно, Юзеф?
— Вам лучше знать гестапо, господин писатель.
— Что у вас — зубы режутся? — спросил Трауб. — Кусать охота? А? — И бросил свои карты на стол. — Ловить пана издателя будет герр-товарищ актер? — спросил он. — Обожаю, когда дерутся интеллигенты. Драка — это всегда начало истории. Когда социал-демократы вертели задом и дрались с коммунистами — родился фашизм. Когда дерутся интеллигенты — крепнет аппарат тайной полиции.
— Юзеф, — сказал Тромпчинский, — будь любезен, сыграй за меня, я должен посмотреть яйца и молоко. Господа, через полчаса будет омлет.
Феоктистов-Нимуэр ловил Рогальского. Трауб сидел, откинувшись на спинку высокого стула, и задумчиво смотрел мимо Юзефа, куда-то в стену — между двумя старинными картинами предков Тромпчинских.
— Как вы думаете, за чем будущее, Юзеф? — спросил он.
— За правдой.
— Бросьте чепуху пороть. Я задаю вам серьезный вопрос.
— Я серьезно отвечаю вам, писатель.
— Перестаньте называть меня писателем, я просил вас сто раз. Я же не называю вас пианистом без консерватории или, например, офицером…
— Почему? Можете называть.
— Много чести: офицер без армии. В этом все вы, поляки, — нация добровольных безумцев.
— Мы не такие уж безумцы, — отвлекся Рогальский, — как это может показаться.
— Безумцы, безумцы, — повторил Трауб, — но не просто безумцы, а добровольные безумцы. Это я вам комплимент говорю. Мы, например, продуманные кретины. Это я о немцах. О себе и о половинке Феоктистова. Великая нация, великая нация! Нация не может быть великой, если она заставляет всех уверовать в это с помощью концлагерей. Признание величия обязано быть актом добровольным. Как выборы. Как наши самые свободные в мире выборы в нашем самом счастливом государстве самых добрых людей, руководимых гением великого фюрера.
— Господин Трауб, это нечестно по отношению к завоеванным, — сказал Рогальский. — Право слово, нечестно. Вас пожурят, нас повесят.
— А что я сказал? — удивился Трауб. — Я сказал, что мы — самая великая нация, самое великое государство самого доброго и мудрого фюрера.
— Важна интонация, — сказал Рогальский.
— Э, бросьте… За интонацию пока еще не сажают. Если бы я сказал, что мы — нация кретинов, несчастное государство, попавшее в лапы идиота, тогда я первый бы проголосовал за свой арест! Но я-то сказал прямо обратное.
— С вами день ото дня труднее, — сказал Юзеф, — что с вами, милый писатель?
— Я не писатель! Я — добровольный наймит с душой подхалима!
Трауб поднялся со стула и отошел к столику, уставленному бутылками с самогоном. Следом за ним поднялся Юзеф. Он остановился возле Трауба и сказал:
— Господин военный корреспондент, мне нужен чистый аусвайс для одного друга…
— Дурачок, — ответил Трауб, выпив, — если я ругаю мое государство и его лидеров, так это не значит, что я готов продавать мой народ, попавший в их лапы.
— Каждый народ заслуживает своего правительства.
— Глупо. Значит, вы в таком случае заслуживаете то, что имеете сейчас. Я к вам неплохо отношусь, но спасти от виселицы не смогу: Геббельс меня теперь не любит. Не лезьте в кашу. Выживите, это будет ваш долг перед родиной. Чтобы ей служить, надо уметь выживать. Побеждает выживший. Погибший герой обречен на забвение, выживший трус может стать живым героем, когда кончат делать пиф-паф друг в друга.
— Это вы красиво говорите, Трауб, — задумчиво ответил Юзеф, — но только мы боремся против вашего правительства, а ваш народ ваше проклятое правительство поддерживает.
— Я в своей прозе всегда вычеркивал эпитеты. «Проклятое» — это эпитет. Двадцатый век смял человека. Сейчас все будет решать — помимо нас — великое неизвестное, название которому — в р е м я.
— Юзеф! — крикнул с кухни пан Тромпчинский. — Юзеф, дрова кончаются.
— Простите, я сейчас, — сказал Юзеф и вышел из гостиной.
На кухне возле двери стоял Зайоцкий. Для пана Тромпчинского-старшего он был просто Зойоцкий — часовщик и самогонщик. Для Тромпчинского-младшего это был товарищ Седой. На самом деле он был Збигнев Сечковский — начальник группы разведки Краковского подпольного комитета Коммунистической партии Польши.
Юзеф и Седой вышли во двор. Ночь была холодная. Порывами налетал студеный — не июньский, а скорее ноябрьский — ветер. Звезды были по-осеннему яркие.
— Юзеф, — спросил Седой, — когда ты в последний раз видел Андрея?
— Андрея? Позавчера. А что?
— Погоди. Где ты его видел?
— В городе.
— Это ясно. Где именно?
— Возле магазина пана Алойза.
— В какое время?
— В три часа.
— Он был пьян?
— Что ты… Нет…
— Сколько денег ты ему передал?
— Тысячу злотых, как обещал.
— Куда он пошел после?
— Не знаю. Я смотрел, чтобы за мной не было слежки. За ним я не смотрел. А в чем дело?
— Погоди. Как он был одет? Не в немецкой форме без погон?
— Нет. Он был в сером костюме.
— Серая рубашка с красным галстуком?
— По-моему, да… Наверняка — да.
— Вот так штука…
— А что случилось?
— В пять часов его видели входящим в абвер. В девять часов он вышел оттуда.
— Не может быть… Он ведь прислан красными… Он русский разведчик.
— А до часу ночи он пил в казино для немецких офицеров с полковником абвера Бергом.
— Что ж мне — пора уходить в лес?
— Ты два раза передавал ему деньги?
— Да.
— Ты ведь ему не говорил, кто ты такой?
— Нет. Сказал, что пришел от тебя.
— А я для вашей семьи не столько часовщик, сколько самогонщик. Ты с ним не говорил ни о чем?
— Никогда.
— Как бы не пришлось менять квартиру мне… Ты вне игры, он не знает, кто ты и откуда. Передавал деньги за самогон моему человеку — это убедительно. Ай-яй-яй, какая штука получается…
— Ты запрашивал красных?
— В лесу кончилось питание для рации. Ладно, иди, проигрывай деньги немцу. Завтра утром я к тебе подойду, может, что прояснится. Во всяком случае, помни: ты передавал деньги моему человеку за самогон, который получал у нас. Для отвода глаз я тебе брошу письмецо с просьбой остаток вашего долга передать пану Андрею.
— Хорошо.
Седой пожал Юзефу руку и пошел вниз, к дороге. Он всегда прощался и здоровался, очень крепко сжимая руку, чуть дергая ее на себя — будто борец перед началом схватки.
Юзеф стоял на крыльце до тех пор, пока не затарахтел мотоцикл на нижней дороге: это значило — Седой уехал. Юзеф достал сигарету и закурил. Он почувствовал, что руки у него дрожат.
Но ни Юзеф, ни Седой не знали, что «красный разведчик» Андрей, посланный сюда три месяца назад, имеет кличку Муха и что именно на встречу с ним была заброшена группа Вихря.
6. ОДИССЕЯ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА
— Я совершал побег из концлагеря возле Аахена раз сто, — медленно говорил Степан Богданов, прислонившись затылком к дощатой стене барака. Коля слушал его, закрыв глаза, и чувство гадливости к себе не покидало его — он ничего не мог с собой поделать — он не верил Степану. Он не верил его рассказу оттого, что встреча их здесь, в Польше, была слишком уж неожиданной, странной, а его учили остерегаться всякого рода незапланированных странностей. — Я перебегал к вагонеткам, — медленно продолжал Степан, — бросался плашмя на уголь, полз вплотную к откаточным рельсам, ждал, когда резанет белым, окаянным светом прожектор, потом забирался в вагонетку и начинал засыпать себя углем. Я совершал побег раз сто — в мыслях. А в тот раз мне предстояло совершить его наяву. За пазухой я спрятал кусок фанеры, чтоб было чем забросать себя углем. Выйдет? Или пристрелят.
— …Строиться! — кричат конвойные. — Быстро!
Довольно трудно строиться быстро после десяти часов работы в шахте, поэтому охрана орет зло и монотонно. Вообще немцы орут монотонно — у них даже в этом какой-то свой, особый, немецкий распорядок.
— Вперед! Бегом! Живей!
Грохочут деревянные колодки. Задыхаются люди. Смеясь, переговариваются охранники. Я бегу и смотрю на них. Их двое. Колонна бежит, а они неторопливо идут справа от нас — по узенькой асфальтовой дорожке, сделанной специально для них. Охране не надо бежать — колонна длинная, они видят нас сбоку, справа. А слева — вплотную — проволока с пропущенным током и вышка с пулеметами. Так что охрана отвечает только за правую сторону — за уголь и вагонетки. Еще правее, следом за тремя большими кучами угля, тоже проволока с током и вышки с пулеметами. Для меня сейчас единственный выход — вагонетка с углем, потом стометровый путь по откаточным рельсам через проволоку и охрану — к железнодорожному бункеру, в который меня вышвырнут, перевернув вагонетку метрах в трех над бункером.
Но сейчас я не думаю о тех трех метрах, которые мне предстоит пролететь вместе с глыбами угля. Сейчас я бегу и смотрю на немцев. Обычно они останавливаются и, повернувшись друг к другу лицом, прикуривают сигарету. Мне нужен именно такой момент. Они чиркают спичкой или зажигалкой — и на какую-то долю минуты перестают видеть. Так бывает, если сначала посмотреть на горящую лампу, а потом на вечерний лес. Тогда лес покажется сплошной черной стеной. И люди — тоже. Я специально зажигал спичку, а потом смотрел по сторонам — и ничего не видел. Только звенящую, черно-зеленую темноту. Я высчитывал, сколько времени продолжается эта черно-зеленая темнота, и получалось почти достаточно, чтобы добежать до ближайшей угольной кучи, броситься рядом с ней, замереть и ждать, пока пройдет колонна с охранниками, а потом снова ждать белого луча прожектора, который с немецкой пунктуальностью начинает шарить по этому кусочку лагеря особенно тщательно после того, как пройдет колонна.
Остановились! Я вижу, как они наклоняются друг к другу. Вспыхивает огонек спички. Он колеблется на ветру. Я рывком выбрасываюсь направо, делаю десять прыжков. На четвертом прыжке у меня сваливается с ноги колодка.
— Живей! Живей! — орут немцы.
Значит, они ничего еще толком не видят и поэтому кричат особенно зло. Сейчас у них пройдут зелено-черные круги перед глазами и они смогут видеть все вокруг, а значит, и меня они смогут увидеть. А мне еще надо сделать восемь шагов. Ведь я бегал здесь сто раз — я же знаю. Я высчитал. Я делаю восемь шагов и вижу, что мне еще осталось сделать столько же.
Все. Это конец. Я ошибся с расстоянием, но я не мог ошибиться с огоньком спички. Сейчас у них прошли эти черные круги и они обязательно оглянутся по сторонам. А оглянувшись, увидят меня.
— Э! — кричит кто-то в колонне. — Эй, ребята, колодка слетела! Стойте!
— Живей! — орут немцы. — Свиньи! Живей!
Они выучили эти русские слова специально для нас, военнопленных.
— Колодку потерял! — кричит кто-то.
Я слышу, как у меня за спиной начинается свалка. Это меня выручают ребята. Только б охрана не стала стрелять в них! Нет. Просто орут. Это ничего, они всегда орут.
Я падаю и вжимаюсь в землю. Крики моментально прекращаются, охрана тоже успокоилась. Только колодки гремят. А потом становится тихо-тихо, как в лесу.
Через пять минут прожектор переползает на мой участок. Я вижу, как он шарит по дороге, потом медленно перебирается почти вплотную ко мне, быстро скользит по угольным кучам, снова возвращается на дорогу и осторожно, словно слепой, ощупывает каждый метр. Как в кино, детально, в свете прожектора — моя колодка. Я холодею. «Все. Увидали, собаки. Сейчас пойдет облава», — думаю я. Луч прожектора лежит на моей колодке чуть дольше, чем следовало бы. Я прищуриваюсь — и моя колодка кажется мне куском угля.
«Может быть, им тоже так кажется? Ведь они дальше».
Прожектор уходит, а потом резким рывком возвращается назад. И снова в луче — моя колодка. Луч прожектора становится нестерпимо ярким, голубым даже, а не белым, а потом постепенно исчезает. Становится темно и гулко. Я поднимаюсь, в момент оказываюсь на том месте, где только что лежал круг голубого света, хватаю колодку и бегу к углю. Подбегаю к вагонеткам, переваливаюсь в одну из них и начинаю орудовать куском фанеры. Через минуту я спрятан под углем. Все. Теперь надо ждать, когда вторая смена станет давать уголь и вагонетки пойдут к бункерам.
…Люди говорят: «Фу, какая проклятая жара!» Неужели я тоже так говорил? Не может быть! Я никогда не говорил так. А если и говорил, то никогда больше не скажу. Я всегда буду говорить: «Какая благословенная, прекрасная жара!»
Я думаю так потому, что моросит дождь. Это даже не дождь, а скорее мокрый снег. Ноябрь. Пора бы и снегу быть. А я лежу босой. В робе, которая от пота, от голодного пота, стала жестяной. Не надо думать о холоде. Но и о жаре тоже не надо думать. У нас было запрещено говорить и думать о еде. Мне тоже надо запретить себе думать о жаре. Но и о холоде тоже надо постараться не думать.
«Постараться не думать» — слабо. «Надо не думать» — так вернее.
У нас работал электромонтер-чех. Он получил семь лет за дочь. Его дочери восемь лет. Любопытное сочетание возраста дочери и срока, полученного за нее чехом. Их город разбомбили союзники. Во время бомбежки погибло много людей, потому что оборудованные бомбоубежища были только в немецкой колонии. Никто из немцев не пострадал. И дочка нашего чеха предложила:
— Надо забрать у немцев бомбоубежища и засыпать их землей, тогда сразу же мир заключат, потому что немцам тоже будет страшно без бомбоубежищ…
Чех рассказал про это дочкино предложение в очереди за свеклой. На него донесли. Он потом понял, что на него донес маленький человечек из соседнего дома, который ходил тихо и неслышно, всем улыбался и норовил помочь каждому. Он, как оказалось, не брал денег в гестапо. Он доносил со страху.
Чех, видимо, догадывался, что я иду в побег. Он отдал мне свои перчатки. Поэтому рукам довольно тепло. Руки в побеге очень важны. Если пальцы застынут — тогда совсем плохо. Пока-то их согреешь! А ведь пальцы могут понадобиться в любой момент, и они у меня в любой момент готовы. Пальцы — мое оружие. Я храню его в тепле. Спасибо чеху!
Когда ты в напряжении, тогда видишь и слышишь то, чего ждешь, на мгновение раньше, чем на самом деле увидел или услышал. Я еще ничего не почувствовал — ни толчка, ни подергивания троса, я ничего не слышал — ни усиливающейся работы мотора, ни гудка регулировщика, но я уже твердо знал, что через секунду, самое большее — две, вагонетки тронутся и поползут к бункерам.
И они поползли к бункерам. Медленно, натруженно визжа, поскрипывая. Бельгиец-моторист, с которым я подружился, говорил, что вагонетка ползет до бункера минут десять. Я начинаю считать. Я стараюсь спокойно отсчитывать шестьдесят ударов, чтобы знать, когда пойдет десятая минута. Та самая, когда надо будет лететь три метра — в бункер: съежиться как можно крепче и падать боком, подставляя под удар мякоть руки и ноги, но обязательно закрывая ребра, плечо и бедро. Ну и голову, конечно. У меня с детства сохранился ужасный страх за висок. Я помню, как у нас во дворе умерла девочка, потому, что мать стукнула ее за баловство ложкой по виску. Не сильно стукнула, по-матерински, а девочка все равно умерла — легла поспать и не проснулась.
Все ближе и ближе слышу грохот. Это переворачиваются вагонетки, ссыпая уголь в бункер. Я слышу гудки паровоза, который маневрирует на запасных путях. Слышу, как другой паровоз где-то совсем рядом отфыркивается, — наверное, он стоит у водокачки. Иногда я слышу голоса немцев. Я на свободе, потому что немцы не орут и не ругаются. На свободе они совсем иные, они становятся зверями, как только входят за проволоку, к нам в лагеря.
Я слышу, как сталкиваются буферами вагоны и от этого по всей станции, где-то внизу подо мной, проходит длинный, веселый перезвон. В лагере я не слышал таких звуков. И гудок паровоза, и голоса людей, которые не орут и не ругаются, а просто говорят, и перезвон буферов — все эти звуки являются для меня сейчас олицетворением свободы.
Лечу в бункер. Я стараюсь съежиться, повернуться боком, стать пружинистым и маленьким, но не успеваю этого сделать. В самый последний миг вижу голубые — от звезд — рельсы, а потом чувствую удар в затылок и уже больше ничего не вижу и не слышу, только мама поет. Я открываю глаза, стараюсь пошевельнуться — и ужас входит в меня: я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Я весь стиснут глыбами угля. Я заживо закопан. Напрягаюсь, чувствую, что глыбы на моей спине шевелятся, извиваюсь, кричу — аж глаза лезут из орбит.
Трудно заставить себя замереть и подумать в такой ситуации. Мне это не сразу удается. А когда наконец я замираю, чтобы прийти в себя и осмыслить происшествие, начинаю понимать: укачивала меня не мать и приговаривала не она — просто бункер идет по рельсам, а я придавлен углем, и ничего страшного в этом нет, только не надо сходить с ума и тратить силы на бесполезные движения. Надо постараться перевернуться на спину и откопать себя. Ничего нет страшного, я ведь не под землей, я в бункере, который везет меня к свободе.
Когда я вылез на поверхность, то был весь мокрый и потный. Я видел над собой небо, усыпанное звездами. Я долго сидел на глыбах угля, чтобы прийти в себя, успокоиться, отдышаться, а потом, отдышавшись, стал петь песни.
Уже рассвело, когда состав остановился. Я снова закопался в уголь и незаметно для себя уснул. Не знаю, сколько я спал. Только проснулся будто от толчка. Всего меня знобило. Я потрогал лоб. Пальцы у меня были холодные, и поэтому лоб показался горячим, как жаровня. Потом я увидел, что уголь вокруг — белый.
«Это жар, — решил я. — Плохо дело!»
После я понял, что это снег лег на уголь. Пушистый, крупный, сплошные звездочки.
На каком-то ночном полустанке я вылез из своего бункера и ушел в лес.
Мне казалось, что я иду строго на восток. Даже не знаю, почему я был так убежден в этом. Теперь, когда я быстро шел, меня все сильнее знобило. Но я понимал, что ни в коем случае нельзя останавливаться или ломать темп, который я взял с самого начала, как только углубился в лес.
«Ночью разложу костер, — думал я, — обязательно большой, из еловых веток, и отогреюсь как следует. Сначала спину, потом грудь и бока. Озноб пройдет, и все будет в порядке».
Сначала я не думал о том, что у меня нет спичек и никакой костер я разложить без них не смогу. Но чем дальше я шел, тем явственнее понимал, что костра не будет. Тогда я стал уговаривать себя, что смогу добыть искру трением.
«Найду сухой бересты и буду сильно тереть ее друг о дружку. Появится дым. Сначала он будет синим, а потом, постепенно, станет серым, голубым, белым, вовсе исчезнет и появится огонь, — так думал я и быстро шел к востоку. — Только надо все время идти, не задерживаясь ни на минуту».
К вечеру я вышел к шоссе. По бетонной широкой автостраде проносились машины: я слышал, как противно визжали шины, когда шофер входил в вираж. Я лег в кустарник, чтобы дождаться темноты. Лег — и сразу впал в забытье.
Наверное, я пролежал в кустах часа два, потому что, когда открыл глаза, уже стемнело. Меня всего било. Только зубы были стиснуты так сильно, что я никак не мог разлепить рта. Казалось, что если я сейчас же не поднимусь, то уж вообще не поднимусь никогда.
Я стал кататься по земле, чтобы унять противную, слабую дрожь и хоть немного согреться. Я поднялся, но меня по-прежнему всего било, и рот не открывался, потому что зубы будто срослись и стали единым целым.
Я уже не очень-то понимал, куда иду. Только когда я увидел вокруг себя красивые одноэтажные дома, то понял, что забрел в деревню. Я не испугался. Просто испуг уже не доходил до меня из-за холода, из-за того, что всего било, и еще из-за того, что живот стал прирастать к спине. И вдруг меня что-то толкнуло в грудь. В двух метрах от себя я увидел человека в теплой куртке, в ботинках и охотничьей шляпе с пером. У его ног стояли банки консервов, построенные пирамидой, а над головой на веревках висели окорока, колбасы и гирлянды сосисок.
«Магазин», — думаю я спокойно и трезво. Я понимаю, что разбить стекло — значит погубить себя. Но мне очень хочется разбить стекло и раздеть этого фарфорового болвана, который не знает, что такое холод. Ощупываю дверь. Ищу замок. Я помню, что на дверях магазинов обязательно должны быть большие висячие замки. А здесь его нет. Ясное дело — немцы. Нация изобретателей, будь она трижды неладна! Дверь заперта на внутренние замки. Их, кажется, два. Меня в нашем театральном институте учили анализировать творчество драматургов, меня учили сценическому перевоплощению и музыковедению, только вот взламыванию замков, к сожалению, не учили. Придется учиться самому. Промучившись с дверью, я понял, что здесь у меня ничего не получится. Тогда я обошел дом. В магазин вела еще одна дверь, а рядом с ней — окно, закрытое ставнями, цинковыми, гофрированными, похожими на самолетный фюзеляж. И эти ставни — я только потом вспомнил, что их называют жалюзи, — были заперты маленьким замком, какие вешают на почтовые ящики.
Ноги у меня подкосились, и я опустился на землю. Я сидел на асфальте и смотрел на маленький замок.
Надо мной проносились облака. Они казались черными, потому что небо было чистое и звездное. Звезды, казалось, перемаргивались друг с другом и со мной тоже. Луна светила окаянно белым, холодным светом. Замок отлетел быстро. Я поднял жалюзи, взломал форточку, открыл окно и залез в магазин. Я задохнулся от запахов, давно забытых мною. Круг копченой, сладкой колбасы я съел во мгновение ока. Живот заболел резкой болью. Мне показалось, что колбаса царапает все внутри, будь она трижды неладна!
Я сбросил с себя робу и остался голым. Сначала я нашел в ящиках шерстяное белье. Искать пришлось долго, потому что белый лунный свет падал на противоположную стену, туда, где лежали продукты. Поэтому я вытаскивал ящики один за другим, пока наконец не вытащил шерстяное белье. Потом нашел носки — тоже толстые, шерстяные. Я надел все эти сказочные вещи на себя и сразу же почувствовал тепло. Потом я надел костюм, шапку, пальто, подобрал себе большие ботинки, набил карманы колбасой, сыром и сахаром, взял свою робу и вылез в окно.
Робу я зарыл в песок, как только вошел в лес. Прошел еще немного, забрался в кусты, лег и сразу же уснул.
…Отец мне говорил: «Поступишь в театр, поедешь с гастролями за границу и привезешь мне тогда егерское белье. Преотличнейшим образом его делают в Германии. Болезнь враз снимает. А из свободной штанины я перчатки сошью…»
Проснувшись, я сразу же вспомнил отцовские слова. Лежу и пытаюсь сообразить — почему я вспомнил именно эти его слова? Не его самого — безногого и седого человека, не его голос — хрипловатый, усмешливый, а слова, сказанные им.
Потом я слышу детский голос. Какой-то мальчишка поет песню по-немецки. Поворачиваюсь, раздвигаю кустарник и вижу, как по лесной дорожке на велосипеде едет мальчуган. Это он поет песенку.
Мне сейчас велосипед был бы очень кстати. Одет я нормально, как немец, и мог бы поскорее уехать на велосипеде от этого места, но мне становится стыдно этой мысли: отобрать велосипед у мальчишки? Мальчишки в нашу «игру» не играют, они тут ни при чем, мальчишки в коротких штанишках, — пускай ездят на велосипедах и поют песенки, а я и пешком смогу уйти.
Дорога кажется каучуковой. Это опавшие листья легли на тропинку, и она теперь пружиниста, как мягкая резина. Идти по такой дороге — одно удовольствие. Ноги не устают, дыхание держится ровное и спокойное. Мне тепло идти, даже, скорее, жарко.
«Черт, вот почему утром я вспомнил про егерское белье, о котором говорил отец, — догадываюсь я. — Оно очень теплое и легкое, недаром же так жарко…»
Тишина. В отчаянно светлом небе — осеннее солнце. Слышно, как с деревьев опадают листья. Это всегда очень грустно. Наверное, оттого, что в детстве листопад связывался у нас с началом занятий в школе.
Я даже засмеялся этой мысли. И — сразу же замер, испугавшись. Я сошел с тропинки в чащобу и постоял там минут десять, пережидая.
У реки я остановился на отдых. Достав из карманов колбасу, поел. Мучила жажда, я часто опускался на колени и пил из реки. Вода была чистая, прозрачная и очень холодная.
Сытый человек делается беспечным. Я наелся колбасы, напился студеной воды и, забравшись в кусты, уснул.
…Были сумерки. Тишина по-прежнему стояла в морозном воздухе. Листья с деревьев уже не облетали, потому что совсем не было ветра.
Я поднялся с земли, снова начал есть колбасу, и вдруг острая и длинная боль резанула в животе. Скрючившись, я лег на бок.
Три дня я пролежал в кустах у реки, потому что не мог идти. Я чувствовал, как кожа все больше и больше обтягивает скулы. Я ощущал это физически. Дизентерия — гадкая штука. Меня беспрерывно трясло противной дрожью, и все время резало в животе. И еще тошнило. Я понял, что мне нельзя есть. И воду из реки тоже нельзя пить. Но меня все время тянуло к проклятой жирной колбасе. Тогда я закрыл глаза и выбросил ее в реку. А потом долго ругался. Я ругал себя, проклятую колбасу, небо и опадающие листья. А потом впал в забытье — тяжелое и липкое, как грязь…
В конце третьего дня я смог идти. Мне было очень легко идти, даже слишком легко идти, потому что я себя совсем не чувствовал. Меня здорово шатало, иногда мутило, но боли в желудке прошли, и поэтому я шел не отдыхая. Я должен был выйти в каком-нибудь месте на шоссе, чтобы посмотреть по указателям, где я и куда идти дальше.
На перекрестке бетонной дороги ночью, при луне, я увидел указатели: «Берлин — 197 км. Дрезден — 219 км». Я сел на обочину и пальцем нарисовал карту Германии. Я понял, что нахожусь в самом центре страны.
Мне стало страшно. Впервые я подумал: «А ведь не дойду…» Но я одернул себя. Я не смел так думать. Отчаяние — сестра трусости…
Богданов замолчал. Вдали, на костеле, большие часы прозвонили три раза.
— Утро, — сказал Коля. — Скоро солнце взойдет.
— Спать хочешь?
— Нет.
— Спички дай, мои отсырели. Может, соснем? А? Сволочи, они на допросы выдергивают с шести часов, аккуратисты проклятые…
Строго секретно!
11 июня 1944 года.
Вавель, тел. А. 7. флора 0607.
Весьма срочно!
Документ государственной важности!
Напечатано 4 экземпляра.
Экземпляр № 2.
Замок Вавель в Кракове
Рейхсфюреру СС Гиммлеру
Рейхсфюрер!
Я посылаю Вам стенограмму совещания у генерал-полковника Нойбута, посвященного вопросам, связанным с решением проблемы очагов славизма в Европе.
Нойбут. Господа, существо вопроса, по-видимому, знакомо всем присутствующим. Поэтому я освобожу себя от тяжкой обязанности обосновывать и теоретически подкреплять, как это любит делать наша официальная пропаганда, необходимость тех акций, которые запланированы. Прошу докладывать соображения.
Миллер. Я поручил практические работы полковникам Дорнфельду и Крауху. Нойбут. На какой стадии работа? Миллер. Дорнфельд и Краух вызваны мной. Они готовы к докладу. Пригласить?
Нойбут. Нет смысла. Видимо, вы, как руководитель инженерной службы, сможете объяснить нам все тонкости. Частные вопросы, которые, вероятно, возникнут, вы решите позже.
Миллер. Я готов.
Нойбут. Пожалуйста.
Миллер. Форт Пастерник, что в девяти километрах от города, вот он здесь, на карте, оборудован нами как штаб по выполнению акции. Сюда будут проведены электрокабельные прожилины. Старый город, крепость, храм. Старый рынок, университет и все остальные здания, представляющие собой сколько-нибудь значительную ценность, будут заминированы.
Нойбут. Нет, нет, Миллер. Такую формулировку наверняка отвергнут в ставке рейхсфюрера. Речь идет обо всех зданиях, всех, я подчеркиваю. Мы солдаты, а не исследователи, и не нам определять ценность исторических памятников. Акция только в том случае станет действенной, когда будет уничтожено все, а не выборочные объекты. Да и потом, в случае уничтожения выборочным порядком наиболее ценных памятников потомки обвинят нас в вандализме. Полное уничтожение оправдывается логикой войны.
Биргоф. Господин генерал, думаю, что вопрос оправдания наших действий не должен занимать умы солдат. Наш удел — выполнение приказов.
Нойбут. После окончания первой мировой войны вам было лет десять?
Биргоф. Мне было тринадцать, господин генерал, но я живу будущим, а не прошедших.
Нойбут. Вам следовало бы родиться язычником, а не партийным деятелем нашей армии.
Биргоф. Я высказал свою точку зрения.
Нойбут. Их у вас две? Или больше? Продолжайте, Миллер.
Миллер. Мы внесем коррективы. Все здания будут заминированы. Центр в Пастернике, охрану которого должны нести войска СС, может в любую необходимую минуту поднять Краков на воздух. В целях маскировки главного кабеля мы прокопаем несколько рвов — якобы в целях ремонта водопровода и канализации. Это позволит нам ввести в заблуждение возможных красных агентов, а также местное националистическое подполье.
Нойбут. Между прочим, Биргоф, я плакал от восторга в Лувре. Я бы возражал против этой акции, если бы не отдавал себе отчета в том, что она необходима — как военное мероприятие.
Биргоф. Какие мины вы думаете употребить? Не может ли случиться так, что Краков взлетит на воздух в то время, когда наши солдаты будут спать? Поляки могут пойти и на такую садистскую акцию.
Миллер. Вы считаете, что поляки пойдут на самоуничтожение?
Биргоф. Вы плохо знаете поляков.
Миллер. Если поляки столь безумны, то мы не гарантированы от любых случайностей.
Биргоф. Вы забываете, что в нашей стране существует такая организация, как гестапо.
Нойбут. И армейская контрразведка.
Биргоф. Военная контрразведка — довольно аморфный институт.
Нойбут. Вы забываетесь, Биргоф.
Биргоф. Простите, генерал, но партия меня учит правде. Я не намерен лгать даже вам.
Миллер. Вы против того, чтобы операцию курировала армейская контрразведка?
Биргоф. Да. Я убежден, что курировать эту акцию должны гестапо и войска СС.
Нойбут. Гестапо работает в контакте с инженерным ведомством?
Миллер. Да, наши друзья из тайной полиции получают информацию ежедневно и оказывают нам немаловажную помощь.
Нойбут. Как будут охраняться те девять километров, что идут
от города к форту?
Миллер. От города к форту пойдет семь каналов с проводами: пять — в качестве маскировки, один канал — связь и один, в бронированном футляре, — канал взрыва.
Нойбут. Разумно, хотя и обидно: страховаться с такой тщательностью, будто речь идет о вражеском тыле, а не о нашем. Что еще?
Миллер. Вот графическое решение вопроса — схемы, карты, выкладки и один довольно интересный подсчет: на восстановление Кракова, если кто-нибудь рискнет восстанавливать выжженную пустыню, потребуется более ста миллионов долларов.
Биргоф. Странно, почему расчеты велись в долларах. Рейхсмарка — не валюта?
Нойбут. Биргоф, вы стараетесь казаться самым верным сыном Германии из всех присутствующих здесь. Право, это смешно. И не очень умно. Человека украшает скромность, юмор и сдержанность. Послушайте совета старого солдата. Пригласите Дорнфельда и Крауха, я хочу пожелать им успеха.
С подлинным верно:
СС бригадефюрер Биргоф.
Эта шифровка пришла к Гиммлеру (а в копии — к Шелленбергу) в тот день, когда Штирлиц получил задание срочно вылететь в Мадрид. Поэтому содержание стенограммы совещания у Нойбута, а также планы и схемы минирования Кракова прошли мимо него и были сразу же переданы в стальные сейфы личного архива Гиммлера.
7. ВОТ ТАК МУХА!
— Где ваши спутники?
— Я был заброшен для выполнения специального задания.
— Пожалуйста, подробно расскажите нам о задачах, которые были поставлены перед вами командованием.
— Меня удивляет ваша манера вести допрос, — сказал Вихрь и потянулся за сигаретами, лежавшими в плоской металлической коробочке. — Либо вы не верите ни единому моему слову, либо не хотите слушать меня внимательно. Я уже показал вам, что начиная с пятнадцатого июня каждый четверг и субботу я должен появляться на городском рынке возле торговцев, продающих корм для голубей. Я должен ходить от фонтана до магазинчика церковных принадлежностей, который расположен в угловом здании рынка. В воскресенье с часу до трех — возле касс вокзала…
— Принесите фотографии рынка, — после долгой паузы попросил шеф своего помощника.
Вернувшись, длинный, словно хороший картежник, разбросал перед Вихрем несколько больших фотографий. Собор, широкая площадь, торговцы кормом для голубей, фонтан.
— Ну, пожалуйста, — сказал шеф, — вот площадь Старого рынка, покажите ваш маршрут.
Вихрь аккуратно разложил перед собой фотографии, долго рассматривал каждую, а потом, удивленно подняв брови, сказал:
— Или у вас дрянные фото, или вы хотите меня провести на мякине. Это ж не Краков.
— А вы что, уже бывали здесь ранее?
— Нет.
— Откуда вы знаете, что это не Краков?
— Потому что я достаточно серьезно готовился к этой операции. Вы мне подсунули липу.
— Гюнтер, — спросил шеф, — неужели вы все перепутали?
Длинный стал переворачивать фотографии. Он внимательно разглядывал номера, проставленные на обратной стороне каждого фотокартона.
— Ерунда какая… — сказал он. — По-видимому, это площадь Святого Павла в Братиславе. Сейчас я принесу Краков.
— Не стоит, — сказал Вихрь. — В конце концов, я могу вам нарисовать схему, и вы сверите ее с подлинником.
— Хорошо, хорошо, — сказал шеф и достал маленькую зубочистку. — Давайте двинемся дальше. Только, прошу вас, говорите медленно, а то моему коллеге трудно переводить, он устает от вашей трескотни.
— Я должен по четвергам и субботам начиная с пятнадцатого июня ходить утром среди продавцов кормов и спрашивать каждого молодого мужчину в черной вельветовой куртке и в серых брюках: «Нет ли хорошего корма для индеек?» Наш человек должен ответить: «Теперь корма для индеек крайне дороги; видимо, вы имеете в виду индюшат…» Если встреча состоится возле касс вокзала, меня спросят: «Вы не видали здесь инвалида с собакой?» Я отвечаю: «Здесь был слепец без собаки». Отзыв: «Нет, тот не слепец, тот с котомкой, безногий парень». Этот человек даст мне явки, связи и радистов.
— Кличка связника?
— Связник без клички, его должен определить пароль и отзыв.
— Погодите, разве вам неизвестно, что его кличка
— Муха?
— Что, что?!
— Могли бы и побледнеть, — сказал длинный. — Хотя некоторые краснеют. Важен не цвет, важна реакция.
— Увы, я не знаю никакой «мухи».
— Да?
— Да.
— Ну что ж… Это нетрудно проверить. Через полчаса Муха будет здесь.
«Я поступил правильно, — медленно думал Вихрь, когда его отвели в подвал, в маленькую холодную камеру без окон. — Другого выхода у меня не было. Вася спасся в Киеве, когда он вывел себя с их охранниками «на связь» в центр киевского рынка. Раз в неделю, а то и чаще они там устраивают облаву. На вокзалах — тоже. Это мой единственный шанс. Они обязательно должны устраивать облавы на толкучках, это у них такая инструкция, а немец под инструкцией ходит, она для него вроде мамы родной. Видимо, гестапо не станет связываться с полицией, чтобы отменять облавы на рынках и вокзалах. Разные ведомства, свои законы, свои инструкции — это тоже мой шанс. Но Муха… Если он провалился, тогда начинается провал общий. Три дня назад я сидел на радиосвязи с ним, он передавал информацию в Центр, Бородину. Если его взяли сразу после радиосеанса, неужели он сломался за три дня? Его кличку знали только Бородин и я. Ключ к коду? Вряд ли гестапо могло засветить наш код, это исключается. Почти наверняка исключается, так будет точнее. Муха меня в лицо не знает. Стоп! Он знает только, что к нему должен подойти человек в синем костюме, с кепкой в руке и с белым платком в другой. На мне синий костюм. Платок они наверняка нашли в портфеле. Кепка… Где кепка? Они привезли меня без кепки. В портфеле ее тоже не было. Так. Я лег спать, подложив кепку под голову? Нет. Под головой у меня был плащ. Ну-ка вспоминай, — приказал себе Вихрь, — вспоминай по минутам, что было ночью! Я пошел с дороги вниз, думал ночевать в низине. Провалился в какую-то бочажину, начиналось болото. Я поднялся, пошел обратно и решил уйти через дорогу вверх, там, думал я, будет сухо, там можно хорошо переночевать. По-моему, я пришел на место, где меня взяли, без кепки. Видимо, я потерял ее, когда провалился и вылезал из ямы. Кепка мне чуть велика, я не заметил, как она соскочила. Так? Наверное, так. Я привык к армейской фуражке, она давит на лоб, ее всегда чувствуешь. В Днепропетровске я жил зимой, шапку носил. А весной сбросил шапку и ходил в немецкой пилотке. Видимо, я не заметил, как кепка слетела с головы. Это на счастье… Как мне себя вести с Мухой, если тот человек, которого они мне подсовывают, действительно Муха? Хотя, не зная настоящего Мухи, они не смогут подобрать похожий типаж. Я ж помню фото. Красивый парень, смуглый, скуластый, с большими бровями, сросшимися у переносья…»
Вихрь не успел додумать всего, потому что его вызвали на допрос не через полчаса, как обещали, а через пятнадцать минут.
— Вы знаете этого человека? — спросил шеф, указывая глазами на Муху.
Вихрь сразу понял, что перед ним в кресле Муха. Скуластый, высокий, бровастый парень в модном костюме — накладные карманы, материал елочкой, большие подложные плечи, хлястик, в карманчике у лацкана — уголок платка.
— Нет, этого человека я не знаю.
— А вы? — обратился шеф к Мухе.
— Не встречались, — ответил тот, помедлив. — По-моему, я там его не видел.
— Кто к вам должен был прийти на связь и где? — спросил шеф Муху.
— В селе Рыбны, возле костела.
«Все, — спокойно подумал Вихрь. — Он сволочь, он продался…»
— Как он должен быть одет?
— Кто?
— Человек от Бородина.
«Все, — снова подумал Вихрь. — Он развалился до конца, если сказал им про Бородина. Он сволочь, вражина, продажная тварь… А если он и раньше был с ними?»
— В синем костюме, в кепке и с белым платком в левой руке.
Шеф подмигнул Вихрю и сказал:
— Все сходится, а? Синий костюм, платок в портфеле чистенький…
Вихрь хмыкнул:
— У меня и кепка была, когда я выбрасывался. Коричневая, в красную прожилочку. Кстати, какого цвета должны были быть туфли у того, кто шел к вам на связь? — спросил Вихрь Муху.
— Про цвет ботинок мне не сообщали.
— Ну?
— Нет, не сообщали.
— Вы в каком звании? — спросил Вихрь.
Он задавал вопросы очень быстро, и Муха так же быстро ему отвечал.
Длинный гестаповец с трудом успевал переводить вопросы и ответы своему шефу.
— У меня нет звания.
— То есть?
— Меня забросили, потому что я был связан с Львовским подпольем, выполнял их поручения.
— Что-то вы финтите, — сказал Вихрь. — Я в разведке не первый день, но, насколько мне известно, командование цивильных мальчиков в тыл не засылает. Это во-первых. Во-вторых, что-то я не верю вашим данным про синий костюм, платок и кепку — только лишь. Мы всегда довольно тщательны в описании внешних данных агента или резидента. Мне, например, известно, что человек, который будет со мной на связи, должен быть одет в вельветовую черную куртку, серые брюки, заправленные в немецкие солдатские кирзовые сапоги с голенищами раструбом…
Шеф сказал:
— Вы в прошлый раз не уточняли деталь с сапогами.
— По-моему, я имею дело не с подготовишками от контрразведки.
Длинный и шеф переглянулись.
— И тем не менее… — сказал шеф. — Ваш связник знает вас в лицо?
— По-видимому.
— Почему вы так думаете? Если Муха не знает в лицо своего резидента, то почему «вельветовая куртка» обязан знать вас?
— Потому, что «вельветовая куртка» — офицер Красной Армии и ему полностью доверяло руководство.
Вихрь теперь старался посеять в гестаповцах недоверие к Мухе. Он играл точно, хотя не знал всех скрытых пружин, которые помогали ему в этой быстрой и единственно возможной сейчас игре: давала себя знать давнишняя вражда между военной разведкой Канариса и ведомством Кальтенбруннера. А Муха как раз и попал в эти жернова: на него по своим каналам вышелполковник военной разведки, абвера, Берг, а он, не зная всех тонкостей этой давней вражды между абвером и гестапо и считая немцев единым, слаженным государственным организмом, предложил свои услуги и гестапо — между встречами с Бергом, который, во-первых, никогда не ходил в форме, а во-вторых, говорил по-русски, как русский, потому что в тридцать втором году закончил химический факультет МГУ. Гестапо, конечно же, знало о работе Берга с Мухой, и поэтому всякая компрометация этого агента абвера входила в перспективные планы гестапо: потом, позже, при случае, поставить Бергу подножку — мол, работает с заведомым дезинформатором, либо с дезинформатором невольным, либо с бесперспективным — с оперативной точки зрения — человеком.
— Мне тоже доверяло руководство! — сказал Муха обиженно. — Меня сам Бородин провожал!
— Как фамилия Бородина? — спросил Вихрь.
— То есть как — фамилия? Бородин.
Шеф и длинный снова переглянулись. Вихрь рассмеялся.
— Милый мой, — сказал он, — у разведчика не может быть одной фамилии.
— А какова настоящая фамилия полковника Бородина? — спросил шеф.
Шесть дней назад во время бомбежки погиб полковник Валеев, заместитель Бородина. Все нити, которые могли вести к нему, были оборваны его смертью, тем более что он не курировал ни одну из резидентур, а только осуществлял подготовку, учебу и заброску людей в тыл. Назвать фамилию с потолка было нельзя: где гарантия, что у гестапо нет хотя бы нескольких точных фамилий наших разведчиков из штаба? Считать врага глупым — это значит заранее обрекать себя на проигрыш.
— Фамилия Бородина — Валеев, Алексей Петрович. Полковник, выпускник академии Генштаба.
— Подождите в приемной, — сказал шеф Мухе.
Муха вышел. Шеф подвинул Вихрю сигареты и зажигалку.
«Надо, чтобы эти дни Муха был со мной, — подумал Вихрь, — спаси бог, если он будет торчать у костела. Коля или Аннушка могут пойти к нему на связь…»
— Хорошо бы, если ваша «муха» пошла со мной на рынок и вокзал.
— А кто сказал, что вы пойдете туда?
— Вас интересует связник в вельвете…
— Разумно. Только почему вы думаете, что мы не сможем его взять без вашей помощи?
— Вы бывали на Старом рынке? — спросил Вихрь.
— Бывал.
— Сходите еще раз и посчитайте, сколько вы там встретите людей в черном вельвете, серых брюках и немецких солдатских сапогах раструбом. Надеюсь, вы, засылая своих людей к нам, одеваете их не как попугаев, а так, чтобы они были похожи на тысячи окружающих их. Не так ли?
— Почему вы так откровенны с нами?
— Потому, что я проиграл.
— Проигрывая, ваши люди кричат, бранятся и стараются плюнуть в лицо.
— Этим своим вопросом вы хотите унизить меня? Или просто оттолкнуть?
— Не понял, — сказал шеф и попросил длинного: — Что он имеет в виду, пусть объяснит подробно.
— Все довольно просто, — сказал Вихрь. — Если я буду молчать — меня уберут после пыток. Если я стану говорить — у меня будет шанс погибнуть без пыток. Если же я подтвержу свои показания человеком со связями и явками — я буду выгоден вам и вашей контригре. Вот и все. Муха мне нужен только для того, чтобы он подстраховал меня: вдруг он уже встречался с этим человеком в вельвете, кто знает?
— У Мухи свои задачи, — сказал шеф, — он ждет своих гостей.
«Значит, он караулит наших возле костела, — понял Вихрь. — Все решит случай, и только случай. Какая глупость: говорят, случайностей не бывает. А я сейчас надеюсь только на случайность. Правда, в подоплеке этой моей надежды на случайность лежит знание их психологии, но обернуть на пользу это мое знание их психологии может только случай. Конечно, они пустят меня на рынок — это очень редко, когда наши люди перевербовываются ими, это для них радостное ЧП. И то, что он задумчиво сказал мне про задачи Мухи, — явный симптом его внутреннего согласия с моим предложением. Он сейчас начнет играть со мной. А я уже выиграл, теперь только надо разумно держаться».
— Давайте-ка отвлечемся, — сказал шеф, — давайте побеседуем о вашем жизненном пути. Меня интересует все, относящееся к вам, начиная с сорок первого года.
Вихрь похоронил много людей, своих друзей по борьбе. Он знал подполье Днепропетровска и Кривого Рога и помнил имена тех, кто погиб в гестапо. Значит, эти имена шеф мог перепроверить, запросив архивы. Многие товарищи Вихря по фронтовой разведке погибли, но остались их клички и легенды. Вихрь решил обратиться к мертвым друзьям. Друзья, даже мертвые, обязаны спасти живого.
— Как вам будет угодно, — сказал Вихрь. — Я могу рассказать, или лучше записать на бумаге?
— Пишите, — сказал шеф. — Будет неплохой материал для контрпропаганды на красные войска по радио.
— Этим вы погубите меня как вашего возможного агента. И этим же вы погубите моих близких.
— О ваших близких — адреса, имена, места и годы рождения — мы будем говорить позже. Вот вам бумага и перо. Мой коллега проведет вас в тихую комнату, где вам никто не будет мешать. К сожалению, наши стенографистки не знают русского языка, я лишен возможности облегчить ваш труд. До вечера.
Начальник полиции безопасности и СД
Секретный документ государственной важности.
Штамп получателя: 13 экземпляров.
Экземпляр № 4.
Начальник полиции безопасности и СД округа Краков.
Отдел наружной службы.
28.6.1944 г. высший руководитель СС и полиции на Востоке издал следующий приказ:
«Положение с обеспечением безопасности в генерал-губернаторстве ухудшилось настолько, что отныне следует применять самые решительные средства и принимать наистрожайшие меры против виновников покушений и саботажников не немецкой национальности; с согласия генерал-губернатора приказываю, чтобы во всех случаях, когда совершены покушения или попытки покушения на немцев или если саботажники разрушили жизненно важные сооружения, должны быть расстреляны не только схваченные виновники, но, кроме того, должны быть казнены также все родственники-мужчины, а родственники по женской линии — женщины и девушки старше 16 лет — направлены в концентрационный лагерь. К родственникам-мужчинам относятся отец, сыновья (старше 16 лет), братья, деверья и шурины, двоюродные братья и дяди виновника. Точно так же следует поступать в отношении женщин. Таким образом, намечается обеспечить коллективную ответственность всех мужчин и женщин — родственников виновного. Благодаря этому будет наиболее чувствительным образом затронут круг людей, среди которых действовал политический преступник. Такая практика уже принесла прекрасные результаты в конце 1939 г. в новых Восточных областях, в частности в области Варты. Как только этот новый способ борьбы с виновниками покушений и саботажниками станет известен инородцам — это может произойти путем устной пропаганды, — женщины из круга родственников, в котором вращаются участники движения Сопротивления или банд, будут, что подтверждается опытом, оказывать предупреждающее влияние».
Я ставлю об этом в известность и предлагаю в надлежащих случаях (не касаясь уже имевших место) возможно быстрее устанавливать местожительство и немедленно арестовывать соответствующих членов семьи.
Крюгер.
8. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДИССЕИ
— Дней через десять я был в тридцати километрах от Берлина, — рассказывал Степан Коле после очередного допроса. — Теперь я шел только с вечера до рассвета, а остальное время спал в кустарниках около озер, чтобы в случае чего уйти от собак. Хотя, правда, товарищи в лагере говорили, что вода от собак не помогает: фашисты пускают псов по обоим берегам и быстро засекают то место, где выходишь из воды. Но все равно я ложился спать в кустарниках рядом с берегом — так я чувствовал себя уверенней.
Он замолчал, словно бы всматриваясь в самого себя.
— Ну? — поторопил его Коля. — Дальше-то что?
— Я прошел сто шестьдесят километров за десять дней. Это был хороший результат. Если учесть, что шоколада мне, как спортсмену, не давали и приходилось грызть картофель или брюкву. Я понимал, что до Польши осталось не так уж много. Там есть партизаны, там я у своих. В то серое рассветное утро я забрался на ночь в одинокий сарай. Лил дождь со снегом, и я решил закопаться в сено на чердаке, а вечером спокойно двинуться дальше.
Сено было теплое. Оно пахло солнцем и летом. Я уснул так, как не спал уже много месяцев. Несколько раз я просыпался, слышал, как дождь монотонно и спокойно бьется о черепичную крышу, и засыпал снова. Дома я удивлялся, как это умудряется отец спать в троллейбусе или трамвае. Он садился в уголок, когда мы с ним ехали в гости к нашей тетке на Сельскохозяйственную выставку, поднимал воротник пальто, ставил рядом с собой костыль, опирался на него локтем и сразу же засыпал. Поначалу меня это злило, а потом стало смешить. Злило, когда я был мальчишкой. Мне казалось, что над отцом будут смеяться из-за того, что он спит в троллейбусе. Наверно, я здорово обижал отца своей снисходительностью. Я это понял, когда уходил в армию. Вернее, тогда я только догадался об этом, а понял значительно позже, в концлагере. И там же по-настоящему понял, отчего отец спал в троллейбусе даже в воскресные дни. Люди, уставшие за много лет, либо все время хотят спать, либо страдают жестокой бессонницей. «Театральный дождь, — думал я, глядя в темный потолок, — шумит куда правдоподобнее, чем этот, настоящий. Слишком уж благополучен сегодняшний мелкий осенний дождь. И ветер чересчур спокоен и ласков. Так можно позабыть все на свете. Если еще к тому же не болит живот и в кармане есть несколько картофелин».
Сырой картофель кажется противным только первое время. Если привыкнуть, то он становится даже приятным на вкус.
Я достал картофель и начал неторопливо жевать его, очистив от грязи рукавом пальто. Я жевал картофель и мучительно вспоминал, кто из ученых утверждал, что картофельная шкурка — суррогат калорийности. Верное утверждение, хотя звучит на первый взгляд смехотворно. Я заметил, что если съедаешь картофель чищеным, то все равно остаешься голоден, а вот стоит заставить себя слопать его вместе со шкурой, то даже одна картофелина может заменить домашний завтрак. По калорийности, во всяком случае.
Вообще, когда начинаешь думать даже о самых пустых вещах, то сон уходит. Я ругаю себя за то, что стал размышлять о картофеле и о калорийности шелухи. Надо было сжевать одну картофелину и постараться снова уснуть. Я не помню кто, но, кажется, Павлов утверждал, что каждый час сна до полуночи равен двум часам после двенадцати. Суворов ложился спать в восемь, а вставал в три часа утра и сразу садился за работу. Вот бы мне в спутники Александра Васильевича!
Я слышу женский голос. Сначала и прежде всего я слышу женский голос. Потом уже — тяжелую поступь коровы, стук ведер, быстрые шаги женщины, ее тихие и ласковые слова. Я слышу, как женщина похлопывает корову по крупу. Потом я слышу, как она, приговаривая по-прежнему тихо и ласково, начинает доить корову. Я слышу, как струйки горячего молока, пронзительно дзинькая, ударяются о стенки ведра.
Видно, я здорово обманываю себя с картофельной шелухой, с калорийностью и с ерундой насчет полезности дневного, утреннего и вечернего сна. Это все ерунда, когда говорят и думают о полезности. Вот я услыхал, как дзинькает горячее молоко о стенку ведра, и меня всего свернуло — от голода, и от боли в желудке, и от душной злобы истощенного человека. Наверное, я застонал, потому что дзиньканье молока прекратилось и женщина испуганно спросила:
— Фрицци?
«Сейчас сюда ввалится мордастый Фрицци, — думаю я, — и прощай тогда Польша!»
Я замер. Сколько же раз мне приходилось замирать во время побега! Сколько раз мне хотелось исчезнуть, стать маленьким или — еще лучше — совсем невидимым! Как же это унизительно для человека!
— Оэй, мамми! — слышу я детский голос. Ребенок кричит где-то далеко, по-видимому, метрах в пятидесяти.
Если это Фрицци, то все пока еще не так плохо, как мне казалось мгновение назад. Я слышу, как кто-то бежит сюда, к сараю. Слышу детское дыхание, смех и вопрос, которого я не понял. Женщина быстро ответила, мальчик убежал. Я снова слышу дзиньканье молока о стенку ведра. И ласковое пришептывание. У нас в лагере рядом со мной работал один ветеринар. Он расказывал, что в Германии изобрели приспособление: корову начинают доить электрической доил-кой, и сразу автоматически включается патефон, и музыка тихонько играет или женский голос что-нибудь ласковое нашептывает. Тогда коровы не волнуются и дают себя выдаивать электроприбором. Умная нация — немцы. Даже сентиментальность коров учитывают.
Женщина ушла. Корова внизу хрупает сеном и тяжело, по-человечески, вздыхает. Меня снова тянет ко сну, и — да здравствует Павлов! Суворов, конечно, тоже…
Я открываю глаза и вижу над собой лицо женщины. Она красива, хотя и не молода. Мне в лагере редко снились женщины. Да и остальным заключенным тоже: голодным редко снятся женщины. Чаще всего снится еда, но мы и во сне боролись с этим. Мы уговаривались смотреть только патриотические сны. Иначе расслабишься и станешь доходягой — тогда каюк.
Я отворачиваюсь, закрываю глаза и рукой отгоняю от себя видение. Моя рука натыкается на плечо: передо мной на коленях стоит женщина — не во сне. Наяву.
— Что?! — спрашиваю я.
Женщина начинает плакать.
— Миленький, неужто наш? — шепчет она.
Я давно не слышал женской речи. Мужчины в лагере говорят иначе. Ни в одном нашем слове там не было такой доброты, испуга и такой радости, какую я услыхал сейчас.
— Тише! — прошу я.
— Да спят они.
— Кто?
— Хозяйка моя с детьми.
— А ты здесь зачем?
— Она велела.
— Что она велела?
— С чердака сухого сена принести
— Не врешь?
Она не отвечает. Она опускается рядом, закрывает глаза и тянется ко мне. На женщине накинут френч, он расходится, и я вижу ее тело. Меня всего начинает бить такой дрожью, как будто я очень замерз. Она что-то быстро-быстро говорит, обнимает меня и все сильнее прижимает к себе. Я не вижу ее глаз — они крепко зажмурены, я только чувствую ее всю рядом с собой.
Женщины! Пожалуй, о них в лагерях тоскуют так же сильно, как и о свободе. Только те, у которых дома остались малыши, больше тоскуют о них. У нас один капитан плакал по ночам навзрыд и причитал: «Сыночек мой маленький, Сашенька… Как ты там без меня? Сыночек мой маленький, Сашенька…»
Год назад Надю угнали из Брянска в Германию. В России остались мать, два маленьких брата и муж Коля. Он в армии. Ее дыхание щекочет ухо, и я улыбаюсь, слушая ее. Потом я понимаю, что она может обидеться, и чуть отодвигаю голову. Но она придвигается еще ближе ко мне, и снова ее дыхание щекочет мне ухо, и снова я не могу не улыбаться.
— У нас дом чистый, пятистенный, — шепчет Надя, — у окон герани стоят и два фикуса. У нас еще лимонное дерево было, только его братишка разбил. Ночью пошел в сени воды напиться и разбил. Мы другую кадку сделали, да только оно все равно завяло.
— Корни, наверное, повредило, — говорю я.
— Ну, конечно, корни, — радуется Надя, — а что ж другое-то?
Хотели мы новое купить — а тут война началась.
— Кончится война — купите.
Надя сразу же начинает плакать.
— Ты не плачь, — прошу я, — не надо плакать. Обижают тебя здесь?
Женщина отрицательно качает головой.
— Нет, — говорит она, — немка добрая. Не дерется. Пацаненок только ейный камнями иногда кидает. А так — ничего. У других хуже. Ты про них не говори, — перестав плакать, просит она, — ты про нас говори.
— Ладно.
— Про дом.
— Ладно.
— У тебя тоже цветы есть?
— Есть. Столетник.
Надя улыбается:
— Это какой же такой столетник?
— С иголками. От всех болезней помогает.
— Да?
— Честное слово.
— Я тебе верю. А ты женатый?
— Нет.
— Невесту оставил?
— Нет.
— А у меня Коля красивый. Волос у него кучерявый, русый и мягкий очень. Добрый он — оттого и волос мягкий.
…Под утро я ушел дальше. Она показала мне кратчайший путь к развилке дорог, чтобы я мог сориентироваться. Женщина поцеловала меня и улыбнулась сквозь слезы.
— Знаешь, как зовут тебя? — спросил я.
— Как не знать! Надя, я ж говорила.
— Нет. — Я глажу ее по голове, по плечам, по шершавым,
натруженным рукам. — Нет, тебя не Надя зовут. Тебя зовут Надежда.
Понимаешь — Надежда?
Теперь, по всему, до польской границы километров пятьдесят, от силы сто. Я иду вдоль берега реки. Очень большая река. Я уже целый день иду вдоль берега — ищу переправы.
Аккуратные немцы не оставляют на берегу лодок, как у нас в России. Взял, оттолкнулся шестом — и пошел. И никуда она не денется — пригонят назавтра. Хозяин поворчит, поудивляется, а потом даже радоваться будет: приключение. У нас приключения любят, только обязательно чтобы с хорошим концом.
Под утро в сером рассветном тумане я увидел мост. С той стороны реки — небольшой городок.
«Дождусь утра, посплю в лесу, а ночью пойду на ту сторону», — думаю я и машинально лезу в карман за картофелиной. Карманы пусты. Мои съестные запасы кончились. Надя принесла мне хлеба, маленький кусок черствого сыра и кожуру от колбасы. Два дня я блаженствовал и не замирал от страха, как прежде, потому что тогда в животе у меня от голода громко урчало.
«Или пойти сейчас? — продолжаю думать. — Может, они крепче всего спят именно сейчас, под утро?»
Я подхожу еще ближе к мосту и вижу маленький домик. Это охрана. Подползаю к домику вплотную, благо кустарник упирается в стену. Решаю лежать до тех пор, пока все не узнаю. Я не зря пролежал в кустарнике. Слышу, как открывается дверь. Потом — шаги. Это шаги старого человека. Вижу силуэт старика с карабином. Он медленно идет к мосту и исчезает в сером тумане, который все плотнее ложится на землю. Через пятнадцать минут он возвращается, заходит в дом, и я слышу, как щелкает замок. Отползаю чуть в сторону. Поднимаюсь и, пригнувшись, иду к мосту. Иду очень быстро, чуть не бегу. Впереди видно метров на пятнадцать. Очень хорошо, что пал такой туман, лучше и не придумаешь. Сейчас должен показаться берег. Тогда — я победил. Ну же, спите, немцы! Спите крепче! Что вам стоит поспать покрепче, а?!
Теперь я не бегу, а крадусь. Если и на той стороне такой же старый охранник, тогда все в порядке. Я иду вперед, затаив дыхание. Стоп! Впереди — у перил, метрах в двух от конца моста — стоит немец. Он смотрит в воду. Рядом с ним — прислоненная к перилам винтовка. Стараясь не дышать, отхожу назад.
— Эй! — негромко окликает меня охранник.
Я иду молча и рассчитываю: не пора ли бежать? Пожалуй, нет, потому что это сразу же насторожит его и он поднимет тревогу. Но пятиться назад — тоже, по-видимому, не лучшее решение. Я поворачиваюсь и бегу.
— Хальт!
Я несусь во весь дух. Сзади гремит выстрел. Второй… Как долго я шел на тот берег и как мгновенно оказался на этом, проклятом, который дальше от Польши, и от партизан, и от моей родины! Я выскакиваю к домику. Навстречу мне бежит старик и размахивает карабином. Он совсем рядом, он в шаге от меня. Я бью его что есть силы в переносье, старик падает, карабин громко бряцает об асфальт. Позади гремят выстрелы. Я секунду раздумываю, куда бежать: туда ли, откуда пришел, или в другую сторону? Решаю — надо в другую сторону: там, по всему, болота, там не страшны собаки, там можно пересидеть тревогу, поднятую охранниками.
Через несколько минут я понимаю, что сделал глупость: впереди — дома. Я вижу, как загораются огни и хлопают двери. Немцы проснулись и сейчас будут устраивать на меня облаву.
Поворачиваю назад. Останавливаюсь. Передо мной стоит мальчишка в трусах и куртке. В руке у него пляшет пистолет. Он что-то бормочет и целит мне в лицо.
— Пусти, гад! — кричу я в отчаянии.
— Хенде хох! — выговаривает наконец он.
Уже выучился. Они этому быстро выучиваются. Я отпрыгиваю в сторону, и мальчишка стреляет два раза подряд. Мимо. С двух сторон подбегают еще несколько человек. Они окружают меня. Мальчишка смеется истерическим смехом, радостно говорит что-то окружающим меня людям, поднимает свой пистолет, ударяет меня дулом в лицо и снова стреляет два раза подряд прямо в лицо.
…Я сижу в комнате. Здесь много народу. Все смеются надо мной, потому что в руках у мальчишки был пугач, а я от выстрелов в глаза потерял сознание. Не смеется только один старик. Он седой, с запавшими глазами и острым кадыком. Он протягивает мне сигарету. «Сейчас и этот гад что-нибудь придумает. Они умеют издеваться», — думаю я и отрицательно качаю головой.
Потом в комнату вошел худой старый солдат с винтовкой. Он толкнул меня стволом в плечо и сказал:
— Э, ком…
Он отвел меня в большой дом и запер в темной комнате. Отпер часов через десять. В руках у него была большая бумага с печатью.
— Фарен, — говорит он, стараясь быть понятным мне, — У-у-у, — делает он губами, подражая паровозу.
Конвоир идет сзади и вздыхает. Мне слышно его хриплое дыхание. Когда конвоир устает, он трогает меня за руку и говорит:
— Э, хальт…
Я останавливаюсь, и конвоир тоже останавливается. Мы стоим на пустынной улице, тяжело дышим и смотрим друг на друга. Где-то неподалеку во дворе смеются дети. Они бегают наперегонки — я слышу это по их веселым крикам. А может быть, играют в прятки и визжат, когда тот, кто «водит», открывает тайники, в которых прячутся остальные. Прятки — хорошая и нужная игра. Я это понял во время побега. Она приучает к неожиданностям.
Немец смотрит на меня испуганно. Хотя у него в руках винтовка, а вокруг в домах живут такие же немцы, как и он, — все равно конвоир смотрит на меня со страхом. Мы с ним долго стоим на улице, которая становится серовато-голубой. И смотрим друг на друга. Он смотрит на меня со страхом. Я — безразлично, потому что не думаю сейчас о побеге, в городе нечего и думать о побеге. А на конвоира смотрят с ненавистью, когда идут в побег. В остальное время, особенно если конвоир не дерется и не стреляет в отстающих, на него никто не смотрит с ненавистью.
Чем дальше мы идем, тем испуганнее он смотрит на меня. А потом тихо говорит:
— Э… Их вар социал-демократ…
И — трогает меня штыком. Осторожно, в плечо. Я понимаю его, и мы идем дальше. Я слышу, как немец подстраивается под меня, чтобы шагать в ногу. Он перескакивает, но никак не может подстроиться, потому что у него волочится левая нога. Я иду быстро, а он скачет сзади и никак не может попасть в мой ритм. Я слышу, как он снова начинает хрипеть и тяжело, сухо кашлять. Он кашляет все страшнее. Я останавливаюсь. Он стоит, схватившись за живот, и глаза у него красные и мокрые. Он долго кашляет, а потом, отдышавшись, говорит:
— Данке шен…
И снова трогает меня штыком, чтобы идти дальше. На станции он отвел меня в полевую жандармерию, а сам отправился отмечать проездное свидетельство до Берлина. Он вернулся через полчаса, принес кружку пива и два бутерброда, сел рядом и стал есть. Он очень подолгу жевал каждый кусок, прежде чем проглотить его, а когда делал глоток пива, оно будто проваливалось в пустоту. Я отвернулся, чтобы не видеть, как он ест. Но я все равно слышал, как он жевал, и от этого у меня кружилась голова.
Я долго сидел отвернувшись, а потом не выдержал. Я обернулся к нему и сказал:
— Социал-демократ! Жри тише!
Немец поперхнулся и быстро посмотрел по сторонам. Старик жандарм сидел за столом и с кем-то громко говорил по телефону. Я понял, что мой конвоир испугался «социал-демократа». Я вспомнил, что со мной в лагере сидело несколько человек, которых посадили за то, что они были социал-демократами.
— Ну! — громко сказал я. — Ду бист социал…
Конвоир вскочил со своего места и закашлялся. Бутерброд упал на пол. Я поднял бутерброд и начал медленно есть хлеб с кровяной колбасой. Немец подождал, пока я доем бутерброд, а потом повел меня к поезду.
Нам дали маленькое купе. Немец запер дверь, велел мне сесть у окна, а сам устроился у двери. Винтовку он положил на колени. Поезд тронулся, и я увидел, как немец взвел курок.
Я понимал, что мое единственное спасение — в побеге. Я знал, как все это будет. Когда стемнеет, я прыгну на этого немца, придушу его, а на подходе к маленькой станции соскочу с подножки, предварительно переодевшись в форму конвоира.
Я наметил время. Как только зажгутся звезды, значит, пора.
«А что, если сегодня не будет звезд? — думаю я. — Это не худшая беда, хотя лучше бежать в звездную ночь. Меня, конечно, легче заметить, но и я зато лучше замечу каждого. Если звезд не будет, надо начинать, когда исчезнут деревья, проходящие вдоль пути. Когда они исчезнут, значит, пора».
Я вспоминаю Архипо-Осиповку. Это станица на Черном море. Там почти нет отдыхающих, только колхозники и рыбаки. Мы туда приехали вдвоем с отцом. Всего два приезжих курортника на всю станицу. Я вспоминал Архипо-Осиповку и сразу же слышал тревожный и радостный крик цикад. Боже ты мой, сколько их там было! До сих пор я не могу представить себе, какие они из себя, эти цикады. Или, например, сверчки. Мне всегда хотелось сыграть в диккенсовском «Сверчке на печи». Но я до сих пор не представляю себе, какие они, эти самые сверчки. Очень будет неприятно узнать, что они похожи на мокриц или тараканов. Хотя в таком случае можно и не поверить. Ведь совершенно необязательно верить тому, что тебе чуждо.
На небе появились звезды. И в этот же миг в купе зажегся синий свет. Тусклый, вполнакала.
— Э, — сказал конвоир, протягивая мне фотокарточку, — майне киндерн.
«Дети, — подумал я. — Киндер — это понятно».
Я взял фотокарточку. Там было пять девочек и мальчишка. Старшей было не больше шестнадцати, а мальчишке — годик.
— Э, — сказал конвоир и протянул мне следующую карточку, — майне фрау.
Я увидел женщину в гробу. Рядом стояли дети и мой конвоир в штатском затасканном костюме.
Я вернул ему карточки, он спрятал их в бумажник, вздохнул, усмехнулся, тронул себя пальцем в грудь и сказал:
— Туберкулез…
Сейчас он смотрел на меня не испуганно, а грустно и спокойно. Наверное, он решил, что я ничего не смогу с ним сделать, потому что мы едем с большой скоростью, дверь купе заперта и курок винтовки взведен.
Ты дурак, немец. Это не важно, что поезд несется с большой скоростью. Каждую дверь можно отпереть, на твою винтовку прыгнуть, а самого тебя ударить головой в лицо. Вот и вся наука. «Старшая девочка здорово похожа на него, — думаю я, — и такая же худая. А мальчишка толстый. Все маленькие дети толстые. Они начинают худеть, когда их отрывают от материнской груди».
— Э, — говорит немец и, протягивая сигарету, прикладывает палец к губам, — социал-демократ — тшш!
«Какой ты социал-демократ? — думаю я спокойно. — Ты дерьмо, а не социал-демократ. Ты трус и подлец, только у тебя есть шестеро детей, а самому маленькому — год. И у них нет матери».
Я должен убить его, если хочу сбежать. Если я хочу, чтобы побег удался, я обязан его убить. А мне хочется оглушить его, чтобы дети — пятеро девочек и один пацаненок — не остались круглыми сиротами. Я знаю, что такое расти без матери. Но я даже представить себе не могу, как они останутся и без отца. Без этого туберкулезного отца, у которого огромные худые руки и который говорит мне, что он социал-демократ.
«Вот сейчас, — говорю себе я, — сейчас пора».
Я подбадриваю себя, я подбираю ноги для прыжка, я уже почти готов…
«О толстых маленьких детях говорят, что они перевязаны ниточками, — вспоминаю я, — это у них такие складки на ножках и на руках. У худых детей они исчезают очень скоро, и тогда маленькие дети делаются похожими на стариков. А маленькие дети не знают языка. Даже если он рожден немкой, его можно выучить говорить по-русски. Или по-французски, какая разница, в конце концов? Только бы не по-немецки. Это очень плохо, когда люди говорят по-немецки, хуже быть не может».
Я чувствую, что не могу ненавидеть этого туберкулезного немца
так, чтобы убить, потому что видел его шестерых детей. Я ничего не
могу с собой поделать. Просто у меня не будет силы, чтобы прикончить
его, — я же знаю.
— Их вилль шлафен, — говорю я и закрываю глаза.
— Э, — говорит немец, — битте. Поезд идет быстро. Я еду к
гибели. Он — от нее.
«Немцы… — думаю я. — Будьте вы прокляты, фашисты. Ненавижу.
Всех вас ненавижу…»
— Ну? Дальше… — спросил Коля. — Что дальше-то?
— Дальше — хуже. В гестапо меня держали месяца три. Следователь у меня был Шульц. Мордастый такой, краснорожий… Они на моем ворованном костюме споткнулись. Он был сшит на немецкой фабрике, а материал-то наш — с «Большевички», до войны мы им поставляли, по торговому договору. Ну, они меня и начали мотать — мол, ты чекист, заброшен на связь. Шульц меня все донимал, чтоб я на каком-то процессе выступил как советский офицер, разведчик… Потом в госпитале валялся, а после они меня власовцам перепульнули, в Восточную Пруссию… Никак не верили, что я просто пленный, сбежал из лагеря. А фамилию свою мне говорить тоже нельзя — я на шахте «Мария» с мишенью на спине ходил как штрафник… Ну вот… Привезли меня, значит, в контрразведку к Власову…
— А как ты попал сюда? — спросил Коля после долгого молчания.
— Расскажу… Погоди… А ты зачем? У тебя ж документ есть… Ты зачем сюда пришел?
«Если люди так врут — тогда надо пускать пулю в лоб, — думал Коля, — не может быть, чтоб так человек исподличался. Но ведь я знаю его по Москве. Я знал его лет десять, не меньше…»
— Я попал сюда по дурости, — соврал Коля.
Он не смог себя заставить сказать Степану правду. Долг жил в нем помимо него самого. А может, это никакой не долг, думал Коля, может быть, просто я сейчас подличаю и продаю самого себя, потому что незачем играть в нашу игру, если никому не веришь, а особенно Другу.
— Я боюсь, они меня прижмут, если ты не поможешь мне…
— Это как?
— Ну, если ты скажешь им, что знал Родиона Матвеевича Торопова…
— Ты по документу Родион Торопов?
— Да.
— А если документ — липа?
— Я этого и боюсь — тебя завалю. Я не обижаюсь, — вздохнул Степан, — я понимаю, откуда ты. Когда ты не обернулся, я сразу понял.
— Ты верно понял, — сказал Коля и глубоко выдохнул мешавший все время воздух. — Ты все верно понял, Родька… Что у него было еще в документах?
— А ничего. Аусвайс из Киева — и все.
— Слушай… Будешь говорить, что, мол, из Киева ты уехал в Минск… Тебя еще ни разу не допрашивали?
— Нет… Он тебя держал, я был в предбаннике. А потом он ушел спать, тебя — в барак, ну и меня тоже.
— Ладно. Попробуем.
Коля понимал, что он сейчас идет на преступление. Но он не мог поступить иначе. Он обязан был поступить только так, и никак иначе, потому что он не имел права подписать своими руками смертный приговор другу, с которым рос в одном дворе, жил на одной площадке и учился в одном классе.
— Ты жил в Минске на Гитлерштрассе, четыре, а потом переехал на Угольную, дом семь. В этом доме была парикмахерская Ереминского, но ты про это не говори сразу. Они тебя сами начнут спрашивать, потому что у них в деле есть мой адрес, понимаешь? Они тебе наверняка дадут очную ставку со мной. Я тебя не узнаю — мало ли проходило через меня клиентов! Ты скажешь, что я — мастер, работавший возле большого окна, под вывеской «Мастерская Ереминского» — мужчина с трубкой в зубах и женщина, завитая как баран. Я подтвержу эти твои показания. Ясно?
— Наверное, я сволочь, — сказал Степан. — Наверное, я не имел права тебя просить.
— Видимо, я не имел права соглашаться тебе помогать, — сказал Коля. — Погоди, а как тебя зовут?
— Это не важно… Ты ж не знаешь, как меня зовут, — для них, во всяком случае. Излишняя подробность так же настораживает, как и плутание в потемках.
— А если я не сыграю? — спросил Степан. — Вдруг не сыграю?..
9. ВСТРЕТИЛИСЬ
День был солнечный. Легкую голубизну неба подчеркивали длинные белые облака. Прорезая эти белые облака, носились черные ласточки. В безбрежную высоту уплывал, медленный перезвон колоколов.
«Совсем другой звук, — думала Аня, прислушиваясь к перезвону, — какой-то игрушечный, не взаправдашний, не как у нас; словно музыкальный ларец. Люди такие же, как у нас, и лицом похожи, только в шляпах, а у женщин вязаные чулки и юбки широкие, в складочку, а вот колокола совсем другие».
Когда большие двери костела, окованные металлическими буро-проржавелыми языками, чуть приоткрывались, пропуская людей, до Ани доносились тугие, величавые звуки органа.
«Какая красивая музыка, — думала Аня каждый раз, когда до нее доносились звуки органа. — Когда кончится война, обязательно пойду в консерваторию слушать орган. Говорят, в Москве самый большой орган. А я раньше смеялась: «Что хорошего в этой тягучке?!» Дуреха! Музыку вообще можно понять лишь после того, как переживешь что-то большое, очень твое, главное — горе ли, счастье. Только тогда тебе дано будет понять серьезную музыку, а не «утомленное солнце нежно с морем прощалось…». Когда весело, тогда надо, чтоб был джаз-оркестр вроде утесовского, а если страшно и сил нет, тогда пусть будет орган. Делаешься маленькой-маленькой, и страх тоже становится маленьким, как и ты сама».
Аня стояла под навесом магазинчика. Длинный навес, сделанный в форме козырька, прятал ее от солнца, и, кроме того, она могла наблюдать за площадью так, что ее почти не было видно, а ей было видно все.
Она пришла сюда к девяти часам, за час до того времени, как было условлено. Аня знала, что следует заранее прийти на место встречи: час даст возможность свыкнуться с обстановкой; час поможет ей заметить подозрительное; час поможет спокойно подготовиться к той минуте, когда она подойдет к молодому мужчине в немецкой военной поношенной форме без погон и спросит его: «Простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели?»
Аня определила для себя, что она не выйдет к человеку в форме, если увидит двоих или троих людей, которые, возможно, будут прогуливаться в разных концах площади или сидеть на телегах перед костелом. Гестаповцы, она прекрасно понимала, могут быть спрятаны и в костеле, и в домах, окружающих площадь, и, наконец, они могут сидеть в машинах где-нибудь неподалеку и только дожидаться условного сигнала, чтобы взять ее и Муху, как только они увидятся. Аня все это понимала, но ей казалось, что следует подстраховаться хотя бы в пределах тех возможностей, которые она имеет, и в пределах того опыта, который у нее есть. Она не могла и предположить, что Муха может быть перевербован, и что на встречу к ней он придет один, и поведет ее на хорошую квартиру, и поможет откопать и принести сюда рацию — и все это не по своему разумению, а по плану, заранее разработанному полковником абвера Бергом.
Без четверти десять Аня увидела молодого парня в кожаной расстегнутой куртке. Он шел по площади как гуляка, заломив кепку на затылок, в руке букет полевых цветов, ноги обуты в щегольские краги — в таких щеголял в Красноярске Ленька Дубинин, инструктор автоклуба Осоавиахима; он их по случаю купил в комиссионном магазине, когда ездил на слет осоавиахимовцев в Ленинград.
Парень двигался медленно, лениво поглядывая по сторонам. До середины площади он не дошел, свернул в маленькую улочку — в ту самую, через которую пришла в Рыбны Аня.
«Там парикмахерская, кафе и два магазинчика, — вспомнила Аня, — машине там негде стать, потому что посредине большая лужа, видимо очень вязкая, а выезд на проселок, который ведет к шоссе, слишком крутой. И потом, что это я запсиховала? Я подожду двоих или троих гуляк — тогда надо будет думать…»
Парень, однако, появился снова. Он несколько раз уходил с площади, снова появлялся, возле ворот костела поворачивался и быстро скрывался в переулке. Аня подождала до десяти, потом вышла из-под козырька и неторопливо пошла в переулок следом за парнем. Возле парикмахерской он постоял минуту, повернулся и двинулся навстречу Ане — к площади. Когда открылась дверь парикмахерской и оттуда вышел мужчина в потрепанной немецкой форме без погон, парень, словно бы увидев это затылком, остановился и начал потуже застегивать краги. Он застегивал краги до тех пор, пока человек в немецкой форме не прошел мимо него — на площадь.
«За ним следят, — решила Аня, — если это Муха, за ним слежка. Что делать? Если я подойду к нему, значит, нас поведут двоих».
Через пять минут к парню в крагах подъехал на велосипеде мальчишка в коротких штанах и в майке-безрукавке. Они поздоровались, мальчишка слез с седла, парень в крагах посадил его на багажник (»У нас на раме ездят», — успело мелькнуть у Ани), и они уехали с площади.
«А я-то с ума сходила, — сказала себе Аня, — вот сумасшедшая!» Она не обратила внимания на девушку, которая вышла на площадь с той улицы, куда только-только укатил на велосипеде парень в крагах с мальчиком на багажнике.
И тут к костелу подошел Муха — она его сразу узнала.
— Простите, — сказала Аня и откашлялась, потому что у нее запершило в горле, — вы тут старушку с двумя мешками не видели?
— Что? — удивился Муха. — Не видел я никакой старушки…
Аня несколько мгновений смотрела ему в глаза, а потом повернулась и пошла через площадь к костелу.
«Он решил не идти со мной на контакт. Почему он должен идти на контакт со мной, когда он ждет резидента в синем костюме? Что же делать, а? Объяснять ему? А вдруг это не он? Он. Наверняка он. Он ответил мне по-русски. Дурак! Зачем он отвечал мне по-русски, если не хочет засветиться? Машинально? Разве ж так можно?!»
— Пани! — вдруг крикнул парень у нее за спиной. — Постойте, пани!
Он подбежал к ней запыхавшись. Лицо его было бледно, губы — Аня очень четко увидела это — пересохли и потрескались, сделались чешуйчатыми, как у мальчишек после первых заморозков, когда они сосут сосульки.
— По-моему, она недавно уехала с попутной машиной, — сказал Муха. — Уехала та старуха. С попутной машиной уехала…
Они быстро пошли вперед — он на полшага перед ней, заглядывая ей в лицо; он прямо-таки впился глазами в ее лицо, а она, торопясь, шагала за ним. Ей казалось, что он так жадно смотрит на нее потому, что она оттуда, с Большой земли, и поэтому она улыбнулась ему. А он так жадно смотрел на нее потому, что она была хороша, очень хороша, и он силился представить себе, что станет с этим лицом, когда она очутится там, где должна будет очутиться вскоре.
Аня оглянулась, с трудом оторвавшись от его воспаленных глаз с покрасневшими белками. Улица была пуста — шла девушка, совсем еще молоденькая. На нее Аня не обратила внимания. (Она не могла себе представить, что от этой молоденькой девушки будет зависеть ее жизнь — в эти ближайшие часы и дни.)
Муха привел ее в маленький домик на окраине Рыбны. В домике было две комнаты. В одной, с небольшим окном, выходившим на улицу, жила глухая старуха, а в большой комнате с тремя окнами, заросшими плющом и диким виноградом, было прибрано и пусто, как после покойника.
— Здесь будешь жить, — сказал Муха. — Кроватка видишь какая? С пружинами — спи, как дома. Отдохнешь? Или поговорим? Где остальные?
Аня присела на край кровати и сказала:
— Знаешь, я полчаса полежу, а то пока тебя ждала — совсем выдохлась.
Она сбросила туфли и подтянула к голове подушку. Тело ее стало тяжелым и словно бы чужим. Аня увидела со стороны свое тело, и ей стало вдруг беспричинно и пронзительно жаль себя.
«Ничего, — подумала она, — это бабье, это можно перебороть. В первый раз тоже так было. Главное, я его встретила. Двое — не одна, теперь все в порядке».
С этим она и уснула. Муха сидел возле окна, смотрел на спящую девушку, на ее сильные ноги, на красивое и спокойное во сне лицо, на грудь, видневшуюся в вырезе кофточки; он смотрел на человека, обреченного им, и тихонько похрустывал пальцами, каждым в отдельности — сначала первой, потом второй фалангой, а потом двумя фалангами вместе.
Муха сидел недвижно, как изваянный. Он должен был сидеть здесь до тех пор, пока девушка не проснется и не скажет ему, где рация и шифры. Потом они привезут все это сюда, и он будет поставлять ей дезинформацию, и она начнет передавать дезинформацию в Центр, Бородину, а потом надо будет найти руководителя группы, который выброшен вместе с ней, и сделать так, чтобы он встретился с Бергом — именно в тот миг, когда его можно будет взять «с поличным». Что дальше будет — это уже Муху не волновало. Они после отправят его в тыл, в Германию, подальше от войны, от ужаса и крови. Хватит с него. Хватит с него того, что он видел. Хватит с него бессонницы, страха и надежд, которым не суждено сбыться. Там у него ничего не может быть — ничего, кроме того, что было в коммунальной квартире. Здесь у него будет маленькая автомастерская, коттедж, где не пахнет керосинками и щами, и машина марки ДКВ. Больше ему ничего не надо. Ничего. Он все время чувствовал у себя на затылке чужие глаза — с того часа, как выбросился сюда. Он больше не мог так, не выдерживали нервы. Все это ему предложил Берг — маленькое, но его. И он согласился. Согласился потому, что не мог поступить иначе: сдавали нервы. Хватит с него, хватит!
10. ПЕРВАЯ СУББОТА
Посредине Кракова — поразительный в своей средневековой красоте Старый рынок. Два костела, выложенная каменными плитами площадь, крытые ряды Сукеницы, снова площадь, устланная серыми плитами, а вокруг двух— и трехэтажные дома с островерхими черепичными крышами. Еще до войны дома были выкрашены в разные цвета — желтый, красный, серый, но теперь краска выцвела, местами облупилась, и поэтому площадь была не игрушечно-средневековая, как раньше, а казалась по-настоящему перенесенной сюда из давно ушедших веков.
С раннего утра площадь Старого рынка гудела. Здесь была самая крупная толкучка: меняли костюмы на сало, живопись Матейко на яйца, бриллианты на самогон, оккупационные марки на довоенные злотые, сапоги на табак — чего только здесь не меняли в тот год!
И среди этого гомона, составленного из выкриков торговцев, быстрого шепота спекулянтов, плача потерявшихся детей, истерики, если вытащили из кармана продуктовую карточку на жиры, — среди этого монотонного шума, похожего, если закрыть глаза, на карнавальный вечер в городском саду, только продавцы икон и корма для голубей были молчаливы и тихи. Они не ходили взад и вперед, они никому не предлагали свой товар. Они стояли безмолвно с утра и до вечера, когда торговля кончалась, или до того момента, когда раздавались свистки полицейских и рынок, как громадная морская волна, все сметающая на своем пути, слизывал людей, оставляя на серых плитах обрывки газет, коротенькие, обгоревшие до пальцев, окурки, яичную скорлупу и огрызки моченых яблок (сразу видно, приехали торговать из села) да порой галошу или ботинок, слетевший с ноги во время бегства при облаве.
Эта суббота ничем не отличалась от всех остальных дней. Также было людно, тревожно и душно. Так же через каждые полчаса трубач на костеле высовывался на пятидесятиметровой высоте в окошко и играл своим длинным средневековым серебряным горном позывные тревоги. Он играл до середины и резко обрывал пронзительно-чистый мотив. Так было многие столетия. Предание рассказывает, что трубач увидел из своего окошка татар, которые двигались к городу молчаливой, устремленной пыльной лавиной. Он затрубил тревогу, но не успел допеть свою песню до конца — его пронзила стрела. С тех пор каждые полчаса трубач — днем и ночью — обрывает свою песню тревоги на высокой плачущей ноте.
Было так жарко, что Вихрь, пробираясь сквозь толпу, заметил, как босой паренек, менявший дамские ботинки на хлеб, не мог стоять на горячих плитках — все время переступал с ноги на ногу, поджимая пальцы, и норовил подольше продержаться на пятках: не так жгло ступни. Вихрь шел медленно, разглядывая людей, собравшихся здесь. Рядом с ним плечом к плечу двигался гестаповец, переодетый под слепца, — весь в черном, с синими очками на курносом веснушчатом носу.
Когда Вихрь посмотрел на него в камере, перед выходом на толкучку, ему стало весело. «Болваны, — подумал он, — у слепца никогда не может быть такого аккуратного курносенького веснушчатого носа. Слепота всегда накладывает отпечаток трагизма на лицо человека. А этот — румяный и сытый. Болваны!»
Второй гестаповец шел справа, чуть поодаль. Он был одет под крестьянина. Третий шел впереди и часто оглядывался, словно отыскивая кого-то в толпе. Пять других сотрудников гестапо заняли ключевые позиции вокруг рынка — на перекрестках улиц, так, чтобы видеть друг друга и обеспечить преследование в случае, если русский попробует бежать от своих непосредственных сопровождающих, О том, что рынок будет оцеплен, Вихрь догадывался, хотя про этих пятерых ему, естественно, ничего не говорили перед выездом из гестапо.
Корм продавали старухи. Они держали в скрюченных пожелтевших пальцах маленькие кульки, свернутые из старых, серых газетных срывов.
Над толкучкой летали голуби. Раньше, до войны, на площади Старого рынка только и стояли эти старухи с кормом для голубей, и люди покупали у них корм и угощали голубей с руки. Голуби были прирученные, они садились человеку на плечи, на руки, на голову и уютно, таинственно бормотали что-то, расклевывая распаренные, большие зерна. Теперь же голубям негде было садиться днем — площадь была занята толкучим рынком, по которому ходили голодные люди. Только по вечерам голуби садились на площадь, и она делалась голубой, нереальной, сказочной.
Корм почти никто не покупал, так же как иконы. Старухи и старички с иконами и кормом стояли на Старом рынке потому, что они здесь торговали всю жизнь. Отними у них это занятие — и им нечего будет делать на земле. Разве что изредка корм покупали немецкие офицеры и шли фотографироваться к костелу — они улыбались в объектив, облепленные голубями, дрожащими от голодной жадности.
Еще реже покупали корм ксендзы и раздавали его горстками детям, чтобы те могли — после службы в костеле — покормить божьих птиц.
А иконы не покупал никто: в каждом доме были свои. Только разве изредка какая вдова остановится возле скорбной богоматери или доброго лика Христова, утрет слезу, быстро перекрестится, присядет в полупоклоне и спешит дальше, предлагая платок в обмен на творог для больного ребенка.
Вихрь впитывал людскую речь. Он испытывал острое чувство счастья, слыша голоса людей, потому что не должен был никому и ничего отвечать. Каждый ответ в гестапо дорого стоил ему. Ответ должен быть быстрым, непринужденным и правдивым настолько, чтобы при возможной проверке оставался путь для двоякого толкования. Ночью после допросов он не мог спать, ибо заново «прокручивал» в памяти это свое «кино» — удел любого разведчика. Он вспоминал каждую интонацию шефа, он вспоминал, в какой последовательности они задавали ему вопросы, что он им отвечал, где держал паузы, какие его ответы могли оказаться после их змейского анализа поводом к новым вопросам. Он не готовил себя к завтрашнему дню. Вихрь понимал, что, если он заранее приготовит позицию, а они поведут допрос совсем по другому срезу, ему будет трудно переделывать свою концепцию на ходу. Он готовился к следующему допросу иначе. Сначала он восстанавливал в памяти все предыдущие допросы, отмечал для себя, какой круг вопросов они еще не затрагивали, прикидывал, что их должно интересовать в первую голову, и таким образом намечал заранее приблизительные ответы на каждый возможный узел тем, которыми, вероятно, будет интересоваться гестапо.
Однажды сволочной старичок из Орла, работавший на немцев среди интеллигенции в качестве секретного сотрудника гестапо, говорил Вихрю и двум молоденьким чекистам, допрашивавшим его: «О голодные, истеричные, пронизанные слухами и надеждами рынки войны! Как быстро люди в дни мира забывают вид этих трагичных рынков! Единственная гарантия против войны — это людская память. Но ее, людской памяти, нет. Есть память человеческая — у каждого своя, и притом, как правило, плохая. Если бы заменить память иным чувством, например завистью, тогда войн не было бы вовсе. Память — как погода, она меняется в зависимости от настроения человека. Хорошо ему — он вспоминает хорошее или же о плохом говорит с улыбкой: оно, это плохое, уже миновало и в настоящее время ему, этому человеку, не угрожает. А коли человеку плохо, так все зависит от характера: он или на другого за это «плохо» вину навесит, или будет биться насмерть, чтоб плохое поменять на хорошее, или запьет горькую, или плюнет на все и заглянет в лицо старухе с косой — когда нет выхода. Вспоминают вообще редко. Чаще думают о будущем. Потому и воюют…»
«От старый черт! — как-то удивленно подумал Вихрь, вспомнив старика. — Про трагизм базаров он верно говорил. Я почти никогда не вспоминал голод двадцать девятого года, а ведь я его помню… Про зависть и остальное — надо было б поспорить. Спор — это вроде точильного камня в поисках истины».
Слепец толкнул Вихря в бок.
Вихрь неторопливо обернулся. Слепец кивнул головой на молодого парня в черной вельветовой куртке, в серых брюках, заправленных в сапоги. Парень держал в руках кульки с кормом для голубей.
11. ОЧНАЯ СТАВКА
Старик в военной форме теперь был не один. Рядом сидел человек в сером штатском костюме. Коля понял, что этот — из гестапо. Он не ошибся. Старик офицер сказал:
— С вами будет беседовать господин из отдела по перемещению иностранной рабочей силы.
«Знаю я эту рабочую силу, — усмехнулся про себя Коля. — Рожа — кирпича просит».
— Очень приятно, — сказал он, — а то я сижу, уж волноваться начал.
— Волноваться вредно, — сказал штатский, — особенно такому здоровому молодому человеку, как вы.
— Я волнуюсь не по своей воле, — улыбнулся Коля.
— По нашей? — тоже улыбнулся штатский.
— Да уж не по своей.
— Ну, хорошо… Оставим это. Где бы вы хотели работать? В какой отрасли хозяйства нашего народного государства?
— Видите ли, я получил много профессий за последние три года. Я уже их перечислял.
— Да, я в курсе. Вы оборвали цикл занятий на физическом факультете ближе к завершению или в середине?
— В середине. Да, пожалуй, в самой середине.
— А как у вас с языком?
— Скорее плохо, чем хорошо. Я и в школе получал посредственные оценки по немецкому языку.
— Да?
— Теперь жалею. Но у нас плохо учили немецкому.
— Совершенно верно. Мне рассказывали, что в ваших школах вообще не изучают произношение. А ведь у нас есть и берлинское, и баварское, и северное, и швейцарское, и австрийское произношение.
— В том-то и дело. А самому заниматься было трудно: времени не хватало, есть хотелось, а не подхалтуришь — не пошамаешь.
— Пошамаешь? Это что такое?
— Шамать — значит есть, жевать, как говорится, от пуза.
— Вы веселый молодой человек. Вас зовут…
— Андрей…
— Андрей, — повторил немец.
— А отчество?
— Яковлевич. Андрей Яковлевич.
— Яковлевич, — задумчиво протянул немец. — Вообще-то весьма еврейское отчество.
— Яков? Ну что вы… У вас самих много Яковов. У меня был знакомый немец Якоб Ройн, фельдфебель.
— Откуда этот Ройн?
— По-моему, из Берлина.
— А отчество вашего отца?
— Иванович. Яков Иванович.
— Где родились?
— Потомственный москвич.
— Место жительства?
— Мое?
— Отцово.
— Вместе с нами жил.
— Это вы уже написали. Меня интересует, где он жил до того, как вы приехали на вашу квартиру?
— Я не помню… Где-то на Палихе, а точно не помню, не интересовался.
— Скажите мне вот что, — растягивая гласные, сказал гестаповец, — где вы работали в Минске?
— В парикмахерской.
— Их там было много. В какой именно?
— В парикмахерской Ереминского.
— Опишите мне подробно внутренний вид парикмахерской.
— Ну как… Длинная комната, в ней кресла — вот и все.
— Сколько было у вас кресел?
«Они мотали Степку, теперь проверяют на мне. Но Степка говорил, что мотал его один старик, почему пришел штатский? Степка наверняка сидит в темной комнате, они его выдерживают — психологи чертовы. Но почему пришел гестаповец? Неужели Степка погорел? Или погорел я? Не может быть! Он не мог продать меня, не мог!» — быстро думал Коля, машинально отвечая:
— У нас было три кресла.
— Три кресла, — задумчиво повторил гестаповец, — это хорошо, что три кресла… Это отлично, что у вас было именно три кресла…
Он открыл толстую папку, на корешке которой было выведено по-немецки «Минск», и стал рассеянно рыться в бумагах.
«Такие номера у нас не проходят, — подумал Коля, — так пугают только дошкольников…»
— Это просто совершенно великолепно, что у вас было три кресла, — снова повторил гестаповец, — а за каким креслом работали вы?
— Когда как…
— Определенного, своего кресла у вас не было?
— Чаще всего я устраивался возле большого окна: была видна улица… Интересно, знаете ли…
— Девочки, ножки, юбочки…
— В том-то и дело.
— Сколько вам платили в месяц?
— У нас была понедельная оплата. Хозяин платил нам каждую субботу. Это приказ бургомистрата — платить понедельно, разве вы не слыхали?
Гестаповец чуть улыбнулся уголком рта, и Коля понял, что он ведет себя верно: его ловили с разных сторон, и не в лоб, а издалека, через детали.
— Скажите, пожалуйста, — спросил гестаповец, по-прежнему длинно растягивая гласные, — а какой-нибудь рисунок у вас на окнах был?
— Было два рисунка, — сухо ответил Коля. — Вы что, не верите моим документам?
— Какие были рисунки?
— Как всегда на паримахерских. Мужчина и женщина. С фасонными прическами.
— Хорошо… Какой машинкой вы работали? Русской или немецкой?
— Сначала русской, а потом достал немецкую, золингенской стали.
— Какая лучше?
— Конечно, немецкая.
— Почему «конечно»?
— Потому что фирма солидней.
Гестаповец распахнул свой черный портфель и достал оттуда ножницы, гребенку и машинку для стрижки волос.
— Сейчас вы покажете нам свое искусство, — сказал гестаповец.
— Согласны?
И, не дожидаясь ответа Коли, он сухо приказал:
— Пригласите Торопова.
— Сейчас же приглашу, господин Шульц, — ответил старик офицер и вышел из кабинета.
В голову Коли словно ударило: Шульц! Сначала он не понял, отчего его так ударило. А потом ясно услышал Степку, его рассказ про следователя гестапо Шульца — красномордого и здорового, который уговаривал его выступить на процессе как чекиста-связника.
12. А ГДЕ РАЦИЯ?
Аня проснулась через час. Ей казалось, что она только на минуту закрыла глаза. Аня увидела незнакомый потолок над головой (она всегда запоминала карнизы потолков и могла по ним безошибочно определить высоту комнаты), и все в ней закружилось, заметалось, напряглось. Но так было только одно мгновение, пока она не увидела возле окна Муху. Он сидел в той же позе, что и час назад, — опершись рукой на подоконник, выкрашенный жирной белой краской.
Он сидел, закинув ногу на ногу, — уютно, по-довоенному, нисколько не скованно, будто он вовсе не в тылу у немцев, а в штабном домике после возвращения с задания — сидит себе и отдыхает бездумно.
— Ну, — улыбнулся он, — отдохнула?
— Хорошо отдохнула.
— Я на тебя глядел: красивая ты. Зачем таких посылать? Можно кого поплоше…
— Это почему?
— Так… Если поплоше какая попадется — не жаль.
— Каждый человек — человек… Да и потом, не в вывеске дело.
— Ты про душу-то не заводи, не надо, — сказал Муха, — это мы в школе проходили. Рация где? Надо выходить к нашим, в лесу у местных партизан питание кончилось, они теперь немые.
— За рацией надо идти.
— У верных людей спрятала?
— Я ее закопала.
Муха присвистнул.
— Теперь черта с два найдешь!
Аня улыбнулась:
— Найду. Завтра же найду. Вдвоем пойдем?
— Нет, втроем. Я еще одного местного с собой прихвачу.
— Кто такой?
— Один… парень… Из моей группы.
— Он не наш?
— Раз мне помогает, значит, наш.
— Это понятно. Я спрашиваю: его тоже забросили или он местный?
— Местный. Я его тут вербанул.
— Как мне называть тебя? Мухой как-то неудобно звать.
— Я — Андрей. А ты?
— Аня.
— А по-настоящему?
— Я же не спрашиваю, как тебя звать по-настоящему…
— По-настоящему меня зовут Андрий, вот и вся разница.
Аня быстро глянула на Муху и подумала: «Что он, с ума сошел — настоящее имя говорит?» Она ничего не сказала ему, села к столику и, достав зеркало, стала причесываться.
— А ты чего незавитая? — спросил он. — Сейчас модно, чтоб с шестимесячной.
— Мне не идет.
— Одели тебя ничего, — продолжал Муха, — похоже… А остальные как? В трофеях или шили по заказу?
— Кто в чем…
— Резидент в синем костюме прыгал?
— Он прыгал в комбинезоне.
— А штиблеты на нем какие были? Не помнишь, какого цвета?
— Не помню…
— Ты на карте пометила место, где спрятана рация?
— Я карту закопала.
— Где?
— Здесь недалеко.
— Пошли за картой.
— Лучше вечером. Спокойней. Я ее хоть ночью найду, я заметины в лесу оставила.
— Какие заметины?
— Ну, следы… Кору надрезала, линию прочертила от тропки, валеги накидала… Это сибирское, я это умею.
— Сибирячка?
— Почти.
— Ишь какая осторожная, — улыбнулся Муха, — все намеками да намеками. Слышь, Ань, а второй как одет? На всякий случай, чтоб знать, если резидент сгинул…
— Тоже в комбинезоне, — ответила Аня. — По паролю узнаешь.
— Ты что, не веришь мне?
— Почему? — удивилась Аня. — Как же я могу тебе не верить?
— Я тут один — три месяца! Сколотил группу! Передаю сведения, вам базу приготовил! Не сплю, не жру! Эх, чего там!
— Не сердись, Андрюша, ну что ты… Если ты волнуешься, не ходи на явку. Теперь могу пойти я. Я-то ведь знаю их в лицо…
— Ладно, там решим… Извини, что сорвался: нервы на пределе. Но за картой пошли сейчас.
— А почему сейчас? Вечером надежней. Давай вечером, а?
Вечером у Мухи была назначена встреча с Бергом. Поэтому он сказал:
— Нет, Анечка, вечером мы не пойдем: патрулей до черта, напоремся еще, не ровен час.
А карту он обязан был показать полковнику Бергу — тот велел. И еще он хотел показать карту гестаповцам: после очной ставки с разведчиком он чувствовал себя оплеванным — ему явно не верили. Покажет карту — поверят.
— Ну, хорошо, — сказала Аня, — если ты считаешь, что надо идти сейчас, пошли, я готова.
— Погоди, — сказал Муха, — я тебе приготовил поесть.
— Спасибо, — улыбнулась Аня, — а то я голодная как волк.
Муха вышел в сени и вернулся с тарелкой, в которой лежала вареная картошка, желтая крупная соль и молодой, видно прямо с грядки, зеленый лук.
— Ой, спасибо, — сказала Аня, — красота какая!
— Погоди, — сказал Муха, — я тебе еще кринку простокваши приготовил.
— Спасибо, Андрюша, только я ее не ем.
— Это почему? Самое вкусное, что есть, — простокваша.
— Не могу. Меня в детстве мать напугала. Сказала, что в нее лягушек кладут — для холода. С тех пор не могу, лучше голодной ходить.
— Вот женщины! — сказал Муха. — А еще туда же — воевать… Ну, лопай как следует. А завтра я молочка тебе раздобуду. У них тут молочко жирное, хорошее молочко…
Через десять минут они вышли из дому.
— Слушай, Ань, — спросил Муха, — а какое у нас задание теперь будет, не знаешь?
— Знаю, — ответила Аня, — задание специальное, особой важности, детали тебе Вихрь объяснит. Только не сердись, ладно? Я ж тебя не спрашиваю о твоих связях и явках. Придет Вихрь — с ним разберетесь.
— Да я и не сержусь, что ты… Он длинный такой, Вихрь, да? Глаза голубые-голубые?
Аня оглянулась. По дороге следом за ними ехала девочка на велосипеде. Больше никого не было. Аня оглянулась еще раз: велосипед показался ей знакомым — точно такой же, как у мальчишки, что приехал за парнем в крагах.
— Тут велосипедов много? — спросила Аня.
— В каждом доме. А что?
— Ничего. Интересуюсь.
И они свернули в лес.
13. СТАРЫЙ РЫНОК
«Липа, — подумал Вихрь, — это липа, они меня берут на пушку. Это их человек. Они хотят меня пощупать еще раз: стану кричать «Беги!» или подойду к нему? Дурачки! Они же мне так помогают. Сами себя убеждают в моей им преданности. Стоп! А что, если это случайное совпадение? Погубят парня, зря погубят. Вряд ли… Это не случайность. Это не может быть случайностью — слишком точно все сыграно».
Он медленно шел следом за парнем, который ходил мимо остальных торговцев — пять шагов вперед, пять назад.
— У вас нет хорошего корма для индеек? — склонившись к человеку в вельветовой куртке, спросил Вихрь.
Тот быстро обернулся, мгновение разглядывая Вихря и слепца, стоявшего за спиной, а потом ответил, словно выдавливая из себя слова:
— Теперь корма для индеек крайне дороги… Видимо, вы имеет в виду индюшат…
И первым протянул руку Вихрю. Вихрь пожал протянутую ему руку.
«Это уже становится глупо. Видимо, он поведет меня на их явку, — думал Вихрь. — Бежать с дороги? Нельзя. Если будет облава на рынке, у меня девяносто шансов из ста. Бежать сейчас — один из ста. А если других больше не представится? Если облавы не будет? Если… Тысяча если… Тысяча проклятых если…»
Все это пронеслось у него в голове, когда он, обернувшись, сказал слепцу:
— Знакомься, это наш друг.
А после они шли по улице Святого Анджея, повернули к университету, вышли на сквер Плянты — кольцо тополей, издревле окружающее старый город, — и двинулись вдоль трамвайных путей — к реке.
Народу было немного. На скамейках сидели женщины с детьми. Лица у детей были землистые, кожа возле висков морщинистая, старческая. Дети войны. Они не бегали наперегонки, не кричали, играя, не рылись с лопатками на газонах. Они сидели возле женщин тихо — ручки сложены на коленях, колени громадные, раздутые, а ножки тоненькие, как спички.
«Здесь все простреливается. Они меня возьмут здесь, — думал Вихрь, — нет смысла. Зря погибнуть — всегда легче легкого».
— Спотыкайся немножко, — шепнул он слепцу, когда парень в вельветке отвернулся.
Слепой кивнул, но продолжал идти, как зрячий — по-солдатски выбрасывая ноги, ступая уверенно, будто на параде.
Возле высокого дома, соседнего с гостиницей «Варшавской», вельветовый парень остановился, посмотрел на белую табличку, где были обозначены номера квартир, чуть заметно кивнул головой и отворил дверь. Вихрь и слепой вошли в подъезд следом.
«А если ринуться назад! — подумал Вихрь. — Нет. Там их люди. Наверняка там хвост. Все проиграю. Нельзя».
Около пятой квартиры на третьем этаже они остановились. Вельветовый парень долго прислушивался, потом замер, приложившись ухом к замочной скважине, и ловко, одним поворотом, отпер дверь.
В большой комнате, почти совершенно пустой — маленький стол и два кресла, в углу широкая смятая тахта, — возле громадного, чуть не во всю стену, итальянского окна стоял шеф отдела III-А. Он улыбался.
— Простите меня, но в нашей работе приходится порой разыгрывать спектакли.
Вихрь был готов к этому; он сыграл такое изумление, что гестаповцы — сначала шеф, потом слепец, прятавший очки в футляр, а потом вельветовый парень — громко расхохотались.
14. ВКУС ШНАПСА
Шульц оказался однофамильцем. Коля понял это, как только ввели Богданова. Степан разыграл все правильно — как они репетировали в бараке. Коля подстриг его артистически. Он яростно щелкал ножницами вокруг головы Богданова, все время повторяя дурацкие вопросы:
— Не беспокоит? Не тревожит? Не беспокоит?
Вечером им выдали по пятьсот марок: каждому уходившему вместе с немецкими войсками от красных выдавалась компенсация перед окончательным трудоустройством.
Коля получил направление на работу в офицерскую парикмахерскую, а Степана направили в автомастерскую танковой части, дислоцировавшейся в семи километрах от Кракова.
Получив деньги, Коля с Богдановым зашли в солдатский распределитель. Там по записке старичка офицера им продали банку свиных консервов, булку, сто граммов маргарина и бутылку шнапса. Они завернули все это в газету и пошли в лесок. Там разложили костер и начали пировать. Степан после первого же стаканчика опьянел и стал плакать. Он плакал, всхлипывая, слезы катились по его желтым щекам, он не вытирал их, и они заливались к нему в рот, и только тогда он вытирал губы ладонью и виновато улыбался.
— Знаешь, что самое страшное? — говорил он. — Самое страшное — это какими мы можем стать потом. Сможем ли мы победить в себе эту ненависть, которая в нас родилась? Сможем ли мы побороть в себе страх, который теперь живет в нас вместе с отчаянием и храбростью? Сможем ли мы сломать в себе ненависть к людям, которые говорят на немецком языке?
Он жадно выпил шнапс, понюхал корку хлеба и, подвинувшись еще ближе к костру, стал говорить:
— Пал Палыч был моим следователем. Власовец, паскуда, нелюдь. Он лысый, старый и больной. Я видел что он болен, потому что у него все время закипала пена в уголках рта и еще потому, что лицо у него было желтое и до невозможности худое.
— Ну-ка, хлебало открой, — говорит Пал Палыч.
— Что?
Он грязно ругается и повторяет:
— Хавало открой свое! Рот, понял?!
Открываю рот. Он заглядывает, как говорят врачи, в зубную полость и сердится:
— Что, «желтую сару» уже сняли гансы?
Я ничего не понимаю.
— Фиксы, говорю, фиксы гансы сняли? Ну, фиксы, золото, не понимаешь, что ли?!
— Теперь понял. Не было у меня «желтой сары».
— Экономно жил?
— Экономить было не с чего.
— Не давали большевички навару? В черном теле держали?
— В каком?
— В черном! — орет Пал Палыч. — Больной, что ли?!
— Я-то здоровый…
Пал Палыч обегает стол и ударяет меня по щеке.
— Ты — умненький, — усмехается он, — шутить любишь. Колоться станешь или будешь ж… вертеть?
— Нет ее у меня. Кости одни остались.
— Пожалеть?
— Пожалел волк кобылу…
— Какая ты кобыла? Я бы кобылку пожалел. У лошади сердце большое и глаз добрый. А ты — человек. Самый страшный на земле зверь. Или я тебя, или ты меня. Какой номер обуви, подследственный?
— Сорок второй.
— Костюм какого размера носил?
— Тот, что украл?
— Ты мне не верти! Украл… Дома какой размер носил?
— Не знаю.
— Как не знаешь?
— У меня один и был-то костюм, отец подарил ко дню рождения.
— Давай, давай, чекистская харя! «Отец подарил»! Мозги-то мне не крути, знаем, сколько вам грошей отваливали. Высосали из народа всю кровушку… А ну, стань к стене!
— Стрелять хочешь?
— Мараться!.. Исполнителя держим — все, как у больших.
Я подхожу к стене. Он меряет мой рост линейкой, работает ею легко, как купец.
— Так я и думал, — говорит он, — пятидесятый, третий рост.
— Раньше-то продавал?
— Точно. Продавал, — тихо отвечает он, — у тебя зрачок есть.
— Что продавал-то?
— Слезы в бутылочках. Русский слезу любит. И покаяние. Без
содеянного не покаешься — вот и грешим.
Он снимает трубку телефона, набирает номер и говорит:
— Алло, Василий Иванович, привет! Пятидесятый, третий рост.
Сорок два. Ага. Ну а как у тебя? Слышу, слышу… Горластый. — Пал Палыч манит меня к себе. Я подхожу. Он протягивает трубку и шепчет: — Послушай, твои друзья концерт задают.
Я слышу в трубке отчаянный, нечеловеческий вой, чей-то пьяный смех и крики. Пал Палыч жадно смотрит мне в лицо:
— Страшно, подследственный?
— Страшно.
— Мне — тоже.
— Тебе-то понятно отчего. Трусишь.
— Что ты? — удивляется Пал Палыч. — Я храбрый, я возмездия жду — а все одно отступничаю. Думаешь, мне по ночам пенька ноздрю не щекочет? Коньяк жру — трезвею, спать не могу, страх душит. Но утром-то я где? Я тут утром, на своем боевом посту, я утром — боец.
— Какой ты боец? Палач.
— Я? Да что ты, подследственный! Какой же я палач? Разве я тебе пальцы ломал? Низ резал? Я с тобой, как боец с бойцом — по-честному, я — вот он весь. Я мук тебе не делал, зачем напраслину возводишь?
— Будешь еще, верно, и резать и ломать…
— Боишься? А? Я — не стану. А за других ответ не держу, не табуном живем, а каждый по своей свободе.
В кабинет приносят власовскую форму. Пал Палыч берет френч, привычным жестом продавца прикидывает к руке, оттопырив локоть, и протягивает мне:
— Пятидесятый, третий рост. Носи на здоровье.
— Не пойдет.
— Боль чувствовать станешь, подследственный. Горло сорвешь криком, а потом согласишься. В гестапо тебя просто лупили. Это не страшно, они аккуратисты, гансы-то. Аккуратисты вонючие. Побили — велик страх! Мы страданий больше гансов прошли, у нас в каждом своя досада. Гансы служат, когда бьют, а мы, когда вашего брата обрабатываем, мы тоской своей русской исходим, правду ищем. Вот какой коленкор выходит, так что смотри!
— Ладно, посмотрю.
Пал Палыч говорит:
— В окошко глянь. Не бойсь, не бойсь, заглянь, там решетка, все одно ничего не сделаешь. Вишь одноэтажненький домишко? Это тюряга, а за тем забором — наш спецлагерь для тех, кто вроде тебя фордыбачит и лягается. Знаешь, что такое спецлагерь? Это вот что: немцы — химики, они когда кой-чего изобретают, на жидочках испытывают, но ведь жид — из юркости составлен, поди угадай, как немецкие лекарства будут на обыкновенных людей действовать. Так вот, мы спецлагерников к евреям приравниваем. Когда у аккуратистов появляется нужда — так отрываем с работы одного-двух и отправляем в лаболатории.
— »Лаборатории» надо говорить, а не «лаболатории»…
— Силен. Страх в себе дерзостью давишь? Силен, ничего не скажу.
Ну так что? Попробуешь боль или в согласие перейдешь?
— В согласие не перейду.
— Дурак обратно же. Ты моего совета послушай: надень форму, сапожки — и на фронт, а там жик-жик и к своим. Так, мол, и так, заставил меня Пал Палыч.
— А фамилия у Пал Палыча какая?
— Абрамсон у него фамилия! Абрамсон, по имени Еврей Иванович! А ну, надевай форму, падла!
— Не сторгуемся. Пал Палыч. Не выйдет.
Пал Палыч набирает номер и говорит в трубку, посмеиваясь:
— Вася, привет, милый! Снова Баканов беспокоит. Веселый у меня подследственный сидит, веселенький. Заходи, побалакаем. Может, ты ему все растолкуешь, тогда и решим на месте, чтоб резину не тянуть. Лады. Жду. А как твой? Понятно. Ну, ничего, ничего, бог простит… Василий Иванович все время сосет ментоловые леденцы, поэтому у него изо рта пахнет кондитерским магазином. Руки он держит глубоко засунутыми в карманы, словно урка-малолеток на «толковище». Брови у него мохнатые, громадные, сросшиеся у переносья, лоб высокий и гладкий, без единой морщины.
— Этот? — спрашивает он Пал Палыча.
— Так точно.
— На карточке ты красивше, — говорит Василий Иванович и коротко бросает: — Можете садиться.
Пал Палыч присаживается на краешек стула и смотрит на Василия Ивановича с обожанием.
Василий Иванович долго и обстоятельно чистит свои ногти спичкой, а после начинает неторопливо поучать меня:
— Чудак, ты запомни: победит тот, кто стариком помрет. Старикам все прощается, да и время — хороший лекарь. Помяни мое слово. Кто у немца лучшим другом будет через десяток лет? Русский будет ему лучшим другом. Фюрер перебесится, поймет, что без нас он — ноль без палочки. Диалектика, никуда не попрешь. Вот такие пироги, брат… Пал Палыча мы бросаем на интеллигентов, он умеет Достоевского наизусть шпарить, в лагере у Авербаха научился, на Колыме. У тебя лик осторожный. Скула не прет, ну мы и определили его на тебя. Ошиблись, ничего не скажешь. Я-то лично считаю, что интеллигентность — категория возраста, а не крови или там образования. Честно говоря: нам ты на кой сдался? Ни на черта ты нам! Но гестапо на тебя замкнуло, у них, я думаю, заготовлен план интересного процесса против своих коммунистов, они их хотят под шпионаж подвести, ну а ты — карты им в руки. Образованность тебя погубила, аккуратен ты в словах, а это для процесса — самый смак. Понял? То-то и оно! А нам — расхлебывай, гестапо не шутит… Как ни верти, а нам поручили тебя до конца расколоть, иначе сами потом щебенкой харкать будем. Так что помозгуй, помозгуй как следует. Мы тогда погодим тебя через соты пропускать. Страшное это дело — наши соты. С мозгов сдвинешь, во всем признаешься, все на себя примешь — только здоровье до конца сорвешь. Думай.
Я мотаю головой.
Василий Иванович перестает чистить ногти, засовывает руки еще глубже в карманы и просит меня:
— Ну-ка ладошки покажи, я гадать умею. Не бойсь, не бойсь, не съем тебя, чудак.
Он смотрит издали на мои ладони, морщится и говорит:
— Ну-ка, ну-ка на стол положи, у тебя линии интересные, долгие, не на смерть ты записан.
Я кладу руки на стол ладонями вверх. Василий Иванович изгибается над моими ладонями, делает какой-то быстрый жест, и я на мгновение слепну, а потом вижу, что из моих пальцев торчат белые костяшки и растекается вокруг ладоней кровь по столу. Это он хлобыстнул кастетом.
— Отопри шкаф, — говорит он Пал Палычу, снимая с руки кастет.
Тот открывает дверцы маленького шкафа, и они меня заталкивают туда и запирают за мной дверь. Из перебитых пальцев хлещет кровь. Я пытаюсь поднять руки ко рту, чтоб унять кровь, но рук поднять не могу — они прижаты к телу.
— Подследственный, — слышу я голос Пал Палыча, — ты не обижайся на меня-то… Он ушел, а я тебя упреждал по-хорошему. Как решишь согласиться — ты покричи, охрана враз услышит, отопрет, к лекарю сводит. Только про несогласие не кричи, а то хуже будет… Ничего в жизни не надо бояться. Ничего, кроме фашизма. Его люди обязаны уничтожать в зародыше, где бы он ни появлялся.
Старика зовут Сергей Дмитриевич. Говорят, у него туберкулез. С большим трудом, как рассказывал русский парень-моряк, захваченный власовцами в Бельгии, удалось перевести его на самую благодатную должность — в ассенизаторы.
— Доцент, — отрекомендовался Сергей Дмитриевич на второй день, когда нас загнали в бараки. — Вожу дерьмо.
Нас здесь заставляют делать одно дело: разнашивать офицерские сапоги. Поэтому у всех в бараке ноги окровавлены, синие, громадные. Но утром так лупят, что не надеть сапог нельзя — насмерть запорют нагайками. Час разнашивается одна пара. Норма — пятнадцать пар в день. Пятнадцать часов бегом, гусиным шагом, вприпрыжку. После того как сапоги разношены, их отправляют на фронт, офицерам. Кое-кто умудряется незаметно подбросить песочку под стельку, после того как сапоги сняты и отложены в сторону — к готовым. Если заметят — вздернут на виселице. Она торчит в углу аппельплаца, очень неприметная. Вешают не больше двух человек в день. Два-три исчезают бесследно, помимо виселицы, в лабораториях. Два-три не выдерживают, сходят с ума. Их увозят. За те дни, что я здесь, только один человек сломался и пошел к власовцам на поклон.
По вечерам, когда мы валимся на нары, морячок начинает бредить Бельгией: он там ходил с партизанами, жил в Арденнах, он много рассказывает мне про старика кюре, который помогает беглецам, про то, как многие пробиваются во Францию; там есть русские, грузины, армяне — целые партизанские соединения, составленные из советских людей. Морячок говорит быстро-быстро, будто у него кризис в болезни, будто он кончается. Попал он глупо — пошел к кюре за провиантом, а его и накрыли возле дороги. Теперь мотают, требуют дать явки и особенно интересуются местом расположения русских партизанских соединений. Морячок молчал, поэтому сейчас весь седой, а лет ему, как мне, двадцать.
Сергей Дмитриевич, который днем возит дерьмо и чистит уборные, по вечерам проводит — для пяти-шести человек — беседы о советской литературе. Он читает свои «лекции», полузакрыв глаза, и непонятно — видит он нас, жадно его слушающих, или нет. Голос у него низкий, сипловатый, очень мягкий, никак не вяжется с квадратной физиономией и отвислыми щеками; глаза голубые и бровки торчат воинственные, пшеничные.
— Мандельштам, как никто, хотел понять и упорядочить окружающий мир, — пророчествует доцент. — В его поэзии действуют центростремительные силы. Тишину он сравнивал с прялкой. Этим он разгадывал иррациональное понятие: тишину после этого можно было потрогать руками, она превратилась в знакомый всем предмет — прялку. Чтобы по-настоящему понять Мандельштама, следует любить Гомера. Кто из вас помнит Гомера?
Молчим. Морячок тяжело дышит, скребет тонкими пальцами шею. — У нас в училище только-только начали проходить античную литературу, — шепчу я, — а здесь война. Не успели.
— В каком ты учился?
— В театральном, на режиссерском отделении.
— Это где же?
Я называю адрес.
— Господи, так я там рядышком жил. Ай-яй-яй, как же все это далеко и невозвратимо. А кто у вас вел литературу? Не Бабенышев?
— Нет. Васильчаков Михаил Никифорович.
— Погоди, погоди, он, кажется, преподавал и в ИФЛИ?
— Нет. Он преподавал у мхатовцев, в их студии.
Кто-то просит:
— Ты продолжай, доцент, адреса потом выяснять будешь.
— Да, да… Прошу простить… Итак, Мандельштам и открытие им философского термина «тишина». Извольте, я прочту вам его строки. Сейчас, минуту… Память…
Ну а в комнате белой, Как прялка, стоит тишина, Пахнет уксусом, краской И кислым вином из подвала. Помнишь, в греческом доме Любимая всеми жена, Не Елена, другая, Как долго она вышивала…Видите? Здесь — все вещи каждодневного обихода: уксус, краска, подвал, кислое вино. Но, размышляя над такими гигантскими понятиями, как Россия, он тоже умел находить конкретное проявление образа.
Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело.И вам сразу становится зримо понятна Россия, израненная, в тисках молчаливых высоких доков… Или же, извольте, — правда, кое-что я подзабыл:
Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей, Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей… Уведи меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей И меня только равный убьет!Мандельштама он подвирает — у отца был томик его стихов.
Кто-то тихо, с болью шепчет:
— Ну да… А нас кто здесь убивает? Равные? Люди?
— Я позволю себе, — отвечает доцент, — опять-таки обратиться к Мандельштаму. Слушайте же:
Не мучнистой бабочкою белой В землю я заемный прах верну. Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в улицу, в страну - Позвоночное обугленное тело. Осознавшее свою длину.Морячок шепчет:
— Повесить и сжечь — еще не значит убить, это точно. Очень мне хочется дожить до того часа, когда будет на земле улица имени меня.
— Улица моего имени, — поправляет доцент.
— Улица имени меня, — упрямо повторяет морячок.
— Разговорчики! — орет капо.
Воцаряется тишина. Как прялка. Это поразительно. Тишина не может быть без звука, который бы ее не оттенял. У нас — это дыхание людей. А там, в белом доме, была прялка.
— Тебя как зовут? — шепчет доцент.
— Степан.
— Меня Сергей Дмитриевич. А фамилия?
— Богданов.
— Ты не Василия Богданова, музыкального критика, родственник?
— Нет, мой старик — инвалид гражданской войны. Его тоже Степаном зовут. Ноги у старика нет…
— Сейчас вроде бы там стало легче. У меня там тоже семья. Две дочери и жена. Ты где жил?
— Усачевка, дом семь.
— А я только-только переехал с Молчановки. Идешь вечером, боты по снегу — хруст-хруст, луна окаянная, в окнах — тепло, по парадным влюбленные затаились. Не умели ценить мир, всё метались, спорили, от самих себя бежали… Я, помню, иногда поражался — время стал ощущать, оно вокруг меня, как вода в горной речке, несется, несется. Я совместителем был: утром университет, а вечером вел курс в школе госбезопасности…
— Вы?!
— Да, а что?
— Ничего. Они меня обвиняют, что я заброшен к ним с самолета как разведчик, мол, школу госбезопасности кончил…
— А ты? Ты…
— В том-то и дело, что нет. Я сбежал с шахты «Мария», там каторжный был лагерь, для штрафников. Я три раза сбегал — два раза ловили тут же, а третий — удалось, и взяли-то по глупости. Если скажу про «Марию», значит, туда отправят. А там — виселица, у меня мишень была на спине.
— Бедный, бедный… А летом мы, бывало, на Клязьму выезжали, на дачу. Вечером после дождичка идешь с поезда, на участках патефоны играют, детишки беззаботно смеются, и такое во всем спокойствие и высшая целесообразность — бог ты мой! Я купил дачку в тридцать седьмом… Утром проснешься — в окнах солнце, сосны красные, медовые, птицы разливаются; выйдешь на террасу, а там после дождя ночного лужицы, а в лужицах — солнце высверкивает, глаза режет… Его мучительно сладко слушать, потому что говорит доцент так, будто он смотрит на все это, будто он сам сейчас — во всем этом; и еще очень мучительно слушать его, потому что это расслабляет, делает мягким, жалостливым, начинаешь думать, что все муки терпишь впустую, зря — все равно никогда уж не придется тебе видеть раннего синего утра, и медовых сосен, и лужицы на терраске, которая осталась после ночного дождя.
Доцент замолкает и поворачивается к стене. Морячок шепчет мне в ухо:
— Слышь, бежать надо, погибнем тут, задарма погибнем. Отсюда до Бельгии ночь ходу, они меня пехом гнали по дороге. На запад по звездам, а там в Бегнье живет чудесный старик, их кюре, — он спрячет.
— Как убежишь? Здесь охраны вокруг — тьма, забор выше бараков, не болтай глупости. Отсюда не сбежишь. Надо думать о том, как жить здесь.
— Бормочи, бормочи, — говорит морячок, — да не заборматывайся. Тут один доцент долго живет, а те, кто вкалывает, — те месяц, и с приветом, ногами вперед в крематорий. Слышь, сладким потянуло? Это они по ночам печь топят, трупы жгут. Разбежаться с шестом, через забор и — деру. Меня днем вели, я все запомнил. У доцента затряслась спина — внезапно, будто он стал часто-часто икать.
— Вы что, Сергей Дмитриевич?
— Ах, отстань, бога ради! — отвечает он сквозь слезы. — Отстань!
— Не надо… Скоро наши придут, — успокаиваю его, — мне в тюрьме говорили, что Гитлера под Сталинградом раздраконили, бегут они во всю ивановскую…
— Перестань! Противно слушать! Кто тебе рассказал про все это?!
— Мой сокамерник…
— Сокамерник, сокамерник! Пойми, все погибло, родина наша поругана, семьи под сапогом, культура заплевана! А мы здесь — русские с русскими деремся, не можем языка найти, не можем простить друг другу формы во имя смысла жизни нашей, во имя родины, которая у нас у всех — одна!
— У меня с Пал Палычем родины разные.
— С каким Пал Палычем еще?
— Со следователем моим.
— Изуверы есть всюду.
— Тоже верно.
— Ах, Степан, Степан, как мне хочется хоть на минутку оказаться дома, пройти по своему кабинету, потрогать корешки книг, погладить лица родных — и тогда можно обратно, можно хоть до конца… Ночью барак подняли по тревоге и, даже не разрешив нам одеться, погнали на аппельплац, хотя двор у власовцев аппельплацем не назывался и проклятой вывески «Работа делает свободным» на воротах не было — как у нас на шахте «Мария». Во дворе нас выстроили в колонну по четыре и приказали бежать к воротам. Там — в два ряда — стояли эсэсовцы с дубинками и власовцы при нагайках.
— Быстрей, быстрей! — кричат нам.
Передние ряды замерли возле власовцев — те гогочут и помахивают нагайками. Те, кто сзади, напирают — их тоже бьют. Получается, что наша колонна, словно живой организм, подвигает самое себя к воротам, где всех нас ждет «генеральное побоище». Слышно громкое дыхание и ровный топот сотен ног. Голоса власовцев, подгоняющих задние ряды, в этой напряженной тишине кажутся до того страшными, что кто-то из наших не выдерживает и начинает истерично, на одной ноте верещать. И — началось. Власовцы, стоявшие возле открытых ворот, набросились на первые ряды и стали пропускать людей «через себя». За открытыми воротами — маленькая территория крематория. Эсэсманы и власовцы организовали живой коридор и бьют нас свинцовой проволокой, нагайками, палками, дубинками. Главное — беречь голову. Люди закрывают голову, власовцы пьяно орут, смеются, лупят почем зря. Впереди меня бежит Сергей Дмитриевич. Острые локти его прижаты к ребрам, голова запрокинута, он все время кричит: «Господа, господа, погодите же, господа! Господа, погодите же, давайте разберемся!» Включены прожекторы. В их мертвом свете все мы выглядим какими-то зловещими персонажами из забытых детских сказок — в полосатых каторжных костюмах, бритые, босые на растаявшем снегу. И кровь, которая у всех нас сейчас на лицах, не кажется красной. Сейчас она черная, будто лак, которым обрабатывают дерево.
Утром я сижу в кабинете у Пал Палыча. Его нет. На его месте сейчас сидит Василий Иванович и сосредоточенно грызет ногти. Изредка он лениво задает мне вопросы вроде «У тебя зуб мудрости болел когда-нибудь?» или «Ты от изжоги не пробовал настой чаги?». Я отвечаю после долгих пауз, обдумывая, нет ли какого подвоха. Иногда Василий Иванович прерывисто вздыхает, трогает свой пульс и, поджав губы, досадливо и с затаенным страхом покачивает головой.
— Пил вчера много, — говорит он, — а давление высокое. Особенно нижнее давление. Скачет, падла, то вверх, то вниз. А наши коновалы ничего, кроме триппера, лечить не могут. Нельзя пить, нельзя. Он неторопливо осмотрел обгрызенные ногти, потер их о лацкан своего пиджака и сказал:
— Вот такие пироги, товарищ Степан Богданов.
Видно, у меня резко изменилось лицо, потому что Василий Иванович расхохотался так громко и весело, так заразительно и беззаботно, будто ничего смешнее и занятнее он в своей жизни не видел.
— Что? Шахту «Мария» вспомнил, Степанушка? — окликнул меня с порога веселый, улыбчивый Пал Палыч.
«Все, — очень спокойно понял я. — Теперь все. Они получили на меня данные с шахты. Значит, дня через два вздернут. Хотя, может, не через два, а через три — шахта «Мария» в районе Аахена, пока-то меня туда переправят».
— А ты сколько мук принял, дура, — продолжает за меня вошедший Пал Палыч. — Смысл был?
— Был, был, — отвечает за меня Василий Иванович, — ему так
морально спокойней, перед собой он красиво выглядел, как циркач под куполом. Ну как, теперь будешь продолжать в прятки играть? Снова молчишь? У нас деньги на транспортные расходы есть, мы тебя живо туда доставим. Молчи не молчи — там тебя сразу признают.
— Чего вам надо от меня?
— Не «чего», а «что». Нехорошо, актер, культурный человек, а, как говорится, падежов не знаешь.
Меня словно тазом по голове стукнули — все зазвенело, заухало, зарычало. Откуда ж они про актера-то? Этого даже в лагере, на шахте «Мария», нигде в делах не было.
— Не таращь, не таращь зенки-то, — улыбается Пал Палыч, — мы теперь всё-всё про тебя знаем, подследственный.
— Ну вот что, хватит куражиться, — заключает Василий Иванович, — теперь ты сам у себя в руках: хочешь жить — живи, надоело — молчи. Нас ты больше не интересуешь, ты нам теперь, как голенький, понятен. Придется тебе, если хочешь жить, выступить перед микрофоном под тем именем, которое тебе даст гестапо, твой тамошний следователь; расскажешь про чекистское житье-бытье и объяснишь доблестным красным воинам, что ты решил сбросить чекистскую хламиду и поменять ее на форму русской освободительной армии генерал-лейтенанта Власова. Понял мою мысль?
— Не до конца.
— Я поясню. Ты должен будешь сыграть роль чекиста, который перешел к нам, легендочку тебе создадут — прелесть легендочку, цыпуленьку. Ну и на процессе у них дашь показания, расскажешь про то, что им требуется. Вот так.
— Не пойдет.
— Пойдет. Иначе мы папу замажем твоим предательством. Усачевка, дом семь, Богданов Степан, безногий инвалид гражданской войны и красный герой.
Меня будто озарило — доцент! Сергей Дмитриевич! Он! Больше некому! Глазки голубенькие, брови пшеничные, торчком, осанка благородная, скорбная — он, кто ж еще?! Больше-то об этом никто не знает! Дурак! Растекся, русскую речь услышал! Ненавижу немцев? А как быть тогда с русскими? Сергей Дмитриевич — не герман, он — наш! Наш он! Наш!
— Да ты дыши, дыши носом, — серьезно советует Василий Иванович, — не злись. Злость в проигрыше — наихудший советчик. Вот, полистай Уголовный кодекс РСФСР, там пятьдесят восьмая статья популярно разъясняет, как следует поступать с членами семьи изменника родины, то бишь перебежчика. Портреты у нас твои есть, фуражечку пририсуем, шрамики заретушируем и дадим текст: «Дорогой отец! Как сейчас, вижу тебя в Москве, на Усачевке, 7, в нашей квартире, — безногого инвалида гражданской войны, брошенного на произвол красными. Здесь, в рядах русской освободительной армии, я борюсь с коммунистами и евреями, поработившими нашу родину! Друзья солдаты! Переходите в наши ряды» — и так далее и тому подобное, я-то текстов не составляю, у нас особый отдел этим занимается: распишут — как в очерке Эренбурга: не веришь, а все равно слезу пустишь.
— Мне надо подумать, — говорю я после долгой паузы. Я знаю, что надо сделать. Прийти в барак и задушить доцента. Он провокатор, он не должен жить.
— А ты здесь думай, подследственный, — предлагает Пал Палыч.
— Нет, вопрос слишком серьезен, я так не могу.
Василий Иванович начинает тихонечко, осторожно посмеиваться.
— Нет, — смеется он, — нет, Степа, не выйдет у тебя номер, не пройдет… Мы своих друзей в обиду не даем, ты это запомни.
— Давно он у вас?
— Сергей Дмитриевич-то? Давно. С год.
— Избили его вчера крепко ваши люди…
— Ничего, зато сегодня как следует накормят.
— А чего ж вы его не отпустите? Тоже небось обещали отпустить, как и меня?
— У тебя перед ним одно преимущество, подследственный, — говорит Пал Палыч, — молодой ты, а он — старик, ему по нонешним временам ходу нет. Солдат тот ценен, который бегать может и пушки из грязи тащить.
— Нет, пустите в зону. Дайте день, куда я от вас денусь?
Василий Иванович перебрасывает листок календаря и отмечает красным карандашом: «Степа Богданов, артист».
— Лады, — соглашается он, — только, чтоб ты не бедокурил, мы тебя на день в одиночку поместим, там и подумаешь.
— Она в зоне, одиночка-то, подследственный, — улыбается Пал Палыч, — в зоне.
— Так что смотри, — заканчивает Василий Иванович, — нам ты не важен. В гестапо на тебя замкнули. Мы сами понять не можем, ей-богу. Они ж аккуратисты, европейцы, у них беспорядок не проходит, раз они чего задумали — так умри, а исполни. Может, они уж и забыли про тебя, разве мало вас, таких, но — приказ есть приказ, поди его не выполни. А Серега ничего работает, верно? Он нам переколол народа до черта! На интеллигента подследственные падки: он стихами вам души растормаживает, отходите вы от рифмы, как глухари, забываетесь.
— Дай-ка Уголовный кодекс взглянуть, — прошу я его.
— На. Пятерка с высылкой и поражение в правах. И карточку отымут. Кранты-колеса придут твоему родителю, это точно.
Степан закурил, длинно сплюнул, вздохнул и снова надолго замолчал.
— Меня заперли в одиночке, — продолжал он тихо, с хрипотцой. — Там было тихо, ни единый звук не доносился. Высоко под потолком маленькое, сплошь зарешеченное оконце. Я видел через него крохотный кусочек неба. Оно было серо-черное. Потом небо сделалось черным, а потом, когда пришла ночь и взошла луна, оно стало белым, словно подсвеченное юпитерами.
Я не мог уже ни о чем думать. Все отупело во мне, стало каким-то тяжелым и чужим. Я начал чувствовать вес своих пальцев, нога мне казалась стокилограммовой и очень холодной. Я возненавидел свой лоб — такой тонкий, выпуклый, и кожа по нему нелепо ерзает, а за этой дряблой кожей и за тонкой костяшкой лба (из черепов студенты медики делают прекрасные пепельницы) лежит красно-серая масса мозга. Нас учили гордиться тем, что мы, люди, в отличие от зверей, можем мыслить, то есть понимать, и, поняв, принимать решения. Мозг все чувствует и понимает, он — всемогущий хозяин моего тела, но он не мог помочь мне, он только ежесекундно и постоянно фиксировал тот ужас, который рос во мне, и ничего я не мог с собой поделать.
Время остановилось. Смена цвета неба — ерунда и глупость. Времени больше не было. Скоро утро. А тогда они приведут меня к себе и снова будут тихо говорить и смеяться, и грызть свои ногти, и щупать животы, и заставлять меня предать отца, обречь его на позор, члена семьи изменника родины, а в том, что они так будут поступать, я не сомневался: они звери. Больные, неизлечимо больные звери, от них может спасти только пуля или веревка.
…Они вернулись в лагерь для перемещенных поздно: вечером. Коля нес на спине уснувшего Степана. Чтобы не привлекать к себе внимания, он пел власовский гимн — не громко, но так, чтобы его слышала охрана, состоявшая из власовцев. Один из охранников обернулся:
— Упился?
— Есть маленько.
— Не шумите в бараке, а то немцы шухер подымут.
— Мы тихонько, братцы, — пообещал. Коля, — до завтра проспимся, а потом — айда…
15. ЧТО ЕСТЬ ПОЛЯК?
Трауб зашел к адвокату Тромпчинскому вечером, когда отгорел красный, поразительной красоты закат. Его не было. Сын — Юзеф сидел в темной комнате, играл Шопена. Лицо его, выхваченное из темноты зыбким светом свечи, было словно выполнено в черно-белой линогравюре.
— Вы любите только Шопена? Что-то вы никогда никого больше не играете, — сказал Трауб.
— Шопена я люблю больше остальных.
— Этим выявляете польский патриотизм?
— Ну, этим патриотизм не выявишь…
— Искусство — либо высшее проявление патриотизма, либо злейший его враг…
— То есть?
— Либо художник воспевает ту государственность, которой он служит, либо он противостоит ей: молчанием, тематикой, эмиграцией.
— Вы считаете, что художник второго рода — не патриот? По-моему, он куда больший патриот, чем тот, который славит свою государственность. Я имею в виду вашу государственность, конечно же…
— Слушайте, Тромп, отчего вы рискуете так говорить с немцем?
— Потому что вы интеллигентный человек.
— Но я немец.
— Именно. Интеллигентный немец.
— А мало интеллигентных немцев доносит в гестапо?
— Интеллигентных? Ни один. Интеллигент не способен быть доносчиком.
— У вас старые представления об интеллигенции.
— Старых представлений не бывает.
— Занятный вы экземпляр. Я кое-что за вами записывал. Вы никогда не сможете стать творческим человеком, потому что вами руководит логика. Злейший враг творчества — логика и государственная тирания. Хотя вообще-то это одно и то же.
— Ни в коем случае. Логике противна тирания.
— Логика — сама по себе тиранична, ибо, остановившись на чем-то одном, она отвергает все остальное.
— Но не уничтожает. Здесь громадная разница.
— Если идти от логики, то отринуть — это значит обречь на уничтожение.
— Это не логика, это софистика. А что вы такой встрепанный, милый мой вражеский журналист?
— Заметно?
— Очень.
— Иногда я начинаю глохнуть от ненависти к происходящему, а потом тупею из-за своей трусости. Они всех нас сделали трусами, презренными трусами!
— Полно, Трауб. Человека нельзя сделать трусом, если он им не был.
— Э, перестаньте. Не люблю пророков. У нас их хватает без вас. Можно, все можно. Человек позволяет делать с собой все, что угодно. Он поддается дрессировке лучше, чем обезьяна.
— Что случилось, Трауб?
— Вы как-то просили меня достать бумаги…
— Ну?
— Ничего не обещаю. Ненавижу обещать — влезать в кабалу. Словом, если у меня что-либо получится, я постараюсь помочь вам… Вот, кстати, поглядите, — сказал он и положил перед Юзефом листовку, отпечатанную в Берлине.
Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции распорядился, чтобы все рабочие и работницы польской национальности носили на видном месте с правой стороны груди любой одежды изображенный здесь в натуральную величину матерчатый знак. Знак следует крепко пришивать к одежде.
Мы живем в эпоху борьбы за будущее нашего народного государства и сознаем, что на нашем жизненном пространстве в большом количестве будут жить инородные элементы. Кроме того, в результате допуска в рейх польских сельскохозяйственных и фабричных рабочих на всей территории империи национальный вопрос также стал злободневным. Народное государство сможет существовать вечно только в том случае, если каждый немец в своем поведении будет сознавать национальные интересы и самостоятельно разрешать все эти вопросы. Законы могут только поддерживать регулирование сосуществования. Самым важным остается сдержанное и уверенное поведение каждого.
Немецкий народ! Никогда не забывай, что злодеяния поляков вынудили фюрера защитить вооруженной силой наших соотечественников в Польше! В сентябре 1939 года их погибло в Польше 58 000 человек! Мужчины, женщины и дети, беззащитные старики и больные были замучены до смерти на пересыльных этапах. В польских тюрьмах немецкие люди вынуждены были терпеть такие муки, которые по их жестокости могли быть выдуманы только недочеловеками со зверскими склонностями. Оставление в течение многих дней без какой-либо пищи, избиение палками, удары прикладами, беспричинные расстрелы, выкалывание глаз, изнасилование — нет такого вида насилия, которое бы не применялось к ним. Одного юношу облили бензином и сожгли в печи пекарни; на товарный состав с перемещенными пустили на полной скорости локомотив.
Недавно в одном пруду купающиеся дети нашли 17 трупов.
Представители этого народа прибыли к нам теперь как сельскохозяйственные и фабричные рабочие и военнопленные, так как мы нуждаемся в рабочей силе. Тот, кто вынужден иметь с ними дело по службе, должен понимать, что ненависть поляка сегодня больше, чем когда бы то ни было, что поляк имеет в национальной борьбе гораздо больший опыт, чем мы, и что он все еще надеется с помощью враждебных нам держав создать новую, еще большую Польшу.
Подобострастие, которое поляк проявляет по отношению к немецкому крестьянину, — это коварство. Его добродушный облик фальшив. Везде необходима осторожность, чтобы не содействовать объединению поляков и возможной шпионской деятельности.
Прежде всего нет никакой общности между немцем и поляком. Немец, будь горд и не забывай, что причинил тебе польский народ! Если к тебе кто-нибудь придет и скажет, что его поляк приличен, ответь ему:
«Сегодня у каждого есть свой приличный поляк, как раньше у каждого был свой приличный еврей!»…
Немец! Поляк никогда не должен стать твоим приятелем! Он стоит ниже любого соотечественника-немца на твоем дворе или на твоей фабрике. Будь, как всегда, справедлив, поскольку ты немец, но никогда не забывай, что ты представитель народа-господина!
Германские вооруженные силы завоевывают для нас мир в Европе. Мы же ответственны за мир в новой, большой Германии. Совместная жизнь с людьми чужой национальности еще неоднократно будет приводить к испытаниям народных сил, которые ты должен выдержать как немец.
Народный союз немцев за границей.
Тромпичинский осторожно вернул листок Траубу.
— Ну что? — спросил журналист. — Страшно?
Юзеф ответил:
— Нет. Не страшно, просто очень…
— Противно?
— Нет, не то… Очень обидно. Обидно за немцев. А то, что обещали помочь, если сможете, — так и должно быть. Спасибо. Хотите, я вам поиграю?
— Очень хочу.
Юзеф сел к роялю и стал играть Баха.
16. БУКЕТ РОМАШЕК
Аня и Муха шли через лес. Они шли медленно, потому что Аня внимательно смотрела на стволы деревьев, на какие-то одной ей понятные заметины; иногда она замирала, долго слушала лес, закрыв глаза, и улыбалась ласково.
Сначала Муха, глядя на нее, недоверчиво качал головой — не найдет. Потом ему надоело ждать, и он начал собирать букет, пока она по-собачьи вертелась на одном месте, угадывая, куда идти дальше Он собрал большой букет и, пока Аня отыскивала тропу, разглядывал ее, пряча лицо в цветы. Он разглядывал ее придирчиво, будто хозяйка — праздничный, не тронутый еще гостями стол.
«Ей бы в дочки-матери играть, — думал он, глядя на фигуру девушки, — а она туда же. В бойню. Тело у нее хорошее. Я бы прошелся: экая ладненькая. Опасно. Спугнешь еще, потом хлопот не оберешься. Бабы — дуры».
— Здесь, — сказала Аня, — под ольхой.
— Брось…
— Вот чудак, — сказала Аня, — я ж говорю: здесь.
Она опустилась на колени и взяла траву пятерней, словно котенка за шкирку. Ровный, вырезанный кинжалом квадрат дерна поднялся, и Муха увидел что-то белое. Аня достала это белое, оказавшееся полотенцем, развернула его и показала карту, пистолет и гранату.
— Ты что ж, невооруженная ко мне пришла?
— Что ты, — ответила Аня и похлопала себя по карману, — у меня тут браунинг и лимоночка. На четверых — как раз в клочья.
— Оружие давай мне, — сказал Муха, — ты красивая, они могут с тобой начать заигрывать — погоришь по глупости.
Аня протянула ему браунинг.
— Лимонку тоже давай.
— Она же маленькая…
— Давай, давай, Ань, не глупи.
Он спрятал лимонку, потом развернул карту и сказал:
— Ну, показывай, где?
— Вот, возле Вышниц.
Муха аж присвистнул:
— Ты с ума сошла? Это ж сто километров!
— Ну и что?
— Ты границу переходила?
— Какую?
— Рейха и генерал-губернаторства…
— Я под проволокой пролезала, но я не думала, что там граница.
— За два дня отмахала сотню верст?
— Ну и что?
— Свежо преданьице.
— Ты не верил, что я карту найду?
— Молодец, — сказал Муха, — если так — молодец. Там же патрулей до черта, как ты сквозь них прошмыгнула? Шифры где? Там?
— Конечно.
— Опиши — где.
— Ты не найдешь один.
— Найду.
— Не найдешь, Андрюша. Там сухой камыш, там только я найду.
— Ладно, пошли домой. Буду думать, где лошадей достать. Вообще-то, на машине б хорошо: за три часа можно подъехать к границе. А как переносить? Если там камыши, значит, болотина есть. Как вынесем все?
— По моему следу вынесем — где я прошла. Я проведу, Андрюш, я вожу хорошо, по-сибирски.
Возвращались в Рыбны напрямик, по солнцу. Через час глаза резануло острым, белым высветом. Аня улыбнулась, а Муха замер на месте как вкопанный — испугался чего-то.
— Это вода. Озеро, наверное, свет стоячий — видишь…
Через пять минут они подошли к озерку. Заросшее кустарником и низкими синими сосенками, оно было тихое, вблизи — черное, а не ярко-светлое, каким показалось издали.
— Андрюш, ты иди влево, а я здесь выкупаюсь, ладно?
— Может, дома баньку затопим? Тут бани хорошие, с паром, медком поддают.
— Нет, я поплавать хочу, — ответила Аня, — я быстро, ты иди, подожди меня.
Муха сел на теплую высокую пахучую траву и стал снова разглядывать букет желто-белых ромашек. Потом он увидел Аню посредине озера: она плыла быстрыми, мужскими саженками. Руки она выбрасывала далеко перед собой, и Муха, похолодев, понял, что плывет она голая.
«Черт с ним, — подумал он, чувствуя, как кровь разом прилила к лицу, — попытка — не пытка».
Муха поднялся и пошел к тому месту, где он оставил Аню. Он шел, прижимая к себе букет. Он пришел туда как раз в ту минуту, когда девушка выходила из воды. Она подошла к платью, лежавшему на мелком, желтом песке, и в это время из кустов вышел Муха. Он шагнул к девушке, бросил под ноги букет и обнял Аню. Он обнял ее сильно и грубо — одной рукой притиснул к себе, а второй сжал грудь, повалил на траву.
— Я один, один, один, — шептал он, прижимая ее к земле, — я все время один… Ну, не мучай, пусти… Пусти. Не мучай.
— Не надо, Андрюшенька, — тихо, спокойно ответила Аня, — я понимаю, как тебе трудно, только не надо начерно жить.
Если б она закричала, или стала вырываться, или начала б царапать его лицо, он бы ослеп и не совладал с собой. Но этот ее тихий, спокойный голос вошел в него с какой-то тягучей, отчаянный, забытой болью. Он шумно выдохнул и повернулся на спину.
— Одевайся, — сказал он, — я отвернусь.
Когда Аня, одевшись, села подле него, Муха открыл глаза, собрал букет, протянул девушке и сказал:
— Держи. Подарок. Зла только не держи.
И — хватил ртом воздуха, будто из воды вынырнул.
Поздно вечером, когда стемнело, он сказал Ане, что едет в Краков к своим людям за лошадьми или, что еще лучше, за машиной. Вернуться обещал завтра утром. Вообще-то, он был уверен, что Берг заставит его возвратиться немедленно и даже, как прошлый раз, подвезет к Рыбны на своем «хорьхе», но Муха решил найти себе на ночь проститутку — заглушить ею, этой незнакомой, доступной женщиной, то видение, которое то и дело возникало перед глазами: острый, неожиданный высверк озера, солнце, рассыпавшиеся по песку цветы и девушка, красивей которой он в своей жизни не видел.
— Я тебя запру, — сказал Муха на прощание, — так будет спокойней. И ставни закрою: в пустые дома они не суются, они туда суются, где печи топят.
В час ночи кто-то осторожно поскребся в ставню. Аня замерла в кровати и с ужасом подумала, что все ее оружие спрятал Муха. Ставень, скрипнув, отворился. Через стекло Аня увидела седого мужчину. Он поманил Аню пальцем, он видел ее, потому что на кровать падал мертвый, медленный, серебристый лунный свет.
Аня поднялась и, набросив на плечи кофту, подошла к окну.
— Девушка, — сказал седой, — меня послал Андрий.
Человек говорил с сильным польским акцентом.
— Какой Андрий?
— Откройте окно, не бойтесь, если бы я был немец, я бы шел через дверь.
Аня открыла окно.
— Дочка, — сказал человек, — Андрий велел мне срочно привести тебя на запасную квартиру. Тут стало опасно, пошли.
Аня быстро оделась и перелезла через подоконник.
17. ВСЕГО ХОРОШЕГО!
Теперь, после бесконечных, изматывающих ночных допросов, пробираясь сквозь толпу на рынке. Вихрь — спиной, ушами, затылком — чувствовал, что слепец уже не так напряжен и не сжимает в кармане рукоять парабеллума. Вихрь чувствовал и по темпу проходивших «дружеских собеседований», и по вопросам, уже не таким прострельным и стремительно менявшимся, что гестаповцы склонны верить ему после их экзамена с «вельветовой курткой».
Поэтому сейчас, продираясь сквозь толпу, Вихрь чувствовал, что на первом этапе возможного побега во время облавы ему будет легче, чем позавчера, потому что непосредственная его охрана уже пообвыкла и успокоилась после первого похода на рынок.
Вихрь ждал облавы. Он понимал, что если и сегодня облавы не будет и ему не удастся уйти, то он может запутаться в той осторожной полуправде, которую он показывал на допросах. Он пока что скользил по вопросам, которые ему ставили, но скользил так, чтобы вызвать «эффект слаломиста», — стремительно, шумно и много снежной пыли. Однако эта снежная пыль вот-вот уляжется, и гестаповцы посидят с карандашом над предыдущими допросами и пойдут по деталям. Их будет интересовать все относящееся к нашей армии. Вихрь считал гестапо серьезнейшей контрразведывательной организацией; наивно полагать, что гестапо было в неведении о системе нашей фронтовой разведки, об именах, основных спектрах интересов и направленностей. Вопрос заключался в том, что они знали, какими фактами — именами и цифрами — могли, незаметно для самого Вихря, уличить его во лжи.
Пока что Вихрь расплачивался именами погибших товарищей, историей своего Днепропетровского подполья, секретами своей — теперь уже устаревшей — разведработы в Кривом Роге, в организации Тодта. Он шел осторожно, на ощупь, но он, с каждым днем все явственнее, видел конец своего пути, когда кончается игра и начинается предательство.
Вихрь брел по рынку, присматриваясь к людям, которые его окружали, и думал, что сейчас промедление становится подобно смерти. Поэтому он с особым вниманием вглядывался в лица людей, окружавших его, и старался представить, как они будут себя вести, если он ринется сквозь толпу — напропалую, не дожидаясь облавы.
«Либо все попадают, когда начнется стрельба, либо кинутся в разные стороны, и я окажусь в простреливаемом коридоре. Впрочем, слепой начнет палить вслед без разбора, да и длинный, который впереди, — тоже. Хотя с длинным легче: пока он обернется, я уйду далеко, а если пригнусь, они меня не увидят в толпе, — думал Вихрь, — но все равно станут палить, людей перегубят — страх…»
Высоко в небе запищал комарик. Вихрь замер, продолжая размеренно и валко идти вперед. Он шел, как шел, только начал ступать на носки, будто в лесу на охоте в ожидании дичи, когда ее нет, но вот-вот где-то сейчас, здесь, из-под ног, высверкнет тетеревом, двумя, тремя тетеревами, выводком, большим тетеревиным выводком, резанет воздух дуплетом, грохнется черно-бело-рыжий комок на землю, заскулит пес, потянет пороховой гарью, замрет сердце счастьем.
«Тише вы! — чуть не кричал Вихрь на людей, которые шли, громко шаркая голодными, тонкими, уставшими ногами по серым плитам площади. — Тише вы! Слышите, самолеты!»
Потом он увидел в небе черные точки: армада самолетов шла с запада на восток — бомбить наших. Вихрь вздохнул, опустил глаза и увидел, что идущий впереди гестаповец, поднявшись на мыски, заглядывал через головы шумливых старух. Он увидел мальчишку, который ползал на коленях, собирая огрызки яблок и окурки, валявшиеся возле скамеек, где сидели люди, ожидавшие поезда. Мальчишка был черненький, длинноносый, с проволочными гладкими волосами.
«Цыганенок, — понял Вихрь, — они для них вроде евреев. Как натасканный пес — не может пройти мимо цыганенка. Что сейчас в нем творится, в этом длинном? Точно, как натасканная собака. Тварь этакая».
Длинный гестаповец свернул, прошел сквозь плотную шеренгу торговцев, толкнул какого-то старичка в широкополой черной шляпе, отвел локтем немецкого солдата и больно толкнул цыганенка в бок мыском сапога — будто бы невзначай. Цыганенок вскинул свое громадно-глазое лицо, увидел длинного и, словно нутром поняв опасность, стал отползать на карачках. Потом поднялся и юркнул в тихую, жаркую, настороженную толпу. Людское море голов зашевелилось там, где пробегал мальчишка.
«Вот! — резануло Вихря. — Вот оно!»
— А-а-а! — заорал он, что есть силы ударив слепца по очкам, и ринулся в сторону, противоположную цыганенку, сшибая руками и ногами людей с узлами и чемоданами. Рынок зашумел; пронзительно затрещали свистки полиции; кто-то тихо, испуганно закричал у него за спиной — началась паника, заржали кони, хлестнул выстрел, другой…
Вихрь бежал согнувшись, выставив вперед голову, сдирая с себя на бегу синий пиджак — первую примету. Он бросил пиджак под ноги, увидел — стремительным кинокадром, — как к пиджаку потянулись чьи-то руки, на пальцы в тот же миг обрушилась здоровенная ножища, но крика уже не было слышно, потому что кричало и вопило все вокруг.
Вихрь глянул вправо — там разворачивался грузовик с крытым зеленым кузовом: из него черными комьями вываливались полицейские.
Мелькание в глазах вдруг сменилось замедленным видением — как в предсмертный, последний час. «Парикмахерская» — проплыли перед глазами буквы чуть подальше парадного входа гостиницы «Варшавской».
Каким-то последним, холодным, отчаянным разумом Вихрь толкнул дверь; остро дзинькнул звонок. Парикмахер, побледнев, шагнул навстречу.
Мгновение Вихрь стоял на пороге, а потом сказал:
— Я бежал из гестапо. Это ищут меня.
18. У ПАЛЕКА
Седой привел Аню в старую баню. Здесь пахло дубовыми бочками, пенькой и каким-то особым, далеким, но знакомым Ане рыбацким запахом: то ли дегтем, то ли прошлогодней вяленой рыбой. Этот запах, знакомый Ане по тайге, вдруг успокоил ее: так бывало в зимовьях, где отец останавливался, если шел белковать на сезон.
— Сядь, девка, — сказал Седой и, достав большой клетчатый платок, вытер лицо. — Сядь, — повторил он, засветив огарок тоненькой церковной свечки.
Аня огляделась и вздрогнула: у стены сидели женщина, парень в крагах и девушка, которая ехала следом за ней с Мухой на велосипеде, когда они шли в лес.
— Сядь, — повторил Седой еще раз, — сядь и отдохни. Здесь твои друзья, если ты — та девка, которая должна была прилететь с рацией.
— О чем вы говорите? — пожала плечами Аня. — Вы меня путаете с кем-то.
— Ладно, — сказал Седой, — хорошо. Ты этих людей не знаешь, они знают тебя.
— Где Андрий?
— Твой Андрий у немцев.
Аня поднялась и прижала руки к груди:
— Что?!
— То самое, — подтвердил Седой.
— Его арестовали?
— Нет. Он им служит.
Аня усмехнулась:
— Что-то я не понимаю, о чем вы говорите. Вы меня путаете, честное слово. Я тетю ищу. Тетю с Курска, понимаете?
— Перестань. Мы не шутим, — сказал Седой, — мы твои друзья. Мы ждали вас, нам говорил про вас Андрий, когда прилетел. Это дом Палека, это ваша явка. Мы друзья тебе, друзья, пойми.
— Вы меня с кем-то путаете, честное слово, — засмеялась Аня, — мне жить негде, я тетю ищу, Андрий меня и приютил.
— Не болтай ерунды. Ты и остальные члены вашей группы должны были прийти в дом к Станиславу Палеку, что на Грушовой улице, и передать ему привет от его сына Игнация, полковника Войска Польского.
— Я его сын, — сказал парень в крагах. — Сын Игнация, внук Станислава. Ты у нас в доме.
Аня оглядела всех людей, собравшихся сейчас в этой маленькой баньке.
«Бросьте вы говорить про физиогномику, — вспомнила она слова капитана Высоковского. — Иной раз мотаешь типа — ангел с физии, а все равно убежден, что перед тобой — вражина, сердце говорит…» Аня тогда засмеялась и спросила красивого капитана: «А сердце ваше говорит после того, как глаза посмотрели в глаза, не так ли?» «Нет, — ответил Высоковский, — в донесения. Они точнее глаз и сердца. Настоящую историю общества напишут через много лет, и это будет самая точная история, потому что наши архивы, досье на ангелов и чертей, счета им — и чертям и ангелам — на машины, особняки и лекарства станут открытыми. И люди не будут гадать, разглядывая рисованные или фотографические портреты, хорош он был или плох. Они будут знать всю правду: и про негодяев с чистыми глазами святых, и про героев с хамскими лицами и косноязычной речью».
— Я не верю вам, — сказала Аня, — вы знаете все, но я вам не верю. Он не мог быть предателем!
— Он мог им не быть, — ответил Седой, — он им стал.
— Он не мог им стать!
— Почему?
— Потому, что он наш!
— А мы чьи? — спросил парень в крагах. — Нас ты считаешь чьими?
Седой сказал:
— Надо срочно связаться с вашим Центром: как поступать с Андрием? Брать его живым или убирать здесь же, пока он больших бед не натворил?
«Неужели я не верю этим людям только потому, что они плохо говорят по-русски, а Муха — наш парень? — думала Аня, отстраненно прислушиваясь к тому, что ей говорил то Седой, то сын полковника Игнация, внук Палека. — Если это так, тогда ужасно. Тогда надо записываться в союз Михаила-архангела. Муха был все время на связи с Бородиным. Ему верили в Центре. Нас посылали к нему. Но ведь нас к нему послали потому именно, что он передал о своих связях с польским подпольем. Фамилию Палек я знаю, тут они говорят правду. Про Палека знали Муха, Вихрь, Коля и я. А если — радиоперехват? Если все это сейчас разыгрывают статисты из гестапо?»
— Запомни: промедление — преступно, — закончил Седой, — особенно сейчас.
— Я у вас, — сказала Аня, — я в ваших руках. Можете делать со мной все, что угодно. Я вам не верю! Понимаете?! Не верю!
19. ВЕЧЕР И НОЧЬ
Не предупреди Берг Муху, тот обязательно отправился бы в гестапо — сказать о радистке, которая живет у него. Но полковник — после вызова агента на очную ставку с Вихрем — просил Муху все дела вести только с ним одним, сказав, что теперь по указанию руководства он один будет курировать группу, которая выходит на связь с Мухой.
— Мои друзья из гестапо, — говорил Берг, — сейчас заняты другими вопросами, так что вам я запрещаю беспокоить их. Ясно?
— Ясно, — ответил Муха, — только они могут обидеться…
— Мы не дети и не ревнивые жены, — ответил Берг, — мы не обижаемся; мы убираем тех, кто нам мешает, и поднимаем тех, кто оказывает дружескую помощь. Но обижаться… Это не занятие для разведчиков.
— Ваши люди будут держать мою явку под наблюдением? — спросил Муха.
— Зачем? — удивился Берг. — Я надеюсь, к вам пришлют не первоклассников, а опытных людей. Хвост всегда заметят опытные люди, как бы точно мы ни организовали слежку. Или вы что-то напортачили? Ничего не брякнули девице?
— Что вы… Мы с ней подружились.
— Она не засомневалась?
— С чего?
— Ну и слава богу. А когда подойдут остальные, тогда мы с вами вообще будет видеться раз в месяц — где-нибудь в ресторане, на людях, чтоб ни у кого не было никаких подозрений: беседует себе молодой парень со старым польским учителем.
Берг рассказал Мухе план завтрашнего дня. В девять утра через центральную площадь Рыбны, мимо костела, пойдет старая машина с несколькими пассажирами в кузове. Муха должен будет поднять руку. Шофер притормозит и попросит десять оккупационных марок с двоих. Муха уплатит восемь — после торговли. С этой машиной они доедут по шоссе до того места, где приземлилась Аня. Когда они выкопают рацию, вечером по шоссе тоже пройдет машина, и шофер подбросит их до Рыбны.
Берг дал Мухе денег и позвонил в казино, чтобы его пропустили туда. Муха много пил, не пьянел, присматривался к проституткам и улыбался осторожной улыбкой, когда к нему обращались по-немецки официантки.
«К черту, — все время вертелось у него в голове, — все к черту, к дьяволу, к бесовой матери. К черту, к черту».
Он не мог бы объяснить себе, кого посылал к черту. Просто он отгонял от себя этим бесконечным, хмельным одиноким «к черту, к черту» то непонятное и тяжелое, ворочавшееся в нем — особенно по утрам, после похмелья, или когда Седой приносил сало, чтобы подкормить его, или когда Аня тихо сказала ему, что нельзя жить начерно.
Около двенадцати он договорился с пожилой размалеванной женщиной, собиравшей со столиков пивные кружки с осевшей на донышке пеной, которая была похожа на рваные кружева. Он дал ей аванс и сказал, что будет ждать ее на углу, под часами.
Когда она вышла к нему, он больно взял ее за руку и рванул к себе, чтобы она была ближе, рядом.
— Пан такой юный, — сказала женщина, — мне даже страшно идти с паном.
— Молчи ты, — ответил ей Муха по-русски, — идешь и иди. Только молчи.
Рейхсфюреру СС Гиммлеру
Строго секретно.
Документ государственной важности
Рейхсфюрер!
Сегодня утром меня посетил штандартенфюрер Швайцер. Следуя указанию, полученному от Вас, я передал ему приблизительные планы по краковской акции. Поскольку он направлен в Прагу и Братиславу с идентичными заданиями, мне казалось целесообразным посоветовать ему не перенимать все то, что сделано нашими инженерами, ибо условия Братиславы в настоящее время отличаются от положения в Кракове. Видимо, было бы разумнее откомандировать в Прагу полковника Крауха, хотя бы на месяц, для оказания практической помощи Швайцеру. Думаю, что я смогу убедить армию в необходимости такого мероприятия, хотя, как мне показалось, Швайцер не очень-то расположен принимать мое предложение, в то время как опыт Крауха должен быть перенят и изучен ввиду его значительного интереса для всех нас.
Дело заключается в следующем. По плану Крауха и Дорнфельда в случае нашего стратегического успеха, будет ли он продиктован нашей военной мощью, дипломатическим маневром или введением на фронтах нового смертоносного оружия возмездия, — акция уничтожения Кракова, как апофеоз нашей победы и поражения славизма, будет проводиться саперами, как обычная армейская операция. В случае же нежелательного и маловероятного поворота дел Краков будет в течение ближайших месяцев готов к уничтожению. Всякая случайность, преждевременная команда сумасброда или паническое форсирование событий исключается, поскольку в Пастернике в специально оборудованном бункере будут находиться два офицера СС. Это позволит нам контролировать положение до последних секунд, это позволит нам впустить в город войска противника и уже потом похоронить Краков со всеми находящимися там войсками. Естественно, при отборе кандидатур мы обратимся в местный партийный аппарат, который и проведет утверждение подобранных нами людей.
Прилагаю список возможных кандидатов, всего двадцать человек, то есть десять вариантов на каждое место. Прилагаю также схемы и чертежи, признанные нами окончательными.
Хайль Гитлер!
Ваш Биргоф.
…Ранним утром Муха вернулся на явку и мечтал только об одном — помыться горячей водой: голова разваливалась, самому себе был гадостен. Он отпер дверь и увидел Седого; Ани не было.
— Где радистка? — спросил Муха.
— Пошли, она у нас, — сказал Седой, — ночью была облава, мы ее увели к себе, тут неподалеку. Пошли.
Когда Седой пропустил Муху в баньку, здесь было сумеречно. Муха сказал:
— Зажги лампу, а то с солнца не видно ни черта.
— Сейчас.
Седой чиркнул спичкой и поднес ее к фитилю. Лампа хлопнула, фыркнула, вспыхнула грязно-желтым пламенем. Седой привернул фитиль. Муха огляделся и вдруг почувствовал себя легко-легко, как ночью, после первых минут у той женщины. И еще он увидел желтый песок, черную воду озера и рассыпавшиеся ромашки.
Перед ним сидела Аня, а рядом с ней, сцепив между коленями длинные пальцы, — тот парень, с которым ему давали очную ставку в гестапо.
— Выйдите все, — сказал Вихрь.
Аня и Седой стояли возле баньки в саду, на самой окраине села. Они ждали больше часа. Потом в бане грохнул выстрел. Вихрь вышел на порог и сказал Седому:
— Сейчас мы его похороним, и всем надо уходить. Он продал явку Палека и то место в лесу, которое ты ему показала, Аня.
— Какое? — спросила Аня.
— То самое. Где рация.
— А как же теперь быть?
— Нужна машина. Седой, — сказал Вихрь, — выручай, друг.
— Машина есть у Тромпчинского. Машина будет. Он Тромпчинского не продал?
— Он его не знал по имени. Он продал тебя и Аню. Ну, пошли копать яму.
Когда они похоронили Муху, Аня спросила:
— А где ты был до сих пор? Я места себе не находила…
Вихрь ответил:
— Я был на другой явке.
— У кого?
— У наших друзей.
Ранним утром, вернувшись с Тромпчинским на его машине со спрятанной в багажнике рацией, Аня вышла на сеанс с Бородиным и передала, что группа приступает к работе.
20 …БЕСЕДУЮТ
Стенограмма совещания в ставке Гитлера
Присутствовали фюрер, Гиммлер, Кальтенбруннер, Йодль.
Гитлер. В принципе идея, бесспорно, хороша. Нация, побежденная в войне, обязана вымереть или ассимилироваться — в той, конечно, мере и в таких строго дозируемых пропорциях, чтобы не загрязнить кровь победителей. Когда болтают о некоей особенности степени превосходства людей смешанной крови над людьми точных и верных кровей, я не перестаю удивляться близорукости этих болтунов. Превосходство в чем? В умении приспосабливаться? В умении находить лазейки? В умении искать для себя те сферы деятельности, которые дают большую выгоду? В этом люди смешанной крови, бесспорно, преуспевают по сравнению с чистой кровью, приближаясь в некоторой степени к приспособляемости евреев. Но разве умение приспособляться или жажда легких путей в жизни, овеянной героикой, — идеал для будущего поколения арийцев? Мне всегда были противны ухищрения и хитрости. Я шел к нации с поднятым забралом! Я шел к немцам с правдой. Проблема ассимиляции покоренных — особая тема для изучения. Идея уничтожения очагов славянства, как некоторая гарантия против возможного возрождения, соподчинена нашей доктрине. Но, Кальтенбруннер, я призываю не к декларациям, я призываю к разумному исследованию экономической подоплеки вопроса. Вы представили мне прекрасно продуманные планы и четкие инженерные решения, я рукоплещу вашей скрупулезной и вдохновенной работе. Однако позвольте мне поинтересоваться: скольких миллионов марок это будет стоить народу? Сколько вам потребуется для этого фугаса? Тола? Бронированных проводов? Вы занимались изучением этого вопроса?
Кальтенбруннер. Нам хотелось сначала получить принципиальное подтверждение разумности нашей идеи…
Гитлер. Вы допускали мысль, что я буду стенать по поводу языческих церквей Кракова или Праги? Вождь обязан отдавать свое сердце — все без остатка — той нации, которая родила его, поверила в него и привела к трагическому и прекрасному кормилу государственного руководства. Залог грядущей победы заключается в том, что наши враги являют собой конгломерат разноязыких государственностей, построенных на одинаково глупых, но вместе с тем противоречивых идеях отмершего демократизма: нам противостоит Ноев ковчег. Мне не нужно ничего, кроме времени, которое неумолимо работает на немцев!
Гиммлер. Это бесспорно, мой фюрер.
Кальтенбруннер. Кое-кто высказывает мнение о целесообразности контактов с Западом, мой фюрер…
Гитлер. Сокрушающая мощь рейха поставит на колени и Восток и Запад. Запомните, пожалуйста: вы не политик, вы — полицейский.
Гиммлер. Политика, не подтвержденная хорошей полицейской службой, — это миф.
Гитлер. Кальтенбруннер не нуждается в вашей защите. Он достаточно хорошо знает мое к нему отношение. Неужели даже в разговоре с друзьями мне должно придерживаться бюрократических пиететов? Друзья должны говорить друг другу о том, чего им недостает, а не о том, что принесло им славу и признание. Итак, я прошу ответить на мой вопрос: сколько мне будет стоить ваша затея?
Кальтенбруннер. Фюрер, я не готов к ответу.
Гиммлер. Нам потребуется день-два на подсчеты и консультации с ведущими специалистами.
Йодль. Фюрер, на проведение этих акций в Кракове, Праге, Братиславе нам необходимо столько тола, сколько выработает вся химическая промышленность рейха в этом году.
Гитлер. Браво! Это восхитительно, Гиммлер, вы не находите?!
Йодль. Но при условии, что ни один снаряд не упадет на головы наших врагов.
Гитлер. Я аплодирую, Гиммлер! Я в восторге от вашей программы. Наивность в политике граничит с предательством национальных интересов! Почему я должен продумывать детали за вас?! Почему я должен ломать голову над вашими бредовыми планами?! Есть предел всему! Я заявляю с полной ответственностью, что в грядущем уголовном положении рейха я введу статью, которая будет карать наивность превентивным заключением в концлагерь.
(Фюрера приглашают к прямому проводу с фельдмаршалом Кейтелем, и он уходит из кабинета.)
Кальтенбруннер. Йодль, был ли смысл говорить здесь о ваших подсчетах?
Гиммлер. Йодль поступил правильно, а вот вы ставите меня в нелепое положение. Самолюбие — как нижнее белье: его надо иметь, но не обязательно показывать.
(Гиммлер уходит следом за фюрером.)
Кальтенбруннер. Простите, Йодль, но нервы у всех на пределе.
Йодль. Э, пустое…
Кальтенбруннер. Слушайте, а если я достану тол?
Йодль. Вы верите в чудеса?
Кальтенбруннер. Теперь у нас все верят в чудеса.
Йодль. Меня все-таки исключите из списка.
Кальтенбруннер. Напрасно. Я помню, когда мы в Вене в тридцать четвертом году объявили голодовку в тюрьме, я на седьмой день явственно увидел чудо: на край моей койки сел пес. В зубах у него был кусок хлеба. Он отдал мне хлеб, и я съел его. А вскоре все кончилось, ворота тюрьмы распахнули солдаты, и меня на носилках вынесли из камеры, и люди бросали мне розы.
Йодль. Когда в чудеса начинают верить солдаты, тогда кампанию следует считать проигранной.
(Входят фюрер и Гиммлер.)
Гитлер. Я всегда считал ум Гиммлера наиболее рациональным и точным из всех великих умов, которыми провидение окружило меня!
Гиммлер. Кальтенбруннер, каковы запасы нашего долларового фонда?
Кальтенбруннер. Реального или тех бумаг, которые мы печатаем у себя?
Гитлер. Меня интересуют те доллары, которые вы печатаете у себя.
Кальтенбруннер. Долларовые запасы весьма невелики. У меня много фунтов стерлингов, опробированных нашими людьми в Лондонском банке.
Гитлер. Вы сможете на эти фунты закупить мне тол?
Кальтенбруннер. В Аргентине или Бразилии?
Гитлер. Это меня не волнует! Хоть у евреев в Америке!
Кальтенбруннер. Боюсь, что с американскими евреями будет нелегко договориться.
Гитлер. Я всегда верю людям, лишенным юмора!
Кальтенбруннер. Видимо, есть только один шанс: через Испанию или Португалию прощупать южноамериканские республики.
Гиммлер. Мы сможем доставить тол в Болгарию? Под их флагами?
Кальтенбруннер. Рейхсфюрер, вы подняли меня на смех, когда я говорил о Словакии и о договоре, существующем между нами. Я позволю себе высказать более серьезное опасение: Южная Америка — это не Словакия. Если там обнаружат мои фунты стерлингов, если разразится скандал, мы потеряем опорные базы друзей национал-социализма.
Гиммлер. У нас есть Геббельс. Он докажет как дважды два, что все это интриги экспансионистской Америки и Англии, которые мешают нам торговать. Пусть это вас меньше всего тревожит. Пусть ваши люди договорятся с торговцами Аргентины или Чили…
21. ЗВЕНО ЦЕПИ
Генерал Нойбут в личной жизни был человеком аскетичным. И это не был показной, истеричный аскетизм фюрера. Кадровый военный, человек в глубине души серьезно верующий, он хотел делить со своими солдатами хотя бы часть тех тягот, которые несла с собой война. Поэтому, приезжая в Краков, генерал останавливался не в специально содержавшемся правительственном особняке, а в офицерской гостинице, которая стояла на берегу реки, почти прямо против входа в старый замок польских королей.
Нойбут обычно занимал номер на третьем этаже. Дежурный адъютант генерала майор фон Штромберг перед приездом Нойбута приказал вынести из комнат мебель черного дерева, заранее завезенную сюда подхалимами из службы тыла.
— Генерал не станет жить в этой роскоши, — сказал майор, — этот стиль более соответствует вкусу состарившейся звезды из варьете, нежели солдата. В гостиной оставьте письменный стол. Кресло заберите, генерал не любит мягкой мебели. Только этот высокий стул. Тумбочку для телефонов отнесите к окнам. Генерал разговаривает по телефону стоя. Корзину для бумаг — под стол. Из спальни — все вон! Стенные шкафы достаточно глубоки? Хорошо. Сюда, в нишу, поставьте металлическую кровать с пружинным матрацем. Пуховые перины — вон. Генерал укрывается суконным одеялом.
Фон Штромберг сел на подоконник и стал наблюдать, как офицер из охраны СС, дежурный по этажу инвалид-фельдфебель и горничная пани Зося — старуха в белом хрустящем фартуке и белой наколке на белых, даже чуть с синевой, седых волосах, расставляли заново всю мебель.
«Старуха была ничего, — думал фон Штромберг, глядя на пани Зосю, — она даже сейчас грациозна».
— Господину генералу будет неудобно спать, — сказала пани Зося, — если мы поставим кровать в нишу, свет будет падать ему в глаза.
— Вы занятно говорите по-немецки. Спасибо за совет. Женщина остается женщиной. Кровать поставьте к стене. Нет, нет, сюда — чуть подальше от шкафа. И пожалуйста, ни в коем случае не наливайте в графин кипяченой воды. Только сырую, только сырую.
Нойбут прилетел вечером, когда стемнело. Он вошел в номер, долго стоял возле большого окна, любуясь громадой Вавеля, четко вписанного в серую пустоту неба, потом опустил светомаскировку, включил свет в большой, яркой люстре и сел к столу. Мельком оглядев убранство комнаты, он благодарно кивнул фон Штромбергу. Тот, словно дожидаясь этого момента, положил на стол серую папку из толстой свиной кожи: последняя почта и документы на подпись.
— Благодарю, — сказал Нойбут, — я вас не задерживаю более. Отдыхайте.
— Спокойной ночи, господин генерал.
— Спасибо. На всякий случай — кто сегодня дежурит?
— Подполковник Шольф.
— Хорошо. Пусть он соединяет меня только со ставкой, для остальных я сплю. Дьявольски болтало в полете. С погодой происходит что-то нелепое — то грозы, то тропическая жара.
— Природа, видимо, тоже воюет.
— С кем? — улыбнулся Нойбут. — Ей нес кем воевать, она едина и неодолима.
Он раскрыл папку, и фон Штромберг сразу же вышел из комнаты. Нойбут быстро проглядывал документы, подготовленные дежурным по штабу. Бумаги, не представлявшие интереса, он складывал в папку; серьезные материалы откладывал в сторону и придавливал их большим камнем сердолика, подаренным ему генералом Прайде, когда тот прилетал на неделю из Крыма; наиболее важные документы Нойбут собирал в большой зажим, сделанный в форме руки дьявола: с большими, кривыми, острыми ногтями.
Генерал работал до часу ночи. Первый документ, который он подписал, был приказ, подготовленный в его секретариате совместно с сотрудниками контрразведки, о повсеместном введении смертной казни на оккупированных территориях:
Давнишним желанием фюрера является, чтобы при выступлениях против империи или оккупационных властей на оккупированных территориях против преступников применялись иные меры, чем до сих пор. Фюрер придерживается такого мнения: при подобных преступлениях наказание в виде лишения свободы, а также пожизненная каторга рассматриваются как проявление слабости. Эффективного и длительного устрашения можно достичь только смертными казнями или мерами, которые оставляют близких или население в неизвестности о судьбе преступника. Этой цели служит увоз в Германию. Прилагаемые директивы о преследовании преступлений соответствуют точке зрения фюрера. Они апробированы и одобрены им.
Нойбут.
Документ был составлен довольно четко, без раздражавшей Нойбута партийной трескотни, поэтому он подписал его после второго прочтения, переставив в двух местах запятые — всего лишь: Нонбут не любил в документах много знаков препинания.
«Приказ — не беллетристика, — говорил он, — запятые мешают усвоить суть дела. Они цепляют глаз солдата».
С другими документами Нойбут сидел значительно дольше, вносил коррективы, переписывал целые абзацы. И чем больше он работал, тем медленнее подвигались дела — то ли сказывалась дневная усталость, то ли его раздражала плохая работа канцеляристов — обилие витиеватых формулировок, дутая многозначительность: каждый, даже самый маленький, штабист мнит себя стратегом. «Неверное понимание стратегии, — подумал Нойбут. — Истинная стратегия немногословна и отличима своею обнаженной простотой».
Нойбут принял душ, растерся сухим, подогретым полотенцем и лег в постель. Закрыл глаза. Он засыпал сразу же, как только укрывался одеялом. Но сегодня впервые по прошествии десяти — пятнадцати минут он с некоторым удивлением заметил, что сон не идет. Нойбут повернулся на правый бок и сразу же вспомнил мать: она заставляла его спать только на правом боку, подложив обе руки под щеку. Нойбут улыбнулся, вспомнив вкус яблочного пирога: по воскресеньям мать готовила большой яблочный пирог — с ванилью и мандаринами. Мать называла мандарины грейпфрутами, хотя это были настоящие мандарины.
«Неужели бессонница? — подумал Нойбут. — Говорят, это крайне изнурительно. Отчего так? Несуразица какая-то».
Он лежал, крепко смежив веки. Сначала он видел зеленую пустоту, а потом в этой зеленой пустоте он увидел черные ряды бараков концлагеря. Они сегодня пролетали над этим концлагерем для военнопленных. Офицер из СС прокричал в ухо Нойбуту:
— Это лагерь с газом. Производительность печей — более тысячи человек ежедневно.
— Каких печей? — спросил Нойбут.
— Газовых, господин генерал, газовых, — пояснил тот, — это гигиенично и рационально: не расползаются вздорные слухи.
«Видимо, это, — подумал Нойбут. — В последнее время они то и дело колют нас, солдат, этой своей гадостью. Зачем? Пусть за газовые печи, если это необходимо, гестапо отвечает перед нашим будущим и своей совестью. Я — солдат. Нация позвала меня на борьбу, и я стал на борьбу».
Нойбут поднялся с кровати, подошел к окну, поднял светомаскировку и долго смотрел на город, который будет уничтожен.
«Они стенографировали каждое мое слово, когда я уточнял план уничтожения очагов славянской культуры, — вспомнил отчего-то генерал. — О, трухлявый ужас архивов, где хранится то наше, о чем мы сами давным-давно забыли! Тихие, злорадные чиновники-мышата надежно и цепко хранят наш позор. Как многие мечтают, верно, забраться в архивы и секретные сейфы и уничтожить все, касающееся их судеб, слов, призывов, обещаний!»
Нойбут отошел к столу и снова начал пролистывать бумаги, подписанные им сегодня. Над первым документом — о казнях и высылке в Германию — он задумался по-новому.
«Я старый человек, — подумал он жалобно и горько. — Они должны будут понять, что я старый человек и солдат. Никто не имеет права судить солдата, кроме родины. Никто не смеет судить долг перед народом».
Нойбут поднялся и сделал приписку к этому приказу: «Применение этого приказа, сурового, как и все, рожденное войной, необходимо только в тех случаях, если налицо — доказательства преступления».
Он прошелся по комнате, вернулся к столу и тщательно зачеркнул свою приписку.
«Корректировать фюрера? — подумал он. — Вряд ли это пройдет незамеченным. Гальдеру и Браухичу легко: они ушли в оппозицию давно; им простится все, что они делали прежде. Мне уходить в оппозицию поздно — не приобрету там, но потеряю здесь. Я забыл о главном принципе военной стратегии: «отступи вовремя». Я поверил грохочущей логике нашего фюрера, тогда как превыше всего обязана цениться тихая логика собственной мысли. Общенациональный истеризм смял и меня. Это — очевидно».
Нойбут вызвал дежурившего подполковника Шольфа и сказал:
— Принесите мне стенограмму совещания, которое я созывал, — о будущем Кракова.
Шольф положил перед генералом стенограмму совещания, созванного им в связи с акцией по уничтожению очагов славизма.
Нойбут сидел за столом — строгий; мундир в талии перехвачен широким черным ремнем, сапоги — каблук к каблуку, как на параде. Он внимательно перечитал стенограмму и поставил галочку против своих слов: «Между прочим, Биргоф, я плакал слезами восторга в Лувре. Я бы возражал против этор акции, если бы не отдавал себе отчета, что она необходима как военное мероприятие».
Он откинулся на высокую спинку и подумал: «Ну что ж… По-моему, это достойно. Я говорил как солдат».
Он отложил стенограмму, потянулся, замер, сцепив пальцы рук. Усмехнулся — возле его рук лежали пальцы дьявола, вцепившиеся в бумаги из сегодняшней почты.
«Вот оно, — подумал Нойбут. — Все мое наиболее важное и страшное хранится в этих лапах. Я был у Гиммлера, когда он говорил о целях уничтожения славизма и его очагов. Эти цели продиктованы их политическими и расовыми устремлениями, а не требованием военной обстановки. А я согласился с ним. И все слышали это. Неизвестно, что страшнее: мои фразы в этой стенограмме или же обоснование необходимости уничтожения там, у Гиммлера в кабинете. Самое худшее, если я предстану перед судом потомков в роли дешевого балаганного двуликого актера, а не солдата».
Нойбут расцепил похолодевшие пальцы, поднялся, пристукнул кулаком по столу, выключил свет, открыл окно и сказал:
— Только драться… До конца…
С этим он лег. Уснул легко.
Порыв ветра слизнул со стола несколько листков. Пролетев через всю комнату, они мягко скользнули под кровать.
Поднялся Нойбут, как обычно, в шесть утра. Сделал гимнастику, принял ледяной душ, сам побрился и вызвал Шольфа.
— Пусть мне сменят этот зажим для бумаг, — попросил он, указав глазами на пальцы дьявола. — Абракадабра какая-то. Вкус трусливого мещанина, разбогатевшего на сводничестве.
Шольф сразу же пошел отдать соответствующее распоряжение. Через несколько минут генерал в сопровождении дежурных адъютантов вышел из своего номера. Проходя мимо замершего по стойке «смирно» офицера охраны СС, дежурного по этажу — инвалида и польской горничной, он остановился и сказал:
— Я оставил на тумбочке рубашку. Постирайте ее, пожалуйста. Но ни в коем случае не крахмалить. Воротничок должен быть мягким.
— Хорошо, господин генерал.
Нойбут протянул пани Зосе леденец:
— Это вашим внукам.
Она сделала низкий книксен, принимая подарок, и тихо ответила:
— Благодарю вас, у меня нет внуков.
— Дайте сыну, — улыбнулся Нойбут, — пусть точит зубы.
Пани Зося сделала книксен еще раз:
— Я одинока, господин генерал. Я съем леденец сама.
Ее сын сидел в тюрьме, дожидаясь расстрела. Он был приговорен к расстрелу имперским народным судом в Бреслау. Он был связным у Седого. Он не открыл своего имени, иначе пани Зося не смогла бы работать здесь. Пани Зося не стала обращаться за помощью к генералу — он, возможно, спас бы жизнь сыну. Подполью пани Зося была нужна в офицерской гостинице.
Пани Зося вошла в номер к генералу, сложила в сумку рубашку и начала уборку. Сначала она перестелила постель — ей показалось, что Нойбут недостаточно аккуратно взбил подушку, потом вытерла пыль и начала протирать паркет провощенным куском фетра. Она увидала под кроватью два листка бумаги, взяла их и быстро спрятала в сумку. Через два часа кончилась ее смена, и пани Зося вышла из гостиницы под руку с дежурным инвалидом-фельдфебелем — он у нее столовался.
22. ЗА РЮМОЧКОЙ
Фон Штромберг вызвал дежурную машину, когда Нойбут отпустил его, устроился на заднем откидном кресле, где обычно сидел генерал, а не впереди, на обычном адъютантском месте, и спросил шофера:
— Как ты думаешь, куда я хочу поехать?
— Чуть развеяться, господин майор.
— Милый Ганс, ты мудр. То, что ты сидишь в шоферах, лишний раз свидетельствует против нас как организации. Твое место в Берлине.
Шофер засмеялся:
— Не хочу.
— Отчего так?
— Шоферов любят женщины, и не надо снимать комнаты: сиденья отбрасываются.
— Что ты говоришь?!
— Только кожа холодная. Некоторые жалуются. А одна, в Лодзи, отказала мне в повторном свидании — у нее открылся глубинный ишиас.
Фон Штромберг хохотал до слез. Он и вылез из машины, сгибаясь пополам от смеха. Махнув шоферу рукой, он разрешил ему уехать.
— Когда за вами? — спросил Ганс.
— Не надо… Я останусь где-нибудь здесь.
Трауб ждал фон Штромберга, лежа на диване в кальсонах розового цвета и в шерстяной — до колен — ру бахе.
— Салют воину!
— Салют писателю! — ответил фон Штромберг. Вставайте, граф, вас ждут великие дела!
— Великие дела кончились. Осталось одно дерьмо.
— Я не могу спорить с тобой, пока трезв.
— В столе — виски.
— Откуда здесь виски?
— Мне оставил ящик парень из «Газетт де Лозанн».
Фон Штромберг достал из стола бутылку, налил, разбавил водой, выпил, блаженно зажмурился и сказал:
— Писатель, ты чувствуешь, как от этого пойла тянет настоящим хлебом, а? Шнапс я пить не могу: по-моему, его делают не из хлеба, а из мочевины. Химия рано или поздно убьет институт гурманства. Люди станут глотать шарики, начиненные калориями.
— Что новенького?
— Ничего.
— Скоро дальше?
— Какое «дальше» ты имеешь в виду?
— Мне нравится эта девица! Я имею в виду, когда снова начнем давать деру?
— Это зависит не только от нас, но в какой-то мере и от красных.
Трауб усмехнулся.
— Смешно, — сказал он. — Куда сегодня?
— Куда-нибудь, где много людей и хорошая музыка.
— Это крематорий.
— Писатель, ты злой, отвратительный человек.
— Едем в казино — больше некуда.
— У тебя новенького нет ничего?
— Ты имеешь в виду баб?
— Пока еще я не подозреваю тебя в гомосексуализме.
— Нет, ничего особо интересного нет.
— Ты добр во всем, но женщин скрываешь.
Трауб кончил одеваться, сделал радио чуть громче и остановился возле коричневого громоздкого аппарата.
— Тебе не бывает страшно, когда слушаешь этот ящик, Гуго?
— Почему? Меня изумляет это чудо.
— Тебя изумляет, как люди смогли втиснуть мир в шесть хрупких стеклянных лампочек? Так ведь?
— Так.
— Это — от дикарства. Ты дикарь. А дикари лишены страха, потому что Бог обделил их воображением. Меня страшит радио, я боюсь его, Гуго. Послушай. — Трауб повернул ручку, красная стрелка поползла по шкале, рассекая названия городов: Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Каир. — Слышишь? Мир создан из двух миллиардов мнений. Сколько людей — столько мнений, судеб, правд. У нас один, десять, сто человек навязывают правду национал-социализма миллионам соплеменников. А кто может зафиксировать то, о чем говорят эти миллионы в постели перед сном, уверенные, что диктофоны гестапо их не запишут? Что они думают на самом деле — о себе, о нас, о доктрине? О чем мечтают? Чего боятся? Кому это известно в рейхе? Никому. В этом зарок нашего крушения. Наша правда идет не от миллионов к единицам, а наоборот, от единиц — к миллионам. Знаешь, мир обречен. Видимо, это вопрос нескольких десятилетий. Разные правды, которые во времена феодализма могли быть сведены в одну, теперь обречены на взаимоуничтожение, ибо они подпираются разумом ученых и мощью индустрии.
— В этой связи все-таки стоит продумать вопрос — с кем мы будем сегодня спать.
— Мы махонькие мыши, нам надо стрелять не туда, куда стреляют солдаты на фронте.
— Я этого не слышал, я выходил в ванную комнату, — зевнув, сказал майор.
— Мы все предали самих себя: нам очевиден наступающий крах, а мы молчим и бездействуем, прячем голову под крыло, боимся, что гестапо посадит в концлагеря наших ближних. Что ж, видимо, будет лучше, если их перестреляют пьяные казаки. Нас отучили думать — мы лишены фантазии, поэтому страшимся близкого гестапо, забывая про далекую чека.
— Где та блондиночка из Гамбурга?
— Иди к черту!
— Что с тобой, милый писатель? Откуда столько желчи и отчаяния?
— Почему ты путаешь два эти понятия? Желчь — это одно, а отчаяние — прямо противоположное. Желчные люди не знают отчаяния, а отчаявшиеся не понимают, что такое желчность. Ты умный человек, а повторяешь Геббельса. «Желчные скептики» — так он говорил, по-моему? Если трезвое понимание сегодняшней ситуации называют желчным скептицизмом — это значит, наверху поняли суть происходящего, неизбежность катастрофы. Все, кто посмел понять это же внизу, подлежат лечению от «желчности» в концентрационном лагере. Я продал себя второй раз в тридцать девятом году. Я понял тогда, что все происходящее у нас обречено на гибель. Тысячелетнюю империю можно было создать, уповая на каждого гражданина в отдельности, а потом уже — на всю нацию. Надо было идти от индивидуального раскрепощения каждого немца, а они пошли на массовое закабаление. Я знал людей из подполья — и тех, которые ориентировались на Коминтерн, и тех, которые контактировали с Лондоном. Я должен был, я обязан был выслушать их платформу. А я прогнал их из дому. Я прогонял их, понимая, что внутренне я с ними. О, воспитание страхом, как быстро оно дает себя знать, и как долго мы будем страдать от этого! Мы, нация немцев.
— Слушай, писатель, а ты ведь поступаешь нечестно.
— То есть?
— Очень просто. Мы с тобой дружим, но зачем же ставить меня в идиотское положение. Я — солдат. Ты — писатель, ты можешь позволить себе роскошь быть в оппозиции к режиму, тебя просто посадят; меня гильотинируют. Это — больно. И — потом: мы все, как туберкулезники. А туберкулезники, если они нашли мужество все понять про себя, не жалуются и не стенают, а живут. Просто живут. Бурно живут — то время, которое им осталось дожить. Все. Я высказался, едем к бабам.
— Пойдем пешком. Здесь ночи божественны.
— Бандиты застрелят.
— Это ничего. Это даже хорошо, если пристрелят сейчас — похоронят с почестями, и родные будут знать, где могила. Знаешь, я ужасно боюсь погибнуть в хаосе, во время праздника отмщения, когда будет литься кровь тысяч — и правых и неправых. Я очень боюсь умереть безымянным, на пике русского казака, для которого все равно, кто ты — интеллигент, который страдал, или бюрократ из партийного аппарата НСДАП.
Когда они вышли на тихую ночную улицу, фон Штромберг задумчиво сказал:
— Писатель, я тебе дам совет. Ты спрячь самого себя под френч и погоны, которые на тебе. Погоны — это долг перед нацией. Тебе не будет так страшно — перед самим собой в первую голову. Ну а перед победителями — тем более. Ты выполнял свой долг. Понимаешь? Ты повторяй это себе каждое утро, как молитву: «Я выполнял свой долг перед народом. Если я не буду выполнять свой долг перед народом, сюда, на мою родину, придут паршивые американцы или красные большевики». Попробуй — это само спасение.
Они вышли к площади Старого рынка. Лунный свет делал островерхий храм, и торговый крытый ряд, и дома, стиснувшие гранитные плиты площади, средневековой гравюрой.
— Божественно, — сказал фон Штромберг, — и страшно.
— Почему? Меня это, наоборот, успокаивает, я ощущаю себя причисленным к вечности.
— Страшно, потому что все это обречено на уничтожение.
— Нет. Это противоестественно. Такая красота не может погибнуть. Бомбежка никогда не уничтожит это.
— Ты не в курсе. Поступил приказ Гиммлера подготовить Краков к полному уничтожению — как один из центров славянства. И есть человек, который это подготовит. Только не знаю, кто именно, он засекречен…
Трауб вернулся домой ранним утром: сначала пили в казино, потом их увез к себе полковник Крайн из танковой дивизии СС, и они пили у него, на окраине, над Вислой, а потом закатились к девкам. Молоденькие вольнонаемные — толстушки из противовоздушной обороны, а телефонистка — длинная, черная, крупная. Ее звали Конструкцией. Трауб спал с ней. Поначалу Конструкция веселилась, много пила, рассказывала скабрезные анекдоты про мужчин, а когда они легли, она затряслась и шепотом призналась Траубу, что он у нее — первый. Трауб усмехнулся в темноте: отчего-то все женщины говорили, что он у них либо первый, либо второй. Только одна молоденькая женщина из Судет сказала ему, что он — тринадцатый. Трауб потом полюбил ее и хотел, чтобы она вышла за него замуж. Она должна была приехать к нему во Львов — он был там с армией. Но ее эшелон разбомбили. Трауб сначала отнесся к этому с равнодушием, испугавшим его самого, и только после, постепенно, он все чаще и чаще стал испытывать тягучую, безысходную тоску, когда вспоминал о ней.
Домой Трауб вернулся желтым и злым. Спать не хотелось. Он сделал кофе и, когда налил черную жижу в чашку, вспомнил фон Штромберга: «Краков будет уничтожен как один из центров славянства».
Он съежился и увидел себя со стороны: седого длинного человека в зеленой форме. Он вдруг точно представил себе громадное здание суда и себя самого перед судейским красным столом в штатском костюме, но без галстука. Он услышал, как переговаривались люди в ложе прессы.
Трауб снял трубку и набрал номер.
— Пан Тромпчинский? — спросил он. — Где ваш сын? Что? Ладно. Пусть он зайдет ко мне — только непременно.
Вечером Юзеф Тромпчинский передал разговор с Траубом Седому. Ночью Седой пошел на явку к Вихрю. Он передал разговор с Траубом и бумаги от Нойбута, принесенные пани Зосей.
— Все сходится, — сказал Вихрь. — Значит, все правда. Значит, мы пришли вовремя.
Они часа три сидели с Седым, набрасывая план на будущее: уточнение возможных районов работ, выявление людей, отвечающих за операцию, наличие складов и дислокацию саперных частей.
Днем Вихрь пошел к Палеку: там жила Аня. В три часа сорок минут она вышла на связь с Центром и передала Бородину первое подробное донесение.
23. КРЫСЯ
Степан Богданов понял: для механика автобазы Ленца главное «выглёнд»,[1] чтоб сверху были красота и блеск. Это у немца в психологии — если сверху блеск и шик, то внутри, само собой, тоже все в таком же отменном порядке. Ленц не мог себе представить, чтобы аккуратно вымытая, отполированная до блеска машина имела при этом какую-то неисправность в мостах или двигателе.
Еще в шахте «Мария» Степан понял, что немецкие мастера не замечали саботажа, если инструмент вытерт, промаслен и имеет хороший «выглёнд». Видимо, многие десятилетия промышленного развития наложили отпечаток на всю нацию. Это был некий слепок доверия к внешнему виду инструментов и машин, детский фетиш аккуратности в труде.
Степан этим пользовался: на шахте он всегда надраивал свой отбойный молоток на глазах у немецких мастеров, а когда они отворачивались, он ослаблял винты, и таким образом изнашиваемость увеличивалась раз в десять, а то и больше.
Немцы не могли понять, что их святое отношение к инструментам труда не может распространиться на миллионы тех людей, которые были пригнаны в Германию Заукелем, чтобы залатать дыры в системе трудового фронта. По всей Германии, невиданный доселе в истории человечества, рос и ширился массовый, стихийный протест, который выражался поначалу пассивным отношением к работе, а потом выливался в осмысленный саботаж. Сводки, представлявшиеся руководителям трудового фронта Заукелем Мартину Борману, являли собой внушительную картину успехов: миллионы людей были привезены в рейх со всех концов Европы. Но если сравнить производительность труда одного немца, то она равнялась производительности труда, по крайней мере, ста, а то и полутораста иностранных рабочих. Немец работал на себя, он, работая, понимал, во имя чего он работает: не только во имя победы на фронте, но и во имя тех марок, которые дадут ему возможность купить новый шкаф, велосипед или автомобиль. Иностранный рабочий работал на врага, во-первых, а во-вторых, даже те, самые нестойкие, готовые пойти на компромисс во имя материальных благ, получали под расчет баланду и деревянные колодки.
Механик Ленц как-то сказал Богданову:
— Была б моя воля, я бы платил вам, как немцам: тогда бы мы победили наверняка. Даже макака в зоопарке делает свои фокусы за конфету. Почему считают, что иностранцы будут работать за пустую баланду? Ты белая ворона — так все вылизываешь.
Богданов молчал, продолжая надраивать «опель-капитан». За годы плена он приучил себя к золотому правилу: молчи, слушай, улыбайся. И все.
— Погоди, — сказал механик, — ну-ка, дай я. Ты не совсем верно трешь.
Он взял у Богданова тряпку, обмакнул ее в полировочную воду и начал наводить блеск не быстрыми, как у Степана, движениями, а медленными кругами, словно мыл спину ребенка.
Степан часто работал один в гараже. Он мог и ослабить болты в моторах, и сыпануть песочку в двигатель, и чуть отвернуть ниппель, но Коля, когда они в последний раз виделись, категорически запретил ему это.
— Все понимаю, — сказал Коля, — все понимаю. Жгутом себя свей, но держись. Ты мне всю игру так завалишь. Из-за глупости погибать — ни к чему.
— А что мне делать? Объясни. Я так не могу.
— Я тебе объяснял: меня интересует, кто ездит на этих машинах, куда ездит, фамилии шоферов, их хозяев. И саперы, саперы. Меня интересуют саперы и СС.
Встречались они вечерами, в домике Крыси, где жил Богданов. Крыся, худенькая, белая, голубоглазая, двадцати лет, была тихой-тихой, как мышка. Из дому она почти никогда не выходила, двигалась по комнатам как-то боком, ступала неслышно, и движения ее были округлы и осторожны.
Она стала такой с тех пор, как сошлась с немцем. Его звали Курт Аппель, он был тоже голубоглазый, худенький, белый — совсем мальчик.
— Я все понимаю, — говорил он, — я к тебе буду приходить только ночью, когда никто нас не увидит. Я не буду позорить тебя собой, Мышь.
Он называл ее Мышь, и лицо его делалось, как у святого: чистое, светлое, ласковое.
До того как они встретились, Крыся была связана с людьми Седого. Она была веселой, говорила громко, ходила, как все люди, а не так, как сейчас — испуганно и зажато. Теперь она затаилась, перестала видеться со своими товарищами по подполью, особенно после того дня, когда Седой через связников попросил ее давать информацию, добывая через немца.
— Я ж люблю его, — сказала она тогда, — я не могу так. Я не продажная какая…
— Ты понимаешь, что говоришь? — спросил связник.
— Если б не понимала…
— Родину, значит, продаешь, ради кобеля?
— Он не кобель, он мальчик…
Связнику было семнадцать лет. Он поднялся со стула и ударил Крысю по щеке, а потом плюнул себе под ноги.
— Эх ты, курва! Паршивая немецкая подстилка…
Когда об этом узнал Седой, он очень разозлился, но к Крысе не пошел, потому что не знал, как она после этого его встретит. А она ждала. А потом ждать перестала. День она стала ненавидеть: ей казалось, что днем ее должны убить за измену. Она днем ждала ночи. К ней приходил Курт, и Богданов слышал, как они по ночам тихонько говорили, или говорил только немец, успокаивая ее, плачущую, или тихонько, под утро, смеялась она — странным, вибрирующим смехом, даже и не поймешь сразу — смеется она или это истерика у нее.
Степан подолгу слушал, как они шептались, и чем дальше, тем все больше утверждался в мнении, что говорят они, словно дети, и любят друг друга исчезнувшей в годы войны чистой детской любовью, что они — из того ушедшего в небытие мира, когда любовь была внезапной, испепеляющей, горестно-счастливой болезнью, а не инструментом забвения вроде водки или морфия.
Однажды Богданов сидел с Колей за чаем. Было еще не поздно, до комендантского часа оставалось около часа. Хотя у Коли был аусвайс и ночной пропуск, он всегда возвращался домой — и от Богданова, и с других явок — засветло, чтобы не вызывать лишних подозрений.
Крыся была на кухне, мыла посуду. Когда распахнулась дверь в дом, Степан, как на шарнирах, обернулся. Коля продолжал сидеть в прежней позе, чуть склонившись над своей чашкой.
«Надо будет ему сказать, — подумал он, — что нельзя так вертеться. Резкое движение — могильщик разведчика, во всем, и в резких поворотах мысли — тоже».
На пороге стоял немец. Это был Курт.
— Здравствуйте, панове, — сказал он на ломаном польском и тихо, вроде Крыси, прошмыгнул мимо них на кухню. Сначала там было тихо, наверное, целовались, а потом начали быстро говорить. Вернее, говорил Курт, а Крыся изредка спрашивала его о чем-то. Потом они надолго замолчали.
Богданов кивнул головой на кухню и шепнул:
— Ишь Монтекки и Капулетти.
— Тш-ш-ш, — Коля приложил палец к губам.
Коля все время прислушивался к разговору: немца переводили в Германию, он не хотел уезжать.
«Немец был бы нам очень кстати, — подумал Коля, — « только какой-то он раззява. Понятно, что мальчик, но нельзя же быть таким — война как-никак».
А потом немец заплакал. Было слышно, как жалобно он плачет, по-детски всхлипывая. Крыся утешала его, что-то быстро шептала ему, а он всхлипывал и мешал немецкие и польские слова.
— Ну что же делать, — шептала Крыся, — что же делать, значит, не судьба нам, значит, не судьба.
— Я никуда не уеду отсюда, — выдохнул Курт, — никуда.
…Есть люди, которые скоропалительны в своих решениях, но по прошествии времени в сердце их начинается мучительная борьба: прав был или не прав. Обычно такие люди эмоционально неуравновешенны, и кажущаяся их искренность, смекалка и провидение на самом деле оказываются внешним выражением некоего комплекса одаренности, который мешает им впоследствии продолжать начатое, — они разбрасываются.
Есть люди, которые, казалось бы, медлительны и неповоротливы и путь их к решению тяжел и долог. Этот тяжелый и долгий путь к решению на первый взгляд является гарантией того, что человек тщательно взвесил все «за» и «против», выбрал единственное, казавшееся ему верным решение. На самом деле и такие люди сплошь и рядом оказываются перед трагической дилеммой: изменить данному слову или держаться его, наступив на горло собственной песне. Причем такие люди приходят к этой дилемме не от эмоционального поворота, но от мучительного, холодного, «самоедского» логического разбора.
Из людей первого рода рождаются самоубийцы — в том случае, конечно, если речь идет о человеке недюжинном, а слово, данное им, или решение, принятое однажды, имеет поворотное значение в его судьбе.
Из людей второго рода — если рассматривать их применительно к разведке — чаще всего рождаются агенты-двойники.
И только редкий союз эмоциональной непосредственности и медлительной аналитичности рождает тот сплав, который делает человека разведчиком — не просто видящим, слушающим и молчащим, но главное — быстро и точно думающим; не просто оценивающим факт, но анализирующим его с точки зрения перспективы.
Коля этим даром обладал.
Откуда это пришло к нему — судить с полной определенностью трудно. Но вполне возможно, что передалось ему это поразительное качество — сплав противоположностей, каждая из которых может одновременно считаться и достоинством и недостатком, а вкупе великий дар — от его отца Всеволода Владимировича Владимирова, который был известен его матери Александре Николаевне Гаврилиной как Максим Максимович Исаев, а Кальтенбруннеру — как оберштурмбанфюрер СС Штирлиц.
Коля поднялся из-за стола и пошел на кухню — к немцу и Крысе.
24. В ЦЕНТРЕ
Только около часа шифровальщики кончили работу и передали полковнику Бородину текст третьего радиосеанса с Вихрем.
— Чайку у нас не осталось? — спросил полковник капитана Высоковского. — Замерз я что-то, погреться хочу.
— Сейчас я включу плитку, — сказал капитан. — У меня, по-моему, и медку есть немного.
— Это будет божественно, — сказал Бородин и потянулся за табаком. Он несколько лет работал с Буденным и от него взял привычку: курить табак, заворачивая его в папиросную бумагу.
Высоковский пошел на кухню. Разведотдел занимал маленький коттедж неподалеку от Львова. Особнячок был удобный, с массой закоулков и кладовок, пахло в нем как-то по-особому довоенно — засахарившимся вареньем, сушеными грибами и апельсиновыми корками: в особняке жил владелец бакалеи.
Бородин слышал, как капитан гремел на кухне кастрюлями.
«Это приятно, когда в доме много кастрюль, — усмехнувшись, подумал Бородин. — Значит, большая семья и достаток. Иным кажется это слово буржуазным, недостойным большевика. А ведь достаток — это и воспитание, если умно рассмотреть. С какой нежностью будет человек вспоминать свой дом, и липы в окнах, и привычную лампу под рукой, и книжные полки над головой. Патриотизм, рожденный в битве, обязан быть подкреплен достатком. Патриот — человек, осознанно защищающий комплекс понятий: реку, театр, город, дом друга, чужого ребенка, свою кухню. Обязательно и свою кухню с большим количеством кастрюль».
Бородин затушил свою сигарообразную самокрутку и открыл первую страницу расшифрованного радиодонесения Вихря.
Район форта Пастерник — тот плацдарм, на котором базируются немецкие войска, осуществляющие подготовку к акции. Коля через «Родиона» — Степана Богданова (Москва, Усачевка, 7, квартира 37), советского военнопленного, бежавшего из лагеря, вышел на немецкого военнослужащего Курта Аппеля, шофера в штабе армии, и завербовал его. Аппель просит помочь ему остаться в Польше вместе с его женой Крысей Живульской. Коля обещал, но просил его выяснить все, относящееся к службе саперного обеспечения. Просьбу эту Коля мотивировал тем, что ему необходимо достать партию лопат и кирок для продажи помещикам, нуждающимся в инвентаре. Аппель сообщил, что он работает разгонным шофером; определенного офицера, который был бы прикреплен к нему, нет. Чаще других он ездит за город, в расположение саперных подразделений: 12-го отдельного саперного полка, 5-го батальона, приданного 4-й дивизии 17-й танковой армии СС, и 5-го отдельного саперного батальона, дислоцированных в радиусе пятидесяти километров вокруг Кракова. Просим сообщить имеющиеся данные на немецкого военного журналиста Трауба, 1900 года рождения, берлинца. Коля создал боевую группу из военнопленных, бежавших из лагерей, а сейчас находящихся в лесах, в районе Закопано. Фамилии и полные данные этих людей сообщу во время следующего сеанса. Коля работает в парикмахерской интендантства. Интендант благоволит Коле, ибо тот делает массаж всем его друзьям. Фамилия интенданта Козицкий Иоганн, звание обер-лейтенант, сорок три года, родом из Кельна, жену зовут Матильда, урожденная фон Зассель. Он оказывает помощь с документами, позволяющими беспрепятственно ходить по Кракову.
Вихрь.
Бородин поморщился и красным карандашом исправил грамматические ошибки. Написал на полях: «Научитесь же наконец расшифровывать без ошибок — стыдно так». Потом Бородин подчеркнул синим карандашом фамилии, переданные Вихрем, выписал их на отдельные картонные карточки и отложил в сторону.
Вернулся Высоковский и поставил перед полковником большую чашку чаю и плошку с липовым медом.
— Спасибо, — рассеянно ответил Бородин, продолжая делать выписки.
— Остынет.
— Что? — спросил Бородин.
— Остынет чай, товарищ полковник.
— Плохо, если остынет.
Бородин достал из сейфа только что принятую радиограмму из Москвы, сделал выписку, спрятал шифровку обратно и начал писать ответ Вихрю.
…Начиная с двадцать шестого числа три дня подряд вам или Коле надлежит быть на всех вечерних службах в костеле на площади рынка, пятый ряд, первое место слева, а после — в ресторане «Французского» отеля. Вы или ваш заместитель должны быть одеты в синий двубортный костюм с черным галстуком и значком национал-социалистской партии в петлице. На левой руке, на среднем и безымянном пальцах, вы должны будете иметь кольца: обручальное и перстень. Через равные промежутки времени закрывайте левый глаз ладонью — как следствие контузии. К вам подойдет человек и спросит: «Великодушно простите меня, свободно ли это место?» Вы ответите ему: «Бога ради, но я жду даму». Поступите в распоряжение этого человека на то время, пока ему потребуется.
Бородин.
Случилось так, что Аня успела принять только часть шифровки Бородина. Они с Вихрем сидели в заброшенном сарайчике в лесу, вокруг — ни души. В сарае пахло сеном и засохшими цветами, весь чердак был забит свежескошенной травой. Когда Аня заканчивала прием первой фразы Бородина, в дверь забарабанили.
Вихрь, схватив листок с передачей, ринулся по лесенке на чердак, в сено. Аня ударила передатчик топором и стала быстро жевать оставшиеся бумаги. Потом она успела оттащить лесенку, ведущую на чердак, и закидала ее сеном. А после ворвались солдаты.
25. НЕОБХОДИМЫЙ ЭКСКУРС
Штирлиц пристегнулся большим резиновым ремнем к спинке кресла.
— Смотрите-ка, — обратился к нему Отто цу Ухер, — вы заметили, что я сижу на тринадцатом месте?
— У меня тринадцать, понедельник и пятница, а также високосный год — счастливые приметы. Хотите обменяемся?
— Хочу.
— Вы — сумасшедший? — деловито спросил Штирлиц.
— Вероятно.
— Ну, садитесь.
— Вы это делаете искренне или играете?
— Играю, — проворчал Штирлиц, — мне очень хочется поиграть.
Отто цу Ухер сел на место эсэсовского офицера и стал сосать леденец.
— Не люблю летать, — сказал он, — терпеть не могу летать. Все понимаю: на шоссе гибнет больше народу, чем в небе, но не люблю, и все тут.
— Вы умный, — сказал Штирлиц, — вам есть что терять, оттого и боитесь.
Отто цу Ухер был доктором искусств. Он летел осматривать наиболее ценные памятники, которые могли быть обращены в валюту. Гиммлер прислушался к мнению Бройтигама — дипломат смотрел дальше Кальтенбруннера. Штирлицу было поручено выбрать вместе с доктором искусств наиболее интересные полотна средневековых мастеров, просмотреть библиотеку университета и отобрать все средневековые книги для отправки в подвалы Вавеля — там жил генерал-губернатор Франк.
Самолет, натужившись, будто спринтер, несся по взлетной бетонной полосе Темпельхофа. Фюзеляж дребезжал противно мелкой алюминиевой дрожью. Несколько раз самолет тряхнуло, моторы зазвенели, и самолет завис в воздухе. Казалось, что он недвижим; потом нос Ю-52 задрался, и самолет начал быстро набирать высоту.
Отто цу Ухер прилип к окну. Штирлиц заметил, как дрожали его тонкие пальцы, вцепившиеся в поручень кресла.
«А ведь действительно боится, — подумал Штирлиц. — Такой умница — и вдруг трус. Хотя — человек искусства, нервы обнажены, представления фантастичны. Им завидуют — особняки, деньги, слава. Несчастные, бедные, замученные люди. В искусстве нет фанатиков, как в политике. Там люди видят шире и дальше, у них нет шор, они могут себе позволить докапываться до сути явлений. Даже негодяй мечтает — где-то в самой глубине своей — написать о чистой любви или о том, что изнутри поедает его, как ржа. А умному и честному художнику — и того сложнее жить. Фейхтвангер эмигрировал, а сколько сотен людей осталось в рейхе? Людей, которые думают также, как Фейхтвангер? Но они вынуждены либо делать прямо противоположное тому, что хотят, либо предают себя, и в этом предательстве зреет их ненависть ко всему вокруг — к самим себе тоже».
За те двадцать три года, что он провел за границей, покинув родину на кораблях, увозивших из Владивостока остатки белой гвардии, мысль его сделалась острой, бритвенной: он препарировал события, угадывал в них перспективу, нисколько не затрудняя себя бессонными раздумьями. Штирлиц собрал у себя дома, в бабельсбергском коттедже, труды римских классиков и богатейшую коллекцию книг по истории инквизиции. Он подчас поражался точному повторению в рейхе тех же самых ходов и поворотов, которые совершали тираны Рима в борьбе за честолюбивые национальные устремления. Когда на смену широкой демократии приходила личная власть и человек, выходивший на трибуну сената, обращался к депутатам от лица нации, уверенный, что он один только знает, чувствует и предвидит ее, нации, устремления, надежды и чаяния, тогда Штирлиц совершенно спокойно проводил для себя аналогии с современностью и никогда не ошибался в перспективных решениях по тому или иному вопросу.
Штирлиц точно определил свое поведение: тиран боится друзей, но он, хотя и не дает особенно расти тем, кто говорит ему ворчливую правду, тем не менее верит больше именно этой категории людей. Поэтому, пользуясь своим партийным стажем, он позволял себе иногда высказывать мнения, шедшие не то чтобы вразрез с официальными, но тем не менее в некоторой мере оппозиционные. Это не давало ему роста в карьере, но зато ему верили все: от Кальтенбруннера и Шелленберга до партайляйтера в его отделе СД-6. Такое, точно избранное им, поведение позволяло быть искренним до такой степени, что невольный и возможный срыв был бы оправдан и понятен с точки зрения всей его предыдущей позиции.
В сорок первом году он был откомандирован в Токио. Здесь, встретившись на приеме в шведском посольстве с Рихардом Зорге, он говорил с ним о тех планах нападения на СССР, которые разрабатываются в генштабе. Рихард Зорге устроил ему встречу с секретарем советского посольства. Тот знал о приезде Штирлица. Он дал ему фотографию: на Исаева смотрел парень — он сам, только в двадцать третьем году. Это был Александр Исаев, его сын. Штирлица словно бы обожгло, опрокинуло. Он почувствовал себя маленьким и пустым — совсем одиноким в этом чужом ему мире. А потом, заслоняя все, появилось перед глазами лицо Сашеньки Гаврилиной. Оно было таким ощутимым, видимым, близким, что Исаев поднялся и несколько мгновений стоял зажмурившись. Потом спросил:
— Мальчик знает, чей он сын?
— Нет.
— Когда вы нашли их?
— В тридцать девятом, когда парень пришел за паспортом.
— Что делает Сашенька?
— Вот, — сказал секретарь, — здесь все о них.
И он дал Исаеву прочитать несколько страничек убористого машинописного текста.
— Я могу ей написать?
— Она будет очень рада.
— Она…
— Все эти годы она была одна.
Любовь моя! Спасибо тебе за то, что ты была и есть. Спасибо тебе за то, что в мире есть второе «я» — наш сын. Спасибо тебе за то, что я все эти годы ощущал тебя — в одном воздухе, в одном мире, в одном дне и в одной со мной ночи. Я ничего не могу обещать тебе, кроме одного — моей любви. Я буду с тобой, как был. Мир кончится, если рядом со мной не будет тебя.
Максим.
Самолет плюхнулся на краковский аэродром.
— Не зря мы обменялись местами, — выдохнул Отто цу Ухер, — мое тринадцатое стало вашим счастьем: мы долетели без приключений.
— В воздухе приключений не бывает, — ответил Штирлиц, — приключение — это если долго, а самолет падает ровно одну минуту, а уже на второй секунде вас хватит кондрашка: разрыв сердца — гарантия от воздушных приключений.
Вечером в парикмахерскую к Коле пришел тот летчик который вел самолет со Штирлицем. Знаком он показал Коле, что хочет побриться: на рукаве Колиного пиджака была маленькая метина «Ост». Летчик решил, что парикмахер не понимает по-немецки — откуда ему! — и похлопал себя по щекам. Коля улыбнулся:
— Массаж?
— О, массаж, — кивнул головой летчик и закрыл глаза.
Следом за ним вошел бортмеханик и спросил:
— Ты пришел спать или бриться?
— Я пришел и спать и бриться, — ответил летчик. — После рейсов с этими любимчиками Гиммлера нервы совсем сдают. Спаси бог, случись что-нибудь с самолетом…
— Почему ты решил, что Штирлиц — любимчик рейхсфюрера?
— Потому, что его провожал помощник начальника политической разведки Шелленберга. И потом, я раз видел, как он говорил с Шелленбергом — они говорили чуть ли не на равных.
Пилот был молодой человек, и ему нравилось быть осведомленным во всем, и особенно в том, что происходит наверху. Люди многоопытные эту свою осведомленность — необходимую или случайную — скрывают. Те, что помоложе и только-только соприкоснулись с жизнью «великих», наоборот, не могут не щегольнуть этой своей чуть усталой, рассеянной осведомленностью.
— В каком он чине?
Летчик не знал этого и, опять-таки по молодости лет своих, ответил:
— Он бонза СС с довоенным стажем.
— Поехал к Франку? В крепость?
— Нет, он остановился во «Французском» отеле. Штирлиц большой любитель Баха — напротив в костеле великолепный орган.
— Когда обратно?
— Через день-два. Мне приказано ждать его здесь.
Коля побрил бортмеханика, увидел, что в парикмахерскую набилось довольно много народу, незаметно резанул себе палец бритвой и побежал в медпункт. Потом он ринулся к Вихрю сообщить о приезде столь важной фигуры из ведомства Гиммлера.
Вихрь немедленно связался с Седым и попросил его через своих людей в гостинице «Французской» узнать о некоем Штирлице все, что можно узнать, а особенно — маршруты поездок, кто сопровождает, на чем ездит, когда встает и где обедает.
26. СТИЛЬ РАБОТЫ
Полковник армейской контрразведки Берг с исчезновением Мухи внутренне весь съежился: после того как фюрер уволил в отставку адмирала Канариса — шефа, создателя, а точнее всего, мозг и сердце абвера, всякий срыв сотрудников абвера воспринимался гестапо как лишнее подтверждение их правоты в давней войне с армией. Полковник Берг приготовился к худшему, хотя, собственно, чего еще ждать худшего, если ты уже оказался шефом контрразведки армии после семи лет работы на Тирпицуфере, 74, в Берлине, в центральном досье абвера, где были собраны материалы на политических деятелей, экономистов, писателей, танцовщиц, генералов, психиатров, режиссеров, философов — словом, на всех тех людей, которые либо оказывали услуги третьему рейху, либо оказывают в настоящее время, либо могут их оказать в той или иной ситуации, вольно или невольно, с вознаграждением или без оного.
Берг, работая у Канариса, был посвящен во многое, но далеко не во все, потому что адмирал считал его блистательным служакой — не более. Особенно настораживала Канариса поразительная память Берга: ему не нужно было поднимать досье, которое он читал десять лет назад, он помнил его чуть не наизусть.
— Хорошая память присуща малоталантливым людям, — говаривал Канарис, — если речь идет о человеке, посвятившем себя гуманитарии, а не технике. Разведка, как первая составная часть политики, это гуманитария, причем наиболее ярко выраженная, — для тех, кто знает суть вопроса. Когда мне говорят, что в разведке успех акции зависит от математической точности расчета, я улыбаюсь. Математика вредит нам, ибо она — воплощение прокрустова ложа разума. Разведка взывает к самым низменным страстям и устремлениям. И в этом ее высший разум.
Адмирал любил говорить афоризмами. Он ловил себя на том, что, даже беседуя с любимой таксой Зепплем, невольно следил за тем, чтобы его речь была изящна и упруга. Берг, как и большинство сотрудников абвера, не приближенных к адмиралу настолько, чтобы сохранять свою индивидуальность, ибо залог дружбы — это разность индивидуальностей, во всем подражал Кана-рису. И в манере говорить — улыбчиво, доброжелательно, располагая к себе собеседника, шутливо останавливаясь на самом главном; и в манере одеваться — как говорят французы, «нон шалон» — чуть небрежно, но так, чтобы эта небрежность была элегантной; и в манере строить отношения с сотрудниками — мягко, но чуть свысока, и опять-таки в такой мере, чтобы не обидеть, но лишь дать понять разницу в занимаемом положении.
Когда Берг жил и учился в Москве, на химическом факультете МГУ, он поражался отношениям, сложившимся в России после революции: нарком и рабочий были одинаково одеты, и разговор их был разговором товарищей, Берг, начав работать в абвере, попробовал было скопировать эту русскую манеру, но Канарис сказал ему как-то, видимо, точно поняв, откуда это у Берга:
— Мой друг, последователем быть хорошо, но подражатели — жалки.
Берг вспыхнул — он легко краснел — и с тех пор во всем копировал адмирала, даже в жестах: разговаривая с сотрудниками, он клал им руку на плечо — дружески-доверительно, но в то же время это был жест снисхождения, а не искренней расположенности.
Чем хуже было положение Берга, тем мягче он разговаривал со своими людьми, тем чаще шутил, смеялся и подолгу сидел у контрразведчиков, рассказывая им смешные истории и еврейские анекдоты.
Берг ждал, когда над его головой разразится буря в связи с исчезновением Мухи. Следствие, проведенное им, показало, что Муха исчез после того, как привел к себе на явку радистку. Агентов среди польского населения у Берга не было, а если б они и были, то Берг не считал возможным верить им до конца: в каждом поляке можно было ждать двойника или дезинформатора.
И лишь когда Берг, пользуясь своими хитрыми возможностями, узнал о провале гестапо с русским майором-разведчиком, только тогда он успокоился: гестапо не станет сейчас сводить с ним счеты, потому что они упустили куда как более важного человека. Берг считал, что вполне логично допустить возможность связи: Муха — радистка — русский майор. И Берг начал действовать, отталкиваясь именно от этой мысли. Гестапо пошло по своим обычным путям: массовые облавы, аресты, подслушивание телефонных разговоров, усиленная агентурная разработка подозрительных поляков. Берг избрал иной путь: он вычеркнул для себя центр города и сосредоточил поиск в краковских пригородах. Пять радио-пеленгационных автомашин круглосуточно курсировали по шоссе и проселкам в радиусе пятидесяти километров вокруг Кракова. Десять групп с переносными пеленгаторами начали методическое и неторопливое прочесывание лесов и гор вокруг города. Берг не торопился: он предполагал, что радистка выйдет на связь с Центром. Он знал также, что русские радисты обычно подолгу торчат в эфире — времени, чтобы засечь, будет достаточно.
Человек многоопытный, Берг подстраховал себя через подставного агента, словака по национальности, подсунув ему материал, из которого следовало, что в районе Рыбны несколько человек видели Муху и человека, по внешнему описанию похожего на бежавшего русского разведчика; после этого Муху больше никто не встречал, а человека, похожего по приметам на бежавшего из гестапо, видели выходившим из лесу ночью в мокром пиджаке и с синяками на лице. Это донесение, специально подстроенное Бергом, нашли возможность подсунуть агенту так, что его рапорт выглядел вполне убедительно. Берг в гестапо звонить не стал, но рапорт приобщил к делу об исчезновении Мухи — на всякий случай, если начнутся тренияс руководителями управления безопасности Кракова.
Берг не ошибся: вскорости после исчезновения Мухи радиоперехват засек новую точку, находящуюся примерно в тридцати километрах на юго-запад от Кракова, по направлению к Закопане. На следующий день Берг подтянул в тот район семь групп из своих десяти и три автомашины. Через неделю передатчик был засечен снова. А еще через месяц Аня была арестована военной контрразведкой. Вихрь спасся случайно: солдат прокалывал сено, в котором он лежал, очень зло, но не так тщательно, как следовало бы. Штык проколол штанину Вихря и поцарапал голову. Вихрь ждал, что после обыска они подожгут сарай. Поэтому он лежал, сжав в руке гранату. Он не стал бы сдаваться просто так.
Вихрь слышал, как Аню били и как офицер кричал:
— Где остальные, красная шлюха?! Отвечай!
— Я одна, — отвечала девушка. — И можете так не орать, у меня хороший слух.
Вихрь сжался, и плечи его вздрагивали от пощечин, которые он явственно слышал.
— Эх вы, европеец, — сказала Аня. — Неужели у вас принято бить женщин?
— Ты — паршивая потаскуха, а не женщина! — крикнул офицер. — Ложись на землю лицом вниз!
— Я не лягу на землю лицом вниз, — ответила Аня. — Можете стрелять в лицо.
— Прежде чем я выстрелю тебе в лицо, ты еще у меня попляшешь, курва! — сказал офицер. — Ты у меня еще так попляшешь, что ой-ой! И тебе не поможет любимая родина и дорогой товарищ Сталин!
— Мне поможет родина, — ответила Аня, — мне поможет товарищ Сталин, а вам уже ничто не поможет.
Вихрь снова зажмурился, потому что слышал, как офицер избивал девушку. Вихрь представил ее себе сейчас: такую красивую, женственную, но в то же время еще ребенка — курносую, с раскосыми громадными глазами и ямочками на щеках.
«Ну? — подумал он. — Пора выходить, что ли?»
Судьба разведчика… Ночные кабаки, танцовщицы, которые в перерыве между любовью курят, лежа на спине возле потного министра, и рассеянно спрашивают его о секретах генерального штаба; алюминиевые аэропланы и трансатлантические перелеты для переговоров за коктейлем с финансовыми магнатами; конспиративные явки в таинственных коттеджах с двойными стенами; лихие похищения чужих офицеров; толстые пачки новеньких банкнот в шершавых портмоне; любовь острогрудых, флегматичных блондинок; трескотня жестких от крахмала манишек на раутах и дипломатических приемах; легкая — за чашкой кофе — вербовка послов и министров… Боже ты мой, как же все это смешно, если б не было глупо и — в этой своей глупости — безжалостно по отношению к людям этой профессии.
А вот лежать и слушать, как бьют девочку и заставляют ее ложиться на землю, а ты затаился в сене, и тебя раздирает долг и сердце, разум и порыв — тогда как? А если приходится шутить с человеком, смотреть ему в глаза, угощать обедом, но знать, что сейчас, после этого обеда, когда вы вместе пойдете по ночной улице, ты должен будешь этого твоего доброго знакомого убить как врага? А ты бывал у него в доме, и знал его детей, и видел, как он играл с годовалой дочкой, — как тогда? А если ты должен спать с женщиной, разыгрывая любовь к ней, а в сердце у тебя другая, та, единственная? Тогда как? А если можно сказать на допросе только одно-единственное «да», а отвечать нужно «нет», а за этим «нет» встает камера пыток, отчаяние, ужас и безысходность, а потом длинный коридор, холод, плиты, в последний раз небо, в последний раз снег, в последний раз взгляд, в последний раз люди, которые в самый последний миг станут вдруг дорогими-дорогими, потому что они — последние люди, которых ты сможешь видеть на земле? Тогда как?!
Где-то рядом заурчал автомобильный мотор. Скрипнули тормоза, хлопнула дверь, и Вихрь услышал немецкую речь:
— Перестаньте, болван вы этакий! Что это за скотство — бить женщину!
Потом этот же человек мягко произнес:
— Я приношу вам извинения за это безобразие, девушка. Пожалуйста, садитесь в машину.
Ане перевели слова немца. Он дождался, пока ей это перевели, и обратился к своему подчиненному:
— Мне совестно за вас, обер-лейтенант. У вас стиль мясника, а не офицера германской армии.
— На русском фронте погиб мой брат, — тихо ответил обер-лейтенант.
— Война — не игра в серсо! На войне убивают.
После первого дня допросов Берг понял: с этой девицей ни о чем не договориться, если следовать обычным канонам вопросов и ответов. Она будет врать, а если ее уличить — замолчит. Берг решил идти другим путем — пробный шар он подпустил при ее аресте. Когда отчитывают в присутствии арестованного того, кто его брал и бил, — это неплохой аванс для дальнейшей работы. Берг решил поиграть с русской: он решил завербоваться к ней, а уж потом через нее выйти на остальных участников группы, заброшенной в тыл. Решив партию так, он вызвал Аню на допрос ночью, когда все остальные сотрудники военной разведки разошлись по квартирам и во всем здании осталось только пять человек: четыре охранника и полковник.
Берг усадил Аню в кресло, включил плитку и поставил чайник. Потом он сел напротив нее — близко, так, что их колени соприкасались, и начал улыбчиво и грустно рассматривать девушку. Весь день он вел допрос через переводчика, никак не выдав свое знание русского языка. Это был тоже ход. Берг рассчитывал на этот ход. Он тихо сказал:
— Вот такие пироги, золото мое…
Сказал он это с таким милым волжским оканьем, что Аня отпрянула к спинке кресла.
«Яростной убежденности большевиков глупо противопоставлять гестаповский фанатизм. Коса найдет на камень, — думал Берг, рассчитывая все ходы будущей операции после первых восьми часов допроса. — Надо искать иные пути. Косе надо подставлять траву. Но она, эта подставляемая трава, должна оказаться такой густой, что коса в ней сначала затупится, а потом запутается. И направить косу нельзя — точильного камня поблизости нет».
— Только тихонько говори, — перешел на шепот Берг, — здесь даже стены имеют уши.
Он отошел к шкафу, открыл дверцы, выдвинул большой американский автоматический проигрыватель «Колумбия», поставил несколько пластинок и включил музыку. Он слушал танго, закрыв глаза и покачивая в такт головой.
— Слушай, — сказал он, медленно подняв тяжелые веки, — слушай меня внимательно. Я не хочу знать ни твоего настоящего имени, ни кто ты, ни с кем связана. Я постараюсь тебе помочь, но не ценой предательства, а иной ценой. Не понимаешь?
Все это было так неожиданно, что Аня, покачав головой, также шепотом ответила:
— Не понимаю.
— Я хочу, чтобы ты мне ответила только на один вопрос, — сказал Берг очень медленно, — ты считаешь, что все немцы с Гитлером или нет?
— Нет, — ответила Аня, — не все.
— Как ты думаешь, может под погонами полковника скрываться человек, не симпатизирующий фашизму?
— Такие люди сдаются в плен.
— Верно. В плен могут сдаться люди, которые находятся на переднем крае. А что делать человеку — я не о себе говорю, не думай, у нас ведь идет отвлеченный разговор, — так вот, что делать человеку, который не имеет возможности сдаться в плен?
— Гитлера застрелить — вот что.
— Ну, хорошо… Я этого твоего ответа вообще не слышал. Я повторяю свой вопрос: как такому человеку доказать свою антипатию фашизму?
— Чего вы от меня хотите? — спросила Аня.
— Ничего, — сказал Берг. — Сейчас будем пить чай — всего лишь. Ты любишь как — покрепче или слабенький?
— Покрепче.
— Зря. От крепкого чая портится цвет лица.
— У меня уж и так испортился цвет лица, — сказала Аня и пощупала синяк под глазом.
— Пойми его. У этого офицера на фронте погиб брат, молоденький мальчик.
— Про молоденького он не говорил. Он сказал — просто брат.
«Барышня знает немецкий», — отметил для себя Берг, но вида не подал.
— Ну, все равно брат. Родной ведь человек.
— Не мы все это начали.
— Тоже верно. Я не оправдываю его, просто я пытался тебе объяснить, почему он был несдержан.
— Может, вы скажете, что у вас не пытают?
— У нас — нет. У нас расстреливают. Пытают в гестапо, а я — не гестапо, я армейская разведка. Абвер. Вернее, бывший абвер. Слыхала?
— Нет. Не слыхала.
— Ну, это не важно, — улыбнулся Берг и посмотрел в глаза девушке, — я не ловлю тебя, не думай.
— А я и не думаю.
— Сколько тебе сахару класть?
— Чем больше — тем лучше.
— Четыре. Достаточно?
— Можно и пять.
— Ну, пожалуйста. Давай положим пять. Сам я пью вприкуску.
— Откуда вы так хорошо знаете русский?
— Я не могу тебе ответить.
— Почему?
— Потому, что это — моя тайна, а если ее узнаешь ты, это перестанет быть тайной. Вас виссен цвай, виссен дас швайн.
Аня промолчала.
— Поняла? — спросил Берг.
— Нет, не поняла.
— А что же не спрашиваешь?
— Сами скажете, если надо.
— Верно. Это значит: что знают двое, то знает и свинья.
— Горячий чай-то… Не притронешься.
— А ты не торопись. У нас есть время.
— Сейчас сколько?
— Двенадцать.
— Вы меня долго продержите?
— Сколько захочешь. Я приказал дать тебе одеяло в камеру.
— Мне дали. Спасибо.
— Господи, не за что…
— Так я не пойму — чего вы от меня хотите?
— Ровным счетом ничего, — мягко улыбнулся Берг. — Я хочу пофантазировать. Представь себе: русской разведчице — не тебе, не тебе, а какой-то другой, тебе незнакомой — дают возможность бежать. Так? И даже помогают ей перейти линию фронта. Или наладить радиосвязь отсюда. Только с одним условием: чтобы она сказала в разведотделе или в генштабе, что, мол, в одной из германских армейских группировок, одной из самых сильных, скажем, группировок, есть человек, который хотел бы войти в контакт с русской разведкой. Как ты думаешь, пойдут на это большевики?
— Откуда я знаю…
— Ты не знаешь, понятное дело… Я ведь не о тебе говорю, я просто фантазирую. Позволь и себе пофантазировать. Как ты думаешь, пойдут на контакты с таким человеком или нет?
— Из немецких тюрем побег невозможен.
— Конечно, невозможен, если ты попала в гестапо. Но ты попала в руки армейской секретной службы. Из гестапо никто не убегает. Оттуда устраивают побеги для перевербованных агентов — только лишь. Вот недавно такой побег гестапо устроило одному перевербованному агенту прямо с краковского рынка.
Берг мельком глянул на девушку: он хотел видеть ее реакцию. Если она связана с тем бежавшим от гестапо русским, она не может не прореагировать. Но лицо ее осталось спокойным, никак не напряглось, и руки тоже спокойно лежали на коленях.
«Значит, она не связана с тем человеком, — решил Берг, — видимо, это другая группа. Через нее я все выясню о Мухе. По его описаниям, это, конечно, она».
(Конечно, если б Вихрь сказал Ане про свой арест, она бы дрогнула. Когда человек арестован, он перестает бояться за себя — он боится за друзей. Но Вихрь ничего никому не сказал, потому что отдавал себе отчет: скажи он, и все его подчиненные шарахнутся от него как от возможного агента гестапо — просто так из гестапо не уйдешь. Он решил открыться потом, когда задание будет выполнено.
Так сложное взаимосплетение случайностей спасло Аню — а этих взаимосплетений случайностей окажется в ближайшие дни столько и значение их будет так велико, что существенным образом перекорежит судьбы многих людей, в той или иной степени связанных с операцией «Вихрь».)
— А где гарантия, что русская разведчица не получит пулю в спину? — спросила Аня.
— Ну, это уже смешно, — ответил Берг, прихлебывая чай. — Первая гарантия — возможность пустить ей пулю в лоб, а не в спину. Как русскому шпиону — здесь, в тюрьме, даже без суда.
— Что, многие у вас поняли — крышка? Да?
— Я же не задаю тебе прямых вопросов, золото мое. Я же с тобой фантазирую, а ты требуешь ответов, которые могут стоить мне головы.
— Ладно, — сказала Аня, допив чай. — Я согласна попробовать.
Берг тоже допил чай, аккуратно поставил чашку на тоненькое блюдечко саксонского фарфора и сказал:
— А где гарантия, что я не буду тобой продан, если побег по каким-либо причинам не состоится?
— Вы не будете от меня ничего требовать — здесь, заранее?
— Буду.
— Чего же именно?
— Твоего согласия поехать в наш радиоцентр и передать своим, в штаб, несколько дезинформаций.
— Не получится.
— Погоди. Не горячись. Ты передашь две-три дезы, а потом я тебе устрою побег и ты сможешь связаться со своими людьми и передать в Москву, что такие-то и такие-то сведения не что иное, как дезинформация. Во-вторых, после того как ты это передашь своим, они смогут начать игру против нас, «поверив» нам, а на самом деле они будут знать всю правду. Это выгоднее Москве, чем Берлину, уж послушай меня, я в разведке не первый год.
— Зачем нужен такой трудный путь для побега?
— Затем, что оттуда можно бежать. Радиоцентр — не тюрьма.
— Я должна подумать.
— Думай.
— Нет, не здесь.
— Ты хочешь вернуться в камеру?
— Да.
— Ладно. На, поешь, — сказал Берг, достав консервы, — мажь на хлеб, это свинина.
— Спасибо.
— Теперь вот что: при допросах я, возможно, буду на тебя кричать и топать ногами. Это необходимо, понимаешь? Так что не обижайся.
— А почему бы вам не бежать вместе со мной?
— Чтобы быть у вас расстрелянным? Не хочу.
— Я даю вам гарантию.
— Душечка ты моя, — улыбнулся Берг, — гарантии могу дать только один я — себе самому. Для этого мне надо передать здесь твоим людям такие сведения, которые покажут вашему начальству, что я собой представляю. Мне нужен связник, который будет сразу связываться с вашим Центром.
— А почему вы решили говорить обо всем этом со мной?
— Ты думаешь, мы каждый день ловим русских разведчиков? И потом — ты идеальный случай, ты радистка, я могу забрать тебя на радиоцентр, понимаешь? Отсюда я тебе побега устроить не смогу ни при каких обстоятельствах.
— Я хочу подумать, — повторила Аня.
В камере она упала лицом на нары и завыла, как от боли.
«Дура, дура, набитая дура! — думала она. — Ничего не знаю, ничего не понимаю! Дура! Мамочка, как мне быть-то, мамочка?!»
И — заплакала, как от злой обиды в детстве.
27. ВСЕ ПЛОХО
Карл Аппель уехал с офицерами куда-то в сторону Закопане. Поэтому Вихрь и Коля решили остаться ночевать у Степана: дом Крыси был надежен — в здешнем гарнизоне все знали, что хозяйка любит солдата вермахта.
Крыся поставила на стол большой чайник и творога, а сама ушла спать.
— Вот так! — сказал Вихрь. — Вот так, братцы…
— Погубят девку, — сказал Коля. — Хороший она человек.
— Не сломится? — спросил Степан.
— Нет, не сломится, — ответил Вихрь.
— Не сломится, — повторил Коля.
— Мы теперь без связи, — сказал Вихрь, — дело — швах. Думаю, не пришлось бы идти к своим — за рацией. Правда, Седой обещал подумать, может, будем передавать через партизан.
— Армия Людова?
— Да. Хлопски батальоны. По-моему, у него есть связь. Но об этом будем думать. Пока вот что… Последняя фраза от Бородина была такая: «…быть в костеле, а потом в отеле «Французском». Именно там был в эти дни фон Штирлиц…
— Ну? — спросил Коля.
Вихрь долго молчал, а после сказал, не глядя на Богданова:
— Степан, ты б пошел в сени, — может, кто слушает нас.
Богданов усмехнулся и вышел.
— Ты что, не веришь ему? — спросил Коля.
— Почему не верю… Верю… Если б не верил — не пришел бы. Просто сейчас надо вдвоем подумать — что это значит.
— Ты как считаешь?
— Я только начну об этом думать — сразу на Анюте замыкаюсь. Я у нее последнюю неделю жил, у Войтеха, пасечника. Она, знаешь, как песенка — легкая такая, веселая, нежная. Утром встанет — глазищи громадные припухли со сна, ямочка на щеке, как у младенца… Мужика можно пытать болью, это, конечно, страшно, но, как все, связанное с телом, можно перенести. А вот девушку могуть замучить позором. Меня иногда ужас берет: живут на земле люди — все по одному образу и подобию созданы, и недолго в общем-то живут, а поди ж ты — тюрем понастроили, пытать выучились, стреляют друг в друга, детишек делают несчастными… Какую ж еще им правду надо всем рассказать, чтоб наступило братство под этим небом?
— Сначала надо повесить Гитлера.
— Понимаешь, каждая новая жертва сама по себе делает еще большее количество людей обреченными: пепел Клааса стучит в сердце.
— Ты что это, милый? Против того, чтобы вешать Гитлера?
— С ума сошел! Я не об этом. Да и потом, Гитлер, по-моему, не вправе считаться человеком. Человек может ошибаться, делать глупости, может стать невольным виновником несчастий, но человек — двуногое позвоночное, получившее в дар возможность осознанно рассуждать и проводить в жизнь задуманное, — не имеет права обосновывать физическое уничтожение себе подобных только тем, что у них окающий язык, горбатый нос или страсть к таборной жизни. Гитлер — это патология. Войну мы уже выиграли. Как дальше будет жить мир — вот о чем я. Знаешь, я отношусь к той категории людей, для которых все наши жертвы — это не повод слезливо вспоминать прошлое, а встряхивающий шок, заставляющий думать — как будет дальше, как будет в том мире, ради которого наша Анюта сейчас обречена на мучения.
— Что-то тебя в минор потянуло. Вихрь?
— Говорят, страдания делают человека черствым… Не знаю… Наверное, это не совсем так. Страдание калечит психику. Я в сорок втором, в Кривом Роге, расстрелял одного предателя… Он был у гестаповцев агентом. В газетенке пописывал. Вильна Украина, проклятые москали, жидивска коммуна… Словом, все как полагается, большой джентльменский набор. Одно б дело — просто пописывал, а то играл в националиста-антигитлеровца. Несколько наших клюнули, ну и погибли в тюрьме. Я к нему пришел, а он — молоденький паренек, красивый, вокруг жена воркует, ласковая, добрая… А он назначил свидание трем мальчишкам-студентам из патриотической группы: они у нас на сводках Совинформбюро сидели. Значит, не убей я его сейчас, завтра трое наших пареньков будут висеть в камере пыток. И знаешь, что страшно: я даже про тех, кого он уже продал, тогда не думал. Я думал о тех, кого он продаст завтра, а видел его жену… Когда мы с ним вышли, он на колени упал, мычит и все повторяет: «Лёлечка у меня, Лёлечка сиротой останется, пощадите ради Лёлечки, я вам отслужу… Лёлечка не виновата, что у нее муж слабым оказался…» Я потом три ночи не спал.
— Ты ее любишь, — тихо сказал Коля, — я понял тебя. Вихрь.
— У тебя нет детей, тебе этого не понять. Ладно. Давай будем думать про Штирлица. Люди Седого подтвердили, что он — большая фигура.
— Эсэсовца, видимо, надо либо угробить, либо выкрасть. Таких нельзя пропускать.
— Видимо. Но это большая разница: выкрасть или ликвидировать. Ты «Французскую» гостиницу хорошо знаешь?
— Знаю.
— Туда имеют право входа цивильные?
— Я пройду.
— Не хвались, едучи на рать…
— Я пройду, — упрямо повторил Коля. — Для такого дела пройду.
— Тогда посмотри за ним денек. Теперь дальше. Седой работает по связи с тюрьмой.
— Нужны деньги?
— Да. Возможно, понадобятся.
— Достанем.
— Стоп. Я поэтому и хотел поговорить с глазу на глаз. Ты держишь нити интенданта Курта и боевой группы плюс часть связей Седого. Если ты загремишь — мы провалим всю операцию. На экспроприацию, если она вообще будет нужна, должен пойти Богданов.
— Один?
— Зачем один… Ты подключишь к нему троих из твоей лесной боевой группы. Причем брать надо либо банк, либо магазин. Если мы пойдем на экспроприацию какого-нибудь склада или аптеки — можем засветиться на реализации. Что нового от интенданта?
— Он передал скучные данные — никаких сенсаций. Его, кстати, в Прагу переводят…
— Когда?
— Точно не знаю.
— Ничего. Он нам еще здесь пригодится.
— Звать Степана?
— Да.
Коля вышел в сени. Степан сидел под дверью, напряженно прислушиваясь к тревожной ночной тишине. Изредка завоет собака, станет от этого жутко и тоскливо, а потом снова тишина, особая тишина оккупации, когда каждая минута несет с собой ожидание выстрела, вопля, гибели.
28. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СЛУЧАЙНОСТЕЙ
У Седого в Варшаве до войны жил брат — известный в городе психиатр. У брата была дочь Мария. Когда отец погиб в тридцать девятом, она перебралась в Краков. Сначала она жила в доме у Седого, а когда он перешел на нелегальное положение, сняла себе комнату — от покойного отца осталась коллекция золотых монет и несколько подлинных средневековых гравюр, на это можно было жить. Некоторое время Мария работала в университете, но когда университет гитлеровцы закрыли — по их планам, в Польше должны были быть только начальные школы, — она стала работать переводчицей на железнодорожном узле. Здесь она познакомилась с Игнацием Домбровским, инженером. Сестра Игнация Домбровского Ирена была невозможно мила, по улице ей ходить трудно: все оглядывались, особенно немцы. Именно так, на улице, когда она возвращалась с работы (выучилась на медицинскую сестру), с ней познакомился Вацлав Шмит — по матери словак, по отцу немец, по должности помощник начальника тюрьмы.
Он ходил за Иреной два года — краснел, вздыхал, сох. Тетушка Шмита жила в Лозанне, там у нее был обувной магазин. Чтобы достать документы на выезд к тетушке — и ну вас, немцев, к черту с вашей тюрьмой, — ему нужно было тридцать тысяч марок.
— Здесь — нет, — сказала ему Ирена, — среди этого вашего скотства может быть все, но не может быть любви. Здесь мы никогда не будем вместе. Увези меня в Швейцарию, где не стреляют и где озера в горах, — я стану тебе женой.
— Я тебя увезу, а ты меня там бросишь.
— Поляки могут делать все, что угодно, — ответила Ирена, — только они не умеют нарушать данного слова.
— А деньги? Откуда я возьму столько денег?
После ареста Ани Седой пошел по всем своим связям: любыми путями ему нужно было выйти к тюрьме. Два дня прошли впустую. Утром, когда он встретился с племянницей, та сказала:
— Знаешь, ничего нельзя обещать наверняка, но встречу я тебе устрою. Насколько мне известно, человеку из тюрьмы, некоему Шмиту, для счастья с Иреной нужны деньги. Может быть, тебе поговорить с ним?
…Когда Шмит и Седой остались в комнате одни, Седой сказал:
— Я знаю вашу историю. Помогите мне, я помогу вам.
— Кто вы?
— Моя история похожа в некоторой степени на вашу. Я люблю женщину, женщина эта сидит в вашей тюрьме. Мне нужно, чтобы эта женщина была со мной, мы уедем в горы — там мои родители, а вы уедете в Швейцарию — там ваша тетушка.
— Как зовут женщину, которую вы любите?
Седой закурил, пустил к потолку дым, прищурился и ответил:
— Ее зовут русская радистка.
— Вы с ума сошли…
— Я не сошел с ума.
— Это невозможно.
— Отчего?
— Оттого, что мне дорога жизнь.
— Вы будете чисты.
— Каким образом?
— Сначала мне нужно ваше принципиальное согласие.
— Это невозможно…
— Хорошо. Допустим, вам поступает приказ — передать мою женщину для допроса ночью, когда вы дежурите. Бумага остается у вас, а вам следует только выполнить приказ.
— Это невозможно…
— Вы меня не так поняли. Я знаю, вам нужны деньги, чтобы уехать с Иреной в Швейцарию. Разве нет?
— Допустим.
— Я даю вам эти деньги. Я даю вам тридцать тысяч. Вы мне даете мою женщину.
— Нет… Это невозможно…
В комнату вошла Ирена — глазищи зеленые, длинные волосы на плечах, талия осиная. Она остановилась возле двери и сказала:
— Да, Вацлав. Не «нет», но «да».
Шмита прижало к стулу, лицо его засветилось, пальцами захрустел.
«Несчастный парень, — подумал Седой, — ни черта не соображает, весь под ней».
— Да, — повторил Шмит. — Но мне ваш план не до конца понятен…
— Это уже другой разговор, — ответил Седой. — Валяйте-ка рисуйте план тюрьмы и опишите всех поляков, которые работают в тюремной обслуге. И график ваших дежурств. Я составлю точный план.
— Хорошо, — ответил Шмит. — Вы боретесь за свою любовь. Я буду драться за свою. Пятнадцать тысяч вы мне должны передать, когда я составлю тот график, который вы просите. Пятнадцать — в тот час, когда передам вам русскую. Ее номер 622.
— Курносая, с ямочками на щеках, да?
— Да. С ямочками. Радистка.
— Вас никто не собирается обманывать, Шмит.
— Я тоже не собираюсь обманывать…
Ирена, стоявшая в дверях, сказала:
— Он прав, пан, он прав. Вы боретесь за свою судьбу, он за свою. Здесь я обязана молчать, иначе он не будет мужчиной.
Весь следующий день Вихрь провел с Седым и Юзефом Тромпчинским. Они медленно ездили по краковским улицам в разбитом, стареньком «вандерере» адвоката.
— Вот, — сказал Юзеф, — хозяин этого магазина Игнаци Ериховский. Сволочь, целует нацистам задницу. Портрет Гитлера выставил, каков, а?
— Ну и что? Хозяин моей новой явки тоже держит в комнате портрет Гитлера, — сказал Седой. — Кричать на каждом углу «я ненавижу Гитлера» — проявление ненормальности. Лучше кричи, что ты его обожаешь, но проткни шилом два баллона в их машине — и то больше пользы.
— На твоей новой явке радиопередатчик можно будет установить? — спросил Вихрь.
— Можно. Только нет смысла.
— Почему?
— Засекут. Недалеко шоссе.
— Глупость. Мы с Аней сидели в лесу, и там нас засекли очень даже просто. Один дом — они нас и окружили. А если б было с десяток домов — хотя бы с десяток, — неизвестно, чем бы все кончилось.
— Кончилось бы тем, что все десять домов были взорваны, жители расстреляны, а ты сидел бы в гестапо вместе с Анной, — сказал Тромпчинский. — Вихрь, глядите, во-он тот подъезд видите?
— Да.
— Это подвальчик. Там кабаре и проститутки. Я там был ночью: выручка громадная. Хозяин сидит за перегородкой, у него сейф. По-моему, плюс ко всему он спекулирует медикаментами. С гестапо связан уже два года… Он доносит гестаповцам, его весь город ненавидит, этого гитлеровского холуя. Фашист и спекулянт.
— Ночью опасно, — сказал Вихрь. — Задержат патрули.
— Да, — согласился Седой, — ночью мы будем, как голые.
— Стоп, — сказал Вихрь, — а если на немецкой машине? Юзеф, ты мог бы принять участие в этом деле?
— Меня знает хозяин. Меня вообще многие знают в городе.
— Я могу, — сказал Седой, — если очень надо, пойду я.
— Понимаешь, если пойдет один Степан с нашими ребятами, они сразу засветятся, хотя документы Коля им достал через своего интенданта.
— Да, — сказал Седой, — ваших даже в смокинге за версту определишь. Держаться совсем не умеют.
— Здесь банк? — спросил Вихрь.
— Да.
— Идеальнее ничего не придумаешь.
— Расстреляют всех служащих, — сказал Седой, — за пособничество бандитам.
— Ну что? — спросил Вихрь. — Остановимся на кабаре?
— Я — «за» — сказал Тромпчинский.
— »За», — сказал Седой.
На следующий день трое сбежавших из лагеря военнопленных, включенные в боевую группу Коли, пришли на явку Степана. Часов в двенадцать в окно постучали условленным стуком: раз-раз, пауза, раз, пауза, раз-раз-раз. Это были Вихрь и Седой.
— Новиков Игорь, — представился первый.
— Муравьев Владислав.
— Николаев Евгений.
— Садитесь, товарищи, — предложил Вихрь. — Будем беседовать.
В полночь Коля вынес костюмы: ребята переоделись. Седой скептически покачал головой.
— Новиков еще, может, подойдет, — сказал он Вихрю, когда они вышли в другую комнату, — а остальные нет. У них глаза с яростью, их засекут. Там играть придется, там надо часами дожидаться минуты. Они себя засветят. Ребят надо держать для диверсий, а эта штука с эксом не для них.
— Ну что ж… — задумчиво сказал Вихрь, — видимо, ты прав. Пойдем втроем. Ты, Степан и я. Удирать будем на машине Аппеля. У него ночной пропуск.
— Этих ребят я сегодня отведу обратно в лес, а оттуда их перебросим к нашим партизанам, так будет разумно. «Соколы» — большой отряд, я с ним на связи, — сказал Седой.
— Хорошо. Экс отнесем на завтра.
29. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Берг не любил свой почерк. Он понимал, что его каллиграфический почерк, точные нажимы и неимоверно изящные соединения свидетельствовали о несгибаемом канцеляризме его обладателя. Поначалу Берг гордился и своей феноменальной памятью, и каллиграфическим почерком. Он возненавидел свой почерк, когда до него дошел отзыв Канариса. Он пробовал изменить почерк, но из этой затеи ничего не вышло: почерк вроде дефекта речи — рожден заикой, ну, стало быть, заикой и помрешь. Реванш Берг брал в другом: развелся с женой и пустился во все тяжкие. Как это ни странно, но расчет его оказался точным, и по прошествии года о нем стали говорить не как о канцеляристе, но как об удачливом донжуане, рубахе-парне, незаменимом в компании мужчин человеке, если захотелось после дружеской попойки где-нибудь повеселиться — у Берга всегда были наготове телефоны верных подруг.
Но фюрер уволил Канариса в почетную отставку — адмиралу было поручено руководить экономической войной; абвер слили с ведомством Кальтенбруннера, а управление кадров в ведомстве Кальтенбруннера выражало недоверие людям морально не стойким. Останься Берг тем памятливым каллиграфом, каким он был, — наверняка судьба вознесла б его в аппарате Кальтенбруннера. Он делал ставку на вкусы Канариса, но пришел Кальтенбруннер — и Берг оказался в Кракове, всего лишь в должности офицера 1-С (офицера фронтовой разведки) группы армий «А».
Поэтому сейчас каждый свой шаг он перестраховывал с такой тщательностью, которая в случае новых непредвиденных случайностей гарантировала бы его, во всяком случае, от окончательного разжалования.
Разработку русской радистки он вел осторожно и неторопливо; после пяти бесед с Аней почувствовал, что скованность девушки прошла; со дня на день он ждал, что она примет его предложение и тогда он получит в руки связь, а по связи уж куда легче идти на внедрение в подполье.
После каждой беседы Берг исписывал гору бумаги, восстанавливая каждое слово русской радистки со скрупулезной точностью, — это был его оправдательный документ. Более того, когда Берг почувствовал, что девушка вот-вот «дозреет», он связался с шефом краковского гестапо. Крюгер приехал к нему вечером, и они вдвоем просидели над материалами, приобщенными Бергом к делу, условно названному «Елочка». Шеф гестапо одобрил проведенную работу, и Берг сразу же попросил шефа позвонить руководителю отдела А-2, с тем чтобы в дальнейших контактах, если они появятся, руководство отдела А-2 оказывало помощь Бергу в разработке этой перспективной операции.
Шеф гестапо спросил Берга:
— Послушайте, а не слишком ли жирная фигура для вербовки к красным полковник Берг?
— Приятно слышать, — улыбнулся Берг, — что меня считают жирной фигурой.
Крюгер ответил:
— Ну, поймите меня правильно.
— Я понимаю вас верно, — ответил Берг, — я использую возможность шутить в разговоре с человеком, понимающим юмор. Увы, это редкое качество… Мне кажется, что, если им предложу свои услуги я и в случае если они это наше предложение примут, тогда мы войдем в контакты с более высоким уровнем заинтересованностей красных, чем ежели бы свои услуги им предложил унтер-офицер. По тому кругу интересов и по тем вопросам, которые они могут поставить передо мной, мы поймем их дальние планы, а не местные интересы — полка или в лучшем случае дивизии, противостоящей нашей обороне на том или ином участке фронта.
Шеф сидел задумчиво, поигрывал пригоршней карандашей, кусал верхнюю губу и щурил левый глаз. Берг нажал:
— Если эта наша операция пройдет успешно, думаю, Кальтенбруннер останется в высшей степени доволен нами.
Это было приглашением к танцу: Берг дал аванс на обоюдную славу.
Крюгер положил карандаши на стол и снял трубку телефона.
— Отто, — сказал он руководителю отдела А-2, — мы с Бергом задумали интересную работу. Поднимись к нам, пожалуйста, мы обговорим детали.
«Около десяти часов, — записывал Берг, — мы сели ужинать. Радистка учила меня, как надо заваривать чай. Она утверждала, что его нельзя кипятить на плитке, а надо держать укрытым теплой тряпкой.
Я. Почему вы так думаете?
Она. Так делала мама. У нас в Сибири умели заваривать чай, нигде так не могут чаевничать, как у нас.
Я. А кофе вы любите?
Она. Не очень. Оно горькое.
Я. Надо говорить «он».
Она. Это не по правилам грамматики.
Я. Придется поставить вам двойку по русскому устному. Я готов доказать со словарями и учебниками мою правоту.
Она. Сдаюсь.
Я. Памятуя формулу Максима Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают», я бы загнал вас в угол.
Она. Я много думала над нашими разговорами.
Я. Ну и?
Она. Яне могу поверить вам. Мы однажды поверили вашему честному слову.
Я. Кто это мы?
Она. Мы — СССР.
Я. Чьему слову вы поверили?
Она. Мы поверили честному слову немцев в тридцать девятом году».
(Кое-что Берг записывать не стал, потому что разговор был следующего содержания:
Берг. Немцев ли?
Аня. Кого же еще…
Берг. Если мне не изменяет память, в одном из ваших партийных документов, конкретно в докладе Сталина, было сказано: Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается… Не надо путать одного человека и весь народ.)
Всю дальнейшую часть беседы Берг воспроизвел полностью:
«Она. Если бы вы отправили сейчас весточку моему командованию…
Я. Каким образом? Написать на конверте: «Москва, Кремль» и опустить в ящик?
Она. Вы — разведчик, вы и придумывайте, как переправить.
Я. Ну хорошо, допустим, я отправил с одним из ваших пленных. Какой смысл?
Она. Этого будет достаточно для моего согласия.
Я. Наоборот. Вам не поверят.
Она. Почему?
Я. Потому, что это немыслимое дело, чтобы полковник немецкой разведки отправлял через линию фронта письмо с предложением сотрудничать.
Она. Есть возможность связаться с командованием и не переправляясь через линию фронта. Зачем же исключать такую возможность?
Я. Ну что ж… Интересно… Хотя очень опасно. Если вы провалитесь здесь — вы или ваши здешние руководители, — тогда, скорее всего, вы попадете в руки гестапо. И там вас выпотрошат: гестапо — это отнюдь не армейская разведка.
Она. Вы ошибаетесь. Здесь я могу дать вам любую гарантию.
Я. На будущее: старайтесь быть аналитиком. Подчиняйте эмоции разуму. Все не так просто, как вам сейчас представляется. Все значительно сложнее.
Она. Вы правы. Но только чрезмерное усложнение так же опасно, как и упрощение. И не столько опасно, сколько смешно.
Я. Я готов встретиться с вашим человеком и передать ему весточку от вас. Могу передать ему — в порядке аванса — интересующие вас документы и принести от этого вашего человека сообщение: передал я документы или нет.
Она. Какие документы вы можете передать?
Я. Пожалуйста, на выбор: дислокация частей гарнизона, планы перемещения войск.
Она. Это может быть дезинформацией с вашей стороны.
Я. Конечно. Все может быть. Все может быть, если никому не верить. В общем, видимо, наш разговор следует считать несостоявшимся. Я спасу вам жизнь, я отправлю вас в лагерь. Но давайте больше к моему предложению не возвращаться.
Она. Почему же… Я, между прочим, могу сообщить вашему начальству о ваших предложениях.
Я. Это нецелесообразно по трем причинам: во-первых, вам не поверят, во-вторых, это будет стоить вам жизни, и, в-третьих, я уже никогда не смогу попробовать помочь вам в вашей борьбе.
Она. О том, чтобы вы связались с нашими людьми здесь, не может быть речи: они ушли со своих явок, и я не знаю, где они могут быть.
Я. Вы хотите, чтобы я перебросил вас через линию фронта?
Она. Конечно.
Я. Значит, вы согласны поехать на радиоцентр?
Она. Сначала я хочу посмотреть, какую дезинформацию мне придется передавать нашим.
Я. Хорошо. Завтра вы увидите эти материалы. Я могу сообщить радистам, что вы дали принципиальное согласие?
Она. Сначала дайте мне просмотреть материалы и объясните, какую цель они преследуют.
Я. Хорошо. Завтра утром я вызываю вас на очередной допрос.
Она. До свидания.
Я. Спокойной ночи».
Назавтра Берг проинформировал шефа гестапо, что русская радистка приняла его предложения, и сразу же связался с оперативным отделом штаба армейской группировки «Висла» с просьбой подготовить серию серьезных дезинформации стратегического значения.
30. ИСТИННАЯ ПРИЧИНА
17 октября 1939 года сотрудник английского посольства в Осло достал корреспонденцию из большого синего почтового ящика, укрепленного на стене возле ворот. Разбирая корреспонденцию, он обратил внимание на белый самодельный конверт. Адрес был отстукан по-немецки. Имени отправителя, почтового штемпеля, марки или сургучной печати не было. Сотрудник посольства вскрыл конверт. Так как немецкого языка он не знал, то ограничился просмотром нескольких страниц, испещренных цифрами, чертежами и короткими аннотациями к ним. Сотрудник посольства отправился к военно-морскому атташе Великобритании контр-адмиралу Гектору Бойзу. Тот вызвал своего переводчика, и они вдвоем засели за изучение документа. А когда документ был переведен, на аэродром ринулся звероподобный «роллс-ройс» под посольским штандартом. А на аэродроме с запущенными моторами уже стоял специальный самолет. Вечером этого же дня документ был вручен шефу английской разведки. На следующий день изучение документа из Осло было поручено советнику Черчилля по военной технике, профессору Абердинского университета в области баллистики и астрономии сэру Реджинальду Виктору Джонсу. Впоследствии к изучению этого документа подключился профессор сэр Артур У. М. Эллис.
Документ сообщал, что в Пенемюнде, на берегу Балтийского моря, организован центр третьего рейха по созданию «V. z. b. v.» — «оружия возмездия особого назначения». Из документа явствовало, что под руководством двадцатисемилетнего ученого Вернера фон Брауна здесь, в Пенемюнде, проводятся сверхсекретные работы по созданию ракетных снарядов и баллистических ракет.
Документ из Осло был поразителен с точки зрения проникновения в святая святых рейха. Однако сведения, полученные из одного источника, не могут считаться сведениями; это может быть гениальное сумасшествие, дезинформация, домысел. Начинать немедленное действо хорошо в любви или в искусстве. В политике и разведке это может принести только вред. У разведчика, как и у политика, есть только один надежный союзник — время.
Через год после получения документа из Осло в Лондон пришло донесение от группы польского Сопротивления во главе с инженером Антони Кацьяном: на острове Узедом в районе Пенемюнде действительно работает секретная база Вернера фон Брауна, занимающаяся проблемой ракетной техники «особого назначения».
В 1943 году данные из Польши были уточнены французской подпольной группой.
Более того, через французские и польские источники стало известно, что в 1944 году гитлеровцы намерены запустить на Англию более пяти тысяч ракет со смертоносным грузом. Французские, бельгийские, голландские патриоты, а также группы английской разведки обнаружили сто тридцать восемь стартовых площадок на северном побережье Франции и Голландии.
Военная разведка Великобритании получила данные аэрофотосъемки района Пенемюнде: на взлетных бетонных дорожках стояли самолеты с поразительно короткими крыльями, казавшиеся сверху похожими на пчел; в нескольких местах просматривались тени от вертикально установленных ракет громадного размера.
Теперь двух мнений быть не могло: Пенемюнде не был хитрым ходом, дьявольской игрой «Завлечения», устроенной гестапо или Канарисом. Это был сверхсекретный военный центр.
18 августа 1943 года на Пенемюнде был совершен внезапный налет. Остров бомбило шестьсот «летающих крепостей». На объект Вернера фон Брауна было сброшено полтора миллиона килограммов бомб. Была уничтожена половина всех лабораторий, разрушены кислородный завод и электростанция; городок для инженеров превратился в пепел.
19 августа в Пенемюнде прибыл Эрнст Кальтенбруннер с новым штатом эсэсовской охраны. Гиммлер предоставил осенью 1943 года Вернеру фон Брауну полигон Хайдлагер для испытания сверхмощных ракет V-2. Хайдлагер размещался на территории польского генерал-губернаторства, к северу от Кракова, в междуречье Вислы, Вислока и Вислоки.
Именно это и послужило истинной причиной полета в Краков Штирлица. Осмотр памятников старины был только поводом для Максима Максимовича Исаева. Чтобы получить эту командировку, ему потребовалось девять месяцев. Он и раньше слыл любителем изящных искусств, а для того чтобы лично ему, Штирлицу, поручили выполнение этого задания, пришлось несколько раз поговорить о французском ренессансе в присутствии Вальтера Шелленберга, шефа разведки СД, и в приемной у Кальтенбруннера. Разведка — сгусток памяти. Эти его беседы вспомнились тем, кому Гиммлер дал задание выяснить, что следует вывезти из Кракова, Праги и Братиславы. И выбор кандидата был определен: Штирлиц.
31. ТАНГО СО СЛЕЗОЙ
О, горькая тишина ночных ресторанов, обреченная нежность одинокой грусти, когда тушат на столиках свечи замотанные официантки и пьяный пианист тихонько наигрывает твои самые любимые песенки, а женщина за соседним столом кажется тебе самой красивой и единственно тебя понимающей! О, это ожидание рассвета, когда в открытые окна тихонько прокрадывается, словно наемный убийца, серый, зыбкий, тревожный утренний свет. Где все несчастья, где война, окопы, вздувшиеся серые трупы, когда ты пьешь смирновскую водку из синих рюмок, а на коленях у тебя хрустит белая салфетка?! А та быстрая и отчаянная дружба, которая завязывается здесь, а те песни, которые ты орешь вместе со всеми, и тебе кажется, что никогда и нигде еще лучше не пели, чем сейчас… А то легкое счастье, когда ты возвращаешься к себе домой и глядишь на утреннее, первое, бело-синее солнце и на желтую полоску рассвета!
Но это все потом, а сейчас надо сидеть и замирать, и холодеть, и радоваться, и плакать, слушая, как пани Анна стоит на сцене в свете двух прожекторов и поет о варшавском Старом городе, где тихие улочки, дымные рассветы, где влюбленные похожи на пластилиновые фигурки в игрушечной декорации средневекового замка и где только крик — отчаянный, одинокий крик переносит вас в сегодняшнюю ночь. Но кого же зовут, на кого надеются те, кто кричит в ночи? Им не на что надеяться, им совсем не на что надеяться, им можно надеяться разве что на сонное бормотание Вислы и на то, что вокруг сейчас ночь, которая всегда с влюбленными.
В кабаре было человек тридцать: спекулянты, несколько офицеров люфтваффе с компанией пьяных молоденьких проституток в школьной форме, сделанной нарочито вульгарно: юбчонки выше колен, вырезы на шее до поддыха, а талии перетянуты широкими кушаками, чтобы подпирать посильнее неоформившуюся еще грудь.
Седой и Степан вошли в кабаре первыми. Они сели у самого входа, за первый же свободный столик: здесь было темно, а Степан очень волновался, и лицо у него было землистое, а глаза лихорадочно горели, и зрачки были громадные, Седой — тот улыбчиво оглядел зал, сел нога на ногу, небрежно, как завсегдатай, щелкнул пальцами, не глядя на официантку, принял у нее из рук карточку и рассеянно прикурил — палец не дрогнул.
Следом за ними вошел Вихрь. Под руку он вел Крысю. Он справедливо решил, что на эту операцию надо идти с женщиной — только тогда будет оправдано желание сидеть до последнего, пока в кабаре никого не останется.
Аппель долго целовал Крысю в машине, перед тем как она с Вихрем вошла в кабаре.
— Мотор выключите, — сказал Вихрь, — мы там будем долго.
— Может, мне пока что уехать?
— Не надо. Всякое может случиться. Ночью, как только Крыся выйдет, сразу заводите: через несколько минут подойдем мы.
Крыся обращала на себя внимание. Она была хороша и не затаскана, как все женщины, собиравшиеся здесь. Вихрь шел с ней через зал к перегородке, за которой сидел хозяин. Вихрь был одет в скромный костюм, может быть, даже чересчур скромный, если бы только в петлице левого лацкана не было маленького значка члена немецкой национал-социалистской рабочей партии. Волосы его были зализаны бриолином. Очки старили — они были с толстой коричневой роговой оправой, которая закрывала чуть не четверть лица.
Хозяин — в петлице пиджака значок с портретом фюрера — провел его за маленький столик возле сцены.
— Здесь слишком шумно, — сказал Вихрь по-польски. — У меня лопнут перепонки.
— Может быть, фрау любит громкий джаз? — улыбнулся хозяин.
— Это не фрау, — жестко ответил Вихрь, — это пани.
Он заметил, как у официантки, что стояла возле хозяина, сузились глаза, словно у кошки перед прыжком. Но это было мгновение — быстрое, стреляющее мгновение.
— Вон там, пожалуйста, — Вихрь указал глазами на столик возле стены: оттуда хороший обзор всего зала и закутка хозяина.
— Там дует от окна.
— Ничего. Я — закаленный человек.
Вихрь заказал белого вина и сыру. Налил вина в бокалы, положил свою руку на ледяные пальцы Крыси и сказал:
— Пани волнуется?
— Да… — ответила Крыся шепотом.
— Не надо волноваться, — так же тихо сказал Вихрь. — Давайте выпьем за тех, кто нас ждет.
Они выпили, и Вихрь попросил:
— А теперь расскажите мне все, моя маленькая польская козочка, про то, что вам хочется мне рассказать.
— Мне хочется вам рассказать, — начала Крыся повторять текст, заученный ею накануне, — про то, как глупо ошибиться в первый раз и как безнадежно преступно ошибаться вторично. Я все время боюсь ошибиться вторично.
— Пойдемте танцевать, — сказал Вихрь, — я еще ни разу не танцевал с пани.
Седой и Богданов пили молча, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Иногда только Седой что-то рассказывал ему, и Степан начинал громко смеяться — так разработал его поведение Вихрь. Пьяный человек в ночном кабаре обязан быть громким во всем: в слове, смехе, любви — тогда это в порядке вещей. Если человек скован, он тем самым может дать повод к драке: молчаливых и тихих не очень-то жалуют в кабаках. Пьяный не любит, когда его окружают зажатые, трезвые люди, он хочет, чтоб вокруг были все так же счастливы, как и он.
К столику Вихря подошел обер-лейтенант люфтваффе, поклонился Крысе и сказал:
— Могу я просить фройляйн танцевать с солдатом?
— Пани танцует с солдатом, мой друг, — ответил Вихрь.
Обер-лейтенант секунду стоял над ними, раскачиваясь с мысков на пятки, а потом чересчур экзальтированно поклонился и отошел к своим.
Вихрь снова пошел танцевать с Крысей.
— Я очень люблю танцевать, — сказала Крыся, — и Курт любит танцевать. Мы с ним вдвоем танцуем до упаду. Он только больше всего любит вальсы, а я люблю танго со слезой.
— Что это такое — танго со слезой?
— Его часто пел по радио Феоктистов-Нимуэр.
— О чем же он пел?
— О том, что танец — всегда воспоминание о прошлом. Когда танцуешь, обязательно вспоминаешь ушедшее и ушедших, и тебе становится невыразимо грустно, как будто уже старость и ничего не осталось, кроме воспоминаний…
А потом офицеры заставили своих проституточек танцевать на сцене, и девочки неумело дрыгали ногами и кричали какое-то непотребство — голоса у них звонкие, детские.
— Бедненькие, — сказала Крыся, — за что их покарал Господь?
— Господь здесь ни при чем.
— Может быть, у них дома голодные матери и братья.
— Сейчас нет сытых матерей, Крыся, — тихо сказал Вихрь, — это не оправдание. Голодные матери — это заслон, который себе создает похоть.
— Мужчины всегда слишком строги к ошибкам женщин.
— Во-первых, они — девочки, а не женщины. А во-вторых, это даже не ошибка. Это — предательство.
Крыся вдруг вспыхнула. Вихрь снова положил руку на ее ледяные пальцы и сказал:
— Не надо принимать на себя чужие грехи.
…К четырем часам утра кабаре опустело. Остались только два пьяных посетителя. Они никак не могли подняться из-за стола, и хозяин с дюжим поваром пытались вытолкнуть их из маленького полуподвального зала.
— Иди, — шепнул Вихрь, — иди, Крыся.
Крыся глубоко вздохнула, нахмурилась и, резко поднявшись, быстро пошла через зал к выходу. Вихрь проводил ее взглядом, поднялся и достал из кармана пистолет.
— Всем сидеть тихо! — сказал он.
Хозяин с поваром обернулись. Человек, которого они пытались вытащить, бухнулся лбом об стол. У входа стоял Богданов с гранатами. Возле него был Седой.
Хозяин обмяк и опустился на пол.
…Когда они выскочили из кабаре, возле машины Аппеля стояли эсэсовцы-патрульные и молча просматривали документы шофера. Крыся прижалась к стене, расставив руки, словно распятая.
Было уже светло, хотя солнце еще не взошло.
32. ЯДРО ОРЕХА
Трагедия режима личной власти заключалась в том, что единственным аппаратом, фиксировавшим недовольство народа, истощенного войной, бомбежками и голодом, была организация Гиммлера и в некоторой степени военная контрразведка Канариса. Гитлер не желал видеть объективной правды, он требовал от своего окружения вообще и от Гиммлера в частности только тех данных, которые бы подтверждали его, фюрера, историческую правоту. Зная характер фюрера, Гиммлер не рисковал передавать объективную информацию о настроениях народа, он подлаживался под Гитлера и гнал ему лишь те сообщения, которые тот хотел получать. Когда однажды Канарис во время доклада в ставке осмелился объективно проанализировать положение на Восточном фронте, фюрер побелел, бросился к адмиралу, схватил его за отвороты серого френча и, с неожиданной силой рванув на себя, закричал:
— Вы что же, хотите сказать, что я проиграл войну, негодяй вы этакий?!
Вскоре после этого Канарис был устранен. Теперь истинное положение в стране — всеобщее глухое недовольство, усталость, пессимизм, крах веры в идеалы национал-социализма, незыблемые еще три года тому назад, — знал только один человек: маленький учитель словесности, в пенсне и с красивыми маленькими руками, которые он то и дело потирал, будто мерз. Это был шеф СС Генрих Гиммлер. Как никто иной, он совершенно отчетливо понимал, что рейх катится в пропасть. Поэтому Гиммлер не только выжидал, внимательно наблюдая за всеми перипетиями генеральского антигитлеровского заговора, но и думал о том, чтобы наладить свои кон-такты с Западом. До тех пор, пока в число заговорщиков не вошел однорукий герой африканской битвы полковник Штауффенберг, поставивший условием переговоров контакт с коммунистическим подпольем, Гиммлер ждал. И не только ждал, но и предпринимал свои шаги, ни в коем случае не повторявшие шаги генералов. Он подтверждал — косвенно, конечно, — их деятельность, направленную на установление контактов с Западом, потому что знал: генералы в разговорах с людьми из Штатов говорили о Гиммлере как о единственной фигуре, которая может быть реальным помощником и покровителем переворота. Так, во всяком случае, Гиммлера информировал его агент доктор Лангбен, связанный с генеральской оппозицией. А Лангбену Гиммлер имел все основания доверять — агент прошел многие годы проверки, он был верным человеком. Косвенное подтверждение, аванс силе генеральской оппозиции (естественно, после того, как Гиммлер точно уяснил для себя, что именно он, а не кто другой выдвигается генералами как фигура, способная удержать Германию в повиновении после переворота и продолжать сопротивление большевизму) выдал в Стокгольме личный представитель Гиммлера доктр Керстен. Приехав в Стокгольм осенью сорок третьего года, доктор Керстен вошел в контакт с американским дипломатом, представившимся Абрахамом Хьюи-том. После нескольких дней взаимного зондажа Хьюит сказал Керстену, что он согласен помогать в установлении контактов между Гиммлером и определенными лицами в Соединенных Штатах на следующих условиях: роспуск нацистской партии и СС, проведение свободных выборов в Германии, освобождение всех оккупированных территорий, наказание военных преступников, контроль над военной промышленностью рейха.
Керстен передал все это рейхсфюреру СС. Тот запросил: каковы будут гарантии в отношении его, Гиммлера? Будут ли сохранены его права — не рейхсфюрера СС и ветерана партии, но просто человека по фамилии Гиммлер?
Хьюит выжидал, Гиммлер торопил. В Стокгольм вылетел начальник политической разведки СС Шелленберг. Он принял на себя ведение переговоров с Хьюнтом. Гиммлер, получая каждый день шифровки от Шелленберга, метался по фронтам, ночами пил лекарства, чтобы уснуть; много ходил пешком — его всегда раздражала аристократическая манера Канариса каждое утро совершать верховые прогулки; перечитывал Гёте, потом вдруг выключался и сидел, глядя в одну точку, а в голове было пусто-пусто и только метались какие-то тягучие обрывки слов — чаще всего суффиксы или глагольные окончания.
В конце концов он принял все предложения американцев, кроме одного: он не соглашался с пунктом, который предусматривал суд над военными преступниками.
— Есть только одна форма преступности, — говорил он, — это уголовная преступность. Война, как утверждают наши идеологические противники, это продолжение политики иными средствами. Политика нельзя судить так же, как карать заключением проигравшего шахматиста.
Согласие Гиммлера на все эти условия подтвердило американским разведчикам состояние краха и разброда в гитлеровском партийном руководстве — во-первых, серьезность генеральской оппозиции — во-вторых, и наличие фигуры Гиммлера, который поможет осуществить переворот, — в-третьих, поскольку он принимает такие условия, которые даже «консервативный революционер» Канарис не считал возможным принять во время бесед с американскими разведчиками в Стамбуле.
Все эти переговоры с Западом велись людьми Гиммлера как «прощупывание» врага; узнай об этом фюрер — Гиммлер сумел бы его убедить, что все это не что иное, как обычная в политической разведке игра с врагом.
Но при этом Гиммлер несколько раз на встречах у Гитлера очень внимательно смотрел в глаза тем генералам, антигитлеровские беседы которых он прослушивал в магнитофонной записи у себя в кабинете. Тот генерал, в голубые, чуть навыкате глаза которого он смотрел, мялся, краснел, бледнел, а потом вымученно улыбнулся. Гиммлер чуть кивнул головой и тоже улыбнулся. После этого Гиммлер получил сведения, что посредник Запада банкир Валленберг говорил идеологу путча Гердлеру:
— Только не трогайте Гиммлера! Он не помешает вам, если все дело направлено против Гитлера.
Все шло своим чередом до тех пор, пока отдел гестапо, занимающийся коммунистами, не вышел на связи, которые установило радикальное звено оппозиции с представителями Коммунистической партии Германии. Аресты прошли мимо Гиммлера — коммунистов хватали без санкции высокого руководства. Но беда заключалась в том, что рядовые сотрудники гестапо неожиданно вышли на связи коммунистов, которые протянулись к левым в генеральской оппозиции. Секрет, который знал Гиммлер, становился известен аппарату гестапо. Страшная сила аппарата грозила — в результате случайности — смять основателя этого аппарата, того человека, который стоял на трибунах партийных съездов возле фюрера, рукоплескал его речам, славил его в своих выступлениях и одновременно вел торг, в котором жизнью фюрера покупал свое, Гиммлера, благополучие.
Трагедия личной власти — особенно в моменты критические — сокрыта в отрицании ею эволюции, логики развития, в нежелании переосмыслить догмы, признать поражение, искать путь к победе в новых исторических условиях новыми средствами и формами. Альтернатива этому нежеланию только одна — путч. Гиммлер верил в путч как в средство, способное сохранить ему жизнь, благополучие, свободу. Он поэтому ждал. Он мог ждать до тех пор, пока аппарат гестапо не оказался посвященным в связь молодого крыла заговорщиков с коммунистами. Гиммлер оказался на распутье. Слабый человек, дгже если он кажется олицетворением могущества на экранах и на фотографиях, может принять верное решение только в том случае, если он способен откровенно посоветоваться с теми, кому он доверяет. В гитлеровской машине было все: четкая слаженность звеньев партийного, военного и государственного аппарата, прекрасно поставленная агитация, демагогически отточенная пропаганда, молодежные и женские объединения, физкультурные общества и буффонадные спортивные празднества, красивые парады и отрепетированные народные волеизъявления, — все это было. Не было только одного: не было взаимного доверия. Отец боялся сына, муж боялся жены, мать боялась дочери.
Гиммлер был одинок в своих сомнениях и в своем метании. Поэтому внешне он казался спокойным, как никогда, только глаза под пенсне чуть потухли и руки он потирал чаще обычного.
Развязка наступила двадцатого июля.
Гиммлер знал многое. Однако он не знал, что полковник Штауффенберг два раза откладывал покушение на Гитлера только потому, что в ставке не было ни Геринга, ни Гиммлера. Штауффенберг принадлежал к левому крылу оппозиции. Он не считал возможным сохранение гитлеризма путем устранения одного лишь Гитлера.
20 июля 1944 года он вылетел с военного аэродрома под Берлином, чтобы прибыть в резиденцию Гитлера на совещание по вопросу о формировании новых дивизий резерва. Совещание началось в двенадцать часов тридцать минут. Генерал Хойзингер, свободно разыгрывая на громадной карте, что была расстелена на длинном столе, приблизительную схему сражений, громыхавших на Восточном фронте, давал точные, сухо сформулированные анализы положения на отдельных, наиболее сложных участках громадной битвы.
Штауффенберг, потерявший во время африканского похода руку и глаз, а поэтому очень импонировавший фюреру (тот особо ценил физически выраженные проявления героизма), вытащил под столом чеку из английского замедленного взрывателя, поставил кожаный темно-коричневый портфель с миной, уже готовой к взрыву, поближе к фюреру, поднялся и, чуть склонив голову, негромко сказал Кейтелю:
— Прошу простить, мне необходимо связаться с Берлином.
Гитлер только мельком глянул на полковника, и некое подобие улыбки скользнуло по его лицу. Кейтель недовольно поморщился — он не любил, когда нарушался порядок во время доклада оперативных работников штаба.
— Русские, — продолжал между тем докладывать Хойзингер, — крупными силами продолжают поворачивать западнее Двины на север. Их передовые части находятся юго-западнее Динабурга. Если мы не отведем группу армий от Чудского озера, нас постигнет катастрофа.
Сочетание великого и смешного, трагичного и шутовского — в логике жизненных явлений. Хойзингер не сказал больше ни единого слова: высверкнуло оловянно-красным пламенем, рухнул потолок, вылетели с морским, скляночным перезвоном толстые стекла из распахнутых окон летнего бунгало — произошла простая и закономерная химическая реакция в бомбе полковника Штауффенберга.
Гитлер вскочил с пола — в синем дыму и горьковато-соленой копоти.
— Мои новые брюки! — закричал он обиженным, чуть охрипшим голосом. — Я только вчера их надел!
Все дальнейшее было похоже на трагикомедию, выдуманную писателем-фантастом самого вульгарного пошиба: в течение пяти часов после покушения Гитлер мог и должен был пасть. Он не пал.
Если анализировать провал заговорщиков в их попытке захвата власти с точки зрения формальной логики, то, видимо, стоит сделать три сноски: во-первых, на национальный характер немцев, для которых буква приказа есть буква религии. Заготовленный приказ «Валькирия» — приказ, который позволял армии взять власть в свои руки, отдан не был. Во-вторых, заговор против диктатора может осуществиться только в том случае, если все его участники готовы отдать жизнь во имя своей идеи. Далеко не все участники генеральского заговора были так же фанатичны, как тот, против кого они поднялись. И наконец, в-третьих: заговор в стране, где господствовал партийный аппарат НСДАП, могли успешно осуществить только люди, знавшие все потаенные пружины этого аппарата. Генералы, однако, посчитали, что все может решить армия, как некое «государство в государстве». И они просчитались. Многолетняя подготовка к схватке армия — НСДАП окончилась поражением армии.
В тот же день, двадцатого июля, основные руководители заговора по приказу Геббельса были расстреляны во дворе на Бендлерштрассе. Беку и Штауффенбергу предложили застрелиться. Бек застрелился, Штауффенберг отказался.
— Кончают самоубийством люди, виноватые в чем-то. Я ни в чем не виноват перед народом.
Его расстреляли под рев автомобильных моторов. Гиммлер понял, что, пока Гитлер и Геринг ждут известий в Растенбурге, в ставке командующего, ему остаются считанные часы для того, чтобы уничтожить наиболее влиятельных заговорщиков, которые могли догадаться о его, рейхсфюрера, осведомленности в планах путчистов. Он должен был уничтожить тех, кто мог сказать об этом, пока эсэсовские следователи не арестовали всех заговорщиков.
Нет страшнее палача, чем тот, который хочет замести следы своих преступлений.
Гиммлер начал массовую волну террора.
Канариса рейхсфюрер и боялся, и в то же время совсем не боялся. Он справедливо полагал, что этот умный хитрец знает: молчание — залог спасения. Именно поэтому он раздумывал, стоит ли его арестовывать, несмотря на старые связи адмирала с расстрелянными генералами и теми, которых сейчас хватало гестапо; первым бросили в подвал фельдмаршала Вицлебена, которого ранее в газетах называли «военным гением рейха».
Канарис, считал Гиммлер, может оказаться разменной монетой в игре с Западом.
Но Гиммлер, к счастью, не успел начать разговора с фюрером о судьбе адмирала; тот сам спросил:
— Как себя ведет этот негодяй в камере?
— Кто именно? — не понял Гиммлер.
— Я имею в виду Канариса.
— Его еще не успели привезти в тюрьму, — ответил Гиммлер, — завтра я доложу о нем подробно.
И в тот час, когда Геббельс, выступая публично, смеялся: «Это бунт по телефону!» — начальник политической разведки СД Вальтер Шелленберг арестовывал бывшего начальника абвера адмирала Канариса. (Даже уволенный со своей должности, Канарис был ненавидим Кальтенбруннером.) Адмирал попрощался со своими любимыми таксами, утер слезу и сказал:
— Шелленберг, любите собак, они не предают.
Об аресте своего бывшего шефа полковник Берг узнал ночью, когда его вызвал руководитель краковского гестапо. Не глядя на полковника, он подвинул ему перо и стопку бумаги.
— Напишите о вашей совместной работе с Канарисом и презренным врагом нации Штауффенбергом.
Берг понял: случилось страшное. Раньше Канарис был в опале, теперь он в Моабите. Раньше Штауффенберг, с которым он несколько раз встречался в Берлине, был героем нации, теперь он стал ее врагом.
Берг писал автоматически, строчки ложились ровные, каллиграфические, как всегда. Он перечислял дни встреч с Канарисом и Штауффенбергом, но думал он сейчас — по своей врожденной привычке — спокойно и математически точно.
«Видимо, та игра, которую я начал с этой девочкой, сейчас, волею Бога, может оказаться моей спасительной партией. Мне надо теперь не играть, а всерьез работать на них. Это, видимо, единственная реальная возможность выбраться из катавасии, в которую я попал. Только бы гестапо не отстранило меня от работы в разведке. Они могут в каждом военном разведчике видеть потенциального последователя Канариса. Они не хотят видеть в Канарисе патриота, который мечтал ценой жизни фюрера спасти миллионы жизней немцев. Они никогда не позволят себе — внутренним своим цензорским окриком — даже решиться подумать об этом. В этом и сила их и трагедия одновременно. Если я начну работать с красными, я обеспечу себе потом алиби. «Национальный комитет свободной Германии» во главе с Паулюсом — это, конечно, не замена Гитлеру, но тем не менее это уже кое-что. Самое глупое, конечно, если они меня сейчас посадят. Они могут. Девчонке надо готовить побег. Пусть уходит. Надо сделать так, чтобы она ушла не от меня, а от гестапо. Только бы меня не посадили. Господи! Тогда я попрошу в помощь сотрудника гестапо. Я скажу шефу, что в трудные для нации дни армию необходимо подкрепить проверенными партийными кадрами. Я отвезу девчонку на радиостанцию и передам ее эсэсовцу. А ему, когда он привыкнет к девчонке, я подсуну какую-нибудь проститутку и водки. Партийные функционеры так измучены пуританской моралью Гитлера, которая запрещает члену их партии пить шнапс, а женщине красить губы — «это предательство интересов родины наймитам американской плутократии», — что, я убежден, человек гестапо клюнет на бабу и водку. Чего, кстати, больше в этих запретах Гитлера: фанатизма, зависти к нормальной жизни или просто тупости? Неужели он не понимает, что запретный плод сладок? Чем меньше запретов во внутренней жизни государства, тем труднее проникать враждебной идеологии, экономике, политике: не на чем ловить людей. Когда людям все можно, в разумных, конечно, пределах — ни в коем случае нельзя благословлять скотство, — тогда мне, разведчику, нечего делать в такой стране. Только неумные политики в период трудностей шарахаются от усиления жестких методов подавления инакомыслия к проявлениям уступчивого либерализма. Умные политики осторожно выпускают пары — и тут мне, разведчику, опять нечего делать. Наши идиоты, которые проиграли войну, теперь, после спасения фюрера, проводят террор и демонстрации народа во славу Гитлера и на страх заговорщикам. Эти аресты и демонстрации еще больше перепугают народ. А народ, который запуган и не мыслит, никогда не победит».
— Здесь все, — сказал Берг, протягивая Крюгеру листки бумаги. — Какие мерзавцы! Кто бы мог подумать, что этот морской кулинар нес в своем мохнатом сердце камень неблагодарности фюреру!
Шеф гестапо внимательно посмотрел на Берга и спросил:
— А что готовил Канарис, когда приглашал вас к себе в гости?
— Я был слишком незаметной фигурой среди военных разведчиков, — ответил Берг, — персонально меня он не приглашал ни разу. Персонально он приглашал ведущих руководителей: Остера, Бампера, Пикенброка. Я бывал у него только дважды: один раз, когда он устраивал день рождения, пятидесятилетний юбилей. Он великолепно готовил, эта свинья, индийский рис с рыбой, «индише райстафиль».
— Это было у него в Целендорфе?
— Да. Это известно центральному аппарату гестапо: на его раутах всегда бывал Гейдрих.
— Как фамилия егеря Канариса?
— Которого?
— Того, что устраивал ему охоту на лис с флажками. Эта сволочь даже охотился по-английски — с флажками. А егерь привозил ему одну лису в готовый загон, и ваш вшивый моряк загонял несчастное, запуганное животное… Какое зверство и лицемерие… Ну, это уже от эмоций. Хорошо, вы свободны, полковник. Прошу никуда не отлучаться из кабинета — вы можете мне понадобиться каждую минуту.
— Хорошо… Теперь, если позволите, о деле
— Да.
— Наша с вами операция с русской разведчицей подвинулась весьма далеко. Мне хотелось бы просить вас подключить сотрудника гестапо. Сейчас тот период, когда я без непосредственной помощи гестапо ничего не смогу сделать.
Шеф гестапо спрятал листки, исписанные Бергом, в сейф, вернулся к столу и сказал:
— Я подумаю.
Из стенограммы совещания Гитлера с генерал-полковником Йодлем в «Волчьем логове»
Присутствуют: фюрер, генерал-полковник Йодль, генерал Варлимонт, группенфюрер Фегелейн, полковник фон Белов, подполковник фон Амсберг, подполковник Вайценэггер, майор Бюкс. Начало совещания: 23 часа 53 мин.
Фюрер. Йодль, когда я размышляю о больших заботах сегодняшнего дня, то прежде всего передо мною встает проблема стабилизации Восточного фронта — большего ведь на данном этапе добиться невозможно — и я задаю себе вопрос: может быть, учитывая всю обстановку в целом, действительно не так уж плохо, что мы зажаты на сравнительно узком пространстве. В этом ведь не только недостатки; есть и преимущества. Если удержать ту территорию, которой мы сейчас владеем, то она все же может обеспечить нам существование, а в то же время у нас не будет таких огромных, растянутых тылов. Но для этого необходимо, конечно, действительно перебросить в боевые части все, что у нас за прежнее время накопилось в тылах. Только тогда эти части превратятся в определенную силу. Если мы этого не сделаем, если вместо этого тылы расположатся в Германии, если мы будем растягивать оперативные тыловые районы на все большую глубину, хотя никаких тыловых районов вообще не нужно, если мы — несмотря ни на что — будем раздувать органы военной администрации, осуществляющие исполнительную власть в прифронтовой полосе, хотя такие органы вовсе не нужны, поскольку все и без того осуществляют предоставленную им власть в интересах армии — вспомните 1939 год: мне бы пришлось тогда на Западе уступить военной администрации исполнительную власть вплоть до Ганновера, ведь вся территория до Ганновера и Миндена была сплошным районом стратегического развертывания, — так вот, если мы покончим с этой абсолютно не воинской, совершенно неизвестной в других армиях, исповедуемой лишь нами (но, как мы теперь видим, заимствованной из чужого мира) идеологией, тогда сужение пространства не всегда будет только недостатком, а может стать и достоинством; но только при одном условии: если мы действительно подчиним интересам боя все, что нагромоздили в этом огромном пространстве, поставим под ружье всех, кого до сих пор использовали в тылах. При этом условии можно, по моему самому горячему убеждению, стабилизировать фронт и на Востоке… Я обдумывал вопрос: каковы теперь те опасные моменты, которые в принципе могут оказаться для нас роковыми в масштабах всей войны? Это, конечно, прежде всего прорыв на Востоке, который повлек бы за собой реальную угрозу нашей немецкой родине, будь то Верхнесилезский промышленный район или Восточная Пруссия, и сопровождался бы тяжелыми психологическими последствиями. Но я думаю, что теми силами, которые мы сейчас формируем и которые постепенно вступают в боевые действия, мы в состоянии обеспечить стабилизацию положения на Востоке — таково мое мнение — и что мы преодолеем этот человеческий кризис, этот моральный кризис. А он, кстати, неотделим от того акта, который был совершен здесь 20 июля. Ведь этот акт нельзя рассматривать изолированно; нет, событие, происшедшее здесь, служит, я бы сказал, лишь симптомом внутреннего нарушения кровообращения, симптомом наступившего у нас внутреннего заражения крови. Чего можно ожидать от фронта, если — как это теперь видно — в тылу важнейшие посты заняты настоящими диверсантами; не пораженцами, а именно диверсантами и государственными преступниками. Такова правда: если в службе связи и квартирмейстерском управлении сидят люди, совершившие государственную измену в абсолютно прямом смысле этого слова, люди, о которых не знаешь, сколько времени они уже тайно работают на противника, то нечего и ждать, что отсюда будет исходить тот боевой дух, который необходим. Ведь русские определенно не стали за год-два намного выше по боевому духу; и люди у них не стали лучше; но зато мы, без сомнения, стали морально слабее, потому что у нас под носом сколотилась шайка, которая непрерывно испускала яд; и в шайку входила организация генштабистов — генерал-квартирмейстер, начальник службы связи и прочие. Теперь нам только и остается, что спрашивать самих себя (а может, и спрашивать не надо, поскольку и так все ясно?): как противник вообще узнает наши мысли? Почему он так часто успевает принять контрмеры? Почему он молниеносно реагирует на столь многие наши акции? Вероятно, дело здесь вовсе не в проницательности русских, а в перманентном предательстве, которое совершала эта отпетая банда ничтожеств. Но если даже не ставить вопрос столь конкретно, то достаточно было и того, что люди на ответственных постах сидели опустив руки; и это — вместо того, чтобы постоянно излучать энергию и распространять уверенность в наших силах, а главное, вместо того, чтобы углублять сознание жизненной важности этой борьбы, которая решит нашу судьбу; борьбы, от которой нельзя уйти, нельзя укрыться каким-то хитрым политическим или тактическим маневром. Они бездействовали, вместо того чтобы доводить до сознания людей: эта борьба подобна той, которую вели гунны; в ней можно только победить или пасть — одно из двух. А если таких мыслей нет в высших инстанциях, если, напротив, эти идиоты воображали, что окажутся в лучшем положении, чем их предшественники, потому что сегодня собрались делать революцию генералы, а не солдаты, как в 1918 году, то это уже вообще ни на что не похоже; в таких условиях армия должна постепенно разложиться сверху донизу… Так что надо сказать прямо: здесь совершалось непрерывное прямое предательство, причем в этом есть доля и нашей собственной вины: из-за оглядок на репутацию армейского руководства мы всегда слишком поздно пресекали действия предателей или вообще их не пресекали, хотя мы давно, уже полтора года, знаем, что предатели есть, мы считали, что не можем компрометировать армейское руководство. Но это руководство оказывается куда сильнее скомпрометированным, когда мы предоставляем маленькому человеку — солдату — самостоятельно разбираться в тех призывах, которые постоянно разбрасываются русскими от имени немецких генералов; когда разъяснять суть этих призывов поручается мелкой сошке — фронтовому офицеришке, который и сам должен постепенно прийти к убеждению: либо русские правы, либо мы слишком трусливы, чтобы им ответить. Надо положить этому конец. Так продолжаться не может. Эти подлейшие твари из всех, когда-либо носивших солдатский мундир, эта сволочь, эти недобитые элементы прежних времен должны быть истреблены. Таков наш высший долг. Если мы преодолеем этот моральный кризис, то окажется, что русские нисколько не лучше, чем были раньше, а мы не хуже, чем были раньше. С точки зрения военной техники и другого имущества мы, наоборот, скорее находимся в лучшем положении, чем раньше, наши танки и самоходки стали теперь лучше, а у русских положение с техникой скорее ухудшилось. Таким образом, я считаю, что мы сможем поправить наши дела на Востоке.
В то время, когда по Германии прокатывались волны патриотических демонстраций, когда мимо гауляйтеров и партийных бонз маршировали старики и юноши, вооруженные автоматами, двигались колонны трудового фронта — с лопатами и топорами на плечах, когда зрители вопили: «Хайль Гитлер!» — как раз в этот час происходило очередное заседание Европейской консультативной комиссии и советский делегат Гусев оглашал согласованное коммюнике о границах оккупационных зон Германии, об условиях безоговорочной капитуляции и о том, что Германией будет управлять Контрольный совет, составленный из командующих оккупационными армиями
33. ВСТРЕЧА
Перед тем как отправиться на экспроприацию в кабаре, Вихрь просидел полчаса с Колей: тот докладывал о ходе наружного наблюдения за эсэсовским бонзой Штирлицем.
— Мы его водим, когда только можно. Если он на машине — не очень-то за ним походишь. Правда, номер я знаю: ребята из группы разведки польского подполья два раза засекли его возле Вавеля и один раз около костела Мариацкого. Он ходил с каким-то гадом и разглядывал иконы, фрески и орган.
— Хороший там орган?
— По-моему, грандиозный. Когда играют Баха во время мессы, кожа цепенеет, вроде как замерз, к черту.
— О Боге говоришь, а черта поминаешь.
— Так я ж марксист, — улыбнулся Коля, — явление суть единство противоположностей. Вообще мы делаем одну ошибку.
— Кто это м ы и какую ошибку? — спросил Вихрь. Ему было приятно сейчас так неторопливо говорить с Колей. Перед операцией надо хоть на десяток минут расслабиться.
— Мы — это мы, а ошибка — в нашем отношении к христианству.
— Ну? — усмехнулся Вихрь. — Смотри, разжалую за богоискательские разговоры.
— Я серьезно. Меня в свое время мама здорово просвещала. У Христа в заповедях много такого, что мы взяли. Честное слово. Возлюби ближнего своего, не укради, чти отца и мать.
— Как в смысле подставить щеку?
— Нельзя брать все. Мы не берем ведь всего у Гегеля или Фейербаха.
— Ладно, о христианстве — потом. Как будем поступать с этим подонком?
— Вчера ночью он один гулял по скверу. Потом сидел в ресторане гостиницы.
— А ты?
— Пролез.
— И что?
— Он жрал этот свой немецкий «айсбайн» — сало капало в тарелку. Свиная ножка — объедение… Пил много.
— Кто к нему подходил?
— Парочка девок из люфтваффе.
— А он?
— Что он?
— Ну, реагировал как?
— Никак. Одну по щеке потрепал. У него глаза, между прочим, красивые: как у собаки.
— Ты считаешь, что у собак красивые глаза?
— Так мама говорит. Она очень любит, если у людей глаза, как у собак.
— Слушай, мне как-то все неловко было тебя спросить: у тебя отца вообще не было, что ль?
Коля чуть улыбнулся:
— Так вроде не бывает. — Закурил, продолжил заученно: — Я, когда маленький был, спросил маму про отца, а она ответила: «Твой отец — прекрасный человек. Мы потеряли друг друга в революцию. Нас разметало. Люби его, как меня, и постарайся больше никогда не спрашивать о нем». Вот и все.
— Она так одна и осталась?
— Да. Ей всего сорок три исполнилось. Ребята говорили в университете: «Ничего у тебя подруга». Как воскресенье — на корты. Теннис — до пяти потов. А потом сядет на велосипед, а меня гонит бегом — поэтому я такой…
Вихрь усмехнулся:
— Какой?
— Жилистый, — в тон ему ответил Коля. — А жилистые на излом прочны.
Вихрь взглянул на часы, потер виски и сказал, сдерживая нервную, холодную и назойливую зевоту:
— Верное соображение. А эсэсмана этого, я думаю, надо убрать.
— Ты же говорил: выкрасть.
— Замучаемся. Подумай сам: где его прятать? У партизан? И так людей не хватает, а тут этого типа сторожи. Накладно. И потом, как бы нам с этим гусем главную операцию под удар не поставить. Если его взять, шухер подымут, знаешь какой? А так, ты ж сам говоришь, он по ночам без охраны шляется. Надо будет только имитировать ограбление, тогда все спокойней пройдет.
— Ясно…
— Ну, пока, — сказал Вихрь, — мы двинулись. Надо бы нашего шефа валерьянкой напоить — у него руки играют, как у склеротика.
Когда Вихрь со своими людьми уехал и шум автомобильного мотора стих, Коля потянулся с хрустом и, расхаживая по комнате, стал раздеваться. Он раздевался так, как всегда делал это в Москве: расхаживая взад и вперед по своему маленькому кабинету и оставляя на спинке стула, на столе и на кровати рубашку, майку, носки, брюки. Однажды он был в гостях у своего школьного товарища — тот был сын кадрового военного, и в семье его воспитывали по-военному; сам застели кровать, сам заштопай носки, сам выглади брюки, сам свари себе обед. Когда Коля рассказал об этом матери, Сашенька спросила:
— Тебе это нравится?
— Очень.
С того момента, когда сын начал ходить и говорить, Сашенька вела себя с ним не как с маленьким несмышленышем (»вырастешь — узнаешь»), но как с равным себе, живым, думающим существом.
— Наверное, это очень хорошо и правильно, и если тебе кажется, что надо расти именно так, по-спартански, по-командирски, — значит, так и поступай, — ответила она сыну. — Знаешь, мне так никогда и не пришлось ухаживать за папой. За мужчиной в доме. Очень приятно ухаживать за мужчиной в доме, который раздевается, расхаживая по комнате, и который не сумеет так постирать рубашку, как это умею сделать я, женщина. Наверное, это очень хорошо, когда мужчина умеет красиво погладить брюки, но мне это сделать для папы или тебя еще приятнее. Понимаешь?
— А я не вырасту баловнем?
— Ну, знаешь ли, — ответила Сашенька, — можно стирать себе носки и быть баловнем. Баловень — это состояние духа, это моральная дряблость.
— А что мне делать дома?
— Это другой вопрос. Знаешь, очень приятно, когда в доме пахнет свежим деревом. Как в охотничьей заимке. Было б прекрасно, оборудуй мы верстак… Ты бы сделал нам шведскую стенку. Зарядка по радио — вещь хорошая, но на шведской стенке мы бы с тобой вытворяли поразительные штуки.
— А еще что?
— Пушкин. Ты должен знать Пушкина, без этого невозможен русский интеллигент.
— Всего?
— Всего. Твой отец знал всего Пушкина.
— А кем он был? — тихо спросил мальчик.
— Он был самый хороший человек из всех живших на земле, — повторила Сашенька ту фразу, что она как-то сказала. — Самый лучший. Поверь мне.
— А меня в школе спросили: «Вас отец бросил?» Он нас не бросил?
— Гадкое слово — «бросил»… Что значит бросил? Он мог разлюбить. Любовь — не воздух, это не постоянная величина, вроде ноши на спине. Если любовь — это ноша на спине, тогда это вовсе не любовь. И никто никого никогда не бросает: просто человек перестает любить другого человека, и они не живут вместе. Это я тебе ответила вообще, понимаешь? Но папа не разлюбил меня. Он меня никогда не разлюбит.
В сороковом году, весной, он впервые увидел мать плачущей. Они приехали в воскресенье с тяги — Сашенька ездила с сыном на охоту, она приучила его любить охоту, сама научила стрелять, сама выбирала маршруты, — легли они спать рано, а утром, еще перед тем как она кончила готовиться к лекции по французской литературе (она вела курс в институте иностранных языков), к ней позвонили и попросили спуститься вниз — машина стояла у подъезда.
Мать вернулась через два часа заплаканная, легла на диван и отвернулась к стене. Он сел к ней и стал гладить ее голову.
— Санька, — сказала она, всхлипывая, как ребенок. — Санька, это и горе, и счастье, и боль. Твой отец жив.
— Где… Где он?
— Возьми мою сумочку.
Он принес матери ее плоскую сумочку. Сашенька щелкнула замком.
— Вот, — сказала она, — это — его.
На диване лежали три красные коробочки. В них на красном сафьяне лежали два ордена Ленина и орден Красного Знамени с номером на белой эмалевой планочке, под гербом. Номер был 974.
Поэтому-то Коля на какое-то мгновение замолчал, когда Вихрь спросил его об отце. С Колей никогда никто о нем не говорил — ни в кадрах, ни командование. Видимо, о его отце знало лишь несколько человек в стране. Поэтому, когда Вихрь спросил его, Коля внутренне сжался — самое тяжелое, что есть на земле, так это что-то свое самое дорогое утаивать от друзей. Все, знавшие его семью, не могли удержаться от этого вопроса, и всем, даже самым близким друзьям, он отвечал так, как ответил Вихрю.
«Здесь нет мамы, — подумал Коля, посмотрев на разбросанное белье. — Здесь надо самому. Ей радость, другим — тягость. Матери все в радость от ребенка. Как это величественно — женщина! Какое гармоническое и поразительное совмещение любви к мужчине и к ребенку».
Он вспомнил свой разговор с одним молодым художником. Тот писал портрет матери. Как-то этот художник сказал:
— Люблю детей. Впору жениться на любой задрипе, только б ребенка родила.
У Коли не было секретов от матери. Он рассказал ей об этом разговоре. Сашенька брезгливо сморщилась:
— Боже, какой кретин. Можно провести ночь с нелюбимой, но жениться только для того, чтобы она родила, — в этом есть что-то от негодяя. Знаешь, мне сейчас стало неприятно видеть его. Я откажу ему от дома.
— Но он талантливый художник.
— Ты — умница. Таланту можно прощать все, кроме негодяйства. Но если тебе с ним интересно, конечно, продолжай видеться. Я готова терпеть его здесь.
— Тебе будет очень трудно терпеть?
— Я не знаю, что такое трудно. Я знаю, что такое воспитанный человек.
— Значит, воспитанный человек может с улыбкой прощать подлость?
— Ни в коем случае. Но он может без улыбки отвечать на приветствие и смотреть мимо. Очень важно уметь смотреть мимо. Глаза — оружие пострашней револьвера. Если, конечно, считать их выражением души.
— Понимаешь, я тебе передал наш разговор. Мне будет неудобно перед ним. Если бы он сказал это тебе — тогда иное дело, но он сказал это мне. Я выгляжу доносчиком. Понимаешь?
— Понимаю. Ты прав, Санька. А я не права. На том и порешим. Да?
— Ты очень смешно сказала — «откажу ему от дома».
— Почему смешно?
— Старорежимно, — улыбнулся он. — А здорово…
Коля долго стоял у зеркала, повязывая галстук по последней моде — чтобы узел был толстым, оглядел себя еще раз, сунул в карман «Вальтер» и вышел из дому. Он шел убивать эсэсовского бонзу Штирлица.
34. СОРОК ДВЕ СЕКУНДЫ
— Документы, — сказал патрульный эсэсовец Крысе, козырнув Вихрю.
«Почему он не приветствовал меня партийным приветствием, как полагается эсэсовцу? — подумал Вихрь и полез в карман за сигаретами. — Почему он козырнул мне? Видимо, это не кадровые эсэсовцы. Крыся сейчас завалит все дело — упадет в обморок. Седой и Богданов держатся хорошо. Аппель — молодец. Только руки трясутся. Если сейчас заверещат в кабаре, начнется пальба. А пистолет у меня сзади. Сколько раз говорил себе: только во внутренний карман пиджака. Кто мог знать, что они окажутся здесь в эту минуту? Все в жизни решают минуты. Можно нечтоготовить годы, а придет та минута, и все полетит к чертям. Что это, закономерность? А если это глупая случайность?
Эсэсовцы просмотрели документы Богданова и, козырнув, вернули ему аусвайс.
— Пожалуйста, ваши документы, — попросили они Седого.
Тот, угодливо улыбнувшись, протянул им свой ночной пропуск. Его ночной пропуск был липой. Правда, его изготовили в хорошей типографии настоящие мастера, которые до войны работали на международных контрабандистов, но несколько раз патрули СС забирали обладателей такой чистой липы в дежурные караулы, а оттуда передавали в гестапо, на допрос с пристрастием.
«До ближайшего штаба отсюда порядочно, — думал Вихрь, пряча в карман зажигалку, сделанную из патрона. — Так что стрельбу там не услышат. Хотя — ерунда, на площади дом их партийного аппарата. Там большая эсэсовская охрана. У них мотоциклы и автомобили. Весь город расквадратят, как в тот раз, когда я бежал от них. Если убирать их, так тихо: по голове — и в машину. У Крыси нет документов. Они не посмеют требовать у нее документы, я скажу, что она со мной. Черт, сколько прошло времени? Секунд, верно, тридцать. Если они сунутся в кафе, тогда начнется стрельба. Втихую нам их не убрать. Ишь как я еще могу думать-то, а? Попробовать бы записать, что человек видит и слышит за эти тридцать секунд. Какие многотомные романы получились бы, стоит только записать, что сейчас слышат и видят Седой, Крыся, Аппель, Богданов и я. Никто этого никогда не запишет до тех пор, пока не намудрят ученые, чтобы это можно было фиксировать, как течение химического опыта. В такие секунды люди всех национальностей думают одинаково об одинаковом. Воспоминания — последнее прибежище человека, попавшего в беду. Если воспоминания и ассоциации сменяются отчаянием — человек погиб. Разведчик, во всяком случае».
— Пожалуйста, — сказал эсэсовец и протянул ночной пропуск Седому, — вы свободны. Можете идти.
Второй тем временем подошел к Крысе и сказал:
— Пани, ваш документ.
— У меня нет с собой документа.
— Как так? — удивился эсэсовец. — Почему?
— Эта женщина со мной, — сказал Вихрь. — Еще какие-нибудь вопросы?
Первый эсэсовец сказал Седому и Богданову:
— Я же сказал вам, вы свободны, можете идти.
«Сейчас их надо убирать. Если Седой и Степан пойдут, тогда они пропали. Патруль заглянет в кабаре. Через мгновение они выскочат оттуда. Даже если я приторможу, чтобы в машину влезли мои, все равно они полоснут по шинам, и мы остановимся, провихляв еще метров тридцать. От черт, глупость какая».
Седой сказал:
— Спасибо. Сейчас мы уходим. Закурю, и пойдем. А то, если перепил да еще нет во рту соски, тогда никуда не придешь.
И он стал доставать из кармана резиновый кисет с сухим, мелкокрошеным табаком.
— Вы пригласили эту женщину в кабаре? — спросил Вихря эсэсовец.
— Да.
— Это ваша хорошая знакомая?
— Конечно.
— Простите, я не знаю, к сожалению, кому я задаю вопросы.
— В таком случае, спросите мои документы, — сказал Вихрь жестко.
— Да, пожалуйста.
Вихрь достал из кармана обложку удостоверения офицера СС, обложку партийного билета и две орденские книжки. Обложки он достал через Колю, а тот в свою очередь сумел получить это у своего интенданта. Орденские книжки принес Седой — их взяли у офицеров во время налета на казармы под Жешувом, это было громкое дело краковских партизан, когда они разгромили целый гарнизон, а потом ушли через Татры в Словакию.
«Сейчас очень важно сыграть, — думал Вихрь, протягивая эту липу эсэсовцу. — Важно так уронить эту мою липу, чтобы он немедленно нагнулся поднять ее. Я обязан быть точен во всем: и в том, как я протяну документы, и в том, как буду смотреть прямо ему в глаза, и в том, как сыграю тот момент, когда буду разжимать пальцы, чтобы он почувствовал себя виноватым, чтобы он сразу же понял, что документы офицера СС упали на тротуар по его вине. Седой меня понял. Мы с ним уговорились — аврал: это его кисет и моя липа. Черт, запомнил ли это Богданов? Ужасно будет, если Аппель вдруг нажмет на акселератор и махнет себе к чертовой матери. Вон как в руль вцепился. Ногти аж голубыми стали. А машину-то он в наше отсутствие всю протер до блеска. Характер. Другой бы мандражил, или пытался читать, или уговаривал себя написать открытки домой, а этот машину драил. Мы сюда приехали, она же грязная была, до полной невозможности. А где он успел помыть руки? У него ногти чистые, как у врача. Ага, вон перчатки лежат. Лайковые. В перчатках работал парень. Молодец. Только не вздумай сейчас уехать, Аппель. Сейчас я роняю мою липу, и через несколько секунд мы уедем отсюда все вместе. И все будет хорошо, Аппель, ты уж поверь мне».
Эсэсовец словно подкошенный опустился поднимать офицерскую книжку СС, партийный билет и орденские книжки. Уже опустившись на корточки, он увидел, что офицерское удостоверение — пусто; только обложка, внутри ничего. Эсэсовец лишь успел поднять голову и как-то жалобно, вопрошающе поглядеть на этого худого, очкастого человека, так похожего по внешнему виду на партийного бонзу. Он не успел больше ничего, кроме как посмотреть на этого очкастого снизу вверх. Вихрь прыгнул на него, сидящего на корточках, и придавил к земле.
Второй эсэсовец мычал что-то: Степан зажал ему рот руками, а Седой, ухватив его поперек туловища, тащил в открытую дверь машины. А по тротуару катилась его каска и страшно, пронзительно, как набат, как сто набатов, как рев воздушной сирены, громыхала, громыхала, громыхала, пока не ударилась о срез мостовой и, дзенькнув несколько раз, замолчала.
Седой подскочил к тому эсэсовцу, которого сломал Вихрь, они вдвоем подняли его и забросили в машину поверх того, что уже там лежал и корчился, сучил ногами и вертел белым лицом.
Вихрь подбежал к каске, схватил ее, швырнул в машину и внимательно огляделся по сторонам.
«Сейчас нельзя переторопиться, — сказал он себе. — Нельзя. Как же сейчас можно торопиться, если на тротуаре валяются эти мои липовые документы с отпечатками пальцев? Пальцы у меня были в тот миг липкими от волнения и от страха, так что следы пропечатались, как в тюрьме. Хорошо. Их мы быстренько соберем. С этим порядок. Что еще? Смотри, Вихрь, смотри внимательно. Вроде бы все в порядке, а? Кровь. Это он выхаркнул кровью, когда я прыгнул на него сверху. Плохо. И табак. Черт. Плохо. Смешно, если б я сейчас взял у Аппеля перчатки и стал протирать мостовую. Где это было — человек руками без перчаток протирал мостовую, а вокруг него гоготали жирные фашистские рожи? Где ж это было? Ах, да. Кино. Хорошее кино про доктора Мамлока. Так. Надо удирать. Тут уж ничем не поможешь. Интересно, сколько мы времени провозились? Верно: я так и думал — секунд пятьдесят. Ошибка на восемь. Сорок две секунды».
Вихрь прыгнул на сиденье рядом с Аппелем и сказал:
— Едем.
Аппель рванул машину с места, мотор взревел, но Аппель не успел снять машину с ручного тормоза, и, чихнув и дрогнув, мотор заглох.
Аппель медленным движением вытянул левую ногу, долго нащупывал педаль стартера, уперся в нее мыском, нажал, мотор надрывно завыл, но искры зажигания не было. Было слышно, как провертывался вентиляторный ремень, как поскрипывал подсос, но мотор не заводился.
— Убери подсос, — сказал Вихрь тонким, не своим голосом.
— Я убрал.
— Ты забыл убрать.
Вихрь толкнул белую кнопку на щитке.
— Вот так убирают, чудак, — сказал он. — Секунду погоди. Еще. Рано. Не торопись. Погоди. Пусть стечет бензин.
Вихрь обернулся и поглядел на своих людей: Крыся лежала, откинувшись на сиденье. Богданов, выпятив нижнюю челюсть, сгорбился, держа за шею второго эсэсовца, а Седой деловито сворачивал закрутку.
— Свой? — спросил Вихрь.
— Что? — не понял тот.
— Свой, говорю, табак?
— Свой.
— Свежий?
— Прошлогодний.
— Дашь затянуться?
— Дам.
— А ну, — сказал Вихрь Аппелю, — пробуй, дружище.
Осторожным, каким-то балетным движением Аппель вытянул мысок, уперся в педаль стартера, но нажать не смог.
— Боюсь, — сказал он шепотом.
— Э, ерунда, — сказал Вихрь, — валяй.
Аппель нажал на стартер; мотор, чихнув несколько раз, взревел, и Вихрь даже представил себе — с кинематографической четкостью, — как из выхлопной трубы сейчас вырвался густо-синий дым, а вот сейчас он же не густо-синий, а фиолетовый, а сейчас, когда машина тронулась, он и вовсе стал бесцветным.
— Все-таки Бог есть, — сказал Вихрь Седому и засмеялся деревянным смехом, почувствовав, как тонко и пронзительно захолодела вся левая рука.
— Что? — удивился Седой.
— Ничего, — ответил Вихрь. — Это я так, с Колей говорю.
Когда они выехали на Планты, Вихрь закрыл окно — поднялся ветер. В маленьком переулке, следующем за тем, где была та парикмахерская, куда он заскочил после побега с рынка, метрах в девяноста от вокзала мелькнули две мужские фигуры. Мужчины стояли друг против друга очень близко, чуть не упираясь лоб в лоб, как дерущиеся мальчишки или пьяные друзья. Вихрю показалось, что мужчина, стоявший спиной к нему, — Коля.
35. КРОВЬ
Штирлиц уже два дня приходил на встречу в костел и в ресторан «Французского» отеля, но связи так и не получил. Он, конечно, не знал и не мог знать, что его контактуют не с разведчиками подобного ему класса, а с сотрудниками фронтовой разведки. Но знать и допускать — две эти категории необходимы разведчику, без них он обречен на неминуемый провал. Как и любой человек, разведчик не может знать всего, но в отличие от других он обязан делать допуск в своих размышлениях — допуск, граничащий с жюльверновской фантазией.
Поэтому, увидав за собой хвост позапрошлой ночью — хвост странный — всего один человек, Штирлиц остановился на двух допустимых версиях. Первая: дурак Шверер из гестапо решил проявить усердие и прикрепил к нему, как к одному из крупных работников центра, входящему в орбиту Шелленберга, некое подобие телохранителя. От такого контрразведчика, каким считал Шверера Штирлиц, этого хода вполне можно было ожидать. Вторая версия: связь дали свои, но через человека еще малоопытного (в конце концов, не боги горшки обжигают, а опыт работы во Львове с молодым парнем из киевской чека убедил Исаева, что в дни войны опыт нарабатывается быстрее, чем в мирную пору). Но, честно говоря, в такой ситуации и в такой ответственный момент стоило бы подстраховаться опытным человеком; хотя, опровергал себя Штирлиц, вполне вероятно, что в Центре решили пойти на этот шаг, считая Краков городом «циркулирующим» — беженцы, армейские передвижения, трудности, связанные с местными условиями, — а где «циркуляция», там больше беспорядка, а где больше беспорядка, там хотя и шансы на провал велики, но столь же реальны шансы на удачу, если только кандидатура выбрана правильно; нужен этакий Олеко Дундич. Штирлиц допускал возможность, что на связь к нему придет человек из фронтовой разведки, потому что задание, связанное как со спасением Кракова, так и с опытами фон Брауна, который забрасывал Лондон своими «фаустами», нельзя было осуществить без контакта с фронтовой разведкой, без местного подполья и русских десантников.
Первый день Штирлиц никого не заметил. Человека, которого, по условленному описанию, он ждал в костеле, не было. Хвост, который он за собой протащил через весь Краков, обнаружил, когда выходил из костела.
Ночью, а вернее, даже ранним утром, вернувшись в отель, Штирлиц забрался под перину и с любопытством — пожалуй что внезапным — впервые задумался не над своими поступками, а над своим анализом поступков. И с явной очевидностью он понял, что и поступки его, и особенно анализ этих поступков претерпели развитие. Когда он еще только внедрился в аппарат гиммлеровской службы безопасности, ему стоило громадного труда быть внешне рассеянно-спокойным. Он был как натянутый канат — тронь только острым ножом, сам разлетится, никаких усилий прилагать не надо. Теперь, по прошествии четырнадцати лет, Штирлиц, как он сам определил, покрылся «актерскими мозолями удач». Порой ему было страшно: по прошествии получаса знакомства он все знал о том человеке, которого только что увидел. Однажды он зашел к предсказателю будущего, знаменитому своими гаданиями. Это было в Берлине, прекрасным осенним вечером, когда солнце залило зловещим красным светом Бранденбургские ворота, а липы на Унтер-ден-Линден сделались сине-золотыми, и кругом было тихо и красиво, и над Шпрее летали утки, а возле остановки у Фридрихштрассе тихие старухи кормили красных лебедей черными хлебными корками.
Штирлиц перед этим был в маленьком кабачке «Цум летцен инстанц», что за судом, неподалеку от «еврейского двора», где некогда жил автор гитлеровского гимна Хорст Вессель. Там Штирлиц пил много пива, а до этого, на приеме в польском посольстве, он пил водку и поэтому вышел из кабачка румяным и размякшим.
«Цум летцен инстанц» по-русски значит «К последней инстанции», — думал он, — это занятно. Напротив имперского суда — «последняя инстанция». Пить здесь можно или с тоски, или с радости — оправдали или посадят. Дальше, чем в «последнюю инстанцию», идти некуда. Я сейчас пил от радости. Интересно, мог бы я сейчас свободно говорить по-русски? Или как эмигрант — с эканьем и меканьем? Бедные эмигранты — несчастные люди, которые считают, что только они-то и любят родину по-настоящему. Их даже ненавидеть толком нельзя. Бессильные люди, которым ничего не дано, кроме как ругать нас днем, бояться и плакать ночью».
Предсказатель спросил, какое гадание предпочитает господин оберштурмбанфюрер СС: вкупе с небом, карточные лабиринты или одна лишь рука?
— Начнем с руки, — сказал Штирлиц, — вам нужна левая?
— Конечно, — ответил тот, — непременно левая.
Он долго гладил руку Штирлица, прикасаясь к бугоркам и линиям ладони, близко рассматривал ее, замирал, потом закрывал глаза, снова гладил холодными, выпуклыми кончиками пальцев ладонь, а потом начал говорить:
— Вы прошли сложную, исполненную благородства и борьбы жизнь солдата идеи. У вас было трудное детство — оно прошло в горе, скрытые пружины которого вам еще не понятны и сейчас. Вы видели много несчастий, вы сами прошли через несчастья. Вас спасала ваша воля. Вы очень волевой человек, но ваша волевая устремленность базируется на мягком сердце. Вы очень добры. Это — ваша затаенная боль, это — вопрос, на который вам еще надлежит ответить. Линии разума, которые у большинства людей сопутствуют — совершенно автономно — линии жизни, у вас слились воедино после какого-то шока, который вы пережили. Скорее всего, это был шок, связанный с борьбой, с вашей внутренней борьбой против общего зла.
«Боже ты мой, как ловко и общезначимо он врет и как это должно нравиться нашим деятелям! Он скользит по срезу общепартийных биографий людей в черных формах. Бедняга, что бы он говорил, приди я сюда в штатском, — думал Штирлиц, неторопливо оглядывая комнату, где они сидели. — Надо попугать этого провидца, это будет смешно».
— Спасибо, — сказал Штирлиц. — Про будущее не надо. Теперь хотите, я погадаю вам?
— О, это занятно.
— Дайте мне вашу левую руку.
Штирлиц бегло оглядел ладонь, потом долго смотрел в глаза предсказателю, а потом начал медленно говорить:
— В детстве вы много болели. Один раз вы были при смерти. Вас спас отец. Он вынянчил вас. По-моему, это был дифтерит.
Предсказатель чуть откинулся назад. Штирлиц, словно не заметив этого, продолжал:
— В школе вы очень плохо учились, вы даже не кончили ее, и много работали на физической работе. Женщина, которую вы любили, недавно ушла от вас, и вы всю свою нерастраченную любовь перенесли на животных. Около года вы учились в университете. В это время вы голодали, а потом, разбогатев, серьезно заболели. Больше всего бойтесь вашей щитовидной железы. Я не советую делать ту операцию, которую вам уже предложили или же предложат. И не обольщайтесь по поводу формальной логики и математической психологии. Вы не во всем чисты — внутренне, перед идеями нашего государства. То ли в концлагере отбывает превентивное заключение один из ваших родственников, то ли вы жили с еврейкой.
Предсказатель осторожно убрал ладонь со стола и сказал, жалко улыбнувшись:
— Это не гадание. Просто вам известна моя анкета, заполненная в полицайпрезидиуме.
Тогда впервые Штирлицу стало по-настоящему страшно, потому что, конечно же, никакой анкеты этого человека он не читал — он попросту читалв глазах, лице, руке, залысине, в блеске чуть выпуклых глаз, в пыли на буфете и книжных полках, в фотографии женщины на стене, в реакции на его самые первые слова — словом, в том громадном количестве окружающих каждого человека вещей и наличествующих в нем черт, следов, ссадин, манер, во всем том, что позволяет, при необходимом допуске смелости, сделаться пророком.
Поэтому однажды, желая спасти юного нелегала-чекиста в Париже, работавшего против кутеповцев, Штирлиц, выслушав пылкого графа Граевского, когда тот прибежал к нему с сообщением, что красный обложен компрометирующими материалами и что перевербовать его — дело дня, пустяк и тьфу, усмешливо сказал:
— Лапочка моя, это не вы его перевербуете, а он вас заагентурит. Компрометирующими материалами, так же как и деньгами, не вербуют, а если и вербуют — то кретинов, абсолютно ненужных мало-мальски уважающей себя разведке.
— А как же, по-вашему, следует вербовать? Как и чем? — удивился граф.
— Умом, — ответил Штирлиц. — Умом, идеей и волей. Человек — это великое явление, и рассматривать его должно в целом: стар — молод, красив — уродлив, талантлив — усидчив, блестящ — скромен… Деньги, бабы, компрометирующие материалы — сие чепуха и суета, всяческая суета. Иной бабник — кремень, и ключ к нему подобрать невозможно, а другой — правоверный сухарь — страдает постыдным пороком, — так он, считайте, ваш. Идти надо от добра и зла, от категорий глобальных, а не от привычно-хрестоматийных исследований. Причем идею, добро, зло каждый возраст принимает по-своему, с оттенками, — вот где собака зарыта. Так что плюньте вы на этого красного павиана. Если он так открыто вам подставился, отойдите в сторону. Тут вашего труда нет, здесь видна его преажурнейшая работа, поверьте. Зрите в корень, граф, только в корень…
«Завтра мне надо будет приглядеться к хвосту внимательно, — сказал себе Штирлиц, — надо мне посмотреть ему в лицо — там решим. Не нравится мне все это. Как в плохом детективе. Ах, Господи, Господи, писатели вы мои милые, какую муру вы все несете — хреновина с морковиной, как говаривал Спиридон Дионисьевич Меркулов, последний премьер белой России».
Коля шел по другой стороне, стараясь не попадаться на глаза эсэсовцу, что вышагивал впереди. Тот уходил все дальше и дальше от центра, петлял по маленьким улочкам, и тревога Коли росла с каждым часом.
«Где ж его стрелять-то? — думал он. — Сволочь, ходит там, где гарнизоны или проходных дворов нет. Неужели почуял? Не должен. Он ни разу не оборачивался, а в ресторане я сидел в другом зале».
Часа в два ночи, когда луна стала яркой, зыбкой и очень близкой к притихшей, настороженной земле, Штирлиц свернул за угол и вжался в стену дома. Он слышал, как его преследователь, стараясь ступать на мысках, торопился за ним и перебегал улицу, чтобы сократить расстояние.
«Точно. Он водит меня, — понял Штирлиц. — Тут надо все выяснить: по-моему, этот тип не от Шверера. Поглядим в лицо. Всегда надо успеть посмотреть в лицо тому, кто идет следом за тобой ночью по городу».
Коля на бегу переложил «Вальтер» из внутреннего кармана пиджака в боковой. Он старался не дышать и ступал на самые мысочки: «Не услышал бы, гад». Коля свернул за угол и — лицом к лицу столкнулся с оберштурмбанфюрером СС. Свет луны делал лицо фашиста непроницаемо черным, а его, Колино, наоборот, осветил холодным, отчетливым светом. Он от неожиданности замер — даже в карман за пистолетом не полез. Какое-то мгновение они стояли недвижно: один запыхавшийся, а второй спокойный, с черным лицом, руки за спиной. И вдруг Коля оглох, а потом снова обрел слух, потому что вокруг него — по улицам, в небо, к луне покатилось слово, которое сказал эсэсовец. Он сказал только одно тихое, отчаянно нежное русское слово:
— Санечка…
36. ГДЕ АНЯ?
Берг последние дни не выходил из кабинета. Он поставил себе мягкий диван, привез перину и две большие подушки, попросил нового шофера забросить ему макарон, геркулеса и сгущенного молока, сложил все это в шкаф и жил здесь, в зарешеченном тихом кабинете, безвылазно.
Он понимал, что все его поступки, все его телефонные разговоры, связи и прогулки (если бы таковые он совершал) находятся под неусыпным контролем гестапо. Только один раз Берг позвонил к приехавшему в город генералу Нойбуту и попросил его о приеме.
— Приезжайте сейчас, — предложил генерал, — я собираюсь поехать верхом — ужасно устал, надо отдохнуть. У меня есть прекрасная лошадь для вас.
Берг сразу же понял, какую опасность таит в себе предложение генерала покататься на лошадях, несмотря на то что Нойбут был через жену в каком-то дальнем родстве с семьей Кальтенбруннера, начальника имперского управления безопасности. Гестапо — такая организация, которая стоит над личными связями. И если Ной-бут мог апеллировать к своему могущественному родственнику, то Бергу апеллировать не к кому: он говорил один на один с генералом, гестапо не может прослушать их разговор, следовательно, гестапо вправе допустить все, что угодно, как по отношению к Нойбуту, так и, в первую очередь, по отношению к Бергу.
— Благодарю вас, мой генерал, — ответил Берг и кашлянул, — мне было бы очень радостно отдохнуть вместе с вами, я представляю себе, какие у вас прелестные лошади, но, увы, я простужен. Может быть, вы назначите мне иной час, когда мы сможем встретиться по очень важному вопросу?
— Хорошо. Завтра в три часа. Не обедайте дома, я угощу вас украинским борщом.
Берг удовлетворенно положил трубку: значит, завтра в три часа гестапо установит аппараты прослушивания в кабинете генерала, и эта беседа будет приобщена к его делу. Следовательно, надо постараться таким образом провести беседу, чтобы она пошла ему, Бергу, на пользу, а не во вред, с одной стороны, и сломала настороженное молчание шефа гестапо по поводу работы с русской разведчицей, которая может вывести Берга к красным, — с другой.
Он думал абсолютно правильно: гестапо не имеет о нем сейчас никаких данных — ни от наружного наблюдения, ни от тех, кто прослушивал его телефонные разговоры, ни от тех, кто копался в его личном деле. Что касается его личного дела, то здесь Берг был спокоен: он никогда не влезал в интриги; разве что только его компрометируют связи с женщинами после того, как он развелся. Но все женщины, с которыми он был связан, являлись чистокровными арийками, с безукоризненным прошлым, из хороших семей. После того как фельдмаршал Бломберг был отстранен от должности только за то, что женился на бывшей проститутке, Берг стал крайне аккуратен. Более того, он понял, что наиболее верными подругами могут быть женщины, состоящие в партии: им нельзя болтать про то, с кем они спали, потому что в силу вступали пуританские законы нацистов. Первым бабником из гитлеровского партруководства после Геббельса был Кальтенбруннер. Он не мог себе позволить такой смелости, какую поначалу позволял Геббельс, переспав со всеми актрисами на киностудии, ибо Кальтенбруннер «ходил» не под Гитлером, который либо слепо верил, либо так же слепо не верил, а под Гиммлером, который самое понятие веры отвергал напрочь — он следил. Поэтому Кальтенбруннер подбирал себе в агентуру женщин — членов партии и развлекался с ними как хотел. В разведке трудно хранить тайны друг от друга: про баб Кальтенбруннера знали все. Каким-то чудом он вылезал из неприятностей, и все начиналось сызнова. Берг скопировал опыт шефа гестапо — его партийные подруги не предали его, это полковник знал, и не предадут, потому что на карту теперь, после покушения, поставлена не столько их честь, сколько физическое существование. Хотя чем черт не шутит — очень может быть, что сейчас начнется такой нажим и такое разбирательство всех сотрудников Канариса, что женщины могут сплоховать и все вывалят следователям: если человеком занимается гестапо — ручаться нельзя ни за кого.
И тем не менее Берг не очень боялся своих связей с женщинами: это были люди, фанатично преданные режиму; но ведь и фанатики сделаны не из минералов, им тоже хочется всего того, чем живут обыкновенные женщины и мужчины.
Главное — успокоить гестапо по поводу своей благонадежности как разведчика. Этого можно добиться — хотя бы в некоторой степени — разговором с Нойбутом. Тем разговором, который он заранее отрепетирует и постарается провести так, чтобы Нойбут невольно подыгрывал ему.
Он прибыл к генералу без трех минут три: как требует этикет. Адъютант провел его в маленькую гостиную. Стол уже был накрыт. По тому, как адъютант суетился, и по его ослепительным улыбкам Берг понял, что мальчик сотрудничает с гестапо. Берг спросил — доверительно и мягко:
— Мы будем с генералом одни?
— О да, — ответил адъютант, — вы будете вдвоем с генералом, полковник.
Потом он ушел. Берг прошелся по комнате. На маленькой тумбочке стоял телефонный аппарат. Берг улыбнулся: «Нельзя же быть столь наивными. Я десятки раз ставил аппаратуру именно в такие телефоны, постыдились бы, право, считать только себя умными, а возможных противников — слепыми котятами».
Нойбут вошел с некоторым опозданием.
— Простите, я был на прямом проводе со ставкой. Мы прекрасно пообедаем. У нас есть час, целый час. Садитесь сюда, здесь не так бьет в глаза солнце. Какая жара, как вам это нравится, а? Такая странная осень… Борщ великолепен, не правда ли? Немного водки?
— Нет. Благодарю вас.
— Сделались трезвенником?
— Вообще-то я никогда не был пьяницей.
— А я выпью. У русских где-то отбили большой склад, мне привезли в подарок ящик водки. Что вы так дурно выглядите? Прозит!
— Благодарю.
— Обязательно ешьте борщ с чесноком.
— Спасибо. Но мне теперь как-то неприятно есть чеснок.
— Что так?
— Эта свинья Канарис любил чеснок. И мне теперь чеснок стал отвратителен — из чувства моральной брезгливости.
— Да, это чудовищно. Кто бы мог подумать…
— Я до сих пор не могу прийти в себя.
— Все обошлось, преступники схвачены, они не уйдут от возмездия.
— Это понятно. Мне другое непонятно: как они посмели?
— Расследование ведет лично Кальтенбруннер.
— Тогда я спокоен.
— Ну, что вас привело в мои пенаты? Выкладывайте. Вы же хитрец. Вы всегда держитесь в стороне от начальства. Уж если пришли ко мне — значит, случилось что-то интересное. Что замыслили, что хотите предложить?
— Генерал, я пришел не с этим, хотя кое-что перспективное у меня имелось.
— Ну, ну, пожалуйста, я весь внимание.
— Генерал, я прошу вас ходатайствовать перед командованием о переводе меня в передовые части.
— Что?!
— Позвольте курить?
— Да, пожалуйста…
— После всего случившегося в ставке фюрера, после коварства Канариса я чувствую себя морально ответственным за то, что работал в военной разведке и не разглядел врага.
— Вы с ума сошли! Я три года работал с Вицлебеном и год с Паулюсом. Так неужели мне винить себя в этом!
Берг похолодел от радости: он точно сыграл, он рассчитывал на реакцию Нойбута, но не на такую прекрасную, лучше не придумаешь.
А генерал продолжал:
— Нельзя быть бабой. Меня так же, как и вас, гневит предательство этих людей! Но неужели из-за изменников перечеркивать самого себя? Я только сейчас понял причину наших неудач на фронте: это следствие измены! Теперь, когда мы очистились от внутренней хвори, все переменится к лучшему! Смотрите — всколыхнулся тыл, идут народные демонстрации, громадный приток средств в фонд победы, а сколько мальчуганов, истинных солдат, прямо-таки рвутся в армию! Берг, вы — баба! Я не знал этого за вами. Талантливейший военный разведчик — и вдруг этакое интеллигентское слабоволие!
— Генерал, это кризис наступил у меня сравнительно недавно.
— Почему?
— Потому, что мне дали почувствовать недоверие.
— Не порите ерунды! Кто это мог сделать?! Мне прекрасно известно, как относится к вам командование группы армий!
— Мне выразили недоверие в той организации, которая мне представляется совестью нашего государства. Ч имею в виду гестапо.
— Скажите, пожалуйста, — после некоторой паузы спросил Нойбут, — кто именно из работников гестапо выразил вам недоверие?
— Шеф восточного управления бригадефюрер Крюгер.
— Это же не центральный аппарат.
— Для меня нет разницы — периферия или центр.
— Как на духу: вы не чувствуете своей вины? Какой-нибудь, самой мелкой? Невольной?
— Я готов завтра же предстать перед судом — я чист перед родиной и фюрером. Поэтому я и прошу отправить меня на передовую. Я готов своей кровью искупить главную мою вину — я столько лет работал в аппарате у этого негодяя и не смог его понять.
— Вот что… Я переговорю в двух аспектах: с командованием группы армий — по официальной линии, а неофициально я свяжусь с Кальтенбруннером. Я высоко ценю вас, Берг. Я готов сражаться за вас. В такой же мере решительно, как и прикажу вас расстрелять, если мне сообщат любые, самые незначительные данные, хоть в какой-то мере обличающие вас в контактах с заговорщиками.
— Генерал, вы не можете себе представить всю степень моей благодарности. И тем не менее позвольте мне оставить вам мой письменный рапорт. Он мотивирован. Это — документ. И поверьте, если он записан химическими чернилами, то продиктован кровью.
— Хорошо, хорошо. Важные дела надо утрамбовывать пищей. Вы не оценили искусства моего повара.
— Борщ изумителен.
— Немного водки?
— Теперь да. Я сейчас словно в детстве после исповеди.
— Прозит!
— Прозит!
— И сегодня же, не медля, приступайте к работе. Это не пожелание, это — приказ.
— Слушаюсь, генерал. Хотя это сопряжено с некоторыми трудностями: операция, поверьте слову, необыкновенно перспективна. Речь идет о перевербовке русской разведчицы и о моем дезинформационном контакте с представителями Генштаба Красной Армии, Эта операция не может развиваться успешно до тех пор, пока гестапо Кракова — к слову сказать, это наша совместная операция, и я не могу присваивать все лавры армейской разведке, — пока гестапо Кракова не выделит своих людей, необходимых в этой решающей фазе.
— Приступайте к работе незамедлительно! Встряхнитесь! Ну, ну! Вот так!
— Генерал, я очень, очень признателен вам.
— Э, перестаньте, — поморщился Нойбут. — Я ненавижу оказывать благодеяния, но считаю для себя непреложным законом выполнять воинский долг. Я его выполнил. И по-моему, вы запомнили: я буду сражаться за вас до той поры, пока убежден в вашей преданности родине. Если я буду поколеблен в моей вере — я с такой же убежденностью отдам вас в руки правосудия.
Назавтра вечером в кабинет к Бергу пришел Гуго Швальб — из краковского гестапо. Примерно через полчаса после его прихода зазвонил телефон. Берг снял трубку.
— Хайль Гитлер! — услышал он раскатистый, полный дружелюбия голос шефа гестапо Крюгера.
— Хайль Гитлер! — ответил Берг.
— Мой парень уже у вас? — спросил шеф.
— Да.
— Ну и хорошо. Как настроение? Возьмем в оборот русскую?
— Теперь наши усилия удвоились.
— Не осторожничайте, полковник! До чего же вы хитрый и осторожный человечина, Берг! Желаю вам успеха.
— Спасибо.
— Держите меня в курсе.
— Обязательно.
— Швальб — толковый парень.
— Да, мне кажется.
— Если он станет зарываться, напомните ему, что он под вами, а не вы под ним.
— Благодарю за доверие.
— Перестаньте вы чинопочитательствовать! С каких пор мы стали чинушами, Берг? Крепко жму руку!
— Жму руку. Большое спасибо.
— За что?
— Просто так. Спасибо — и все тут.
— Ну, пока. Звоните из радиоцентра. Если меня не застанете, ищите ночью в отеле. Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер!
В тот же день Аня в сопровождении Берга и Швальба была перевезена в Шкотув — маленький городок, расположенный в предгорьях Карпат.
37. ГРОМАДНОЕ НЕЗРИМОЕ
Как и всякая тирания, ослепленная жаждой мирового владычества, основанного на пресловутых принципах расового превосходства, подтверждаемого цветом кожи, формой черепа, особым разрезом глаз либо еще каким бредом — частности в данном случае не суть важны, — гитлеровский рейх ежедневно, ежечасно и ежеминутно рождал поначалу стихийное, а потом организованное и осознанное сопротивление как идеям, так и практике этого громадного аппарата подавления народов.
Гитлеровская военная, партийная и государственная машина своим тупым злодейством и наивной хитростью рождала героев Сопротивления, которые не хотели, а вернее сказать, не могли жить в условиях произвола, государственного кретинизма и полного пренебрежения к человеческому достоинству.
В гитлеровских концлагерях вместе с русскими коммунистами сидели французские священники; социал-демократы томились в одних бараках с монархистами; лауреаты Нобелевских премий спали на одних нарах с неграмотными крестьянами; пятилетних еврейских детей сжигали в одних печах вместе с русскими профессорами; бельгийских министров истязали в одних камерах с норвежскими рыбаками.
Гитлеровцы считали, что своей практикой уничтожения всех, даже в малой степени, инакомыслящих они укрепляют стержень веры арийцев. Эта практика массового подавления распространялась в такой же мере и на тех немцев, которые молились иным богам. Чем дальше, тем сильней оформлялось массовое сопротивление гитлеризму как в самой Германии, так и во всех странах мира, оккупированных фашистами. Гитлеровцы игнорировали законы развития, они считали, что если фюрер сказал так — таки будет. Но они забыли, что всякое действие рождает и не может не рождать противодействия.
Командир партизанского отряда «Соколы» Януш Пшиманский был член ППС — польской партии социалистов. До войны он часто схватывался с коммунистами. После побега из концлагеря в сорок первом году, в августе, он по-прежнему считал себя не во всем согласным с коммунистами. В осенние дни сорок первого года Пшиманский ушел с тремя своими товарищами в лес. Зимой сорок второго года его отряд состоял из ста человек. Из них сорок были коммунисты. В сорок четвертом году в его отряде было уже семьсот бойцов. Начальником штаба стал коммунист.
«Сначала надо разбить нацистов, — говорил Пшиманский, — потом разберемся с делами в нашем доме. Ребята из компартии отменно дерутся за Польшу — этого у них не отнимешь».
Когда в отряд пришел крестьянин из Яблунивец, он встретил первым начальника штаба и рассказал ему, что неподалеку от его дома грохнулась какая-то странная штука, похожая на самолет, но с маленькими крыльями, длинным острым носом и без пилота.
Начальник штаба отвел крестьянина к Пшиманскому и сказал:
— У деда интересная новость. Послушай — дашь команду, что делать.
И ушел.
Через час группа разведчиков ринулась на лошадях с тремя повозками вместе с дедом к тому месту, где грохнулся этот диковинный самолет с короткими крыльями. Пшиманский слушал Лондон, он знал о ракетных снарядах фау.
Ночью эту рыбообразную махину привезли в партизанский лагерь. Пшиманский вызвал начальника штаба и сказал:
— Слушай, Янек, поступим так: мы свяжемся и с Лондоном и с красными. Если мы начнем темнить с одними во имя других, тогда выиграют только коричневые. Кто первый придет за этой штукой — тому ее и передадим. Ты не станешь меня обвинять в национализме? — улыбнулся Пшиманский. — По-моему, я поступаю верно.
— По-моему, тоже, — ответил начальник штаба.
Пшиманский связался с Лондоном и со штабом фронта Красной Армии, дал свои координаты и назначил следующий сеанс для связи, чтобы получить согласованный ответ от союзников.
Но, когда эти шифровки передавались Пшиманским, эсэсовцы из охраны заводов Вернера фон Брауна уже оцепили район, где предположительно могла оказаться ракета, и начали скрупулезные поиски. А когда они обнаружили в песке следы от ракеты и увидели отпечатки конских подков и людских сапог, войска СС были подняты по боевой тревоге.
Сторожевое охранение Пшиманского обнаружило колонны фашистов. Пшиманский поднял свой лагерь — он понял, что здесь его захлопнут, как в мышеловке, и дал приказ уходить в горы: там есть где отсидеться.
Штирлиц получил из Москвы задание — узнать в Кракове все, относящееся к похищенному фау, — снаряд имел стратегическое значение. Командование Красной Армии рассчитывало подключить к дальнейшим практическим действиям группу польских подпольщиков, связанных с Вихрем, в случае если Штирлицу удастся обнаружить предположительную передислокацию отряда Пшиманского по данным гестапо. Это был риск, но это был необходимый риск. А обдуманный, необходимый риск, как правило, рождает удачу. Только на этот раз удача пришла не от Штирлица, — гестапо потеряло отряд Пшиманского, — «Соколы» оставили больше половины бойцов, сдерживая и прикрывая отступление, но основное ядро отряда от преследования оторвалось, и партизаны затаились в Карпатах.
Посланный Пшиманским в Краков на связь с подпольем, его начальник штаба пришел к Седому наутро после экспроприации. Они вместе сидели в тюрьме в тридцать третьем и с тех пор крепко дружили. От Седого новость ушла к Вихрю. Тот подключил к этому делу Колю. Коля сказал отцу. Отец начал работу незамедлительно.
38. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Аню поселили в маленькой комнате без окон, в полуподвальном помещении. Когда ее везли в машине по залитому солнцем городу, а после по шоссе, а потом через бурый, синий, коричневый, белый осенний лес, она жадно смотрела в окна машины и думала, что сейчас, нет, не сейчас, а вон за тем поворотом, нет, не за тем, а за следующим, нет, вон в той низине на шоссе выскочат Вихрь, Седой и Коля с автоматами и гранатами, а у Берга нет автомата, и у этого второго тоже ничего нет; наши полоснут по шинам, машина ткнется носом в асфальт, и она бросится к Вихрю, сначала к Вихрю, а потом к Седому и Коле, но сначала она будет долго стоять возле Вихря, а он, наверное, поцелует ее, и она тогда тоже сможет поцеловать его, и ничего в этом такого не будет, и тогда она сможет обнять его за шею и потереться лбом о его колючую щеку.
Но так никто и не вышел из леса с автоматами наперевес и никто не освободил ее. Машина въехала в открытые зеленые ворота. Аню высадили и через тихий, усаженный цветами двор прореди в аккуратный коттедж, в полуподвал, и там заперли.
Аня сняла курточку, положила на столик, прошлась несколько раз по маленькой аккуратной комнатке взад и вперед, измеряя ее, — это она сделала помимо разума, просто по какой-то изнутри ей подсказанной тюремной привычке, легла на кровать, ожидая, что сейчас кто-нибудь невидимый крикнет из коридора: «Встать!»
Но никто не крикнул. Она лежала спокойно и думала:
«Ну-ка, давай еще раз все взвесим. Скажи сейчас честно самой себе: хоть на тысячную долю процента ты веришь этому немцу? Нет ли в этом твоем молчаливом согласии сначала поработать на них, а потом сбежать, подспудного желания спасти свою жизнь, уцепившись за ту соломинку, которую он протянул своим согласием работать на нас? Что, не можешь сразу ответить? Ладно, я подожду. Я могу погодить. Только честно ответь, чтобы там, в самой глубине, не осталось сомнения».
Берг долго сидел вместе со Швальбом над уточнением и перепроверкой первой дезинформационной шифровки. Он заново оценивал каждый факт, сверял с большой оперативной картой дислокацию воинских частей, перепроверял написание фамилий, допуская необходимые в русском языке искажения. При всем этом он старался запомнить неопровержимые доказательства, которые впоследствии помогут ему объяснить представителям большевиков, каким образом строилась эта дезинформация и каково же на самом деле положение на фронте.
— Она, кстати, дала вам подписку о согласии работать? — спросил Швальб.
— Зачем же ее сразу унижать подпиской? Пусть она передаст цикл радиограмм, а уж потом мы попросим ее подписаться под обязательством. Торопливость может оттолкнуть ее. И потом, не забудьте — я ее союзник, я собираюсь изменить родине.
Швальб засмеялся.
— Я бы не смог так, — сказал он, — меня бы выдали глаза.
— Не говорите об этом никому, — посоветовал Берг, — это звучит как утверждение о профессиональной непригодности для работы в разведке.
Перед поездкой в радиоцентр Берг зашел в гестапо, к Крюгеру, и сказал:
— Мне не хотелось говорить в присутствии вашего сотрудника о сугубо личном. Давайте-ка я оторву у вас несколько минут, а?
— Отрывайте.
— У меня есть предложение.
— Так?
— Что, если я выйду из игры с русской девицей?
— Не понял…
— Допустим, Швальб вызывает ее в мой кабинет и говорит, что я арестован и что он теперь должен как можно скорее с ее помощью поработать несколько дней на радиоцентре, а потом вместе с ней уйти к большевикам. Может быть, даже намекнуть ей про недавние события в ставке фюрера, дать прочесть газеты…
— Мне кажется неумным. У нее или создастся впечатление, что наша армия сплошь состоит из предателей, которые только и ждут, как изменить родине, или она сразу поймет игру. Разве можно?! Что вы, полковник?!
— Я должен сказать вам, — глухим голосом, со скорбными нотками сказал Берг, — что недавно я был у одного из своих воинских начальников и просил отправить меня в действующую армию, на передовые рубежи борьбы с большевизмом. Я еще не получил ответа от моих руководителей.
Шеф гестапо чуть усмехнулся: он вчера снова прослушал беседу полковника с Нойбутом, делая для себя выписки, которые тут же приобщил к досье.
— Ну что ж… — сказал он. — Это серьезно, это очень серьезно. Я понимаю ваше желание. Это желание истинного немца. Только… простите за прямоту вопроса: что вас побудило обратиться с таким рапортом к вашему начальству?
«Болван, — сразу отметил для себя Берг, — я же в разговоре с ним не употребил слова «рапорт». О рапорте я говорил только Нойбуту. Как он дешифрует себя…»
— Видите ли… — медленно ответил Берг все тем же глуховатым, скорбным голосом, — мне показалось, что после свинского предательства этих негодяев, поднявших руку на фюрера, вы в некотором роде выразили мне недоверие. Я могу понять вас, не думайте, я не обижен на вас. Я поступал бы так же…
— Мне приятно, что вы все верно поняли, полковник. Впрочем, мои действия не носили характера, оскорбляющего ваше достоинство офицера.
— Если бы это было так, я не сидел бы сейчас в этом кабинете.
— Значит, наша с вами беседа ночью, после покушения, расстроила вас?
— Да.
— Забудьте об этом.
— Это ваше личное расположение ко мне или директива центра?
— Что для вас представляется более важным?
— И то и другое — в одинаковой степени.
— Ну, в таком случае, считайте, что вам оказано двойное доверие: и центром и мной.
— Значит, вы отвергаете мое предложение?
— Какое?
— О моем самоотстранении от работы с русской разведчицей?
Шеф гестапо поднялся и сказал:
— Полковник, я не слышал этого предложения.
После того как дезинформация была уточнена и утверждена Бергом по согласованию с шефом гестапо и генералом Нойбутом, полковник и Швальб вышли погулять по двору. Они неторопливо прохаживались по песчаным дорожкам, переговариваясь отрывистыми, ничего не значащими фразами.
«Как ее отсюда надежнее вывести? — думал Берг. — У ворот солдат. У калитки, которая ведет в лес, автоматчик. Через забор она не перелезет, да потом ее сразу же подстрелят».
— К грозе, — сказал Швальб. — Очень парит.
— Небо чистое, — ответил Берг. — Может протянуть мимо.
— Люблю грозы. Это — как очищение души, — сказал Швальб.
«К тому же и лирик, — подумал про себя Берг. — А что это за зеленая будка? Сортир?»
— Все-таки горы — очень красиво, — сказал Швальб, — никогда не устаю любоваться горами.
«В коттедже только один туалет, как же я забыл об этом? Все гениальное — просто и очевидно. Она уйдет через сортир. Он пристроен вплотную к забору. Надо будет клещами выдрать там несколько гвоздей. А как ее отправить туда? Он ведь для охраны… Так… От меня этот приказ исходить не может».
«Наверное, все-таки, — ответила себе Аня и почувствовала, как у нее заледенели пальцы ног, — наверное, все-таки в моем согласии было нечто от желания спасти себя. Я не верю ему даже на тысячную долю процента. Значит? Что же дальше-то? Я откажусь — пусть стреляют. А если он действительно хочет установить с нами контакт? Тогда мне этого не простят. Но и я не прощу себе, если ошибусь и если он окажется обыкновенным немцем — как все, а я стану работать на него, а потом они посмеются надо мной и вышвырнут, как собачонку, которая больше не нужна. Нет. Нет. Пусть стреляют. И все. Не буду я ничего делать для них».
Берг спросил:
— Послушайте, Швальб, где тут комната, оборудованная для прослушивания разговоров?
— Любую можно оборудовать.
— Нет, я спрашиваю о той, что уже готова для прослушивания. Я бы поговорил с русской, а вы бы послушали. Это не от моей гордыни, поверьте: просто вам надо послушать манеру нашего разговора, чтобы вы были моим антиподом в те дни, когда я буду уезжать и вы станете работать с ней один.
— Я сейчас позвоню в Краков, они пришлют из управления нашего мастера.
— Хорошо.
— К вечеру мы все оборудуем.
— Наверное, целесообразней это сделать у нее в комнате.
— По-моему, там не получится: голые стены, причем довольно толстые, подвальные. Под кровать не воткнешь — заметит, сволочь. Надо где-нибудь наверху, а?
— Ну, договорились. Подыщите комнату — я полагаюсь на вас.
Швальб пошел соединяться с Краковым, а Берг спустился к Ане. Он плотно закрыл за собой дверь, медленно запер ее, присел на краешек стула, оглядел потолок и стены — нет ли где отдушины, там всегда можно установить звукозаписывающую аппаратуру, и сказал:
— Слушайте меня внимательно.
— Я не хочу вас слушать.
— То есть?
— Я раздумала.
— Что вы раздумали?
— Я не стану ничего передавать нашим.
Берг устало вздохнул: именно этого он и ждал.
«А может, махнуть на все рукой? Будь что будет? Нельзя… Мне ясно, что будет. Конец неминуем. Зачем гнить в русском лагере, когда можно выскочить из всей этой передряги? Зачем отдаваться течению, если можно выбраться на берег, — думал он, — и путь этот берег мне неприятен, все-таки это берег, а не илистое дно».
Берг достал из кармана сложенную вчетверо власовскую газету, в которой было сообщение о попытке покушения на Гитлера.
— Посмотрите внимательно, — и он указал ей мизинцем на фотографию разрушенного бункера в Растенбурге: выбитые окна, обвалившийся потолок, перевернутые столы, а за разбитыми стеклами — нежная, молодая березовая роща.
Аня была готова к борьбе, она все успела продумать про себя: как она будет отказывать, как она будет терпеть боль и муку, как она примет смерть. Она только по молодости лет и по неопытности своей не подумала о том, как себя будет вести Берг. Она ждала крика, ругани, побоев. Всего, но только не этого короткого сообщения о покушении на Гитлера, которое совершили генералы вермахта, изменники родины.
«Когда он сказал мне, что хочет работать на нас? — вспоминала Аня. — До этого покушения? До двадцатого? Неужели он действительно хочет помогать нам? А может, это они нарочно для меня напечатали? Нет. Этого не может быть. Я для них мелкая сошка. И потом, они бы не посмели — даже для Вихря, если бы он попал к ним, — печатать фальшивку про покушение на Гитлера. Они могли бы напечатать все, что угодно, только не это. Значит, все совсем не так просто, как мне казалось. Значит, я обязана снова принимать решение».
И снова Аня, как тогда, после первой беседы с Бергом, показалась себе маленькой, жалкой, глупой и ничего не понимающей.
— А с тех пор прошло время, — сказал Берг. — И время работает на нас.
Он взял у нее из рук газету, свернул ее, спрятал в карман, тихо, на цыпочках подошел к двери, неслышно повернул ключ и, быстро распахнув ее, вышел из комнаты.
Вечером Швальб сказал Бергу:
— Господин полковник, я покажу вам оборудованную комнату.
— Спасибо. Я думаю, беседу с ней стоит провести сразу же после первого сеанса радиосвязи. Все покажет сегодняшний вечер. Я, знаете ли, боюсь женщин. Вообще — всех, а разведчиц, да еще русских, — особенно.
— Думаете, может запсиховать?
Берг усмехнулся и спросил:
— Вы сами-то женаты?
— Свободен.
— Тогда я прощаю вам этот вопрос, чистый в своей наивности.
— Сколько времени?
— У нас еще есть время. И, пожалуйста, не надевайте при ней черную форму — она боится гестапо.
— Меня это радует.
— Да, да, конечно, приятно, когда тебя боятся враги, но оперативная надобность диктует иные законы.
Швальб поглядел в окно: Аня ходила вокруг клумбы и нагибалась, разглядывая последние, тронутые ночными холодами цветы.
— У нее дивная фигурка, — сказал Швальб, — и очаровательная морда.
— Вы что, с ума сошли? Она же славянка. Я ими брезгую… Я не могу войти в туалет, если там был славянин…
— Между прочим, у нас только один туалет, — заметил Швальб.
— Значит, вы счастливчик, лишенный брезгливости, — сказал Берг, глянув на часы. — Пора. Я пойду за ней. Через полчаса ее Центр выйдет на связь. Займитесь радистами — пусть они все как следует отладят. Благословите меня.
— Я атеист, полковник, и горжусь этим. Пусть идиоты в сутанах дурят головы славянам и волосатым итальяшкам.
— Каким, каким? — засмеялся Берг. — Занятное определение для союзников! Они бы обиделись…
Он зашел к Ане и сказал ей на ухо, одними губами:
— Сегодня ночью в туалете на улице, куда вас поведет солдат, будут вытащены все гвозди: раздвиньте доски — и убегайте. Идите в горы. До Рыбны тридцать километров. Я буду ждать весточек от вас каждую субботу и воскресенье на скамейке возле ворот Старого города, с девяти до десяти. Пусть ваш человек скажет: «Привет от вашей девочки». Запомнили?
— Да.
— Пошли.
39. ПОДАРОК ШТИРЛИЦА
Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру
Строго секретно. Экземпляр № 2
Напечатано в четырех экземплярах.
Краков, управление гестапо.
Хайль Гитлер!
Рейхсфюрер!
Почтительно докладываю: работа по выявлению, отбору и утверждению кандидатов на пост дежурных офицеров СС в форте Пастерник, ответственных за уничтожение Кракова, закончена. Нами были просмотрены личные дела двадцати офицеров. Было запрошено центральное управление кадров в Берлине, на месте мы провели ряд оперативных мероприятий, которые позволяют нам со всей ответственностью рекомендовать для выполнения этого почетного и ответственного задания двух офицеров СС.
Ганс Либенштейн, 1918 года рождения, сын функционера партии Рихарда Либенштейна, известного Вам по великой баварской революции, когда он вместе с фюрером первый раз заявил миру о непреклонном стремлении германской нации к великим идеям национал-социализма. Ганс Либенштейн прошел все ступени развития, которые позволяют судить о нем как о глубоко принципиальном офицере. Он никогда и ни при каких условиях не пытался прятаться за спину отца, но всегда рвался в первую шеренгу борцов, на самые опасные участки великой битвы. Он три раза был ранен, руководил акциями уничтожения в Киеве и Львове. Награжден двумя рыцарскими крестами и солдатским крестом, а также медалью за московский поход. В быту производит впечатление человека, воспитанного в лучших традициях национал-социализма, — скромен, честен, с друзьями общителен, не чурается компании, но не пьет, не курит, физически абсолютно подготовлен, в отношениях с женщинами сдержан.
Густав Либо, 1922 года рождения, офицер СС, родился в семье коммунистов в Гамбурге. Отец погиб во время гамбургского мятежа, мать была заключена в концентрационный лагерь и там расстреляна в 1934 году при попытке к бегству.
Юноша воспитывался в приюте для сирот, затем в организации гитлерюгенд, впоследствии получил блестящие характеристики в молодежной организации «Работа принадлежит народу», окончил офицерскую школу СС и два года воевал на фронте с большевизмом. Награжден рыцарским крестом, двумя солдатскими крестами, медалью за кавказский поход и за победу в Крыму.
Либо не знает своей истории. Он предан идеям великого фюрера, справедливо полагая, что сирота в любой другой стране мира, где господствует еврейская плутократия, большевизм или империализм, обречен на уничтожение и только в рейхе он стал офицером СС, защитником нации, героем, о котором знает народ.
Более убежденного борца за идеалы национал-социализма, чем Густав Либо, не только мы, сотрудники краковского управления, но и коллеги из управления кадров центра не могли бы назвать из плеяды молодых людей, предложенных армейскими инстанциями в качестве кандидатов на выполнение Вашего специального задания по уничтожению очагов славянской культуры.
Прилагая характеристики НСДАП и фотографические карточки Либенштейна и Либо, сообщаю их адреса:
1. Либенштейн — Краков, улица Святого Яна, дом 26, частная квартира Гуго Штрассена.
2. Либо — Краков, улица Альфреда Розенберга, дом 42, квартира 4.
Начальник Восточного управления гестапо (Краков)
бригадефюрер СС И. Крюгер.
С этим документом в кармане фон Штирлиц шел по вечернему городу на встречу с сыном. Он был в липком поту. Он так никогда не волновался — никогда, с той минуты, когда уходил с белыми пароходами из Владивостока.
Вечер был багряный, во всем была тишина и спокойствие. Встречные патрули — он был в форме — вытягивались перед ним по стойке «смирно» и проходили мимо гусиным, длинным шагом.
Увидев Колю, он чуть не побежал ему навстречу. Но сдержал себя, заложил руки за спину и, повернувшись, медленно пошел назад, к отелю, где стоял большой «майбах», который он взял у шефа краковского гестапо, чтобы посмотреть окрестности города.
40. СЕАНС
— Слушайте, — сказал Берг Швальбу перед началом первого сеанса, — я волнуюсь, ей-богу, у вас нет водки?
— Сейчас я пошлю.
— Да, да, пошлите, — попросил Берг, — напиться надо в обоих случаях: если она сделает то, что мы для нее зашифровали, и в том даже случае, если она начнет истерику. Давайте быстренько, да?
Швальб спустился в дежурку и сказал унтер-офицеру, который сидел возле телефонов:
— Отправьте кого-нибудь в офицерский клуб: пусть принесут водки и хороший ужин.
— Слушаюсь.
— И обязательно чего-нибудь солененького.
— Обязательно.
— И пусть достанут пива.
— Я постараюсь.
— Да, если русская попросится в туалет, отведите ее на улицу, в зеленый сортир: я брезгую славянами.
— Ясно.
— Будьте с ней вежливы.
— Конечно.
— Чем вы ее кормили сегодня?
— Солдатским ужином.
— Хорошо.
Берг стоял наверху и тихо ликовал: Швальб угробил себя. Если побег русской удастся, тогда при опросе всех здешних солдат-радистов, унтер-офицеров и офицеров этот дежурный унтер даст показания, что Швальб, именно Швальб, и никто другой, дал указание принести водки, пива и чего-нибудь солененького. И что именно Швальб велел водить русскую в солдатскую уборную на улицу.
«Гвозди из досок я вытащу, когда она будет заканчивать сеанс. Хотя нет, видимо, рано. А может быть, как раз? Потому что, если она сразу попросится в туалет и там все будет забито, она может решить, что я с ней играл, и устроит истерику. Да, сейчас я должен это сделать. Уже темнеет, никто не заметит, что гвозди вытащены. Ночью вообще трудно отличить на дереве черную дырочку от заржавевшей головки гвоздя. Клещи у меня. Да, пожалуй, сейчас. А когда я поведу ее после сеанса к ней в комнату, я предупрежу, чтобы она уходила ночью, уже после ужина, но главное — после того, как уеду я. А может быть, вообще сегодня не надо? Может быть, дня через три? Опасно. Они ж могут обнаглеть после первого сеанса. Они решат, что она уже целиком в их руках. Да. Сейчас. Только сейчас», — решил Берг и сказал Швальбу:
— Через пять минут начало. Идите за ней.
Он дождался, пока Швальб скрылся в комнате, и быстро вышел из коттеджа. Было темно и сыро. В горах урчал гром. Берг легко и быстро пошел в маленькую зеленую уборную, сжимая в кармане клещи.
Аня оцепенела у передатчика, услышав далекие позывные Бородина. Перед ней на столе лежала радиограмма, которую она сейчас, на глазах у трех немцев, должна передать Бородину. Она должна передать длинные колонки лжи: о передвижении несуществующих дивизий, о строительстве мифических аэродромов, смене танковых полков, расположенных в прифронтовой полосе, о том, что сюда направляется танковая дивизия СС и что их группа ждет людей из Центра.
Не нужно быть большим военачальником — достаточно быть простым разведчиком, чтобы оценить всю важность этих сообщений. Наверняка сегодня же ночью эта дезинформационная шифровка, составленная фашистами, уйдет в Генштаб: если в прифронтовой полосе советскими разведчиками собраны такие важные данные, то, видимо, здесь, на этом фронте, Гитлер замышляет что-то важное. Если полным ходом в лесах строятся по ночам аэродромы, если подтягиваются новые части танковых дивизий СС, если на передовые позиции двигаются свежие части из резерва ставки Гитлера, то на этом участке тысячекилометрового фронта следует ждать возможных контрнаступлений. Значит, если эта шифровка будет подтверждена — а черт их, немцев, знает, какие они еще хитрости могут придумать, чтобы подтвердить свою дезу, — тогда, возможно, наши части будут переброшены с другого участка фронта именно сюда, а там-то, на ослабленном участке, фашисты и сконцентрируют свой вероятный удар.
Аня думала обо всем этом, искренне полагая, что сразу после этой ее шифровки Бородин доложит начальнику штаба фронта, тот разбудит бритоголового, громадного командующего, маршал в свою очередь немедленно позвонит Сталину и назавтра же сюда, против несуществующих танковых дивизий СС, будут переброшены наши подкрепления и, таким образом, оголен тот участок фронта, который фашисты нацелили для удара.
Видимо, если бы не было этого искреннего убеждения у нашего человека, что его, и только его, поступок, помысел и даже внутреннее желание принесет неисчислимые беды фронту, всей стране, тогда победа далась бы куда как большими жертвами.
…В комнату к радистам Берг вошел с опозданием, внимательно поглядел на Аню, и — странное дело — ей захотелось, чтобы он посмотрел на нее не так холодно и пренебрежительно, но ободряюще: мол, ничего, ничего. Ты уйдешь и передашь своим, что это все — фальшивка, а потом я встречусь с твоими друзьями и стану помогать им, а за одну ночь ничего не случится, не думай.
— Ну, давайте, — сказал Берг, — они там ждут.
Аня сразу же увидела Бородина, который, верно, пришел к радистам, потому что волнуется: сколько дней Вихрь молчит, что стряслось? Аня представила себе, как он обрадуется, услыхав ее в эфире, как он поглядит на капитана Высоковского, как тот цыкнет зубом — когда капитан восторгался чем-то, он обязательно цыкал зубом и опускал уголки рта вниз, словно обиженный ребенок. Она представила себе, как Бородин упрется локтем в колено, закурит и будет внимательно слушать, что ему расшифровывают радисты.
— Ну, ну, — сказал Берг, — мы пропустим время.
Он чуть кивнул Ане, выбрав тот миг, когда Швальб отошел за пепельницей. Он кивнул Ане и на мгновение прикрыл глаза.
И Аня начала отстукивать цифры: «12, 67, 42, 79, 11, 55…»
И чем дальше — с отчаянной яростью — она отстукивала эти цифры предательства, тем большая в ней поднималась волна удушающей гадливости к себе самой.
В маленькой каминной стол был сервирован на две персоны. Берг сидел спиной к пылающему камину — ночи были холодны тем особым сентябрьским холодом, который сопутствует жарким дням в отрогах гор. По лицу Швальба метались белые блики — то острые, то длинные. Они уже много выпили. Берг от водки бледнел, под глазами у него залегали сиреневые пятна, а Швальб, наоборот, раскраснелся, движения его сделались несуразно быстрыми, и свою берлинскую речь с опущенным звуком «г» он перемежал русскими фразами.
— Я, как никогда раньше, верю в нашу победу, — говорил он. — Как никогда раньше! Япония, Испания, Португалия, вся Европа стиснута нашими союзниками, которые еще не вступили в борьбу, но которые вот-вот вступят. Вы думаете, почему до сих пор не поднялась Ирландия? Не потому, что там ничего не готово! Нет! Рано! Еще рано! А Турция? Я понимаю фюрера: пусть они зарвутся, пусть они понюхают успех. Они не могут пока еще даже представить себе, что у них в тылу. Это не монолит, как у нас, а весенний лед, разъеденный водой. Фюрер приурочит массированный удар, когда в подземельях рейха будет закончена работа над новым сверхсекретным оружием. Этот массированный удар опрокинет Запад, поставит его на колени, а тогда нам ясно, что делать дальше. Нам ясно, что дальше делать.
— Я радуюсь, глядя на вас, — сказал Берг, — меня восторгает ваш великолепный оптимизм. Если бы мне сейчас не ехать к шефу, я бы выпил еще водки.
— Поезжайте завтра. Все равно вы приедете со щитом.
— Со щитом приедем мы. Я никогда не отделяю себя от тех коллег, вместе с которыми провожу операции, а кроме того…
Швальб захохотал:
— Значит, вы не отделяете себя и от вашего друга Канариса?!
— Вы, по-видимому, перепили, — сказал Берг и поднялся из-за стола, почувствовав, что сама судьба помогает ему немедленно уехать. — Вам лучше проспаться, Швальб.
— Я пошутил, полковник…
— Так шутят болваны.
— Что, что?!
Берг поднялся из-за стола и сказал:
— Честь имею.
Швальб что-то кричал ему вслед, но Берг не обернулся: он зашел к радистам, взял папку с шифрованной радиограммой, спустился во двор, сел в автомобиль и уехал.
Все дальнейшее подтвердило его незаурядный ум и настоящий талант разведчика: Швальб действительно вызвал дежурного унтера, после того как дососал бутылку, и сказал:
— Я вернусь часа через два.
И пошел в городок. Ему понадобилась женщина.
Аня постучала в дверь. Когда унтер отпер дверь, она сказала:
— Я должна поговорить с оберстом Бергом.
— Ду-ду, — унтер посигналил голосом, изображая автомобильный гудок. — Нет. Уехал.
Аня походила по своей комнате, а потом снова постучала в дверь и сказала:
— Туалет. В туалет хочу, ферштейст?
Унтер кивнул головой и повел Аню в зеленую дощатую будку. Она закрылась там, а унтер, как ему было приказано Швальбом, остался стеречь ее.
«Почему женщины все это делают значительно дольше, чем мы? — думал он, расхаживая по песчаной дорожке. — Моя Лотта всегда запирается в ванной на полчаса. Они мне велели обходиться с этой девкой заботливо. Не кричать же ей, чтобы она скорее все там заканчивала? Какую же мне посылку отправить отсюда Лотте? Здесь хорошие толстые вязаные чулки. Горцы вообще умеют делать теплые вещи, без них в горах пропадешь. У всех горцев худые ноги, как палки. А у горянок, наоборот, прекрасные жирные ноги. Черт, как же это важно, чтобы у женщины были жирные, сильные, стройные ноги. Французы любят худых. Несчастная, вырождающаяся нация. Почему здесь такие холодные ночи? Роса падает, как поздней осенью. Хотя в Веймаре тоже холодно по ночам в сентябре. Интересно, а о чем я думаю в промежутках, когда ни о чем не думаю? Нет, сейчас тоже думаю про то, что бывает, когда ни о чем не думаю. Давно я не ходил за грибами. Гешке на прошлой неделе собрал два ведра прекрасных грибов. Их можно засушить и отправить домой. Грибной супик зимой — что может быть прекраснее. Черт, а ведь надо поужинать. Сейчас я отведу ее в комнату, а сам поужинаю. Надо будет взять то, что осталось в каминной. Там у них наверняка остались вкусные вещи. Им принесли жареную баранину, кровяную колбасу с чесноком и сыр. Почему эти горцы кладут в колбасу столько чесноку? От них воняет так, что невозможно быть в одной комнате. Попробуй разреши им ездить в одних вагонах с нами, что тогда получится?»
— Пани! — крикнул унтер. — Поскорей, пани!
И пошел по дорожке в обратную сторону.
Шеф гестапо Крюгер сказал:
— Мой дорогой Берг, не обращайте на него внимания. Это не стоит выеденного яйца. Я со своей стороны заставлю его принести вам публичное извинение. Все это ерунда в сравнении с той победой, которую мы с вами одержали. Я немедля отправляю донесение в Берлин.
— Надеюсь, вы понимаете, почему я так щепетилен к этой пьяной шутке, — сказал Берг.
— Почему пьяной?
— Он был пьян.
— Погодите, погодите, он был пьян?
— Да. Мы с ним ужинали, и он так много пил, что немудрено было наговорить бог знает что.
— Хорошо. Он будет наказан, не омрачайте нашу общую радость глупостью пьяницы, который не умеет себя вести. Что делать, если кое-кто из моих сотрудников забывает свой партийный долг и начинает пить, как презренный еврейский плутократ?!
В это время зазвонил телефон. Шеф гестапо сказал:
— Простите, полковник.
Снял трубку. По тому, как он слушал то, что ему говорили, Берг понял: русская ушла. Он не ошибся. Шеф гестапо сказал:
— Где Швальб?! Что?! Немедленно найти его! Объявите тревогу! Поднимите войска! Прочешите все окрест! Перепились, паршивые болваны! Тупицы!
И пока шеф гестапо орал по телефону, Берг думал: «Конечно, самое страшное, если ее схватят сегодня или завтра, пока она не нашла своих. Они — а она тогда непременно попадет в гестапо — выпотрошат ее. И что тогда? Ничего. Они сами санкционировали мою к ней вербовку. Только одно — она может показать, что гвозди были выдернуты. Почему это должен был делать именно я? У кого шевельнется такая мысль? Покажет русская? Нельзя начинать дело, заранее решив, что оно проиграно. Больше юмора. И так и эдак — все плохо. А пока хорошо. Сейчас уеду к себе и по-настоящему выпью, а потом лягу спать и буду спать до девяти часов».
Крюгер положил трубку и сказал:
— Вы все поняли?
— Пропал Швальб?
— Плевать я на него хотел мильон раз! Ушла ваша девка!
Берг вскочил со стула.
— Это невозможно, — сказал он. — Это какая-то путаница.
— Ах, перестаньте вы болтать про путаницу! Ушла! Из туалета! Ясно вам?!
— Нет, — твердо сказал Берг. — Я не верю. Швальб сам проверял этот туалет перед тем, как велел водить ее туда, а не в офицерский ватерклозет. Пусть они срочно проверят: девка могла пойти на зверское самоубийство.
— Что? — спросил Крюгер.
— Да, да. Пусть посмотрят!
— Полковник! Полковник, вы что — смеетесь?! Там доски, оказывается, были без гвоздей! Она ушла в, горы!
Берг полез за сигаретами.
Шеф гестапо включил селектор:
— Дежурная группа! Быстро отправить на радиоцентр проводников с собаками. Девку потом немедленно ко мне. — Обернулся к Бергу: — Вся эта история делается занятной, а?
— Более чем занятной, — ответил Берг. — Я думал ехать отдыхать, но теперь мне ясно, что я буду с вами до окончательного исхода поисков.
— Спасибо, — сказал шеф гестапо, — это очень любезно с вашей стороны.
Продираясь сквозь кустарник, Аня думала: «Не пойду я в горы. Я здесь ничего не знаю. С собаками возьмут, ручьи пересохли. Надо идти на дорогу. Была не была! Ведь я в Польше — так что либо пан, либо пропал!»
Бегала она хорошо, поэтому еще до того, как охранники в радиоцентре врубили прожектора и подняли пальбу — немцы до патронов нежадные, а эффекты любят, — Аня уже была возле шоссе. Она решила бежать вдоль по шоссе к Рыбны и, если получится, остановить машину, причем желательно военную; те проходят мимо патрулей без остановки.
И первая же проходившая с синими подслеповатыми фарами рычащая немецкая грузовая машина тормознула, когда Аня подняла руку. Дверца распахнулась, и девушка забралась в теплую кабину.
— А, паненка, — сказал шофер, — во геест ду?
— Дорт, — сказала Аня, махнув перед собой рукой, — нах Краков.
Шофер обрадовался, решив, что она понимает немецкий, и быстро заговорил, поглядывая искоса на Аню.
— Их не фарштее, — сказала Аня, — нур вених.
Шофер засмеялся ее нарочито неграмотному произношению, достал из-под черного солнцезащитного козырька сигарету, ловко бросил ее себе в рот, так же ловко одной рукой прикурил, выбросил спичку в окно, потом перехватил руль левой рукой, а правую положил Ане на ногу.
«Ну вот, — подумала Аня. — Начинается. Сейчас полезет. Сколько мы отъехали? Километров пять. Собаки меня теперь не возьмут. Если будет лезть — надо бежать».
Она оглядела шофера.
«Пожилой, — подумала Аня, — а все равно кобель. С этим справлюсь».
Немец, что-то бормоча, придвинул к себе Аню и начал притормаживать. Навстречу им по шоссе пронеслись три машины. Резануло глаза острым синим цветом — у машин, верно, были открытые синие фары, а не щелки, как у военных грузовиков, которые боялись бомбежки.
«Наверное, за мной, — подумала Аня. — Хотя еще рано. А может быть, у них где-нибудь поблизости гарнизон, они оттуда подняли караул, чтобы прочесать лес».
Шофер выключил свет, повернул к себе Аню и начал быстрыми, холодными пальцами расстегивать пуговицы на ее кофточке. Аня прижалась к немцу, обняла его голову и шепнула:
— Айн момент, битте.
— Гут, — ответил немец, — абер шнеллер. — И начал расстегивать ремень: кабина у него была довольно большая, и он, видно, хотел расположиться с Аней прямо здесь, в тепле.
«Куртку брать нельзя, — быстро решила Аня, — сразу заподозрит. Черт с ней, с курткой».
Она подвинула немцу свою курточку и показала глазами, чтобы он повесил ее на крючок рядом со своим кителем. Немец перестал расстегивать ремень, кивнул головой и обернулся, чтобы повесить ее куртку. В это время Аня открыла дверь и выскочила из кабины. Перемахнув через кювет, она оказалась в лесу. Немец что-то кричал ей вслед. Чем дальше она бежала, тем тише становился его голос. А потом и вовсе пропал.
Под утро шефу гестапо доложили, что лес и горы вокруг были прочесаны со всей тщательностью, собаки взяли след русской разведчицы, но возле шоссе след оборвался и все дальнейшие поиски ничего не дали.
Патрули на шоссе, предупрежденные гестапо еще с ночи, проверяли каждую машину, включая военные. Но русской ни в одной машине не было.
Вечером следующего дня Аня была у Палека. Через час за ней пришел Седой. В тот же день ее отвели к Вихрю. Она бросилась к нему, повисла у него на шее, и он гладил ее голову и целовал лицо, а она никак не могла сдержаться и плакала навзрыд — так, что лопатки ходуном ходили, и эти маленькие, словно крылышки, лопатки заставляли сжиматься сердце Вихря мучительной жалостью.
Рейхсфюрер СС.
Полевой командный пункт, № 56/37/63. 7 сентября 1944 г.
Экз. № 9. Совершенно секретно.
Высшему руководителю СС и гестапо на Востоке
СС бригадефюреру Крюгеру (Краков)
Обстановка такова, что лишь трезвая и серьзная оценка всех компонентов, определяющих специфику момента, переживаемого империей, может помочь выработать верный курс на будущее. Возрождение из пепла есть высшая форма возрождения. Я пишу это Вам не столько для того, чтобы успокаивать преамбулой, сколько для того, чтобы лишний раз подчеркнуть всю серьезность настоящего положения.
Хотя общее направление событий развивается — и это совершенно очевидно для всякого человека, обладающего даром видеть, — в нашу пользу, хотя я никогда еще так глубоко не был уверен в окончательной победе нашего великого дела, тем не менее в свете совместных большевистско-западных акций нам следует продумать все возможные исходы, как бы горьки они ни казались с первого взгляда. Поэтому Вам надлежит в соответствии с прилагаемым планом провести всю работу, предписанную Вам, но таким образом, чтобы эта работа ни в коей мере не сказалась на духе и патриотической устремленности офицеров и солдат СС.
Все детальные рекомендации и предписания Вы сможете соответствующим образом прокомментировать, исходя из той конкретной обстановки, в которой Вам приходится исполнять свой долг. Приказ сводится к следующему: все кадры СС должны быть преобразованы таким образом, чтобы, в случае временного отступления с новых территорий рейха, СС тем не менее осталась жизнедеятельной организацией, способной в будущем возродить из пепла непобедимые идеи национал-социализма.
Первая стадия задуманного мероприятия заключается в том, чтобы уже сейчас разделить всю территорию рейха на округа и районы военного значения. Офицерский состав Восточного управления СС и гестапо после моей директивы должны получить от Вас указание, в какой округ или район надлежит отправиться. Там офицер СС обязан внедриться, занять легальное положение, отличающееся лояльностью по отношению к новому режиму; причем желательно, чтобы это внедрение проходило в промышленных центрах — то есть там, где особо сильна прослойка организованных рабочих, преданных идеалам национал-социализма. Офицеры СС обязаны потом через добровольную и случайную агентуру обеспечить постепенный учет всех командиров СС, а затем после проведенной подготовительной работы весь офицерский состав данного округа или района объединяется в нейтральное землячество или товарищество.
Вторая стадия работы, которая должна быть проведена по прошествии четырех-пяти лет, заключается в том, чтобы офицеры СС провели учет всех унтер-офицеров и солдат СС. После этого начинается третья стадия, которая отмечается прощупыванием контактов с политическими организациями, а затем при посредстве такого рода контактов следует впрямую приступить к решению проблемы проблем — к созданию новых воинских формирований.
Если учесть, что в процентном отношении состав войск СС распределяется таким образом, что более трех четвертей кадровых бойцов являются людьми восемнадцати-, тридцатипятилетнего возраста, то через десять — двадцать лет мы будем иметь формирования СС, вошедшие в пору партийной и организационной зрелости. По понятным соображениям, этот документ является документом государственной важности и подлежит немедленному уничтожению сразу же после того, как Вами будет проведена первая организационная фаза работы.
Хайль Гитлер!
Начальник IV отдела РСХА
Группенфюрер Мюллер.
(Не будь Штирлица в Кракове, не контактируй он в своей работе как доверенное лицо шефа разведки СС Шелленберга с руководителем гестапо на Востоке, ему бы, конечно, не удалось ознакомиться с этим документом, потому что план этот составлялся секретариатом Мюллера и через аппарат политической разведки не проходил.)
41. ОТЕЦ И СЫН
Чтобы задержаться в Кракове, Штирлиц разыграл сердечный приступ. Он остался еще на три дня и каждое утро и вечер вызывал к себе в номер отеля парикмахера Гришанчикова, который обслуживал офицерский корпус. Этому предшествовала определенная комбинация: он зашел в ту офицерскую парикмахерскую, где работал Коля; офицеры поднялись, он знаком позволил им сидеть, сам опустился в кресло возле окна и углубился в чтение газеты.
— Прошу, — сказал Коля, — прошу вас.
Штирлиц сел в кресло и закрыл глаза. Он ощущал на своем лице руки сына, и было ему в сердце тревожно, сладостно и больно.
— Где вы так хорошо выучились своему ремеслу?
— В Минске.
— Судя по выговору, вы берлинец?
Коля долго молчал, понимая, что к их разговору прислушиваются офицеры.
— Я русский.
Штирлиц открыл глаза и внимательно посмотрел на сына. Хмыкнул и сказал:
— Занятно. Мне приходилось допрашивать русских, но стричься у них — ни разу.
— Я лояльный русский.
— Похвально.
— Мне приятно, что вы оказываете мне доверие.
— Массаж, пожалуйста.
Штирлиц снова закрыл глаза, потому что руки сына гладили лицо, трогали веки, осторожно прикасались к носу, приглаживали морщинистые виски, скользили по гладкому, выпуклому, сильному лбу.
— Немного одеколона?
— Нет. Спасибо, — ответил Штирлиц, по-прежнему не открывая глаз. — Если бы не мои коллеги, ожидающие своей очереди к такому великолепному мастеру, я бы попросил сделать массаж еще раз.
— О, пожалуйста, — сказал танкист офицер.
— Господин оберштурмбанфюрер, прошу вас, — сказал офицер люфтваффе.
— Спасибо, друзья, — ответил Штирлиц, — я не смею злоупотреблять вашей добротой. А вы… Как вас?
— Гришанчиков. Андрей Гришанчиков…
— Так вот, Андрэ, прошу вас приходить ко мне в двадцать седьмой номер «Французского» отеля каждый день к семи на утренний массаж и к девяти — на массаж вечерний.
Он снова обернулся к офицерам:
— Во время нудной служебной командировки следует совмещать приятное с полезным.
Те угодливо посмеялись, а может быть, им это действительно показалось смешным: истеризм чинопочитания порой становится второй душой, и тогда все, сказанное высшим чином СС просто с улыбкой, кажется поразительно смешным.
Когда на следующий день Коля пришел к отцу, тот запер дверь и сразу же увеличил громкость приемника, настроенного на джаз. Поставил будильник — через десять минут массаж должен быть окончен. Сначала они говорили тихо, очень быстро, перебивая друг друга; они толком не отвечали друг другу; потом Штирлиц замолчал, взял руки сына в свои, гладил их, подносил к своему лицу, как тогда, в двадцать втором, он терся лбом, носом, губами о прекрасные Сашенькины руки.
Берг на встречу пришел один, без хвоста — это установили Коля, Степан, группа Седого и Вихрь. Аня, загримированная до неузнаваемости, передала Бергу задание. Она попросила его передать ей эти сведения завтра. Она попросила его об этом, потому что Штирлиц торопился в Берлин, а без перепроверки данных, которые должен был передать полковник, дальнейшая его разработка и вербовка оказались бы невозможными и слишком рискованными.
Берг принес данные. Во время вечернего массажа Коля передал их Штирлицу. Тот проверил их. Данные были абсолютно точные. Это было должностным преступлением полковника Берга, за это он был бы немедленно расстрелян — узнай об этом гестапо.
Штирлиц рассуждал таким образом: если бы Берг вел двойную игру, стремясь внедриться в ряды русских разведчиков, связанных с польским подпольем, то и в этом случае он не мог бы передать им, даже в порядке «первоначального взноса», столь исчерпывающе правдивые сведения о штабе группы армий «А».
В разговоре с шефом гестапо Штирлиц — между прочим, очень легко, без всякого нажима, — спросил о контактах с фронтовой военной разведкой группы армий «А».
— Э, — махнул рукой шеф гестапо, — они держатся только старыми связями со ставкой. Я бессилен в этом сражении бюрократических группировок. Если бы Кейтель не был почетным членом партии, право, мне было бы легче. А так меня держат за фалды. Личные связи, личные связи — как они вредят нашему делу!
— Я не могу быть вам ни в чем полезным?
— Благодарю вас, нет. Нас губит либерализм. Фюрер излишне мягок по отношению к тем, кто посмел поднять руку на его жизнь.
— А что нам делать? Армия есть армия. Из-за сотни подлецов нельзя терять веру в массу офицеров и генералов, преданных идеалам фюрера. Подозрительность — это в конечном счете ржавчина, разъедающая государство изнутри. Поверили же мы русскому Власову, и он оправдывает наше доверие.
— Порой враг лучше своего: он осмотрен со всех сторон. А со своими мы церемонимся. Я чувствую измену, но ничего не могу поделать. Надо мной еще десяток инстанций.
Шеф не называл фамилий. Штирлиц не имел права настаивать, он должен был ежеминутно и ежесекундно отдавать себе отчет: провались он — и тогда следом за его провалом потянется громадная цепочка, под колпак возьмут всех, чьи имена он произносил в беседах, телефонных разговорах, личных письмах и деловых бумагах.
Но тем не менее, основываясь на скептицизме, с которым гестаповец отозвался обо всех представителях военной разведки, Штирлиц сделал для себя определенные выводы: скорее всего, Берг действительно ищет контактов с нами, поняв неизбежность краха, либо, на крайний случай, затевает операцию на свой страх и риск. Если правильно это последнее предположение, тогда можно будет таким образом прижать полковника, что он станет работать на нас воистину; как это сделать, Штирлиц знал великолепно, и он рассказал о методах такого «прижима» сыну.
Однако, после того как Берг передал данные о штабе группы армий, которые попросила Аня, Штирлиц понял, что полковник играет ва-банк. И он сказал сыну:
— Саня, берегите этого Берга. Если он станет вашим настоящим агентом — это большая удача.
Штирлиц дал сыну адрес радиоцентра танковой дивизии на окраине Кракова, который стоял почти без охраны.
— Возьмите два аппарата, — сказал он, — с одним уйдете к партизанам, свяжетесь с Центром моим шифром, ты запомнил? Оттуда пришлют самолет, чтобы забрать фау, который не взорвался. Это — огромнейшей важности задача. Второй передатчик оставьте у себя и не торчите в эфире по часу — запеленгуют.
Он улетал в Берлин ранним утром. Коля пришел к отцу делать последний массаж. А в номере сидел шеф гестапо: он приехал проводить человека из Берлина.
Шеф долго наблюдал, как русский парень массировал лицо Штирлица, а потом сказал:
— Черт возьми, я сейчас понял, как это, верно, приятно. Где вы нашли этого типа?
— Он говорит по-немецки, — ответил Штирлиц.
— Парень, — сказал шеф гестапо, — было бы неплохо, если бы ты помял и меня.
— С радостью, господин генерал.
— Относитесь к нему хорошо, — сказал Штирлиц, — я его, возможно, заберу в Берлин: такого массажиста я встречаю впервые. Он — само чудо.
Штирлиц бросил на стол деньги, Коля услужливо спрятал их в карман и, кланяясь, вышел из номера.
Спускаясь к машине, Штирлиц увидел сына в последний раз: тот стоял в толпе стариков возле костела и неотрывно смотрел на него — белый от волнения.
Назавтра боевая группа во главе со Степаном Богдановым совершила налет на радиоцентр танковой дивизии. В перестрелке погибло трое партизан и пять немцев из охраны. Радиоаппаратура была доставлена на конспиративную квартиру к Седому. Отсюда Степан и еще трое ушли вместе с начальником штаба партизан в отроги Татр, где «Соколы» прятали фау Вернера фон Брауна.
Второй аппарат был спрятан в машине Аппеля. Под вечер Аппель повел свою машину с ночным пропуском по шоссе, что вело к Закопане. Аня передавала шифровку Бородину: об аресте, о Берге, о своей дезинформационной радиограмме и о гестаповцах, выделенных для уничтожения города. Она передала все это запасным шифром, торопясь, кусая от волнения губы, вся захолодев.
А потом она передала трехзначные, непонятные ей цифры, которые вписал Коля: это было сообщение Штирлица по поводу фау. Аня откинулась на спинку сиденья и стала ждать ответа. Но Бородин сразу отвечать не стал: он перенес ответный сеанс на завтра.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Адмиралтейство просило меня обратиться к Вам за помощью по небольшому, но важному делу. Советский Военно-Морской Флот информировал Адмиралтейство о том, что в захваченной в Таллинне подводной лодке были обнаружены две германские акустические торпеды Т-5. Это единственный известный тип торпед, управляемых на основе принципов акустики, и он является весьма эффективным не только против торговых судов, но и против эскортных кораблей. Хотя эта торпеда еще не применяется в широком масштабе, при помощи нее было потоплено или повреждено 24 британских эскортных судна, в том числе 5 судов из состава конвоев, направляемых в Северную Россию.
2. Наши специалисты изобрели особый прибор, который обеспечивает некоторую защиту от этой торпеды и который установлен на британских эсминцах, используемых в настоящее время Советским Военно-Морским Флотом. Однако изучение образца торпеды Т-5 было бы крайне ценным для изыскания контрмер. Адмирал Арчер просил советские военно-морские власти, чтобы одна из двух торпед была немедленно предоставлена для изучения и практического испытания в Соединенном Королевстве. Мне сообщают, что советские военно-морские власти не исключают этой возможности, но что вопрос все еще находится на рассмотрении.
3. Я уверен, что Вы признаете ту большую помощь, которую Советский Военно-Морской Флот может оказать Королевскому Военно-Морскому Флоту, содействуя немедленной отправке одной торпеды в Соединенное Королевство, если я напомню Вам о том, что в течение многих истекших месяцев противник готовился начать новую кампанию подводной войны в большом масштабе при помощи новых подводных лодок, обладающих особенно большой скоростью под водой. Это привело бы к увеличению всякого рода трудностей в деле переброски войск Соединенных Штатов и снабжения через океан на оба театра войны. Мы считаем получение одной торпеды Т-5 настолько срочным делом, что мы были бы готовы направить за торпедой британский самолет в любое удобное место, назначенное Вами..
4. Поэтому я прошу Вас обратить Ваше благосклонное внимание на это дело, которое становится еще более важным ввиду того, что немцы, возможно, передали чертежи этой торпеды японскому военно-морскому флоту. Адмиралтейство будет радо предоставить Советскому Военно-Морскому Флоту все результаты своих исследований и экспериментов с этой торпедой, а также любую новую защитную аппаратуру, сконструированную впоследствии.
42. ГРАДИЕНТА ВЕРЫ
Сообщения, переданные Аней, ошеломили Бородина. Он несколько раз перечитал шифровку, потом взял чистый листок бумаги и написал, пронумеровав полученные данные по степени их важности:
1. Аня была арестована.
2. Полковник Берг, арестовавший ее, предложил свои услуги в работе против гитлеровцев.
3. Аня передала дезинформацию (эта деза ушла в Центр, как особо важная).
4. Группа Вихря вступила в контакт с Бергом.
5. Берг вручил данные о личном составе штаба группы армий «А» (если это не деза, значит, это очень важные данные).
6. Вихрь передал сверхсекретные данные о плане Гиммлера по переводу в подполье частей СС — офицерский корпус и солдаты. (В силу своей стилевой правдоподобности это похоже на сверхтонкую дезу. Я не верю. Хотя, с другой стороны, кого этим им дезинформировать? Или в запасе иной план ухода в подполье? Возможно.)
7. Вихрь передал фамилии офицеров СС, ответственных за уничтожение Кракова. (Как возможно получить такие материалы?)
8. Вихрь передал данные о полковнике инженерных войск СС Краухе, авторе плана уничтожения Кракова, маршруты его поездок.
9. Вихрь передал данные о линии оборонительного вала по Одеру, являющиеся также совершенно секретными.
10. Вихрь передал данные о передвижениях партизанских объединений.
11. Передал данные о семи диверсиях на железнодорожной ветке, обслуживающей оборонительный вал, совершенных боевой группой Степана Богданова.
12. Вихрь передал шифровку в Центр по шифру, не известному штабу фронта. Генштаб шифровку принял сообщений оттуда не поступило.
Бородин совершенно ясно отдавал себе отчет в том что сразу же после того, как он доложит об аресте Ани и о том, что она установила контакт с Бергом да еще контрразведчиком такого класса, как полковник, — вся деятельность группы Вихря будет поставлена под серьезнейшее — и вполне справедливое — подозрение.
«Кобцов мыслит прямолинейно: сидела у фашистов? Сидела. Другие патриоты честно смерть принимают, а ты пошла на сделку с фашистами? Пошла. Передала в Центр дезу? Передала. Предательство? Предательство. Вызвать сюда и — к чертовой матери в фильтрационный лагерь. Война, времени нет чикаться, нюансики анализировать. Победим — разберемся». — «А если она все делала для нас?» — «Ну, это еще доказывать надо…»
Бородин отчеркнул красным карандашом все остальные пункты, вынесенные им на бумагу. Последний пункт — шифровку в Центр, переданную неизвестным шифром, — он подчеркнул еще и синим карандашом.
«Видимо, спасти девчушку может ответ из Москвы, — думал Бородин. — Если они оттуда позвонят по ВЧ и скажут, что группа Вихря помогла в операции, на которую Москва пошла в связи с тем немцем, что прилетал в Краков из Берлина, тогда картина изменится. Если сейчас говорить Кобцову — поставлю под удар не только ее одну, но всех их…»
В кабинет заглянул капитан Высоковский и, присев к столу, начал тщательно причесываться, помогая себе рукой, — он приглаживал ладонью свои блестящие, чуть вьющиеся волосы.
— Это некрасиво, Леня, — сказал Бородин, — мужчина должен причесываться в туалете. Вы охорашиваетесь, словно барышня в фойе театра.
— Вы на меня сердитесь из-за этой шифровки? — спросил Высоковский. — Ей-богу, я ни в чем не виноват. Она — крепкая девка, я не понимаю, в чем дело…
— А может, никакого дела и нет вовсе? Больно мы до очевидных дел зоркие. Не верю я, знаете ли, очевидностям всякого рода.
— Вы уже передали ее донесение Кобцову?
— Спать хочется до смерти, — словно не слыхав вопроса, ответил Бородин. — Погода, верно, будет меняться.
— Осень… Будь она неладна.
— Не любите осень?
— Ненавижу.
— Отчего так?
— Купаться нельзя.
— Люблю осень. Для меня, знаете ли, поздней осенью начинается весна. Именно поздней осенью. И наоборот, осень, зима, новый год с его грустью у меня начинаются в марте, ранней весной, когда в лесу по ночам ручьи журчат, снег тает.
— Что-то не понимаю.
— Это, верно, старость. В старости уже все известно, предвидения мучат, наперед знаешь — что, откуда, почем и кому.
— Москва еще не отвечала?
— Дикость положения в том, что она не обязана нам отвечать. И на запрос, боюсь, не ответят. Еще цыкнут: не суйте нос не в свои дела.
— С Кобцовым вы уже посоветовались? — снова спросил Высоковский.
— Самое паршивое дело, — задумчиво продолжал Бородин, — так это совать нос в чужие дела. Как считаете, а? Кстати, пирамидона у вас нету?
— Аспирин есть.
Бородин пощупал лоб.
— Да нет, аспирин мне, знаете ли, ни к чему.
— Может, грипп?
— А бог его знает. Между прочим, раньше грипп назывался инфлюэнцей. Куда как изящней. Все к простоте стремимся. Грипп. Почему грипп? А не земляника? Или клюква? «Вы больны?» — «Да, у меня, знаете ли, клюква».
Высоковский понял — старик бесится. Поэтому он сдержанно посмеялся и стал думать, как бы ему поизящней уйти.
— Да, вы Кобцову передали данные на пленных — Степана Богданова, Николаева и Новикова?
— Передал.
— Что он ответил? У него есть на них материалы?
— Компрометирующих нет. Кобцов сказал: посидят на проверке, там решим, что с ними делать.
— Посидят, сказал?
— Сказал, посидят, товарищ полковник…
— Слушайте, — спросил Богданов, — а у вас нет желания слетать к ним, а? По радио ни хрена не разберешься… Если они действительно там эдакое заворачивают — это ведь не шутки. В Москву передали сообщение с фамилиями начальства из штаба группы армий «А»?
— Конечно.
— Как думаете, завтра ответят?
— Трудно сказать.
— Поэтому и спрашиваю, что трудно сказать, — хмыкнул Бородин, — иначе б молчал. Когда у вас неприятности, вы любите излиться или предпочитаете таить в себе?
— В себе не могу.
— Я тоже.
Высоковский заметил:
— Я про себя философствовать люблю. А если вслух, то сразу теряю нить.
«Осторожный парень, — подумал Бородин, — ишь выкозюливает. А понимает все, глаз у него цепкий».
— Ну, это ясно, — сказал Бородин, — бывает.
— Товарищ полковник, а когда лететь?
— Я спросил, нет ли у вас желания. Что касается полета, то это вопрос будущего. Погодим, пооглядимся, а? Как считаете?
— Лететь, видимо, придется, — ответил Высоковский. — Иначе всю операцию можем профукать. Обидно. Да и голову после снимут.
— Это вы четко сформулировали, — сказал Бородин. — Обидно. И голову снять могут. Четко — ничего не добавишь…
«Нет, он не побежит к Кобцову, — решил Бородин, — он умный парень и не трус. Мелко страхуются только трусы. А этот сначала сказал «обидно», а потом уж вспомнил про голову».
— А про ту ее шифровку, которая ушла в Москву, сообщили, что это — липа?
— Не столь резко. Я сообщил, что этот материал, по новым данным, переданным тем же Вихрем и Аней, оказался насквозь фальшивым, составленным врагом в целях дезинформации. Теперь спросите меня в третий раз про Кобцова…
— Больше не буду.
— Зря. Просто я еще тогда не решил для себя, как следует поступить.
— Теперь?
— Теперь я решил подумать о том, когда посылать вас к Вихрю…
Высоковский тонко улыбнулся:
— Интересы дела требуют, чтобы рядом с вами не оставалось свидетеля? О радиограмме ведь знаем только мы с вами…
Бородин поиграл бровями и ответил:
— Это вы — ничего. В точку. Меня, знаете ли, до войны больше всего обижало, когда хорошее дело приходилось прикрывать обманом. Видимо, бюрократизм прилипает в первую голову к тем, кто с ним борется. К сожалению, Кобцов почти совсем не берет во внимание градиенту веры. Я — ее исповедую.
— Я готов уйти к Вихрю хоть завтра, — сказал Высоковский. — Думаю, на месте все будет видней.
— Срок мы с вами установим. Торопиться не надо. Разведчик должен торопиться только один раз…
— Когда именно?
— Вот когда полетите, на аэродроме шепну, — сказал Бородин. — Ладно. Давайте-ка составлять радиограмму Вихрю.
Высоковский вынул ручку и посмотрел на Бородина. Тот пожевал старческими фиолетовыми губами, вздохнул прерывисто, недоуменно пожал плечами и начал диктовать:
— »Выясните все данные о полковнике: год и место рождения, родственники, бывал ли в СССР, должность, места работ. Сообщите немедленно. Сразу после этого буду докладывать командованию. Бородин».
Высоковский отметил для себя, как хитро старик сформулировал радиограмму — он не давал никаких авансов и в то же время санкционировал продолжение работы группы, в которой радист-шифровальщик был скомпрометирован, согласно официально действующим установкам.
«Спросить его, — подумал Высоковский, — понимает ли он, как с ним поступят, случись что страшное в Кракове? Хотя, конечно, понимает. Оттого так и диктует. Но понимает ли он, что со мной будет то же, что и с ним? Видимо, понимает. Оттого и говорил про градиенту веры. Я был бы последней собакой, посчитай хоть на минуту, что Аня действительно могла стать фашистской потаскухой. Ей-ей, нельзя созидать общество, построенное на вере в человека, основываясь при этом на полном в него неверии».
— Когда приезжает полковник Мельников? — спросил Бородин.
Мельников был начальник военной контрразведки, «СМЕРША» фронта. Он пять лет просидел нелегалом в Германии, два года дрался в Испании, а после лагеря на Колыме был реабилитирован и в первые дни войны снова вернулся на фронт — чекистом.
Бородин два года был помощником Мельникова по военной разведке в Мадриде и Барселоне. Сейчас Мельников лежал в госпитале — его поедал туберкулез. Тем не менее кто-то сказал, что на следующей неделе он вернется в штаб. С ним Бородин мог говорить, как с самим собой.
— Говорят, ему стало хуже, — ответил Высоковский. — Чекисты были у него позавчера, он кровью харкает.
— Вот что… Вызывайте машину. Едем к нему. По-моему, это решение.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание о немецкой торпеде Т-5. Советскими моряками действительно были захвачены две немецкие акустические торпеды, которые сейчас изучаются нашими специалистами. К сожалению, мы лишены возможности уже сейчас послать в Англию одну из указанных торпед, так как обе торпеды имеют повреждения от взрыва, вследствие чего для изучения и испытания торпеды пришлось бы поврежденные части одной торпеды заменять частями другой, иначе ее изучение и испытание невозможно. Отсюда две возможности: либо получаемые по мере изучения торпеды чертежи и описания будут немедленно передаваться Британской Военной Миссии, а по окончании изучения и испытаний торпеда будет передана в распоряжение Британского Адмиралтейства, либо немедля выехать в Советский Союз британским специалистам и на месте изучить в деталях торпеду и снять с нее чертежи. Мы готовы предоставить любую из двух возможностей.
43. НОЧНОЙ ПОЛЕТ
Шифровка Штирлица о фау, посланная Аней в Москву, была немедленно доложена заместителю начальника Генерального штаба РККА генералу Антонову. Тот в свою очередь, в силу чрезвычайной важности полученного сообщения, передал ее секретарю Сталина — Поскребышеву.
Видимо, Поскребышев что-то рассказал Сталину, потому что утром, когда Антонов прибыл в Ставку, Верховный Главнокомандующий сказал ему, по обычаю помогая фразе емким движением левой руки:
— Если это не блеф, тогда это серьезно по двум причинам: во-первых, с точки зрения перспектив — как военного, так и политического порядка — не только сейчас, но, главное, в будущем. И, во-вторых, это, несомненно, тема для разговора с Черчиллем.
Сталин оглядел Антонова из-под тяжелых, чуть припухлых век — он любил рослых военачальников, — чуть улыбнулся своей странной, несколько осторожной улыбкой и добавил:
— Если артиллерия — бог войны, тогда ракетостроение — Христос мира. Но, видимо, эту формулировку не пропустит наш Агитпроп: она несет в себе оттенок богоуважительности. Атеисты мне этого не простят.
В тот же день разведка Генштаба связалась с авиацией — необходимо было в течение ближайших же дней установить контакт с польскими партизанами отряда «Соколы» и разведчиками, откомандированными туда краковской группой «Вихрь». После этого четверым разведчикам Генштаба надлежало вылететь с львовского аэродрома на «Дугласе» в тыл к немцам, на заранее приготовленную партизанами площадку, взять на борт ракету Вернера фон Брауна и незамедлительно следовать в Москву.
От командира партизанского отряда Пшиманского и Богданова:
В квадрате 44 на выложенных полукругом кострах оборудована посадочная площадка. Восемь костров составляют полукруг, посредине треугольник.
Львов, спецгруппа Генштаба РККА — Пшиманскому и Богданову:
Самолет прилетит в пятницу от 23 до 23.30.
От Пшиманского и Богданова:
Просим перенести вылет с пятницы. Осенняя распутица испортила посадочную площадку. Прилетайте после воскресенья. Готовим запасную площадку с песчаным покрытием.
Львов — Москве:
Пшиманский и Богданов сообщают, что из-за осенних дождей испортилась посадочная площадка. Готовят запасную с песчаным покрытием. Просят перенести вылет на следующую неделю. Ждем указаний.
Так как дежурный по Генеральному штабу знал, что вопрос о немецкой ракете докладывался руководству в Кремле, а генерал Антонов был у Сталина, из Генштаба в Ставку Верховного Главнокомандующего раздался звонок.
Дежурный. Товарищ Горбачев, докладывает подполковник Савин из Генштаба. К нам пришла срочная радиограмма из Львова.
Горбачев. Давайте.
Дежурный. Группа «Ракета» просит указаний: посадочная полоса у партизан разъехалась из-за дождей. Считают, что сейчас рискованно садиться. Просят перенести полет на следующую неделю.
Горбачев. Я сейчас доложу товарищу Поскребышеву.
Через десять минут полковник Горбачев, дежурный в приемной Сталина, позвонил в Генеральный штаб и сказал:
— Есть мнение, что откладывать полет нецелесообразно.
— Значит, лететь?
— Я повторяю вам: есть мнение, что откладывать полет нецелесообразно…
— Ясно, товарищ Горбачев. До свидания.
Москва — Львову:
Необходимо немедленно осуществить операцию «Ракета», не откладывая на воскресенье.
Львов — Пшиманскому и Богданову:
Просим сообщить, есть ли хоть какая-то возможность приземления.
От Пшиманского и Богданова:
Площадка есть, но никакой гарантии дать не можем.
Львов:
Вылет сегодня в условленное время.
Пшиманский и Богданов лежали в хворосте. От земли тянуло холодом — все шло к тому, что вот-вот ударят морозы. Небо не по-ночному светлое, но звезды в нем были очень ярки — не голубые даже, а рельефно-зеленые, видимо, от студеного инея.
— Можно потерять все из-за двух дней, — сказал Пшиманский.
— Им там виднее.
— Почему? Виднее нам.
— Нам — с нашей колокольни, — ответил Богданов. — Им — с ихней.
— Все равно — глупо.
— У вас спичек нет?
— Пожалуйста.
— У немцев хорошие спички.
— У них дрянные спички. Бумажные. Пальцы жгут… Когда ж они подлетят?
— Должны сейчас.
— Через три часа будете у своих, — улыбнулся в темноте Пшиманский и в темноте даже не увидел, но ясно почувствовал, как улыбается русский.
— Не верится, — сказал Богданов.
— Тихо…
— Они?
— По-моему. Ну-ка, осветите часы.
— Сейчас.
— Они. Тютелька в тютельку. Это они.
Пшиманский поднялся с кучи хвороста, ударил себя прутиком по голенищу и сказал:
— Зажигайте!
Костры ушли в небо острыми языками белого пламени. Степан Богданов почувствовал, как внутри у него все затряслось: сейчас он погрузит эту акулу с маленькими крылышками и полетит со своими ребятами домой, а потом поедет к старику — хоть бы на день, а после вернется на фронт и будет говорить по-русски, и не будет шептать про себя: «За Родину!» — а будет кричать это во всю силу своих легких, и не будет красться по ночным улицам, как вор, и не будет говорить с ребятами, то и дело оглядываясь по сторонам, и снова научится смеяться, и снова сможет мечтать о том, что будет, и не есть себя поедом за то, что было.
К Пшиманскому, нелепо размахивая руками, поднесся Юрек из разведки на взмыленном мерине без седла. Лицо его плясало. Сначала Богданов подумал, что это так играет на его лице пламя костров. Но потом он увидел, как трясутся острые колени парня, упершиеся в ребристые бока коня, и понял: что-то случилось.
— Слышите?! — шепотом выхрипел Юрек. — По шоссе танковая колонна идет. А два танка остановились.
Богданов услыхал глухое урчание: шоссе проходило в трех километрах отсюда, по укатанному проселку — полчаса ходу, танкам — десять минут от силы.
Пшиманский замахал руками:
— Туши костры!
Но в это время над головой с ревом пронесся самолет — он шел на посадку.
— Нельзя! Нельзя же! — крикнул Богданов. — Они влепятся в землю!
— Туши костры! — снова крикнул Пшиманский, но уже тише. — Туши!
Но костры потушить не успели: откуда-то из темноты, протыкая ночь зеленым рылом, к кострам выруливал «дуглас». Отворился люк, и на землю спрыгнул высоченный парень в комбинезоне.
— Привет, братцы, — сказал он в темноту, — еле плюхнулись…
— Тише… — сказал Пшиманский, хотя летчика едва было слышно из-за работающих моторов. — Тише. Немцы.
Разобранную ракету грузили в каком-то странном оцепенении, и все боялись прислушиваться, потому что самое страшное было бы сейчас услыхать рев танков и увидеть их здесь, на этой узенькой размытой дождем посадочной площадке.
— Сколько отсюда? — спросил Богданова летчик.
— Километра три.
— Облава, что ль?
— Сами не знаем.
— Осторожней заносите, люк разорвет, братцы, — сказал летчик и что-то объяснил жестами тем пилотам, что прижались лицами к стеклу кабины.
— Сколько вас? — спросил Степан.
— Шестеро. Ты — Богданов?
— Да.
— Сколько с тобой людей из краковской группы?
— Четверо.
— Это ничего. Я думал, больше — тогда не уместились бы.
Фау затолкали в фюзеляж, укрепили там проволокой, и летчик сказал:
— Ну, быстро, братцы. Прощайтесь — и айда.
Но прощаться никто ни с кем не успел. Из лощины высветили фары: это шли танки, а за ними — солдаты. Богданов поглядел на Пшиманского. Тот сказал:
— Запомни: Маршалковская, девять, квартира восемь. Маму зовут пани Мария. — И, передвинув автомат на грудь, добавил: — Лети.
А сам, пригнувшись, побежал вместе с остальными партизанами навстречу все нараставшему реву танковых моторов.
Самолет развернулся и, стеклянно взревев моторами, начал разбег, поднимая черные комья мокрой грязи. Но чем дальше и натужней он разбегался, чем отчаянней все звенело и дзинькало в фюзеляже, тем очевиднее становилось и пилотам, замершим в кабине, и Богданову, уцепившемуся за металлическую лавку, и его ребятам, которые катались по полу, что самолет не может оторваться — он шел в гору, колеса вязли в грязи, сил для взлета не было. Оставалось только одно — сбавить обороты, развернуть машину и пытаться взлететь в обратную сторону — под гору.
Но именно туда, под гору, шли танки.
Летчики развернули самолет, но он с места не двигался, потому что засело левое колесо, а моторы ревели обидчиво и зло, и все вокруг звенело отчаянием; пробежал летчик, распахнул люк, поглядел на колеса, выругался свирепым матом и, грохоча сапогами, вернулся в кабину.
Степан поднялся, пошел следом за ним и, распахнув дверь, спросил:
— Противотанковые есть?
Один из пилотов обернулся, оглядел его внимательно и ответил:
— Три штуки. В ящике. Вот здесь.
Степан взял длинные гранаты, вернулся к своим людям и сказал:
— Откапывайте их, что ли… Я постараюсь тех придержать.
Он выскочил на мокрую, холодную землю и, виляя, побежал навстречу реву танковых моторов. Он бежал и кричал в темноту, пронизанную выстрелами:
— Давай назад, товарищи! К самолету! Толкнуть надо! Колеса откопать! Колеса!
Он все время кричал это слово, как заклинание, он кричал это тем, кто лежал в траве за пулеметом, тем, кто перебегал от дерева к дереву, и люди поворачивали назад, к самолету, а он бежал навстречу все приближающемуся реву моторов, он видел черные силуэты, которые, переваливаясь на ямах, упрямо перли к посадочной полосе. Богданов опустился на колени и пополз навстречу танкам. Он очень боялся, что какая-нибудь шальная пуля возьмет его сейчас, пока он с гранатами, и тогда танки вылезут на посадочную полосу, и все будет кончено. Поэтому он полз, прижавшись к земле, а потом поднялся и швырнул гранату под танк. Рвануло, высверкнуло тугим черно-красным пламенем. Фонарики заметались, трескотня автоматов сделалась острой и беспрерывной. Второй танк продолжал ползти вперед. Степан оглянулся, но в темноте самолет ему не был виден, и он не знал, что самолет уже начал разбегаться, и он не слышал натужного рева моторов, потому что прямо перед ним был танк, и вот еще минута, и он вылезет на полосу. Степан швырнул вторую гранату, но танк продолжал ползти вперед. Тогда Богданов закричал что-то жалобное, отчаянное и, прижав к себе длинное тело гранаты, ринулся наперерез к танку. И в самый последний миг он услышал за спиной вызвизг моторов и понял, что самолет оторвался от земли, хотел отшвырнуть от себя гранату, но поскользнулся, упал, сжался, ощутил острый запах керосина, почувствовал рядом, близко, в метре, горячее тепло металла, а потом что-то громадное сделалось белым, легким, большим, маленьким, красным, огненным. И — все.
Летчик вошел в кабину к своим товарищам и, сняв шлем, сказал:
— Нога у нас сломалась. Будем на брюхо садиться, передай во Львов. Как бы только эта штуковина не взорвалась. Дома взрываться обидно…
Центр.
В кругах, близких к Шелленбергу, высказывается убеждение, что Красная Армия не в состоянии нанести удар по немецким позициям возле Кракова до середины марта, когда с дорог сойдет снег. Разговоры такого рода идут в связи с возможными наступательными операциями немцев на Западе. Где их предполагают осуществить и какими силами — выяснить не удалось; все окружено особой секретностью. Как сын?
Юстас.
Юстасу.
Кто из высших военных планирует операцию на Западе?
Центр.
Центр.
Один раз упоминалась фамилия фон Рунштедта, однако подтверждений не имею. В последнее время рейхсфюрер часто бывает у Гитлера в Баварии. Несколько раз Гиммлер проводил совещания с министром вооружений Шпеером по поводу увеличения выпуска реактивных «мессершмиттов» и танков. Шелленберг встречался с представителями ведущих концернов «И. Г. Фарбениндустри» и «Крупп», выясняя, какую помощь им надо оказать стратегическими материалами через Швецию, чтобы убыстрить выпуск необходимого наступательного оружия. Прошу сообщить, как сын?
Юстас.
Юстасу.
Выясните, какими видами наступательного оружия (количество, типы) интересуется Гиммлер. Какие виды стратегических материалов интересуют Шпеера в первую очередь? При получении связи передайте все имеющиеся в вашем распоряжении материалы о преступной деятельности СС и связанных с ними концернов. Нас интересует все о преступлениях против человечества, ибо на освобожденных территориях гитлеровцы уничтожают архивы и свидетелей.
Центр.
44. НАИВНОСТЬ ОТЧАЯНИЯ
Диктатор считает себя, как правило, единственным прозорливцем, в то время как он, пожалуй, самый слепой человек, особенно в момент ослабления режима его власти. Демократия предусматривает честность в оценке обстановки, режим личной диктатуры не предусматривает ничего, кроме пророчеств диктатора, и подчинает объективный характер происходящего его субъективным умозаключениям.
Осенью 1944 года гитлеровская диктатура была зажата с двух сторон железными тисками союзников. Катастрофа третьего рейха представлялась всем объективным наблюдателям неизбежной. Гитлер, наоборот, считал, что осень и зима сорок четвертого года положат начало новой эры — грядет неминуемая победа над сталинским большевизмом и американской плутократией.
Когда в ставке Гитлера собрались Гудериан, Кейтель, Йодль, фон Рундштедт, Модель и Гиммлер, дежурный офицер связи передавал сообщение с Западного фронта: союзные войска генерала Ходжеса, прорвав немецкую оборону, вошли на окраины Аахена.
Гитлер быстро ходил по огромному своему кабинету, потом, зябко потирая руки, замер над оперативной картой и вдруг, неожиданно для всех, рассмеялся.
Гитлер. Ну что же, господа. Видимо, парадоксальность только тогда оказывается гнилым интеллигентство-ванием, если в подоплеке нет цели, заранее выверенной, увиденной и непререкаемо устремленной. Парадокс, который вы сейчас услышите, несет в себе заряд того оптимизма, который неизбежно будет сопутствовать нам в предстоящие месяцы победоносных сражений. В тот час, когда американцы и англичане вторглись в немецкий Аахен, они сами обрекли себя на окончательное поражение. Именно в этот день — я прошу, всех запомнить день двенадцатого октября — я хочу познакомить вас с планом победы. Я ждал этого дня, я ждал, когда последний немецкий солдат уйдет с вражеской территории, я ждал, когда соединятся фронт и тыл. Этот день пришел. Только теперь, не опасаясь утечки информации через французов, бельгийцев, голландцев и прочей расово неполноценной швали, только теперь, когда каждое дерево — наш союзник, а каждый дом — это бастион, мы можем ударить по западным, разложившимся демократиям всей мощью, на которую способна Германия.
Я прошу вас вспомнить, где и когда пала Франция в сороковом году? Не называйте мне дату падения Парижа — это наивно. Я утверждаю, что Франция пала в тот день и час, когда мы пошли через Арденны, когда мы оставили французские крепости линии Мажино по обеим сторонам нашего мощного прорыва беспомощными средневековыми страшилищами, опасными только для детей с горячечным воображением.
И сейчас, когда нас отделяют четыре года от той победы, мы повторим арденнский вариант. Здесь, в арденнских лесах, мы разрежем англо-американские соединения, мы разорвем их и уничтожим поодиночке.
Фон Рундштедт. Мой фюрер, вы думаете предложить наступление на Аахен, с тем чтобы восстановить линию Зигфрида и, таким образом, воссоздать западный вал?
Гитлер. Я призываю вас смотреть вперед, я призываю вас видеть победу! Аахен? Мне совестно вас слушать! Антверпен! Да, да! Антверпен! Главная база американцев и англичан, порт, овладев которым мы перережем их коммуникации. Мы отрезаем четыре армии севернее Арденн и громим их в котле! Мой прошлогодний призыв: превратить каждый город, каждую деревню, каждый дом на востоке в крепость, хотя и вызывал молчаливую пассивность у некоторых военных, тем не менее оправдал себя, и оправдал блестяще! Восточный фронт сейчас стабилен. У нас есть пауза: пока большевики готовят свое зимнее наступление, мы громим западных союзников. И они бегут! И тогда я им предлагаю условия мира, а не они мне, как кричат их безмозглые, слепые пропагандисты! Разбитой армии надо по крайней мере три-четыре месяца, чтобы прийти в себя. Помножьте это время на зиму. И приплюсуйте сюда нравы западных армий: там солдат не будет сражаться до тех пор, пока его не застрахуют на десять тысяч долларов, пока ему не построят теплого сортира и не привезут бразильского кофе. Их героизм — это застрахованный героизм! Героизм немецкого солдата — это героизм идеи, веры и устремленности. Итак, Модель, вы назначены руководителем контрнаступления в Арденнах как командующий группой армий «Б». А вы, Рундштедт, как мой противник в этом вопросе, назначаетесь ответственным за успех этого наступления и принимаете на себя общее оперативное руководство. Я даю вам тридцать шесть отборных дивизий, с ними вы принесете победу нации. Всю подготовку следует провести, дождавшись нелетной погоды, когда будет парализована вражеская авиация. Все командиры, которые по роду службы узнают о плане наступления, обязаны дать специальную подписку о хранении государственной тайны. Письменную связь с командирами поддерживать только через курьеров. Войска должны быть подтянуты к исходным местам только в ночь перед атакой. Все, господа. Прошу представить мне детально разработанный план в ближайшее же время.
И, ни на кого не глядя, Гитлер вышел из громадного кабинета. Фон Рундштедт посмотрел на Гиммлера. Тот стоял, склонившись над картой, простуженно покашливал, потирал свои маленькие красивые руки, словно озяб.
Гиммлер. Разгромив Запад, мы получим паузу, пригодную для того, чтобы обрушить сокрушительный удар на Восток. И если разгромить Восток — это значит отбросить большевиков к их границам, то разгромить Запад — это значит поставить их на колени.
Рундштедт. У англичан в гимне зафиксирована иная точка зрения: «Нет, нет, никогда англичанин не будет рабом…»
Гиммлер. Гимны пишутся, чтобы их пели. Сражения проводятся с иными целями, одной из которых я могу назвать смену слов в гимнах.
45. ЗАЯЧЬЯ ОХОТА
Вихрь и Коля сидели на опушке леса. Рассвет был осторожный; черные, уже без листьев, сучья осин разрезали красную полоску над лесом. Купол неба был серым, еще ночным. В лесу было тихо — так бывает после первых заморозков, когда земля уже схвачена ночными морозами, а снега еще нет.
Вихрь потрогал замерзшими пальцами серебряную инкрустацию на своем ружье и сказал:
— Твое хоть и без этой мишуры, а все равно лучше.
— Почему?
— Двенадцатый калибр. Я шестнадцатый не люблю. Дамское это оружие. Несолидно.
— А мне мама в день шестнадцатилетия подарила как раз шестнадцатый. Я к нему привык. Это тоже неплохая мешалка.
— Что? — не понял Вихрь.
— Так мамины друзья всегда называли ружье — мешалка.
— Смешно.
— Смешно.
— Прикладистое?
— Ничего.
— Ну-ка, дай я попробую.
Вихрь взял Колино ружье, несколько раз споро и легко взбросил его к плечу.
— Ложе для меня коротковато.
— У тебя руки загребущие… Как Аня?
— Плохо.
— Отходит?
— Пока — нет.
— Бородин молчит?
— Почему молчит? Ждет.
— У меня для Крауха все готово.
— Ты говорил.
— И квартиру я для него присмотрел.
— Понимаешь, он ведь эсэсовский офицер, — задумчиво сказал Вихрь. — Я боюсь, когда эсэсовцы, ей-богу.
— Мне объяснял… Штирлиц, — запнувшись, сказал Коля. — Если просто кадровый эсэсовец или военный — надо бояться. А если у него есть хорошая гражданская специальность — тогда остается шанс. Понимаешь, просто СС — это партийная охрана, они ничего не могут, кроме как охранять, стрелять и жечь. Туда брали лбов-фанатиков. Их у Гиммлера в двадцать девятом году было всего две с половиной сотни. А во время войны они стали призывать в СС инженеров, учителей, рабочих. Эти умеют работать, а не только убивать. Этих еще можно прижать. Эти еще хоть как-то умеют думать.
— Не он? — спросил Вихрь, кивнув головой на человека в шляпе с пером. Он поднимался по тропинке от дороги, заряжая на ходу ружье.
— Он, — ответил Коля. — Не узнал?
— Теперь узнал.
Берг подошел к ним:
— Вы назначили встречу здесь. Вот я пришел. Здравствуйте.
— Здравствуйте.
Вихрь поднялся и протянул Бергу руку. Они поздоровались. Потом Берг поздоровался с Колей. Несколько мгновений они разглядывали друг друга, потом Берг спросил:
— Что, сдать оружие?
— Это успеется, — ответил Вихрь, — пошли пока в лес — по зайцу.
— Еще не чернотроп, — усмехнулся Берг, — охоты не будет. Тем более без собаки. Но если вы настаиваете…
И они пошли в лес: Вихрь и Берг впереди, а замыкающим — Коля. Он постоял минут пять на опушке, спрятавшись за дерево: нет ли слежки. Зеленя на поле, чуть припорошенные снегом, казались голубыми. Небо стало теперь прозрачным; за оставшейся после ночи серой хмарью угадывалась осторожная осенняя синева.
«Если он пришел со своими, тогда они должны сейчас выйти, — думал Коля, посматривая на часы. — Они должны понимать, что в лесу нас упустят. Разве только надеются на собак. Собаки — ерунда. Мы потому и назначили ему это место, что здесь ручьи, а дальше — массив на сотни километров, окружить нас они не смогут. Видимо, он один».
Коля быстро пошел следом за Вихрем — они условились, куда тот двинет: по распадку, через березовую рощу, а там начинаются холмы, поросшие желтой длинной травой, прибитой сейчас ночными холодами.
— Я несколько раз охотился в России на зайцев. У нас эта охота богаче, — сказал Берг.
— Вы здорово говорите по-русски, — заметил Вихрь.
— Я окончил Московский университет, так что неудивительно. Можете передать в Центр, что я работал с тридцать четвертого по тридцать восьмой год в Москве, в военном атташате, под фамилией Шмальшлегер. Запишите, это трудная фамилия.
— Ничего. Запомню.
— Повторите, пожалуйста.
— Шмальшлегер.
— У вас завидная память. Обычно русские плохо произносят немецкие имена.
Они остановились, услыхав позади треск сучьев: из чащи выходил Коля.
Берг спросил:
— Смотрели, не привел ли я за собой хвост?
— Нет, — ответил Коля, — я отстал помочиться.
— Не надо обманывать агента, — сказал Берг, вздохнув. — В задуманной вами игре вы можете готовить для него любую роль, но никогда не обманывайте. Я надеюсь, что глупых агентов вы не вербуете, а умный сразу поймет и станет относиться к вам с подозрением. Разведка — это такая игра, в которой бывший враг может оказаться первым другом.
— Вам заяц для алиби нужен? — спросил Вихрь.
— Заяц — довольно относительное алиби, потому что мертв, а если б даже был жив — все равно смолчит.
Вихрь полез за сигаретами:
— Значит, можно, как говорится, брать быка за рога?
— Но сначала давайте оговорим условия для быка, — сказал Берг, и Коля заметил, как побледнело его лицо и лоб собрался морщинами.
— Выдвигайте, — сказал Вихрь, — мы готовы вас слушать.
— Как вы сами понимаете, денег мне не нужно. Нужно одно: веская гарантия, что после окончания войны я останусь жить в своем доме. Больше мне ничего не надо.
— Значит, вас интересует только сохранение вашей жизни?
— Можно подумать, что ваша жизнь вас не интересует.
— Это сложный вопрос, — ответил Вихрь.
— Как бы сложен этот вопрос ни был, не стоит себя обманывать.
— Мы гарантируем вам жизнь и свободу, — пообещал Вихрь.
— Стоп. Это не разговор. Я не знаю, кто вы, мне неизвестны ваши полномочия, я не знаю, к кому мне апеллировать в тот час, когда большевики примут нашу капитуляцию.
— Геббельс обещает нас расколотить уже в этом году, — заметил Вихрь.
— Разговор принимает несерьезный характер. Идеология не имеет никакого отношения к разведке.
— Ну, это как посмотреть, — сказал Коля.
— Ладно, — сказал Вихрь и медленно пошел дальше, через тихую, торжественную, черно-белую березовую рощу. — Ладно. Видимо, вы по-своему правы. Нужно, чтобы вы передали нам план оборонительных сооружений одерско-вислинского плацдарма. Если вы не можете достать этот план, помогите нам получить кого-нибудь из крупных эсэсовских офицеров, которые занимаются инженерным делом.
— Крауха, например, — сказал Коля, срывая длинную желтую травинку. — Говорят, он много ездит по линии обороны.
Вихрь и Коля хорошо разыграли этот разговор. Они ждали реакции Берга.
Услышав фамилию Краух, Берг сразу же вспомнил, что этот эсэсовский полковник выполняет задания ставки, к возведению оборонительного вала не относящиеся. Каковы именно задачи Крауха в деталях, Берг не знал. Он знал только одно: у эсэсовского инженер-полковника специальные полномочия от ставки фюрера.
Следовательно, продолжал Берг анализировать слова русских, либо они назвали случайно известную им фамилию, либо они ходят вокруг чего-то неизвестного им, но для них крайне важного.
«Пусть они назовут эту фамилию еще раз, — решил Берг, — я пока промолчу, хотя, очевидно, это зондажный вопрос».
— Ну, бог с ним, с Краухом. Нас интересует оборонительный вал, — заключил Коля.
— Оборонительным валом интересуется, как правило, тактическая разведка, не так ли?
— Да как сказать, — ответил Вихрь.
— Ясно. Вы по профессии не разведчики. Вернее, вы стали разведчиками только на войне. Вам раньше не приходилось работать с иностранными разведчиками. Знаете, это как если простой смертный попал в мир кино: ему кажется, что модная кинозвезда — не человек, и живет она, ему кажется, в ином мире. В этом главный просчет. Модная кинозвезда по ночам плачет, потому что ей изменил любимый мужчина, или потому, что не может забеременеть, или потому, что на нее накричал во время съемок продюсер и прогнал прочь, как нашкодившую кошку, — так тоже бывает. Мне приходилось работать с актрисами, я подкладывал их французам в тридцать восьмом году. Словом, вам нужно еще одно доказательство моей преданности. Этим доказательством может служить план оборонительного вала. Потом вы, после соответствующей проверки, свяжете меня с Центром. Пока, видимо, вам не верят.
Коля заметил, как Вихрь чуть ухмыльнулся.
— Знаете, полковник, — сказал Вихрь, — я сейчас испытываю такую радость, какой давно не испытывал. Вы все верно говорили. Я б так ни за что не смог раскусить своего собеседника. Вы на сто голов выше меня в разведке. Какое, к черту, на сто! На тысячу! Но вы ко мне пришли. Вы!
Он достал из заплечного мешка бутылку самогону, открыл пробку, выпил несколько глотков, потом протянул Бергу и предложил:
— Валяйте.
Берг выпил чуть больше Вихря и передал бутылку Коле. Тот допил ее и зашвырнул в чащобу.
— Я не обиделся на вас, — сказал Берг, закуривая, — потому что вы не оскорбили меня, вы говорили правду. Всего лишь. А на правду обижаются дураки или маньяки. Ладно. Давайте перейдем к нашим делам. Видимо, самым надежным будет такой план: я внедряю вашего человека к себе — в агентуру армейской разведки группы армий «А». Более того, я готов взять этого вашего человека в свой автомобиль и провезти его по всему оборонительному валу. Цель поездки я продумаю в деталях, чтобы не вызывать ненужного интереса у гестапо. Такое решение проблемы вас устроит?
Вихрь подумал: «Бородин молчит. Никаких указаний из Центра до сих пор не поступило. А промедление смерти подобно. Трус в карты не играет. Какие карты? При чем здесь карты? Это пословица. Народная пословица. А карты — пережиток прошлого, не так ли? Кроме, конечно, «дурака» и «пьяницы». В эти карточные игры можно играть больным детям. Чертовина какая в голову лезет».
— Это интересное предложение, — медленно ответил Вихрь. — Перспективное предложение. У вас есть с собой карточки матери или детей?
— Мы ведь сентиментальная нация… Конечно, есть.
— Покажите.
Берг достал из кармана пачку писем, перевязанных синей тесемочкой.
— Дайте все, — попросил Вихрь.
Берг сказал:
— Я понимаю. Возьмите одно — с обратным адресом. И одно фото. Там мать и дети. Остальные все-таки оставьте мне.
Вихрь взял письмо с обратным адресом и штемпелем на марке, отобрал фотографию, спрятал все это в карман и сказал:
— Вот так. А на внедрение к вам пойдет мой друг.
Берг посмотрел на Колю, кивнул, потом перевел глаза на Вихря, и — толчком — из точных, цепких глубин его памяти всплыл портрет того русского разведчика, которого ждал Муха и который потом был взят гестапо и сбежал от них — с рынка.
Полковник вдруг как-то устало и отрешенно подумал:
«Если я отдам его шефу гестапо, меня сделают героем нации. Во всяком случае, за такой подарок я получу отпуск».
— Назначайте место новой встречи, — предложил Берг, и Коля почувствовал, как в голосе полковника что-то сломалось.
Вихрь посмотрел на Колю, потом на Берга и сказал:
— Этот парень, — и он положил руку на Колино плечо, — мне как брат. Вроде как вам — сыновья. Понятно?
— Понятно.
— Если с его головы упадет хоть один волос, я обещаю вам много несчастий.
— Ладно, — сказал Берг все тем же усталым, надломленным голосом, — не стоит нам друг друга пугать, и так довольно страшно жить в этом мире. Завтра утром я жду. Надеюсь, мой адрес вам говорить не стоит?
— Не стоит, — сказал Коля.
— До свидания, — сказал Берг.
— До встречи.
— Мне держать налево? — спросил Берг, отойдя шагов десять. — Я плохо ориентируюсь на местности.
— Да. Все время по распадку. Выйдете на проселок, и — направо. Он выведет вас к шоссе.
— Спасибо.
Берг пошел было дальше, но его снова остановил Коля.
— Послушайте, полковник, — сказал он, — постарайтесь все же узнать, чем занимается Краух, а?
Берг покачал головой:
— Нет. Этим будете заниматься вы. Сами.
Он уходил сгорбившись и ноги переставлял трудно, как старик.
«Если я предупрежу старшего, чтобы он не появлялся в городе, он, видимо, испугается, — размышлял Берг, — он боится меня и ничему не верит. Конечно, это не тот класс разведчика, который нужен мне. Он не понимает, что я значу для их командования. С другой стороны, в гестапо распечатан его портрет, и, если его схватят, как он ни силен, они могут его замучить до такой степени, что он скажет обо мне. Хотя нет. Этот будет молчать».
Берг обернулся: русские все еще стояли на том же месте.
«Нет, рано, — решил он. — Его побег из гестапо — мой козырь. Еще рано. Это надо суметь продать. А торгуют умные люди с глазу на глаз».
46. ПОПЫТКА-ПЫТКА
Седой и Юзеф Тромпчинский ждали Вихря в машине на выезде из города. Вихрь опаздывал; Седой, волнуясь, то и дело поглядывал на часы. Тромпчинский неторопливо раскуривал сигарету — этот человек сплавил в себе юмор и спокойствие.
«Мы все — в паутине случаев, — говаривал он. — И потом, мы — вне логики, как, собственно, и вся эта Солнечная система. Где логика? Природа дарит нам жизнь, впускает нас сюда, в мир, но какого же черта она с каждой секундой отбирает у человека то, что ему сама же подарила? Первый вопль новорожденного — это крик о грядущей смерти. Бояться смерти — наивно, потому что ее нет. Мы живем в самопридуманном мире. Нас в детстве пугали загробьем, а пугать надо только одним — предгробьем, то есть жизнью».
Вихрь вынырнул из переулка: он был в очках, в модном реглане — ни дать ни взять служащий бурго-мистрата; в толстом портфеле две гранаты и парабеллум под деловыми бумагами, уголки губ опущены книзу, левая бровь чуть изломлена.
— Простите, — сказал он, садясь в машину, — в центре была облава, я отсиживался. Едем, есть разговор.
Тромпчинский нажал на акселератор, и машина медленно тронулась с места.
— Вот какая штука, — начал Вихрь, — у меня в кармане два адреса. По этим адресам живут фрицы, которые будут взрывать Краков.
— Прелюдия довольно симпатична, — сказал Тромпчинский. — Когда им надо проламывать черепа: сегодня вечером или ночью?
— Это кустарщина, — ответил Вихрь. — Тут завязывается интересная комбинация. Это, конечно, параллельная комбинация, на нее ставку делать нельзя, но, чтобы спасти город, мы должны использовать все пути. Дело заключается в том, что один из этих двух эсэсманов — сын убитого в Гамбурге коммуниста и расстрелянной в лагере коммунистки. Но он об этом не знает. Сказать ему об этом может только один человек — Трауб.
Трауб спросил Тромпчинского:
— Послушайте, Юзеф, вы понимаете, с чем вы ко мне пришли?
— Понимаю.
— Включите радио, я боюсь микрофонов, хотя знаю, что их здесь нет — телефон выключен, а все отдушины я сегодня утром облазил с палкой.
По радио передавали отрывки из оперетт. Видимо, это было запись из Вены — голоса поразительные, оркестр звучал единым целым, а хор словно выталкивал солистов, а потом мягко и слаженно поглощал их.
— Откуда к вам поступили эти данные?
— Это несерьезно, пан Трауб. Лучше сразу вызывайте гестапо.
— Я обещал помогать вам — в безопасных для меня пределах… Объясните мне, чем я заслужил это ваше проклятое, полное, ненужное мне доверие?
— Вы писатель.
— А мало ли писателей в Германии?! Какого черта вы пришли ко мне?!
— В Германии мало писателей. Один из них — это вы. Те, остальные — не писатели.
— Милый Тромп, — улыбнулся Трауб, — я не смогу выполнить вашей просьбы. Я был полезен вам в той мере, в которой ощущал свою возможность помогать вам. Дальше начинается полицейский роман, а я писал психологические драмы, настоянные на сексуальных проблемах. А с тех пор как фюрер решил, что сексуальные проблемы разлагают будущее нации — ее молодежь, я стал писать нудные газетные корреспонденции.
— Будет очень плохо, если вы откажетесь. Краков превратится в пепел. Один раз вы помогли нам, крепко помогли, неужели откажетесь во второй?
— Надеюсь, вы не станете меня пугать тем, что однажды я вам уже помогал?
— Если б я был уверен, что поможет, — пугал бы.
— Слава богу, не врете. Пугать можно кого угодно, но нельзя пугать художника, потому что он сам столько раз пугал себя своим воображением, что больше ему, вообще-то говоря, бояться нечего. Писатель как женщина: захочет отдаться — вы ее получите, не захочет — ничего у вас не выйдет.
— Писатель, я не верю, что вы нам откажете.
— Давайте рассуждать логично: ну приду я к этому сыну. Что я ему скажу? Меня тут знает каждая собака, он позвонит в гестапо, и завтра же я окажусь у них.
— Зачем так пессимистично? Не надо. Мы предлагаем иной план…
— Кто это «мы»?
— Мы — это мы.
— Ну, давайте. Послушаем. Для записных книжек. — План прост. Вы, я помню, говорили отцу, что работали в Гамбурге во время восстания двадцать второго года.
— Да. Только я тогда выступал против папаши этого самого эсэсовца. Я был за Веймарскую республику. Я очень не любил коммунистов.
— Не отвлекайтесь в прошлое. Давайте о будущем. Вы приходите к этому пареньку, а лучше ненароком встречаете его у подъезда дома — мы вам в этом поможем — и останавливаете его, задав ему только один вопрос: не Либо ли он. Вы, конечно, будете в форме. От того, что он вам ответит, будет зависеть все дальнейшее.
— Он мне ответит, чтобы я убирался к чертовой матери.
— Вы майор, а он лейтенант. Он никогда так не ответит.
— Ну, допустим. Дальше?
— Следовательно, он не пошлет вас к черту. Он спросит, кто вы. Вы представитесь ему. Вас, фронтового корреспондента, героя Испании, Абиссинии и Египта, знают в армии. Он начнет говорить с вами. Обязательно начнет говорить. А вы его спросите только об одном — не помнит ли он своего, безмерно на него похожего отца, одного из руководителей гамбургского восстания, кандидата в члены ЦК Компартии Германии. Вы сами увидите его реакцию на ваши слова. Все дальнейшее мы берем на себя. Понимаете? Оправдание для вас — хотели дать в газету материал о том, как сын врага стал героем войны, — мальчик ходит с орденами, ему это импонирует. Вы не обязаны знать их тайн, вы — пишущий человек, вы не вызовете никаких подозрений. Пусть корреспонденцию снимает военная цензура.
(Все дальнейшее у Вихря было продумано до мелочей: за домом Либо устанавливается слежка. Телефона у него в квартире нет — он живет в пяти минутах от казармы. Куда он пойдет и пойдет ли вообще после разговора с Траубом — это первое, что обязано дать наблюдение. Если Либо целый день никуда не выйдет, тогда следует приступать ко второй стадии операции, которую Вихрь брал на себя. Если же он пойдет в гестапо — Тромпчинский предупреждает Трауба. А сам меняет квартиру. Если он пойдет к себе в штаб, тогда вопрос останется открытым. Тогда потребуется еще одна встреча писателя с Либо, тогда потребуется, чтобы Трауб срочно написал о нем восторженный материал и постарался напечатать в своей газете.)
— По-моему, из этой затеи ничего не выйдет, — сказал Трауб. — Хотя то, что вы мне рассказали, довольно занятно. На будущее это может пригодиться. Ну-ка, еще раз — с карандашиком — изложите ваш план. И подробней остановитесь на том, что мне может грозить. Последнее не от страха, а из любопытства и разумной предосторожности — надо спрятать дневники.
— Ну, это рано…
— Я не знаю, что такое рано, я знаю, что такое поздно. И потом, в вашей программе слабый пункт: с этим самым папашей Либо. Какой он? Его фото у вас есть? Я ведь его не видал ни разу в жизни.
— Фото у нас нет.
— А вдруг они мне покажут с десяток фото и спросят: «Ну, какой из них папа Либо?» Что я отвечу?
— Вы убеждены, что у них остались эти фото?
— А почему не допустить такую возможность?
— Вообще-то, эта тема для раздумья.
— В том-то и дело.
— Здесь только одно «за» — они не успеют затребовать из картотеки гестапо эти карточки, если они даже есть.
— То есть?
— Прихлопнут. По всему — очень скоро наступит конец.
— Очень вы оптимистично говорите с немцем. Осторожней надо, сердце-то у меня немецкое и мозг — тоже.
— Чем скорее наступит конец теперешним вашим хозяевам, тем будет лучше для Германии.
— Это слова, Тромп, слова… Гнев против наших вождей обратится в глумление над нацией.
— Я думаю, вы не правы.
— Ладно, милый мой представитель низшей расы, давайте попробуем спасти Краков вместе. Хоть подыхать будет не совестно. Вы, кстати, никогда не видели тот циркуль, которым наши идиоты промеряют черепа у неполноценных народов?
— Видел.
— Где?
— Меня промеряли.
— Простите.
— Завтра я заеду за вами, да?
— Видимо, заезжать за мной не стоит. Давайте мне адрес, и я там поброжу.
— Бродить не надо. Либо — человек аккуратный, он возвращается из казармы вечером между семью и семью пятнадцатью.
— А как я его узнаю?
Тромпчинский достал из кармана фотографию и положил ее на стол.
— Вот, — сказал он, — запоминайте.
— Ладно, — сказал Трауб, — попробую.
— Спасибо, писатель.
— Э, бросьте. За это не благодарят. Я это делаю для себя. Не тешьте себя надеждой, что вы меня к этому подвели. К этому меня подвел фюрер, моя фантазия и деревянные циркули, которыми промеряют полноценность.
47. »ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО» ГОТОВИТ УДАР
Фюрер. С военной точки зрения решает то обстоятельство, что на Западе мы теперь переходим от бесплодных оборонительных действий к наступательным. Только наступление способно снова придать этой войне на Западе желательное нам направление. Оборона поставила бы нас за короткое время в безнадежное положение: все зависело бы лишь от того, в какой мере противнику удастся наращивать силу воздействия его прибывающей техники. Причем наступление потребует не так уж много жертв в живой силе, как это себе представляют. По крайней мере, в будущем их потребуется меньше, чем ныне. Мнение, будто бы наступление при любых обстоятельствах сопровождается большими потерями, чем оборона, не соответствует действительности. Именно в оборонительных боях мы всегда проливали больше всего крови, несли больше всего потерь. Наступательные же бои, в сущности, всегда были для нас сравнительно благоприятными, если сопоставить потери противника и наших войск, включая и пленных. И в нынешнем наступлении уже вырисовывается аналогичная картина. Когда я представляю себе, сколько дивизий противник бросил в Арденны, сколько он потерял одними только пленными (а это ведь то же, что и убитыми, это ведь потери безвозвратные), когда я добавляю к этому остальные потери его в живой силе, суммирую с потерями в технике и другом имуществе, когда я сравниваю все это с нашими потерями, то вывод становится несомненным: даже короткое наступление, проведенное нами на этих днях, обеспечило сразу же немедленную разрядку напряженной обстановки по всему фронту…Мобилизация сил для этого наступления и для последующих ударов потребовала величайшей смелости, а эта смелость, с другой стороны, связана с огромным риском. Поэтому, если вы услышите, что на южном участке Восточного фронта, в Венгрии, дела не очень хороши, то вам должно быть ясно: мы, разумеется, не можем быть одинаково сильны повсюду. Мы потеряли очень многих союзников. И вот, в связи с изменой наших милых соратников, нам, к сожалению, приходится постепенно отступать в пределы все более узкого кольца окружения. Но, несмотря на все это, оказалось возможным удержать в общем и целом фронт на Востоке. Мы остановим продвижение противника и на южном крыле. Мы встанем стеной на его пути. Нам удалось, несмотря ни на что, создать много новых дивизий, обеспечить их оружием, восстановить боеспособность старых дивизий, в том числе и пополнить их вооружение, привести в порядок танковые дивизии, скопить горючее. Удалось также, что очень важно, восстановить боеспособность авиации. Наши самолеты новых моделей уже поступают на вооружение, и авиация может наконец в дневное время атаковать тылы противника. И еще одно: нам удалось найти столько артиллерии, летательных аппаратов, танков, а также пехотных дивизий, что оказалось возможным восстановить равновесие сил на Западе. Это уже само по себе чудо. Оно потребовало непрерывных усилий, многомесячного труда и постоянной настойчивости даже в мелочах. Я еще далеко не удовлетворен. Каждый день обязательно выявляются какие-то недоделки и неполадки. Не далее как сегодня я получил очередное послание: необходимые фронту 210-мм минометы, за которыми я месяцами гоняюсь, как черт за грешной душой, видимо, еще не могут поступить в производство. Но я надеюсь, что мы их все же получим. Идет непрерывная борьба за вооружение и за людей, за технику и горючее и еще черт знает за что. Конечно, такое положение не может быть вечным. Наше наступление должно определенно привести к успеху… Навести порядок здесь, на Западе, наступательными действиями — такова наша абсолютная цель. Эту цель мы должны преследовать фанатически. Конечно, втайне кто-нибудь со мною, наверное, не согласен. Некоторые думают: да-да, все правильно, только выгорит ли это дело? Милостивые государи, в 1939 году тоже были такие настроения! Тогда мне заявляли и на бумаге, и в устной форме: этого делать нельзя, это невозможно. Еще и зимой 1940 года мне говорили: этого делать нельзя, почему бы нам не остаться на рубеже Западного вала; мы, мол, соорудили Западный вал, так пусть же противник на нас нападает, а мы потом, может быть, нанесем ответный удар; пусть он только сначала нападет сам, а затем уж, возможно, будем наступать и мы; у нас, мол, отличный оборонительный рубеж, так зачем же рисковать! Теперь скажите, что бы с нами было, если бы мы тогда не нанесли удар? Вот и сейчас положение аналогичное. Соотношение сил ныне не хуже, чем в 1939 или 1940 году. Наоборот: если нам удастся двумя ударами уничтожить американские группировки, то это будет означать изменение соотношения сил однозначно и абсолютно в нашу пользу. При этом я учитываю, что немецкий солдат знает, за что борется…
В дни нашего наступления с облегчением вздохнул весь немецкий народ. Нельзя допустить того, чтобы вздох облегчения сменился новой летаргией, — впрочем, не летаргией, это неверно, скорее следует сказать унынием. Народ вздохнул. Уже сама мысль о том, что мы можем вести наступление, вдохнула в народ счастливое сознание силы. У нас еще будут успехи, наше теперешнее положение ничем не хуже положения русских в 1941–1942 годах, когда они на фронте большой протяженности начали медленно оттеснять назад наши перешедшие к обороне войска. Итак, когда мы продолжим наступление, когда выявятся первые крупные успехи, когда немецкий народ их увидит, то можете быть уверены, что народ принесет все жертвы, на которые вообще способен человек. Каждое наше воззвание будет доходить до самого сердца народа. Нация ни перед чем не остановится, будь то новый сбор шерстяного трикотажа или какое-то другое мероприятие, будь то призыв новых людей в армию или что-то еще. Молодежь с восторгом пойдет нам навстречу. Но и весь остальной немецкий народ будет реагировать на наши призывы в абсолютно положительном смысле…
Поэтому я хотел бы в заключение призвать вас к тому, чтобы вы со всей страстностью, всей энергией, всей своей силой взялись за предстоящую операцию. Она — одна из тех, которые имеют решающее значение. Ее успех автоматически приведет к успеху следующего удара. А успех следующей, второй операции автоматически повлечет за собой ликвидацию всякой угрозы левому флангу нашей наступающей группировки. В случае успеха мы, по существу, полностью взломаем на Западе добрую половину фронта противника. А потом посмотрим. Я думаю, что противник не сможет оказать длительного сопротивления тем 45 немецким дивизиям, которые к тому времени смогут принять участие в наступлении. Тогда мы еще поспорим с судьбой.
За то, что нам удалось назначить начало операции на новогоднюю ночь, я особенно благодарен всем штабам, участвовавшим в ее разработке. Они проделали огромную подготовительную работу и взяли на себя великую смелость нести за нее ответственность. В том, что это оказалось возможным, я вижу хорошее предзнаменование. Новогодняя ночь в истории Германии всегда сулила немцам военные успехи. А для противника новогодняя ночь — неприятный сюрприз, потому что он празднует не рождество, а Новый год. Для нас же не может быть лучшего начала нового года, чем нанести еще один удар. И если в первый день нового года в Германию придет известие, что началось новое немецкое наступление на другом участке фронта и что это наступление обязательно поведет к успеху, то немецкий народ заключит, что все неудачи кончились вместе с прошедшим годом, а новый год начался счастливо.
Фон Рундштедт. Мой фюрер! От имени собравшихся здесь командиров я хотел бы выразить твердую уверенность, что и командование и войска сделают все — решительно все! — чтобы обеспечить успех этого наступления.
48. ЭХ, АНЮТА, АНЮТА
В охотничьем домике, скрытом от случайных глаз молодым, частым ельником, в лесу под кручей жила Аня. Через день к ней приходил Вихрь, приносил еду, и, пока она варила картошку и свеклу на печке, сделанной из железной бочки, он сидел возле маленького оконца над материалами, переданными ему Колей, Седым и Тромпчинским. Материалы были серьезные, подчас разноречивые: приток информации к Коле, Седому и Тромпчинскому шел от десятков разных людей, поэтому Вихрю приходилось сначала рассортировывать все данные по степени возможной достоверности. Прежде всего он откладывал в сторону документы из немецких штабов и кропотливо анализировал их, сопоставляя с другими материалами. Если он находил тому или иному факту подтверждение, а еще лучше — двойное, перекрестное подтверждение, тогда он переносил все это на лист бумаги и подчеркивал красным карандашом. Некоторые данные, не получившие перекрестного подтверждения, но представлявшиеся ему с точки зрения сегодняшней конъюнктуры важными и правдоподобными, он также переписывал, но отчеркивал это синим карандашом — все, как у Бородина, одна школа.
Ему приходилось обрабатывать за ночь целую кипу материалов: здесь были копии приказов из штабов; зарисованные людьми из разведки Седого вновь появившиеся эмблемы на солдатских формах, танках, автомашинах; надо было сверить с картами — где, когда появились новые части, где роют кабели, соотнести это с расположением укрепленных точек оборонительного вала, предположить, а потом либо опровергнуть, либо утвердить вариант возможных замыслов врага, все это ужать до самой возможной малости, чтобы не торчать долго в эфире, а после передать эти сведения Бородину.
А Бородин молчал, будто отрезало его после той радиограммы, в которой Аня рассказала о своем аресте, и о предложении Берга работать с нами, и про ту дезу, которую она передала в Центр перед самым побегом. Причем Бородин, затребовав все данные на Берга, приказал впредь на связь не выходить до его особого на то разрешения. Аня считала, что Бородин таким образом выразил ей свое политическое недоверие.
Аня варила картошку, слушала, как гудит пламя и булькает в котелке потемневшая вода, и неотрывно смотрела на Вихря, на его большую, взлохмаченную голову, и думала, что и он, Вихрь, тоже сторонится ее, не смотрит в глаза, головы от стола не поднимает. Разве он не чувствует, что ей очень надо сейчас, чтобы он был возле? Неужели они все такие дубокожие? Конечно, он понимает, как она относится к нему, этого слепой и глухой только понять не мог бы. Он сторонится ее, потому что не верит ей, он считает, что раз она побывала у немцев, то, значит, не может быть чистой. Не зря Вихрь ничего не рассказывает ей про Берга, не зря молчит Бородин, не зря тут ни разу не был Коля. Все это терзало ее, под глазами залегли коричневые круги, она почти не спала, а у Вихря сердце разрывало, когда он слышал сухой треск ее пальцев — раньше этого у Ани никогда не было.
— Картошка готова, — сказала Аня тихо, — я ее накрою и оставлю возле печки. Ладно?
— Спасибо, — ответил он, не оборачиваясь. — Сама поела?
— Да, — ответила девушка.
Она ушла за перегородку, разделась и легла на топчан, натянув до подбородка громадный овчинный тулуп.
«Пусть у меня жизнь заберут, только пусть верят, — горестно думала девушка. — Нет ничего страшней, если тебе не верят и ты никак не можешь доказать свою правоту. Нас учили, что обстоятельства подчиняются логике. Ничему они не подчиняются. Мы подчиняемся обстоятельствам, ходим под ними, зависим от них и ничего с ними поделать не можем».
Аня лежала, вслушиваясь в тишину. Она вся была так напряжена, что даже за мгновение перед тем, как Вихрь чиркнет спичкой, чувствовала это, ясно представляла себе, как он достает из коробки сигарету, как щупает пальцами стол (потому что глаза — в документах), как пальцы находят коробок, как он вытаскивает спичку, ставит коробок набок и ловко зажигает спичку — огонек поначалу белый, а потом с красно-черной копотью; она чувствовала, как долго он не подносит огонек к сигарете, и только когда пламя начинает жечь его чуть приплюснутые пальцы, быстро прикуривает и долго, медленными движениями, словно маятник, тушит огонек и бросает спичку в пепельницу, сделанную из гильзы противотанкового снаряда.
Вихрь поднялся из-за стола за полночь, на цыпочках подошел к загасшей печке, подбросил березняка, снял старый ватник с котелка и начал есть картошку со свеклой.
Ане нравилось наблюдать за тем, как кто ест. Некоторые ели, чтобы насытиться: быстро, рвуще, откусывая большие куски от ломтя хлеба, так, что на мякоти оставались следы длинных, жадных зубов. Другие наслаждались, много говорили за едой, подолгу разглядывали суп и закуску: грибы в большой тарелке, капусту в миске, огурчики в деревянном бочонке — в Сибири они особенно красивы на деревянном струганом столе; третьи ели просто так, для порядка: надо — вот и едят. Эти нравились Ане больше всего.
«А может, я все это сочиняю, — подумала Аня, — оттого, что Вихрь ест, как дышит. Он раз сказал, что жена, еще до того как ушла от него, однажды вместо супа поставила ему воду от вымытой посуды, а он ее все равно съел. Он смеялся, а мне плакать хотелось — как же она так с ним могла поступать, и почему он над этим смеется?»
Аня услыхала, как Вихрь укрыл кастрюлю с картошкой и придвинул ее к печке. Потом он отошел к узенькой железной кровати, стоявшей возле двери, и снял сапоги.
— Вихрь, — тихонько позвала Аня. — Вихрь…
Она не думала за мгновение перед этим, что окликнет его. Это в ней случилось помимо нее самой.
— Что?
— Ничего.
— Почему не спишь?
— Я сплю.
Вихрь усмехнулся.
— Спи.
Он сбросил пиджак, повесил его на стул, вытащил из кармана пистолет и положил его рядом.
— Вихрь, — сказала Аня еще тише.
Он долго не отвечал ей и сидел замерев, только глаза откроет, закроет, откроет, закроет…
— Вихрь, — снова позвала его Аня, — ну пожалуйста…
А после стало так тихо, будто все окрест было небом, и не было ни тверди, ни хляби, ни говора леса, ни шуршания поземки, ни потрескивания березовых, мелких, сухих поленцев в раскаленной добела печке, ни зыбкого пламени свечи.
И были рядом двое, и было им тревожно и счастливо, и боялись эти двое только одного — окончания ночи.
…Поэт — это радарная установка высочайшей чувствительности:
Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы, Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья…Считается, что эти стихи написаны после войны. Может быть. Но услышаны они были — поэтом, увидены им и приняты радаром его обостренных, трагических чувствований ранним зимним утром последнего года войны.
— Что ж ты плачешь, маленькая, — шептал Вихрь, — я верю тебе. Я люблю тебя, разве я могу не верить тебе?
— Я сейчас не от этого плачу.
— А отчего?
— Оттого, что мне так хорошо рядом с вами.
— Тогда улыбнись.
— Я не могу.
— Я прошу тебя.
— Тогда мне надо вас обманывать.
— Обмани.
— Не хочу.
— Ты упрямая?
— Очень.
— Знаешь, я не люблю, когда плачут.
— Сейчас я перестану. Это у нас бывает.
— У кого?
— У женщин.
— Почему?
— Мы ж неполноценные. Из вашего ребра сделаны.
— Ты сейчас улыбнулась?
— Да.
— Покажись.
— Нет.
— Покажись.
— Я зареванная. У меня нос распух. Вы меня такую любить не будете.
— Буду.
— Не будете, я знаю.
— Анюта, Анюта…
— Я, когда вы в городе, даже двигаться не могу — так за вас боюсь.
— Со мной ничего не будет.
— Откуда вы знаете?
— Знаю.
— Я молюсь, когда вы в городе.
— Богу?
— Печке, лесу, небу, себе. Всему вокруг.
— Помогает?
— Разве вы не чувствовали?
— Нет.
— Это потому, что вы не знали. Если в тайге человек пошел через сопки один, за него обязательно охотники молятся. У нас там все друг за друга молятся. Я за моего дядю молилась ночью, думала: «Лес, пожалуйста, сделай так, чтобы ему было хорошо идти, не путай дядю Васю, не прячь тропу, не делай так, чтобы у него ночью загас костер, приведи его на ночлег к хорошему ручью. Небо, пожалуйста, не пускай дождь, не разрешай облакам закрывать звезды, а то дядя Вася может заблудиться, а у него нога больная, а он все равно ходит на промысел, потому что я у него осталась, он мне хочет денег собрать на техникум…»
— Ну и что?
Аня повернула к Вихрю нежное, светящееся лицо и сказала тихо:
— Я запомнила: это было в половине третьего ночи — ходики на стене тикали. А он, когда вернулся, смеялся все, рассказывал, как в ту ночь на него медведица-шатунья вышла, а он спал. И будто его кто толкнул — успел ружье схватить. А я-то знала, кто его толкнул.
— Ты?
— Нет… Земля. Какое дерево заскрипело, костер искрами выстрелил, бок напекло — вот он и проснулся. Я ж за него у леса просила и у неба.
— Колдунья ты.
— Для других — колдунья. А для себя ничего не смогла.
— А за меня ты когда стала землю и небо просить? С самого начала?
— Нет.
— А когда?
— В тюрьме.
— Почему?
— Не знаю… Я там вас часто вспоминала. Никого так часто не вспоминала — ни маму-покойницу, ни папу, ни дядю Васю.
Аня снова заплакала.
— Что ты?
— Я теперь на всю жизнь обгаженная — в гестапо сидела, их шифровку передала.
— Перестань, — сказал Вихрь. — Чтоб ты не терзала себя, запомни и выкинь из памяти: я тоже сидел в гестапо.
— Когда?
— Меня арестовали в первый день. Помнишь, я пришел на явку только через неделю?
— Помню.
— Я был в гестапо все это время.
— А как же…
— Я бежал с рынка. Это долгая история. Словом, я бежал от них…
— А почему…
— Что?
— Почему вы ничего не сказали?
— Потому, что мне надо было выполнить операцию. Выполню — скажу.
— Вы никому не сказали?
— Никому.
— И Коле?
— Даже Коле.
— Значит, вы нам не верили?
— Я вам всем верю, как себе.
— Тогда… почему же вы… молчали?
— Ты в себя не можешь прийти? Тебе ведь кажется, что перестали верить в Центре? А каково было бы мне — руководителю группы? Тебе ведь казалось, что и я тебе не верю, да?
— Да.
— Нам пришлось бы уйти. А новую группу сколько надо готовить? Месяц. А передавать связи? Месяц. Налаживать связи? Месяц. Входить в обстановку? Месяц. А что может случиться с городом? Для меня — сначала дело, после — сам. Понимаешь?
Аня не ответила.
— Спишь, девочка?
Аня снова ничего не ответила.
Вихрь гладил ее по голове осторожными, ласковыми движениями.
Аня не спала. Она до ужаса ясно вспоминала слова Берга о том, что гестапо устроило побег русскому разведчику с рынка после того, как он перевербовался к ним. Он сказал даже день, когда это случилось. Аня сейчас вспомнила: в тот день Вихрь пришел на явку.
Утром Вихрь ушел в город. Аня еще раз сопоставила слова Берга с ночными словами Вихря, когда он говорил ей, что в городе с ним ничего не случится, и, приняв это его мужское желание сильного успокоить ее совсем за иное, она самовольно вышла на связь с Центром и передала Бородину все об аресте Вихря гестапо и о его побеге. А потом она достала свой парабеллум и загнала патрон в ствол. И — замерла у стола, словно изваянная…
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях…я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным.
49. ЛИБО
— Прошу вас, господин Трауб, прошу.
— Благодарю, господин Либо.
— Что вас привело ко мне?
— Любопытство.
— То есть? — Либо пропустил Трауба перед собой, включил свет в квартире, быстро оглядел окна — опущены ли синие светомаскировочные шторы, и жестом предложил Траубу садиться.
— Сейчас я все вас объясню.
— Мне льстит, что вы, такой известный фронту журналист, заинтересовались моей скромной персоной. Я в свое время читал ваши книги.
— О!
— Я отдавал должное мастерству, с которым они были написаны, но меня поражало, где вы находили таких слабых, развинченных, мятущихся людей? Простите, конечно, за столь откровенное признание, но ваши фронтовые корреспонденции нравятся мне значительно больше.
— И на том спасибо.
— Один предварительный вопрос: откуда вам известна моя фамилия? Кофе или пива?
— Кофе, если можно.
— Сейчас я заварю.
— Что касается вашей фамилии, — глядя в спину эсэсовцу, медленно сказал Трауб, — то, поверьте, я не знал ее. Вернее, я не был уверен, что вы — Либо.
Лейтенант обернулся и с улыбкой спросил Трауба:
— Вы мистик?
— В некотором роде. Видите ли, я действительно не знал, что вы — Либо. Меня поразило ваше сходство с другим Либо. Видимо, то был ваш отец — один из руководителей гамбургского коммунистического восстания.
Либо продолжал заваривать кофе. Он равномерно помешивал ложкой в большой белой чашке. Потом аккуратно, изящным и точным движением вытащил ложку, подержал ее несколько секунд над чашкой, чтобы капли кофе не измазали белую скатерть, и положил ее на соломенную салфетку.
Обернулся, взял в одну руку обе чашки, поставил одну перед Траубом, а вторую перед собой, опустился в кресло и спросил:
— Откуда вам это известно?
— Я помню вашего отца. Я брал у него интервью.
— Мы похожи?
Трауб секунду помедлил и ответил:
— В чем-то — поразительно.
— В чем именно?
— Это неуловимо.
— Мне кажется, вы что-то путаете, господин майор.
— Если б вы не откликнулись на Либо — я бы действительно путал. Сейчас, я убежден, не путаю.
— Чем же конкретно я похож на отца?
— Походкой, манерой держать голову, овалом лица, той массой неуловимых деталей, которые позволяют запомнить сходство. Меня он в свое время поразил: он был личностью — враг, серьезный враг, но громадной воли человек.
— Он был блондин?
— Не то чтобы блондин… Не то чтобы ярко выраженный блондин. Во всяком случае, он был светлый, как вы, если мне не изменяет память. Но главное — я запомнил его глаза, разрез глаз, рот, манеру держать себя. Это поразительно! Но интересует меня не ваш отец — он враг нации…
— Господин майор, я просил бы вас находить более точные выражения…
— Вы не согласны с тем, что главарь, точнее, один из главарей коммунистического мятежа может быть определен как враг нации?
— Сначала вы обязаны доказать мне то, что я сын того врага, а после мы станем говорить об оценках его деятельности.
— Лейтенант, меня, право, мало интересует ваша генеалогия. Меня интересуете вы, ваш генезис — один из прославленных воинов СС, сын… того Либо, — улыбнулся Трауб, — скажем так, а? Вы не против?
— Я не против.
«Или это подчеркнутое спокойствие — проявление смятения, — думал Трауб, размешивая сахар в кофе, — или он — кусок льда, мертвый человек, самое страшное, что может быть».
— Давайте, дружище, давайте, — улыбнувшись, попросил Трауб, достав из кармана блокнот и ручку, — признавайтесь во всем. Я восславлю солдата. Единственно честные люди земли — солдаты.
— Мне приятно слышать это от офицера и журналиста.
— Итак…
— Где моя мать?
— Этого я не знаю.
— Сколько я себя помню — я был сиротой.
— И ничего не знали о ваших родителях?!
— Ничего.
— И вам ничего об этом не говорили?
— Кто?!
— Командование.
— Нет.
— Вы член партии?
— А вы?
— Я всегда сочувствовал движению.
— Ну а я всегда сражался за него.
— Браво! Это красивый ответ.
— Это не ответ, это правда.
— Еще раз браво! Но что-то, я вижу, вы не из разговорчивых. Расскажите-ка мне историю вашей борьбы: фронт, где и за что получены ваши боевые награды, друзья, эпизоды сражений. Солдат обязан быть сдержанным, но он при этом должен уважать прессу.
— Окончив школу офицеров СС, я был отправлен на Восточный фронт для выполнения специальных заданий командования войск СС. За выполнение этих заданий солдаты, которые находились в моем подчинении, а также и я были награждены волей родины и фюрера. Еще кофе?
— Нет. Спасибо. Больше не надо.
— Это натуральный кофе.
— Я чувствую.
— Чем я еще могу быть вам полезен?
— Больше ничем. Простите мою назойливость, лейтенант, — сухо ответил Трауб. — Желаю вам счастья. Всего хорошего.
— Господин майор, в силу того, что я нахожусь при выполнении особого задания, положение обязывает меня настоятельно попросить вас зайти к моему начальству.
— Не понял…
— Мне следует сейчас же вместе с вами зайти к моему руководству. Всякий, кто вступает со мной в контакт, обязан быть представлен руководству. Это указание полевого штаба рейхсфюрера СС.
— Лейтенант, вы в своем уме? Доложите руководству, что к вам приходил военный писатель Трауб. Если надо будет, меня пригласят для объяснений.
— Я все понимаю, но тем не менее, господин майор, я вынужден подчиняться приказу.
«Неужели это конец? — подумал Трауб. — Какая глупость! Боже, какой страшный этот парень. Это же не человек. В нем вытравлено все человеческое. Это животное. Нет. Это даже не животное. Это механизм, заведенный однажды. А может быть, даже хорошо, что это настало, — я устал ждать».
— Господин Либо, я ценю шутки, пока они не переходят границ уважительности друг к другу.
— Господин Трауб, — сказал Либо, поднявшись, — не заставляйте меня применять силу.
— Вы забываетесь.
— Господин Трауб, я больше не стану повторяться.
«Что я сделаю с этим верзилой? — подумал Трауб. — Видимо, надо идти».
— Ну что ж, — заставил он себя улыбнуться, — пожалуйста. Если вы настаиваете — не драться же мне с вами.
— Благодарю вас, господин майор. Я глубоко признателен вам за то, что вы верно поняли мой долг.
Телефона у Либо не было. Была кнопка — зуммер тревоги и сигнал вызова машины из гестапо. Он нажал сигнал вызова машины.
Шеф гестапо Крюгер разложил перед Траубом несколько фотографий и сказал:
— Это дьявольски интересно, майор. Ну-ка, покажите, кто из этих людей отец Либо?
Трауб внимательно посмотрел фотографии:
— Вообще-то в этом их сходстве было что-то неуловимое…
— Это поразительно. Писатели, писатели, я не устаю восхищаться вами. Нам бы, разведчикам, вашу память. Ну, какой из них? Напрягитесь. Мне это интересно с чисто профессиональной точки зрения.
«Нет, здесь его нет, — думал Трауб, — это все фотографии тридцатых годов, судя по костюмам. Что он хочет? Зачем эта игра? Здесь нет Либо. Здесь нет никакого сходства с тем парнем. Пожалуй, я бы заметил хоть какое-нибудь сходство, если б оно было».
— Здесь нет Либо.
— Какого Либо.
— Старшего.
— Того, которого вы интервьюировали на баррикадах в Гамбурге?
— Да. Именно того.
— Как его звали, не помните?
— Не помню, право. Просто Либо. Так его звали все.
Шеф гестапо сделал ошибку — он не сумел сдержать себя. Сдержись он — и кто знает, как пошли бы дальнейшие события. Отпусти он с извинениями Трауба, поставь он за ним наблюдение, протяни от него связи к Тромпчинскому, Седому, Вихрю — никто не знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Кракова. Но он не сдержался. Он ударил Трауба кулаком в губы и закричал:
— Сволочь продажная! Сволочь! Не было никакого Либо! Был Боль! А Либо есть только один! Ему была дана фамилия в интернате, понял?! Встать! Отвечай немедленно, сволочь! Откуда к тебе пришла история этого Либо?! Откуда?! Ее знаю здесь один я! Ну?!
Когда Трауба унесли в камеру. Либо обратился к шефу с вопросом:
— Бригадефюрер, есть ли хоть капля правды в словах Трауба?
Шеф гестапо тяжело дышал и вытирал лицо большим платком.
— Да, мальчик, — ответил он, — есть. Более того, в его словах — все правда. Но это никак не бросает на тебя тень. Ты — верный сын нации. Ты — не сын врага, ты — сын народа. Вспомни, ты говорил о своем задании кому-нибудь?
— Никому, бригадефюрер.
— Я верю тебе, сынок. Спасибо тебе, мальчик. Ты очень помог нам. Спасибо.
— Моя мать — тоже враг нации?
— Я никогда не врал тебе… Я не могу соврать тебе и сейчас — моему брату и товарищу по партии: твоя мать была таким же врагом, как и отец.
— Она жива?
— Нет, — шеф гестапо посмотрел в стальные, спокойные глаза Либо и повторил: — Нет. После того как ее попытка покушения на жизнь твоего истинного отца, нашего фюрера, сорвалась, она была заключена в концентрационный лагерь. Она имела все возможности быть матерью немца, она могла воспитывать тебя, мальчик. Она бросила тебя и ушла к врагам. Она обрекла тебя на то, что ты был лишен ласки, лишен материнской руки. При попытке к бегству она была убита. Тебя приняли руки фюрера, сынок, и ты всегда чувствовал тепло его рук.
— Да, бригадефюрер.
— Рейхсфюрер СС знает твою историю, верит тебе и гордится тобой. Мы не можем врать друг другу. Прости меня за эту правду.
— Я понимаю.
— В твоем сердце шевельнулась жалость?
— Жалость? К кому?
— Хорошо сказал, сынок, очень хорошо сказал. Если ты захочешь поговорить со мной, приходи в любое время дня и ночи. Мой дом открыт для тебя, мальчик. А сейчас иди, у меня будет много всяческой возни. — Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер, сынок, хайль Гитлер!
Либо вернулся домой тем же размеренным шагом, каким шел из казармы СС, когда его окликнул Трауб. Он так же спокойно вошел к себе в квартиру, так же зажег свет, поглядев при этом на шторы светомаскировки, убрал со стола две чашки, вымыл их, спрятал в шкаф, потом вымыл ложку, убрал ее, а потом пошел в ванную комнату и там застрелился.
Через три дня дело Трауба было отправлено в Берлин, председателю «Имперского народного суда» Фрейслеру.
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил вечером Ваше послание. Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте. Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всем центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача!
50. ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Когда пишется история войны, то необходимо, анализируя все и всяческие аспекты этой громадной трагедии, строго следовать не за эмоциями, симпатиями или вновь открывшимися мнениями, но за фактами, которые хранятся в документах, газетах, архивах. История может с большой осторожностью принимать как достоверное воспоминания участников эпопеи. С еще большей осторожностью история должна относиться к безапелляционным утверждениям тех людей, которые — волею судеб — были знакомы либо с совокупностью проблем, либо с какими-то, пусть даже значительными, частностями; сплошь и рядом такие люди страдают аберрацией памяти. История обязана называть все имена, перечислять все поражения и победы, не оправдывая одни и не приукрашивая другие.
Пимен только потому и остался в веках, что летопись свою вел отрешенно, как бы ни была горька правда. Любая история — это история факта, а если это не так, то начинается своеволие и подтасовка, которая — даже будучи рождена лучшими побуждениями — все равно отомстит неуважительностью современников и презрительной усмешкой потомков.
Как только историк становится пристрастным, как только он хочет поярче выписать зло и посильнее воспеть правду, как только историк начинает расставлять свои акценты в исследовании — так сразу же такое писание делается сомнительным упражнением в безответственности. Правда, только правда, вся правда — это великолепная присяга для историка, ибо от его свидетельств зависит не только жизнь одного человека, но воззрение поколений. А воззрение будущих поколений — это такая материализованная сила, которая может или сохранить планету, или разнести ее в тихие, стремительные груды известняковой или гранитной породы, и в подоплеке первого шага к этой трагедий будет усталая мысль того, кто вправе решать: «А ну вас всех к чертовой матери с вашей наивной ложью. Надоело…»
Мельников тогда, в госпитале, харкая черными брызгами крови, сказал:
— Бородин, ты ж не дитя. Нас можно ругать за жестокость предъявляемых нами требований, но я хотел бы посмотреть, как сложилась бы обстановка без «СМЕРШа» в сорок первом и сорок втором, когда отходили, и в сорок третьем, когда было тоже не сладко, и в сорок четвертом, когда бандеровцы, и в сорок пятом, когда придется заниматься гестаповцами и СС уже в самой Германии. Кому ими придется заниматься? То-то и оно — нам, «СМЕРШу». Для того чтобы политотдел мог верить, мне приходится не верить.
— Но здесь ведь совсем другое дело… Это мои люди, я их знаю. И если Вихрь доверяет Ане, значит, у него основания доверять ей.
— »Другое дело, другое дело…» Ты ж не дитя, Бородин: деза, составленная гестапо, от нее была? Была. Это раз.
— А где два? Два у меня в кармане. Она ушла, она предлагает комбинацию с полковником разведки Бергом. Это тоже не семечки. Так что не загибай пальцы, два — в мою пользу.
— Люблю я тебя за нежность характера, Бородин.
— Я тебя тоже люблю за нежность характера, не в этом суть вопроса.
— И в этом. Я в сорок третьем отпустил одного хитрого типа, «перевербовавшись» к нему. Вернее, как отпустил? Не отпустил, устроил спектакль с побегом. А потом всю его цепь получил и верную связь с его центром. Я их полгода дурил, полгода от них принимал оружие и связных. Может, у тебя таких комбинаций не было? Так я тебе напомню твоего троцкиста из Валенсии, если забыл.
— То хитрый тип, то троцкист, а здесь Аня.
— Аня, Аня… Что ты заклинания произносишь? Аня Аней, а полковник разведки Берг остается Бергом.
— Так что ж ты предлагаешь?
— Генштаб о той шифровке, что передали их кодом, молчит?
— Молчит.
— Это твой единственный козырь. До тех пор, пока ты ничего не получил из Москвы, считай, что ты со мной советовался, а если и дальше будут молчать, в официальном порядке связывайся с Кобцовым, пусть подключается.
— Ты же знаешь его…
— Ну…
— Ты представляешь, что он сразу предложит?
— Представляю. А ты диалектику чтишь?
— Попробуй не почти. Он сразу дело накрутит.
— И правильно сделает, — усмехнулся Мельников. — А что касаемо диалектики — она есть единство противоположностей. Борись. За кем правда, тот и возьмет.
— Пока я с ним буду бороться, дело станет.
— А что у тебя Вихрь — дитя? Он же серьезный парень. В конце концов, победителей не судят.
— Ты что, Кобцова боишься?
Мельников пожевал белыми губами, сдержал приступ кашля, от этого лицо его посинело, потом он закрыл глаза, долго приходил в себя, осторожно выдыхая носом и сказал:
— Я боюсь только одного: как бы этот самый Берг не переиграл всех наших, и тогда Краков взлетит на воздух, а это будет небывалое свинство, что мы город спасти не смогли. Вот чего я боюсь. Ты же не дитя, ты ж понимаешь.
— Я попробую сегодня запросить Генштаб.
— Ты их не поставил в известность?
— Я сразу приехал к тебе.
— А еще говорят, что разведчики и особисты плохо живут.
— Мельников с Бородиным живут хорошо.
Мельников посмотрел на Бородина воспаленными, блестящими глазами, поманил его пальцем, тот нагнулся; Мельников, зажав рот платком, прошептал:
— Разведка, узнай у врачей: скоро мне в ящик, а?
— Ты что?
— Борода, ты меня только не вздумай успокаивать. Я старый-престарый, битый-перебитый чекист. Ну… Валяй… Попробуй. Я б сбежал, да ведь заразить страшно: они молчат, не говорят мне — открытая форма или безопасный я для окружающих.
…Бородин вернулся через полчаса, сел возле своего друга и долго расправлял халат на галифе, чтоб складок не было. Мельников сказал:
— Если б ты пришел резвый и стал меня по руке хлопать, вроде нашего парткома, я б сразу понял — адью!
— Они говорят, что выцарапаться можно, — ответил Бородин, — можно, хотя все это зависит от тебя больше, чем от них.
— Дурачье. А они все темнили. А мне, если темнят, лучше не жить. Спасибо, Борода. Тогда выцарапаюсь. Одолею проклятую, мать ее так…
— Я к тебе завтра приеду.
— Если сможешь…
— Смогу. И послезавтра приеду.
— Слушай, а где твой капитан?
— Высоковский?
— Да.
— В штабе.
— Ты его к ним забрось. Со всеми полномочиями.
— Не дожидаясь новостей из Москвы?
— Ну, погоди день, от силы два.
Когда Бородин вернулся к себе, его ждали три новости: первая — приказ Верховного Главнокомандующего о наступлении по всему фронту для помощи западным союзникам в Арденнах; вторая — Ставка наградила всех участников группы «Вихрь» орденом Ленина за операцию «Ракета». А третья новость лежала перед Высоковским: шифровка от Ани, в которой та сообщала, как был арестован Вихрь, как он бежал и что ей об этом побеге говорил полковник Берг.
— Ну что ж… — протянул Бородин и начал растирать лоб, — давайте, милый, отправляйтесь к ним. Просто-таки в самое ближайшее время надо лететь. А как поступать — ей-богу, рецептов здесь дать не могу. Станьте дублером Вихря, что ли… Все его связи возьмите на себя. У них там один чистый человек остался — Коля, на него и ориентируйтесь. У меня такое мнение, что там какая-то липовая, но трагическая путаница. А гадов там нет. Хоть голову мне руби — я в это верю, несмотря на то что объективно там все более чем хреново.
Высоковский на связь к Вихрю не вышел. В том месте, где он выбросился с парашютом, была перестрелка, и какой-то человек, видимо раненный, бросился в реку — за ним гнались с собаками. Люди из разведки Седого опросили свидетелей: судя по описанию внешности, этим человеком был капитан Высоковский.
Юстасу.
Благодарим за информацию о Рундштедте. С сыном все в порядке. Справедливы ли слухи о назначении Гиммлера главкомом группы армий «Висла»?
Центр.
Центр.
Благодарю за сообщение о сыне. Прошу информировать впредь… Никаких данных о назначении Гиммлера главкомом группы армий «Висла» не имею.
Юстас.
Юстасу.
Кто в рейхе занимается проблемой охраны тайны производства торпед для ВМФ новейших образцов?
Центр.
Центр.В связи с введением режима «особой секретности» перед началом наступления на Западном фронте выяснение такого рода вопроса связано с особой сложностью.
Юстас.
Юстасу.
Мы понимаем все сложности, связанные с выполнением этого задания.
Центр.
Центр.
После разгрома абвера адмирала Канариса, который занимался вопросами военного контршпионажа, охрану тайны производства торпед для ВМФ курирует разведка люфтваффе (Геринг) и местные отделы IV отдела РСХА (гестапо, Мюллер). По непроверенным данным, завод торпед расположен в районе Бремена. Шеф бременского отделения гестапо — СС бригаде-фюрер Шлегель. Часть материалов, которыми вы интересовались — о преступлениях нацистов, — достал, готов передать надежному связнику. Как сын?
Юстас.
Юстасу.
Связь получите 15 января 1945 года в обычном месте в 23.45.
Пароль и отзыв — прежние.
Центр.
51. ЧЕЛОВЕК СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ
Неделю Берг выжидал, что даст арденнское наступление. Если бы продвижение Модели и фон Рундштедта было стремительным и успешным, если бы он, грамотный военный разведчик, понял, что наступил действительно тот самый перелом в войне, о котором трубил Геббельс, тогда, решил он для себя, Коля и Вихрь будут переданы им гестапо. Берг понимал, что это, конечно же, рискованно со всех точек зрения. Но он устал, смертельно устал в своей игре и поэтому временами стал поддаваться не разуму, но чувству.
Все определилось окончательно, когда после победных кинохроник, в которых были показаны пленные янки и смеющиеся немецкие «панциргренадирен», после ликующих речей Геббельса и Штрайхера Бергу попалось обращение Моделя к своим войскам, где он писал: «Нам удалось расстроить запланированное противником наступление на нашу родину». Этого для Берга оказалось достаточным, чтобы разум подсказал ему: последняя попытка сорвалась. Это было наступление отчаяния, но не силы. Этого еще не поняли солдаты, полковник Берг это понял. И сразу вызвал своего агента, которому была присвоена кличка Отто. Этим агентом был Коля.
— Вот что, — сказал Берг, когда они вышли на улицу, — передайте своему шефу, чтобы он не появлялся в городе. Его фотография есть в гестапо, его очень ищут, равно как и вашу радистку.
— Откуда у гестапо может быть фотография моего шефа? — удивился Коля.
Берг быстро глянул на него и понял — все понял: он достаточно долго работал в контрразведке против русских, чтобы уяснить то положение, в котором очутился шеф русской группы.
— Устройте мне встречу с вашим шефом, — сказал он.
Берг рещил, что, побеседовав с глазу на глаз, он укрепит свои позиции на будущее — разведчики понимают великое умение продавать и покупать тайны друг друга.
— Хорошо, — сказал Коля. — Устрою.
— Теперь дальше… Мы получили кое-какие данные о том, что ваши готовят наступление. Вы не в курсе?
— Нет.
— Вы передали своим данные о защитном вале по Висле — Одеру?
— А что?
— Ничего. Интересуюсь. Как вышли снимки?
— Снимки получились хорошие.
— Не сердитесь на меня, но в данном случае положитесь на мой опыт: эти снимки надо переправить вашим. По радио такие сведения выглядят иначе.
— Вы что, хотите предложить свою кандидатуру для перехода линии фронта?
— Скажите, подозрительность — национальная черта русского характера или благоприобретенная? — хмуро спросил Берг.
— Вы имеете в виду бдительность, по-видимому, — улыбнулся Коля.
— Нет, я имею в виду подозрительность, именно подозрительность.
Коля остановился и сказал:
— Полковник, вы не замечали, как приятно скрипит снег под ногами?
— Что, что?!
— Ничего, — ответил Коля, — просто я впервые за всю войну заметил, как это прекрасно, когда снег скрипит под ногами.
— У вас плохо с обувью? Я могу выдать сапоги.
Коля снова улыбнулся.
— Нет, — ответил он, — сапоги у меня хорошие. Спасибо.
— Чему смеетесь?
— Просто так… Это у меня иногда бывает.
— Сколько вам лет?
— У нас год войны засчитывают за три.
— Мало.
— Сколько бы вы предложили?
— Год за столетие.
— Полковник, мне нужен Краух, — сказал Коля внезапно.
Полквартала они прошли молча. Город, словно чувствуя нечто приближающееся, был затаенным, бело-черным, как в трауре.
— Это сложно.
— Я понимаю.
— Когда он вам нужен?
— Он мне нужен сейчас.
— Это сложно…
— Откуда у вас данные о том, что мы готовим наступление?
— То есть?
— Что это: авиаразведка, тактическая разведка или это данные из центра?
— Данным из центра я приучил себя не очень-то верить.
— Почему?
— Фантазеров много. И потом, они все переворачивают с ног на голову: как решит фюрер, как он оценит объективные данные, так и будет считаться всеми остальными.
— Это хорошо…
— Да?
— Конечно.
— Очень хорошо… Из-за этого «хорошо» вы сейчас в Кракове и я работаю на вас.
— Даже если б фюрер не ставил данные с ног на голову, все равно мы были б здесь…
— Вы — тактичный человек.
— Потому что не сказал о вас?
— Конечно.
— Все равно подумал, — сказал Коля. — Если по правде…
— Знаете, высшая тактичность заключается в том, чтобы говорить не все, о чем думаешь.
— Это — тактичность современности. Мы хотим, чтобы в будущем высшая тактичность человека заключалась как раз в ином: что думаешь, то и говоришь.
— Этого же хотел Христос.
— У Христа не было государства и армии — такой, как у нас.
— Занятно… Государство и армия во имя того, чтобы все люди говорили друг другу только то, что думают…
— У вас есть братья?
— Нет.
— А сестры?
— Нет.
— У меня тоже. Поэтому я особенно точно представляю себе, какими должны быть отношения между братьями.
— Боже мой, какие же вы все мечтатели…
— Нам об этом уже говорили.
— Кто?
— Был такой английский писатель Герберт Уэллс.
— Когда я увижу вашего шефа?
— Завтра утром.
Первый вопрос, который Вихрь задал Бергу, был о Траубе.
— Это для меня новость, — ответил полковник. — Я ничего об этом не знал.
— Как узнать подробности?
— Это невозможно. Гестапо нас к себе не пускает.
— Что можно сделать?
— Ничего.
— Как ему помочь?
— Вам хочется достать с неба луну? Я не берусь выполнить это желание. Оставим Трауба, хотя мне его жаль — талантливый журналист. Вернемся к нашим делам. Я просил Отто передать вам, чтобы вы не появлялись в городе, товарищ Попко…
Вихрь медленно потушил сигарету и сказал:
— А вы говорите, что вас до гестапо не допускают.
— Первый раз вы со мной откровенны.
— Третий. Не в этом дело.
— А в чем же?
— Сейчас — в Траубе и Краухе.
— Нет. В вас.
— Да?
— Да. Вы понимаете, что будет с вами, если папка из гестапо попадет к вашим? Вас дезавуируют. Разве нет? Тем более что вы скрывали это от своих сотрудников — даже Отто об этом не знает.
— Мое командование узнает об этом, полковник. Не будьте моим опекуном, пожалуйста. У вас не вышло с Мухой, не выйдет и со мной. Я ж знаю вас по Мухе: я его расстрелял — теперь нет смысла скрывать. Но это прошлое, так что не удивляйтесь: у вас свои козыри, у меня свои. Мои — сильнее. Помогите с Краухом.
— Вы связывались с Центром?
— Нет.
— Очень хорошо, что вы ответили мне правду, — от вас был только один короткий перехват. Так что меняйте точку, она засечена.
— Где?
— Точно сказать не могу, но где-то к северо-западу от Кракова, километрах в тридцати.
«Верно, — отметил для себя Вихрь, — охотничий домик как раз там. Но ведь Аня не могла выходить на связь сама. В чем дело?»
— Это не наши люди, — сказал Вихрь, — тем не менее спасибо, учтем. Видимо, это партизаны или накладки вашей системы.
— Последнее исключите.
«А может, какое несчастье с Аней?! — вдруг мелькнуло у Вихря. — Девочка там одна! Короткая связь! Может, ее взяли там случайно?»
— Вы убеждены? — спросил Вихрь, закуривая. — Ваш аппарат в этом смысле безгрешен? Был сеанс?
— Был.
— С Центром я свяжусь сегодня же. Завтра я или мои люди передадут все относящееся к вам.
— Хорошо.
— Когда вы продумаете операцию с Краухом?
— К завтрашнему дню я что-нибудь надумаю. Отто будет знать. Он вам скажет… С Краухом надо сделать все так, чтобы было просто, без мудрствований… Видимо, на мудрствование у вас нет времени… Я попробую что-нибудь подсказать…
— Хорошо.
— До завтра.
«Может быть, Трауб показал на Тромпчинского? — ужаснулся Вихрь. — А тот привел их на явку в лес? Нет. Этого не могло быть. Тромпчинский никогда не сделает этого. Тромпчинский — железный человек, его не сломить. В городе его нет — надо срочно ехать за город, предупредить, чтобы он скрывался, и забирать Анюту. У Седого есть запасные квартиры».
Когда Вихрь рывком отворил дверь охотничьего домика, Аня поднялась и сказала Тромпчинскому, который стоял за спиной Вихря:
— Подожди.
— Нет времени, Аня, — сказал Вихрь, — обо всем — после.
— Пусть он выйдет, — снова сказала Аня, и Вихрь увидел в ее руке парабеллум.
— Выйди, Юзеф.
Бородину.
То, что передала Аня, — правда. Я был в гестапо. Для того чтобы бежать, дал согласие на перевербовку. Завтра даю очную ставку Ане и Бергу. Прошу санкционировать продолжение работы, которая вступила в решающую фазу. Спасение Кракова — гарантирую. Был, есть и останусь большевиком. Прошу принять данные на Берга, сообщенные им Коле… И в самом конце: Штаб гитлеровцев получил данные о передвижениях на нашем фронте, которые расцениваются Бергом как подготовка к возможному наступлению. Примите меры. Связь прерываю. Выйду сегодня ночью.
Вихрь.
Кобцов вернул шифровку, покрутил головой, хмыкнул и сказал:
— Ссучились — очевидное дело… В этом случае мой хозяин не колебался бы в оценке всей этой катавасии.
— А ты? — спросил Бородин. — Как ты?
— Я себя от хозяина не отделяю.
— Знаешь, — медленно ответил Бородин, — я старался себя никогда не отделять от нашего дела, а в открытом афишировании своей персональной преданности руководителям есть доля определенной нескромности. Не находишь?
— Не нахожу.
— Ну, это твое дело, — сказал Бородин.
— Именно.
— Давай будем связываться по начальству.
— Это верно. Что им говорить?
— Как предлагаешь?
— А ты?
— Мы ж с тобой не в прятки играем.
— Хорошая игра, между прочим. Иногда — не грех.
— Тоже справедливо. Только там, — Бородин кивнул головой на шифровку, — люди. Им не до пряток — с нами. Они в прятки с теми играют.
— Слова, слова, — поморщился Кобцов, — до чего ж я не люблю эти самые ваши высокие слова… Люди! Люди, понимаешь, порождение крокодилов.
— Это хорошо, что ты классику чтишь. Только за людьми Вихря — дело. Спасение Кракова. И мы с тобой за это дело отвечаем в равной степени. Или нет? Я готов немедля отправить им радиограмму: пусть идут через фронт к тебе на проверку.
— Не лишено резона.
— Вот так, да?
— Именно.
— Хорошо. Сейчас я составлю две радиограммы. Первая: немедленно переходите линию фронта в таком-то квадрате — детали мы с тобой согласуем, где их пропустить. А вторую я составлю иначе. Я ее составлю так: обеспечьте выполнение поставленной перед вами задачи по спасению Кракова. Какую ты завизируешь, ту я и отправлю. Только подошьем к делу обе. Ладно? Чтобы, когда Краков взлетит на воздух, мы с тобой давали объяснение вдвоем. Ну как?
Кобцов достал пачку «Герцеговины Флор», открыл ее, предложил Бородину, и они оба закурили, не сводя глаз друг с друга.
«Ничего, ничего, пусть повертится, — думал Бородин, глубоко затягиваясь. — Иначе нельзя. А то он в сторонке, он бдит, а я доверчивый агнец».
Кобцов размышлял иначе: «Вот сволочь, а? Переиграл. Если я приму его предложение — любое из двух, тогда он меня с собой повяжет напрочь. Конечно, если немец Краков дернет, мне головы не сносить. Правда, нюансик один есть: если я Вихря вызову сюда на проверку, выходит, я оголил тыл. А если он перевербован гестапо и там всю операцию гробанет, тогда будет отвечать Бородин».
— Слушай, товарищ полковник, — сказал Кобцов, глубоко затягиваясь, — а какого черта, собственно, мы с тобой всю эту ерундистику с бюрократией разводим? Руководство учит нас доверять человеку. Неужто ты думаешь, что я могу тебе хоть в самой малости не доверять? Принимай решение, и все.
— Уходишь, значит…
— Я?
— Нет, зайчик.
— Вот странный ты какой человек. Ты ко мне пришел посоветоваться, так?
— Точно.
— Ну, я тебе и советую: поступай, как тебе подсказывает твоя революционная сознательность.
— А тебе что подсказывает твоя революционная сознательность?
— Она мне подсказывает верить тебе. Персонально тебе. Ты за своих людей в ответе, правда? Тебе и вера.
Бородин поехал к Мельникову. Тот выслушал его, прочитал обе радиограммы и написал на уголке той, что предлагала Вихрю продолжать работу: «Я — за. Начальник «СМЕРШа» фронта полковник Мельников».
— Только Кобцову покажи, а то он уж, наверное, на тебя строчит телегу. И передай ему: полковника Берга, если он действительно под той фамилией работал в Москве, что передал Вихрь, я знал. Я с ним даже пил на приемах в Леонтьевском переулке, у них в посольстве. По внешнему описанию твоего Вихря — это он. Это очень серьезно, очень перспективно. Тут есть куда нити протягивать, тут можно в Берлин нити протянуть или куда подальше. Война-то к концу идет, вперед надо думать…
Вернувшись в штаб, Бородин сел писать рапорт маршалу о том, что в Кракове действует группа разведки Генерального штаба, которой дано задание сохранить город от полного уничтожения. Бородин в своем рапорте докладывал, что, видимо, тот риск, на который пошел командующий, решивший не замыкать кольцо окружения, с тем чтобы не вести уличные бои, и запретивший артиллерийский обстрел Кракова, полностью оправдан и что он, Бородин, принимает на себя всю меру ответственности за работу группы «Вихрь», поклявшейся взрыва города не допустить…
Краух отворил дверцу, тяжело сел в автомобиль, поздоровался с Аппелем и сказал:
— В гестапо.
— Слушаюсь, господин полковник.
— Что у вас сзади за мешки?
— Это не мешки, господин полковник.
— А что это?
— Там канистры, они прикрыты сверху мешковиной.
— А багажник для чего?
— В багажнике масло и баллоны. Я люблю запасаться всем впрок, господин полковник.
— Это хорошая черта, но важно, чтобы в машине не воняло.
— О нет, нет, господин полковник. — Аппель посмотрел на счетчик и сказал: — Вы не позволите мне заехать на заправочный пункт?
— Раньше не могли?
— Прошу простить, господин полковник, не мог.
— Это далеко?
— Нет, нет, пять минут, господин полковник.
— Ну, поезжайте же, — поморщился Краух. — А где мой личный шофер?
— Текущий ремонт, господин полковник.
Аппель нажал на акселератор сразу, как только машина миновала контрольный пункт. Эсэсовцы на КПП вытянулись, откозыряв Крауху. Тот ответил им, чуть приподняв левую руку. Опустив руку, Краух почувствовал, как что-то уперлось ему в затылок. Он чуть обернулся. Сзади сидел человек в немецкой военной форме без погон, упершись дулом пистолета ему в затылок.
— Что это за фокусы? — спросил Краух.
— Это не фокусы, — ответил Коля, стягивая с колен мешковину, — благодарите Бога, для вас война кончилась, Краух.
Берг точно сообщил Вихрю расположение контрольных постов вокруг города. Коля точно рассчитал время и место. Аппель вывез Крауха точно через тот КПП, который вел к Седому — на конспиративную явку в Кышлицах…
Краух ползал по полу темного погреба, куда его привезли, и кричал:
— Я инженер, я инженер, а не военный! Не убивайте меня, я молю вас, не убивайте меня!
Коля сказал:
— Тише, пожалуйста. Вас никто не собирается убивать.
— Вы немец, да? Скажите мне, что вы немец. Я ведь слышу — вы немец! Зачем все это?! Молю вас!
— Я русский, — ответил Коля, — не кричите же, честное слово… Ну, успокойтесь, право, успокойтесь. Вы мне нужны живым. Вы будете жить, если передадите мне схему минирования Кракова, способы уничтожения города, время и возможность предотвращения взрыва.
— Хорошо, хорошо, я все сделаю, я привезу вам схемы, все схемы…
— Нет. Вы нарисуете эти схемы сейчас.
— Но вы не убьете меня потом? Имейте в виду, я знаю схемы уничтожения Праги — это я делал, я один знаю все! Больше не знает никто. Я инженер, мне приказывали, я ненавижу Гитлера! Я инженер!
Коля усмехнулся и спросил:
— Словом, человек со специальностью, да?
— Да, да! Вы правы, я человек со специальностью! С гражданской специальностью! Я умею строить, я — созидатель… Эти проклятые фашисты заставляли меня разрушать… Это они, они! Я мечтал строить, только строить…
— Ну, договорились: рисуйте схемы Кракова и Праги. Вы нам нужны живым. Перестаньте только, прошу вас, так трястись. Вы же офицер, господин Краух.
Как и посоветовал Берг, группа прикрытия из разведки Седого отогнала машину Аппеля на проселок и там имитировала взрыв противотанковой мины. А поскольку в багажнике у Аппеля было пять канистр с бензином, машина вспыхнула, словно сухой хворост. А в ней — трупы двух предателей из полиции, расстрелянных за день до этого по решению подполья. Следовательно, гестапо не переполошится и не станет лихорадочно менять схему приводов для взрыва Кракова — оснований для такой подстраховки маскарад со взорванной машиной Крауха не давал.
Так, во всяком случае, считал Вихрь.
52. ЖИВИ, НО ПОМНИ!
Штирлиц посмотрел на часы: 23.30. Пятнадцать минут еще оставалось в запасе. Он приехал в Ванзее загодя, погулял, осмотрелся, вышел из машины и неторопливо пошел к маленькой пивной, где через пятнадцать минут его встретит связник. Он передаст ему документы, за хранение которых полагается гильотина, но, прежде чем ласкающее острие стали обрушится на шею, предстоят сутки страшных, нечеловеческих пыток, оттого что на бумагах стоит гриф: «Документ государственной важности. Строго секретно».
Штирлиц шел на встречу, и его молотил озноб, но не из-за того, что он явственно и как бы отстраненно представлял себе тот ужас, который ждет его в случае провала, а потому, что сегодня, проснувшись еще затемно, он подумал: «А что, если мне сделают подарок? Что, если сюда пришлют сына?» Он понимал, что это невозможно, он отдавал себе отчет в том, что краковская случайность была немыслимой, единственной, неповторимой; он все понимал, но желание увидеть Санечку, Колю, Андрюшу Гришанчикова жило в нем помимо логики.
«Я устал, — сказал себе Штирлиц, — шок с Саней был слишком сильным. Я никогда не знал отцовства, я жил один, и мне было легко, потому что я отвечал за себя. Это совсем не страшно — отвечать за себя одного. Нет ничего тяжелее ответственности за дитя. Тяжелее, потому что я знаю, что сейчас грозит моему сыну и миллионам наших детей. Ответственность будет прекрасной и доброй, когда не станет Гитлера. Тогда будут свои трудности, и они будут казаться родителям неразрешимыми, но это неверно, они сами, и никто другой, будут виноваты в той неразрешимости; придут иные времена, и напишут слова других песен, только б не было гитлеров, только б не было ужаса, в котором я жил… И живу… Если я передам через связника, чтобы Санечку отправили домой, его смогут вывезти из Кракова — у них же надежная связь с партизанами. Он войдет в квартиру, и обнимет мать, и будет стоять подле нее неподвижно в темной прихожей, долго-долго будет стоять он подле нее, и глаза его будут закрыты, и он, наверное, будет видеть меня, а может быть, он не сможет меня видеть: это немыслимо — представить себе отца в черном мундире с крестами… А потом он узнает, что это по моей просьбе его отвезли в тыл, что по моей просьбе его принудили бросить друзей, что по моей просьбе его лишили права убивать гитлеров… Разве он простит мне это? Он не простит этого мне. А я прощу себе, если он будет… Нет, я не имею права разрешать себе думать об этом. С ним ничего, ничего, ничего не случится. Ему сейчас почти столько же лет, сколько было мне, когда я уходил из Владивостока, а ведь это было совсем недавно, и я тогда был совсем молодым, а сейчас мне сорок пять и я устал, как самый последний старик, и поэтому в голову мне лезет ерунда, бабья, истеричная ерунда… А может, это не ерунда? Может быть, об этом думают все отцы, а ты никогда раньше не был отцом, ты был Исаевым, а когда-то раньше, когда был жив папа, ты был Владимировым, а потом ты стал Штирлицем, будь трижды неладно это проклятое имя… О Господи, скорее бы он пришел… А что, если не «он»? Придет «она». А я так боюсь за «них» после гибели Ингрид… Ведь ее отец тоже мог бы запретить ей бороться с Гитлером, и она была бы жива, и была бы графиней Боден Граузе, и затаилась бы где-нибудь в Баварии, и миновала бы ее чаша ужаса. А старик и сам погиб, и не запретил ей стать тем, кем она стала, погибнув… Нельзя мне об этом думать. Сил не хватит, и я сорвусь. А если я сорвусь, они станут отрабатывать все мои связи, и выйдут на Санечку, и устроят нам очную ставку, а они умеют делать это…»
Через десять минут Штирлиц встретит связника. Через тридцать два часа документы, переданные им, будут отправлены для исследования — они это заслуживали, ибо обращены были к памяти поколений.
Рейхсфюрер СС. Д-ру Зигмунду Рашеру,
Полевая ставка Мюнхен, Трогерштрассе, 56.
№ 1397/42. Секретный документ
3 экземпляра. государственной важности.
2-й экземпляр.
Дорогой Рашер!
Ваш доклад об опытах по переохлаждению людей я прочел с большим интересом. Обер-штурмбанфюрер СС Зиверс должен представить Вам возможность осуществить Ваши идеи в близких нам институтах. Людей, которые все еще отвергают эти опыты над пленными, предпочитая, чтобы из-за этого доблестные германские солдаты умирали от последствий переохлаждения, я рассматриваю как предателей и государственных изменников, и я не остановлюсь перед тем, чтобы назвать имена этих господ в соответствующих инстанциях. Я уполномочиваю Вас сообщить о моем мнении на этот счет соответствующим органам.
Держите меня впредь в курсе дела по поводу опытов.
Хайль Гитлер!
Ваш Г. Гиммлер.
Рейхсюрер!
Мы имеем обширную коллекцию черепов почти всех рас и народов. Лишь черепов евреев наука имеет в своем распоряжении очень немного, и поэтому их исследование не может дать надежных результатов. Война на Востоке дает нам теперь возможность устранить этот недостаток. Практическое проведение беспрепятственного получения и отбора черепного материала наиболее целесообразно осуществить в форме указания вермахту о немедленной передаче всех еврейско-большевистских комиссаров живьем полевой полиции. Полевая полиция в свою очередь получает специальное указание непрерывно сообщать определенному учреждению о наличии и местопребывании этих пленных евреев и как следует охранять их до прибытия специального уполномоченного. Уполномоченный по обеспечению материала (молодой врач из вермахта или даже полевой полиции или студент-медик, снабженный легковым автомобилем с шофером) должен произвести заранее установленную серию фотографических снимков и антропологических измерений и по возможности установить происхождение, дату рождения и другие личные данные.
После произведенного затем умерщвления еврея, голова которого повреждаться не должна, он отделяет голову от туловища и посылает ее к месту назначения в специально для этой цели изготовленной и хорошо закрывающейся жестяной банке, наполненной консервирующей жидкостью. На основании изучения фотографий, размеров и прочих данных головы и, наконец, черепа там могут затем начаться сравнительные анатомические исследования, исследования расовой принадлежности, патологических явлений формы черепа, формы и объема мозга и многого другого. Наиболее подходящим местом для сохранения и изучения приобретенного таким образом черепного материала мог бы быть в соответствии со своим назначением и задачами новый Страсбургский имперский университет.
Хайль Гитлер!
Ваш Август Хирт
Д-р Гросс.
Управление расовой политики.
Секретный документ государственной важности.
Некоторые соображения об обращении с лицами ненемецкой национальности на Востоке
При обращении с лицами ненемецкой национальности на Востоке мы должны проводить политику, заключающуюся в том, чтобы как можно больше выделять отдельные народности, т. е. наряду с поляками и евреями выделять украинцев, белорусов, гуралов, лемков и кашубов.
Я надеюсь, что понятие о евреях целиком изгладится из памяти людей. В несколько более отдаленные сроки на нашей территории должно стать возможным исчезновение украинцев, гуралов и лемков как народов. То, что сказано в отношении этих национальных групп, относится в соответственно больших масштабах также и к полякам.
Принципиальным вопросом при разрешении всех этих проблем является вопрос об обучении и тем самым вопрос отбора и фильтрации молодежи. Для ненемецкого населения на Востоке не должно быть никаких других школ, кроме четырехклассной начальной школы. Начальная школа должна ставить своей целью обучение учащихся только счету максимум до 500 и умению расписаться, а также распространение учения о том, что подчинение немцам, честность, прилежание и послушание являются божьей заповедью. Умение читать я считаю необязательным.
Кроме начальной школы, на Востоке вообще не должно быть никаких школ.
После осуществления этих мероприятий в течение ближайших десяти лет население генерал-губернаторства будет состоять из оставшихся местных жителей, признанных неполноценными.
Это население будет служить источником рабочей силы, поставлять Германии ежегодно сезонных рабочих и рабочих для производства особых работ (строительство дорог, каменоломни). При отсутствии собственной культуры это население будет призвано под строгим последовательным и справедливым руководством германского народа работать над созданием вечных памятников культуры и архитектуры Германии и, может быть, благодаря этому окажется возможным выполнить эти работы, поскольку дело касается работ огромных масштабов.
Прокуратура при народной судебной палате.
Фрау Нейбауэр, Кельн, Бетховен-штрассе, 7.
Дело № 31301/44
Счет по делу Густава Нейбауэра, обвиняемого в разложении вооруженных сил
№ п/п, Наименование расхода и его основание: Стоимость в марках: Подлежит оплате марок пфеннигов
Пошлина с приговора о смертной казни: 300: -
Почтовые сборы, согласно № 72 закона о судебных издержках: 2 70
Плата адвокату Альсдорфу, прож, Берлин-Лихтерфельде/Ост.,81 Гертнерштрассе, 10а: 60
Расходы на содержание под стражей, согласно № 72 закона о судебных издержках:
за время предварительного заключения с 24.12.43 по 28.3.44, всего за 96 дней по 1 марке 50 пфеннигов: 144
за время после вынесения приговора до его исполнения с 29.3.44 по 8,5.44, всего за 40 дней по 1 марке 50 пфеннигов: 60
Стоимость приведения приговора в исполнение:
а) Приведение приговора в исполнение: 158: 18
Плюс почтовые расходы по пересылке счета: 12
Итого: 766: 80.
Юстасу.
Информация получена. Мы понимаем, как вам тяжело. Берегите себя.
Центр.
Штирлиц заплакал. Он отчего-то вспомнил весну двадцать первого года, свою первую командировку за кордон по делу похищенных из Гохрана бриллиантов диктатуры пролетариата; вспомнил тихий, красивый Таллинн, лицо Лиды Боссе и ее вопрос: «А вы мне на прощание скажете — «Товарищ, береги себя»?» И он услышал свой ответ ей: «Обязательно». Он тогда ответил усмешливо, он ведь молодой был тогда, моложе своего сына — на семь месяцев и три дня.
53. КАЖДОМУ — СВОЕ
После того как Аппель и Крыся вместе с Краухом и тремя разведчиками Седого были переправлены в горы, к партизанам, — на встречу с передовыми частями Красной Армии, — на запасной явке Седого в погребе собрались Коля, Вихрь, Аня, Тромпчинский и Берг.
Вихрь. Аня, хочешь спросить полковника обо мне?
Аня. Не надо. Я получила все от Бородина. Это важнее.
Вихрь. Спроси.
Берг. Девочка, я иначе не мог.
Вихрь. Почему?
Берг. Потому, что тогда я играл всерьез.
Коля. Ложная вербовка?
Берг. Да.
Вихрь. Когда вы от нее отказались?
Берг. Когда понял неизбежность конца. Врать про мою оппозиционность режиму с самого начала не буду, это недостойно. Я был за режим до тех пор, пока не понял его обреченности.
Аня. Вы знаете, что такое ненавидеть?
Берг. Я никогда не знал ненависти. Я всегда выполнял свой долг.
Вихрь. Аня, полковник помогает нам честно. Это проверено.
Берг. Что ж… Я могу ее понять.
Коля. Только понять?
Берг. Понять — значит оправдать.
Вихрь. Время! Берг, вы уходите со своими. Вас найдет человек, который даст вам половинку вот этой вашей фотографии. Возвращаю вам половинку вашего семейства. Дети остаются у вас, а сами вы — у меня.
Берг. Вы сохраняете юмор. Это великолепно.
Вихрь. До свидания, Берг.
Берг. Господа, как разведчик, я должен сказать, что восхищен вашей работой. Вам помогал Бог. До свидания. — Он обернулся к Коле: — Отто, мне подождать вас здесь или выйти?
Коля. Подождите здесь.
Вихрь. Коля, ну-ка отойдем…
Коля. Иду.
Вихрь. Коленька, он тебе уже выдал документы?
Коля. Да. Я откомандирован командованием группы армий «А» в штаб РОА, к Власову, в Прагу.
Вихрь. Коленька, держись, братишка. Слова банальные, но иначе не скажешь…
Коля. Спасибо тебе, Вихрь.
Вихрь. Это за что?
Коля. Просто так.
Вихрь. И тебе спасибо. Все помнишь?
Коля. Каждую субботу с девяти до десяти возле входа в отель «Адлон» меня будет ждать связь.
Вихрь. Человек с двумя кульками хрустящей картошки. Пароль…
Коля. Я все помню.
Вихрь. Если что — уходи через фронт…
Коля. Если что — скажи маме про… отца…
Вихрь. Все будет, как надо. Ты сам скажешь ей.
Коля. Ну, давай.
Вихрь. Счастливо, Коленька. До встречи…
Коля. Счастливо, Ветерок… До встречи…
— Аня…
— Да?
— Девочка, ты уйдешь на конспиративную квартиру Палека.
— Нет.
— Что?
— Никуда я от вас не уйду.
— Родная, давай не будем устраивать кино с приказами. Я не стану вращать глазами и шептать: «Я тебе приказываю». Анечка, я просто тебя прошу.
— А я вас прошу.
— Ты почему меня называешь на «вы»?
— Потому, что я вас люблю.
— Неловко, они нас ждут…
— Ну и пусть…
— Анечка, курносый мой человечек… Ты уйдешь…
— Знаете, я вот часто думаю: мы такие красивые слова научились говорить, а все равно обижаем друг друга. Обидеть очень легко. В мыслях, усмешкой, взглядом. А особенно легко мужчине обидеть женщину.
— О чем ты?
— О том, что мне просто не для кого жить, если я останусь одна.
— Я вернусь. Мы все вернемся, о чем ты? Мы встретим наши танки и вернемся.
— Война — это ж не расписание поездов.
— Ну вот что…
— Я никуда от вас не уйду. Я, как собака, пойду за вами. Хотите — можете пристрелить.
— Как мне доказать тебе, что это нелепо?
— Очень просто.
— Ну?
— Взять меня с собой.
Вихрь отошел к Седому и сказал: — Товарищи, прошу всех сверить часы. Завтра мы увидим наших. В два часа ночи… Нам поставлена задача нарушить кабель взрыва Кракова.
В одиннадцать часов вечера, когда по шоссе от Кракова отступали войска немцев, в трестах метрах от них на снежном поле, в маскировочных халатах, работали Вихрь, Аня, Тромпчинский, Седой и его люди. Они долбили мерзлую землю и оттаскивали ее в белых мешках в лес. Они продирались сквозь окровавленную, ледяную, коричневую, острую землю к тому кабелю, в котором была смерть Кракова. Шурф становился с каждым часом все шире и глубже, и вот руки Вихря тронули бронированный кабель. Вихрь лег на спину и увидел небо, а в небе, среди звезд, совсем рядом с собой бледное лицо Ани.
— Все в порядке, девочка, — сказал он, — здесь. Давайте шашку, братцы, будем рвать. Вот он — кабель.
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ
…После четырех дней наступательных операций на советско-германском фронте я имею теперь возможность сообщить Вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развертывается удовлетворительно. Весь центральный фронт, от Карпат до Балтийского моря, находится в движении на запад. Хотя немцы сопротивляются отчаянно, они все же вынуждены отступать. Не сомневаюсь, что немцам придется разбросать свои резервы между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления на западном фронте. Я рад, что это обстоятельство облегчит положение союзных войск и ускорит подготовку намеченного генералом Эйзенхауэром наступления.
Что касается советских войск, то можете не сомневаться, что они, несмотря на имеющиеся трудности, сделают все возможное для того, чтобы предпринятый ими удар по немцам оказался максимально эффективным.
В форте Пастерник раздался телефонный звонок из полевого штаба, покинувшего Краков еще вчера.
— Либенштейн, — прокричал Крюгер, — рвите к черту этот вшивый город, войска уже прошли!
Либенштейн приказал эсэсовцам из охраны:
— Заводите машины, уезжаем!
Он подошел к большим черно-красным кнопкам и, глубоко вздохнув, нажал их. Чуть присел, ожидая взрыва. Взрыва не было. Либенштейн открыл глаза и медленно выдохнул воздух. Он снова нажал на кнопки, и снова взрыва не последовало.
Зазвонил телефон.
— Ну?! — орал шеф гестапо. — Что вы там тянете?!
— Я нажимал на кнопки. Взрыва нет.
— Что?! Вы с ума сошли!
— Бригадефюрер…
— Берите охрану, у вас там сто человек СС, и пройдите по всему кабелю! По всему! Ясно вам?!
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА
…Подвиги, совершенные Вашими героическими воинами раньше, и эффективность, которую они уже продемонстрировали в этом наступлении, дают все основания надеяться на скорые успехи наших войск на обоих фронтах. Время, необходимое для того, чтобы заставить капитулировать наших варварских противников, будет резко сокращено умелой координацией наших совместных усилий…
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
…От имени Правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и принести поздравления по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на восточном фронте.
Реакция Гитлера на сообщение о стремительном прорыве русских войск маршалов Жукова и Конева была неожиданной. Это сообщение фюреру передали во время обеда: если дела этого требовали, Гитлер прерывал обед.
По прежним временам Гитлер наверняка выскочил бы из-за стола и отправился в соседнюю комнату — к военным. Но — и это было главное, что поразило Бормана, — Гитлер только чуть согнулся над тарелкой, мгновение сидел, как бы замерев, а потом отодвинул вареную свеклу с луком и попросил:
— Очень хочется кофе… Занятная деталь — мой пес Блонди тоже вегетарианец, я наблюдаю за ним довольно долго. Видимо, это разумно, раз животные своим инстинктом дошли до этого.
Когда подали кофе, Гитлер отпил маленький глоток и чуть улыбнулся:
— Помню, как-то я поехал в лагерь молодежи «Арбайтсдинст». Меня окружили бронзоволицые, развитые, прекрасно сложенные молодые люди. И я подумал: какая же глупость происходит в нашем кино! Продюсеры подбирают себе на главные роли кретинов — сморщенных, горбатых, некрасивых мужчин. Неужели Германия бедна героями? Разве молодые люди из этого лагеря не могут стать звездами экрана? Специфика работы с актером? Я не знаю большего абсурда, чем эта отговорка! Конечно, это будет смелый эксперимент, если в кино пойдут сами герои из жизни: с фронта, из трудовых лагерей, от машин. Бояться критики?! Дайте десяти критикам написать в десяти газетах об одной и той же вещи, и вы решите, что каждый из них писал о чем-то другом. Критика — самовыражение неудачников. Как они травили Вебера! Или «Кармен» великого Визе? Критики сдохли и забыты, а Визе жив! Именно всяческие критики и толкователи придумали бредовую идею о том, что Иисус — еврей. Иисус — сын римского легионера! Мать его могла еще, да и то с большой натяжкой, быть еврейкой. Какой же Иисус еврей, когда он всю жизнь боролся против материализма?! А материализм — это евреи, и только евреи. Они все сотканы из эгоизма! И этот эгоизм, въевшийся в их плоть и кровь, не позволяет им рисковать в борьбе за жизнь, они дают убивать себя, как кролики. Конец этой войны будет финалом всей еврейской нации. Между прочим, я заметил: ни в одной стране так плохо не играют Шекспира, как в Англии. Вам нравится кофе?
— Кофе прекрасен, — ответил Борман. — Да, кстати, я совершенно не могу читать «Фёлькишер беобахтер». Розенберг калечит язык. Скоро придется писать: «Фёлькишер беобахтер балтийского издания». Нельзя так засорять язык грязными словами весьма сомнительного происхождения. Розенберг воспитывался в Латвии, а латыши — это свинская нация, которую использовали большевики как хотели и когда хотели.
— Я передам Розенбергу, мой фюрер…
— Не надо. Он очень обидчив. Зачем обижать его? Надо найти какой-то иной способ тактично помочь ему. Но помочь надо, хотя Бог помогает только тем, кто сам помогает себе.
Гитлер долго смотрел в коричневую гущу, оставшуюся на дне чашки, вздохнул, плечи его опустились, кожу возле виска свело тиком. Он притронулся к виску указательным пальцем, испуганно отдернул руку, быстро посмотрел на Бормана — понял ли тот его испуг, снова вздохнул, потом вымученно улыбнулся и сказал:
— Пусть подберут какой-нибудь хороший фильм. Очень хочется посмотреть хороший веселый фильм.
Он поднялся, и у Бормана сжалось сердце. Гитлер был сгорбленный, нога волочилась, правая рука тряслась, а на лице замерла виноватая, добрая улыбка.
— Между прочим, — сказал Гитлер. — Заукель как-то рассказывал мне, что большинство русских девиц, которых привозили в Германию на работу, при медицинском осмотре оказывались невинными. Одна из форм варварства — хранить невинность… Ну, хорошо… Хорошо… Итак, фильм…
Вихрь держал оборону два часа. Он бы не удержался — он был ранен в грудь, в живот и в обе ноги. Аня лежала рядом с ним без сознания, лицо белое-белое, спокойное, без единой морщинки, очень спокойное и красивое. Седой катался по снегу, и вокруг него было красно: осколком мины ему оторвало руку у самого плеча… Тромпчинскому пуля выбила глаз. Остальные были убиты, а эсэсовцы наседали со всех сторон. Вихрь не удержался бы, потому что снег уже казался ему розовым, нет, не розовым, а черным, нет, не черным, он казался ему песчаной отмелью на Днепре; нет, он казался ему снегом, белым, колючим снегом, и он снова стрелял и стрелял короткими, точными очередями. А потом толчок в шею — он перестал видеть и чувствовать. И перестал стрелять.
Но в это время эсэсовцы побежали — по шоссе неслись русские танки.
Председатель имперского суда Фрейслер вошел в зал со свитой: все были в черных мантиях, черных четырехугольных шапочках, на груди имперская эмблема. Все поднялись. Трауб встать не мог: его подняли под руки двое полицейских.
— Хайль Гитлер! — крикнул Фрейслер.
Голос его был гулок, изо рта вылетело облачко белого пара: в народном суде третьего рейха перестали топить.
— За измену родине, за передачу врагу секретных планов командования Трауб приговаривается к смертной казни.
16 марта 1945 года Трауб был гильотинирован.
54. НЕ ЭПИЛОГ
В Праге моросил дождь. Влтава возле Карлова моста пенилась, зло кричали чайки, метались над водой, присаживались на мгновение и снова взмывали в низкое, серое, взлохмаченное небо.
Коля сидел в номере у Берга и слушал радио. Говорила Москва. Коля то и дело отбегал к двери, слушал — не идет ли кто по коридору. Берг жил в гостинице вместе с офицерами СД и гестапо — здесь Москву никто не слушал, считая это непатриотичным.
Возвращаясь от двери к приемнику, Коля замер, потому что явственно услышал Левитана:
— За выполнение заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками майор Бурлаков Андрей Федорович и младший лейтенант Лебедева Евгения Сергеевна награждены орденом Ленина посмертно…
Коля шел по вечерней Праге. В лицо ему бил ветер с дождем. Дождь был теплый, весенний и казался Коле соленым, как морские брызги. По городу ползли танки. Через большие тарелки репродукторов, укрепленных на фонарных столбах, передавали нацистские марши. Бравурная музыка грохотала в пустом городе: наступил комендантский час, на улицы выходить запрещалось.
Возле гостиницы «Адлон» Коля остановился и начал сосредоточенно рассматривать объявления командования, наклеенные на шершавую серую стену. Он сейчас не видел ни стены, ни приказов, он сейчас вообще ничего не видел и не слышал, кроме последнего левитанского слова «посмертно». Он еще как-то не мог до конца понять это слово, он не смел представить Вихря и Анюту убитыми; он был весь зажат и поэтому не сразу увидел офицера СД, который прохаживался возле входа в офицерский отель, зажав в руке два кулечка с жареной, хрустящей картошкой. Офицер СД остановился возле Коли и спросил:
— У вас нет с собой зажигалки? В моей бензин кончился…
Коля обернулся, козырнул офицеру и протянул ему зажигалку. Тот прикурил, глубоко затянулся и сказал:
— В Праге все дождь, дождь… Когда же солнце?
Коля медленно ответил словами своего отзыва:
— Рано или поздно погода улучшится… Я верю, что скоро будет солнце…
Офицер СД чуть улыбнулся и протянул Коле зажигалку:
— Спасибо, — сказал он, — вы меня выручили… Я только-только прилетел сюда, совсем не знаю города. Может быть, вы согласитесь стать моим гидом на сегодняшний вечер?
— Почту за честь, — ответил Коля, и они медленно пошли по ночной Праге.
По-прежнему лил дождь. Танковая колонна прошла. Было тихо. Шаги гулко ударялись в напряженные и настороженные спины домов.
— Завтра в это же время, — тихо сказал офицер в форме СД, — возле Карпова моста вас будут ждать три человека из подполья. Пароль наш. Отзыв тот же…
Прага — Берлин — Краков
Примечания
1
Выглёнд — внешний вид (польск.).
(обратно)

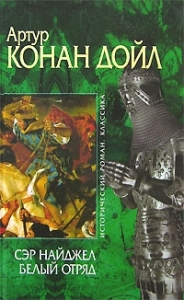




Комментарии к книге «Майор «Вихрь»», Юлиан Семенов
Всего 0 комментариев