Артуро Перес-Реверте Капитан Алатристе
I. Капитан Алатристе
Как под рокот барабана
Под командой капитана
Шли мы, братцы, в дальний путь,
Капитан страдал от раны,
Помни, братцы, капитана,
Помянуть не позабудь.
Э. Маркиш, «Солнце село во Фландрии»[1]Глава 1. Таверна «У Турка»
Нет, он был не самый честный и не самый милосердный человек на свете. А вот потягаться с ним в отваге смогли бы немногие. Звали его Диего Алатристе-и-Тенорио, некогда служил он в солдатах, воевал во Фландрии, а в пору нашего с ним знакомства жил в Мадриде. Жил, по правде говоря, скудно и трудно, кое-как сводя концы с концами, зарабатывая себе на пропитание разными малопочтенными занятиями: ну, например, превосходно владея шпагой, предлагал свои услуги, тем, у кого не хватало мужества или мастерства справиться с собственными неприятностями самим. Вот и приглашали нашего капитана вступиться за честь обманутого мужа, доказать невесть откуда взявшимся наследникам всю неосновательность их притязаний, а с кого-то, скажем, получить просроченный или недоплаченный карточный должок. Ну и прочее в том же роде. Не судите, господа, слишком строго – в те времена в испанской столице многие кормились, так сказать, с острия клинка, поджидая жертву где-нибудь в кустах или затевая с ней ссору на перекрестке. С такими делами Диего Алатристе справлялся блистательно.
Проворен был он в тот миг, когда шпаги вылетали из ножен, искусен в обращении с узким длинным кинжалом, именуемым еще бискайцем, к помощи которого так охотно прибегают профессиональные головорезы. Ну, значит, в правой – шпага, в левой – бискаец. Противник, чинно став в позицию, намеревается парировать и наносить удары по всем правилам фехтовальной изысканности, и тут вдруг откуда-то снизу по самую рукоять въезжает ему прямо в брюхо кинжал, стремительный, как молния и не менее смертоносный. Да… Говорю ж вам, господа, времена были лихие.
Итак, капитан Алатристе хлеб свой насущный добывал шпагой. Кстати, насколько я знаю, «капитан» – это было не звание, а прозвище. Пристало же оно к нему издавна, с тех пор, как он служил в королевской пехоте и однажды ночью вместе с двадцатью девятью товарищами под началом настоящего капитана должен был переплыть полузамерзшую речку и, со шпагой в зубах, раздевшись до исподнего, чтоб не выделяться на снегу – господи, чего только не сделаешь во славу Испании! – незаметно подобраться к аванпостам противника и напасть на голландцев врасплох. Почему на голландцев? Потому что в тот год воевали мы с голландцами, которые высказались в том смысле, что знать нас больше не знают и видеть не хотят, то есть вздумали провозгласить независимость. Вышло в конечном итоге по-ихнему, хоть и доставалось им от нас крепко. Ну, замысел состоял в том, чтобы форсировать реку, закрепиться на берегу на отмели, у запруды или еще дьявол знает где и держаться, пока на рассвете войска его – нашего то есть – королевского величества – не пойдут в атаку и не соединятся с ними. Короче, передовое охранение, как полагается, перекололи, не дав даже «мама» сказать. Когда околевшие от холода наши стали выпрыгивать из воды и для сугреву резать еретиков, те дрыхли, как сурки, и так вот, не просыпаясь, отправились прямо в пекло, ну, или где им, проклятым лютеранам, уготовано место.
Все было хорошо, одно плохо: пришел рассвет, настало утро, а на выручку к нашим храбрецам никто не подоспел, главные силы испанского войска так и не ударили. Как потом выяснилось, чего-то там между собой не поделили наши полководцы. Чтоб не рассусоливать, скажу, что тридцать испанцев с капитаном во главе брошены оказались на произвол судьбы, предоставлены самим себе – хоть молись, хоть бранись, хоть помирать ложись – и окружены голландцами, которые были весьма расположены сквитаться с ними за своих зарезанных товарищей.
Тухлое вышло дело, тухлей, чем у Непобедимой Армады, что утопла при нашем славном государе Филиппе Втором. Денек выдался долгий и, прямо сказать, тяжкий. Для ясности упомяну лишь, что с наступлением темноты только двоим удалось вернуться на наш берег. И одним из этих двоих был Диего Алатристе, который, когда настоящего капитана еще при самом начале, в первой же стычке пропороли насквозь, так что стальное острие вышло из-под лопатки пяди на две, вскричал: «Слушай мою команду!» – вот и стали к нему обращаться «капитан», хоть он и не успел толком походить в этом чине. Калиф на час, капитан на день, командир прижатого к реке отряда обреченных, которые дорого продали свою шкуру и один за другим, матерясь, как пристало истинным кастильцам, убыли на тот свет. Что ж, бывает – война убивает, вода топит. Нам, испанцам, не привыкать.
Ну, короче. Вторым из тех, кто уцелел в том бою и выбрался на наш берег, был мой отец. Звали его Лопе Бальбоа, был он родом из провинции Гипускоа и тоже не трус. Говорили, что они с Диего Алатристе – закадычные друзья, почти братья, и, должно быть, правду говорили, ибо когда при штурме бастиона Юлих отца моего прошила аркебузная пуля – отчего он и не попал на картину «Сдача Бреды», не в пример своему другу Алатристе, которого-то художник Веласкес как раз запечатлел на ней справа, прямо за лошадиным крупом, – капитан поклялся, что не оставит меня и, как подрасту, выведет в люди. По этой самой причине, едва лишь минуло мне тринадцать, мать сложила в котомку штаны да рубашку освященные четки да краюшку хлеба и отправила меня к капитану, благо было с кем – двоюродный ее брат очень кстати ехал в Мадрид. Так вот и поступил я к другу моего отца не то на службу, не то в услужение.
Положа руку на сердце, скажу, что едва ли женщина, подарившая мне жизнь, так легко бы отпустила меня, знай она получше, к кому я попаду. Думается мне, однако, что чин, пусть и ненастоящий, возвысил его обладателя в глазах моей родительницы.
Примите также в расчет и то, что при слабом здоровье у нее на руках были еще две дочери. А потому она обрадовалась, что избавится от лишнего рта, и дала мне возможность попытать счастья в столице.
Таким-то вот манером, не обременяя себя подробными расспросами о грядущем моем благодетеле, снарядила она сынка в дорогу, сопроводив пространным письмом, которое написал под ее диктовку наш приходский священник, а в письме этом напоминала Диего Алатристе, какие обязательства взял он, какие обещания дал в память дружества с моим покойным отцом. Помнится, когда я только попал к капитану, он совсем недавно вернулся из Фландрии, и жуткая рана, полученная им под Флерюсом, была еще свежа и доставляла ему много мучений, так что, затаясь на своем топчане, подобно мышке робкой и пугливой, слышал я, как всю ночь напролет ходит он по комнате из угла в угол, как мерит ее шагами вдоль и поперек не в силах забыться сном. Когда же боль на время отступала, вперемежку слетали с его уст строчка Лопе, куплет какой-то песенки, брань или обращенное к самому себе замечание, свидетельствующее о том, что он воспринимает все, что стряслось с ним как должное и даже находит в этом нечто забавное. Капитану вообще свойственно было считать всякое несчастье или беду не более чем злой шуткой, которую по извращенности вкуса и в видах собственного удовольствия шутит над ним время от времени какой-то давний его знакомец. Не тем ли объяснялось и своеобразие его остроумия – бесстрастно-горького и безнадежно-мрачного?
Давно все это было – так давно, что иные даты стали путаться у меня в памяти. Однако твердо помню – то, о чем я собираюсь вам поведать, произошло в тысяча шестьсот двадцать каком-то году. История с людьми в масках и двумя англичанами породила немало толков при дворе, а капитана, хоть он чудом и спас свою шкуру, и без того изрядно попорченную голландскими солдатами, берберийскими пиратами да и турками не раз дырявленную, наделила двумя врагами, не дававшими ему покою и роздыху до самой могилы. Я имею в виду Луиса де Алькесара, исполнявшего при нашем государе секретарские обязанности, и опаснейшего наемного убийцу, молчаливого итальянского головореза по имени Гвальтерио Малатеста, который до такой степени привык убивать в спину, что впадал в глубочайшую тоску всякий раз, как должен был нанести смертельный удар, глядя жертве в глаза, ибо в сем случае мнилось ему, будто он лишился умения своего и навыка. В тот самый год влюбился я, как телок, влюбился впервые и навсегда в Анхеликуде Алькесар, существо порочное и испорченное, воплощенное Зло, принявшее облик беленькой девочки лет одиннадцати-двенадцати.
Но, впрочем, обо всем по порядку.
* * *
Я был крещен именем Иньиго. И это было первое слово, которое произнес капитан Алатристе, выйдя из тюрьмы, где за долги просидел три недели, кормясь от щедрот казны. Что касается щедрот – не поймите меня буквально, ибо и в этой каталажке, и во всех прочих исправительных заведениях того времени арестант получал лишь те блага – включая и пресловутый корм, – какие мог оплатить из собственного кармана. А у капитана в кармане оказалась лишь полузадушенная арканом блоха – зато, по счастью, остались друзья на воле. И они его не бросили в беде и заключении, тяготы которого помогали сносить всякая съестная всячина, при моем посредстве передаваемая ему Каридад Непрухой, содержательницей таверны «У Турка», и сколько-то там реалов, собранных его приятелями – доном Франсиско де Кеведо, Хуаном Вигонем и кое-кем еще. Что же до всего прочего – а под прочим я разумею неотъемлемые от каталажки неприятности – капитан был из тех, кто одинаково хорошо умеет себя поставить и за себя постоять. В те времена очень даже в ходу среди арестантов был прискорбный камерный обычай освобождать своих же товарищей по несчастью от излишнего добра, то есть – от добротной одежды или обувки. Но Диего Алатристе был в Мадриде человек известный, ну а тот, кто не знавал его прежде, очень скоро получал возможность убедиться, что обходиться с капитаном следует как можно – или нельзя – более учтиво: оно для здоровья полезней. Как впоследствии выяснилось, ввергнутый в узилище капитан первым делом подошел к самому отпетому громиле, державшему в страхе всю камеру, и, после любезного приветствия, приставил ему к горлу короткий нож, на бойнях именуемый обвалочным, который сумел пронести благодаря нескольким медякам, вовремя сунутым надзирателю. Этот демарш возымел последствия чудодейственные. После того как капитан столь недвусмысленно обнародовал свои житейские воззрения, никто уже более не осмеливался докучать ему, так что он, завернувшись в плащ и выбрав уголок почище, спокойно ложился спать, и лучшей защитой служила ему репутация человека, с которым шутки плохи.
Великодушно делимые на всех передачи от Каридад и вино, приобретению коего споспешествовали приятели на воле, в изрядной степени помогли упрочить дружеские связи с сокамерниками, не исключая и того самого, с кем в первый день вышла небольшая, как сказал бы дон Франсиско Кеведо, разно…гм!…стопица. Тот был родом из Кордовы, носил неблагозвучное имя Бартоло Типун и при ближайшем рассмотрении оказался вовсе не таким уж закоренелым злодеем, хоть и неоднократно по вине буйного своего нрава помещаем бывал за решетку ..Да что говорить, в избытке обладал Диего Алатристе этим даром – он бы и в аду завел друзей.
Знаете, так давно это было, что даже не верится.
Я запамятовал, какой в ту пору год стукнул нашему столетию – двадцать второй или двадцать третий – но помню точно, что когда капитан вышел из тюрьмы, от синей студеной свежести мадридского утра перехватывало дыхание. С того дня, который – оба мы тогда об этом даже не догадывались – так круто переменил нашу с капитаном жизнь, прошло немало времени, и немало воды утекло под мостами Мансанареса, но как сейчас вижу я перед собой осунувшегося, обросшего щетиной Диего Алатристе: вот переступил он порог, и обитая гвоздями деревянная черная дверь, закрылась у него за спиной.
Вижу, как он сощурился и заморгал от ударившего в лицо ослепительного утреннего сияния, вижу густые усы, закрывающие верхнюю губу, вижу стройную фигуру в плаще, вижу, как, заметив меня на каменной скамье посреди площади, он улыбнулся одними глазами – светлыми, чуть прижмуренными.
Надо сказать, взгляд у капитана был какой-то особенный: обычно пронзительно ясный и будто подернутый тонким ледком, как вода в озерце зимним утром, он порою вдруг теплел, делаясь дружелюбным и приветливым, и тогда казалось, что жаркий луч пробил ледяную корку, хотя лицо сохраняло бесстрастную и невозмутимую значительность. Была у него и другая улыбка – приберегалась для тех случаев, когда грозила опасность или томила печаль: тогда, встопорщивая ус, слегка кривились влево уголки губ, и на лице появлялась либо угроза, неотвратимая, как разящий удар шпаги – он, впрочем, следовал без промедления – либо глубокая скорбь. Последнее случалось в те дни, когда капитан в полном молчании и совершенном одиночестве выпивал в один присест несколько бутылок вина.
Высосет литра три с лишним – и ничего: только время от времени характерным своим жестом утрет усы, вперив неподвижный взгляд в стену. «Призраков отгоняю», – говаривал он в таких случаях, хотя ни разу не удалось ему сделать так, чтобы они сгинули навсегда.
В то утро, заметив, что я поджидаю его на площади, он улыбнулся мне своей первой улыбкой: лицо осталось каменно непроницаемым, речи сохранили суровую краткость, но глаза, выдавая истинные его чувства, засветились приветливо. Потом огляделся по сторонам и, явно довольный тем, что у ворот его не подкарауливает никто из кредиторов, подошел ко мне, сбросил, не боясь озябнуть, плащ, туго свернул его и сунул мне в руки со словами:
– Иньиго, сожги его. Клопы кишмя кишат.
От плаща, как и от его владельца, пахло сильно и скверно. Прочая одежда капитана тоже полна была этими кровожадными тварями так, словно он собрался разводить их на продажу. Но это выяснилось через час, в банях Мендо-тосканца, отставного солдата, некогда служившего в Неаполе, а ныне – цирюльника. Он чрезвычайно ценил и уважал капитана. Появившись в его заведении со сменой чистого белья и верхним платьем, извлеченными из горбатого сундука, который заменял нам гардероб, я обнаружил, что Диего Алатристе стоит в деревянной лохани, полной грязной воды, и вытирается. Он был уже на славу выбрит тосканцем, и короткие каштановые, еще влажные волосы, причесанные на прямой пробор, открывали широкий лоб, посмуглевший под солнцем тюремного дворика и украшенный маленьким шрамом чуть выше левой брови.
Когда капитан вытерся и отбросил полотенце, обнаружились и другие памятные отметины, мне, впрочем, уже известные. Один шрам полумесяцем тянулся от правого соска к пупку. Другой зигзагом пересекал бедро. Все три были следами ран, именуемых колотыми, резаными, рублеными, тогда как четвертый, на спине, напоминал звезду и тем самым непреложно свидетельствовал о происхождении огнестрельном. Пятая, еще не вполне затянувшаяся рана, которая так ныла по ночам, не давая капитану заснуть, являла собой лиловатый рубец чуть не в ладонь шириной, помещалась на левой лопатке, получена была в битве при Флерюсе больше года назад, но время от времени открывалась и нагнаивалась.
Впрочем, в тот день, о котором я веду речь, она была в пристойном состоянии.
Я разглядывал капитана, а он тем временем неспешно и рассеянно одевался – натянул темно-серый колет и – поверх заштопанных во многих местах чулок – штаны, сшитые по валлонской моде, то есть собранные в коленях и зашнурованные. Туго перетянул стан кожаным поясом, который я в его отсутствие не забывал усердно смазывать свиным салом, пристегнул к нему шпагу с массивной поперечной рукоятью, иначе еще именуемой крестовиной – чужие клинки оставили на чашке и эфесе множество зазубрин, вмятин и царапин. Хорошая длинная шпага работы толедского оружейника – от протяжного «з-з-з-зык», с которым она выскальзывала из ножен или в ножны возвращалась, мурашки шли по коже.
Завершив туалет, капитан погляделся в выщербленное зеркало и промолвил с усталой улыбкой:
– Клянусь богом, сейчас умру от жажды.
Не добавив к этому ни слова, он спустился по лестнице, вышел на улицу и прямиком двинулся к таверне «У Турка». Оставшись без плаща, капитан выбрал солнечную сторону и зашагал по ней с высоко поднятой головой. Отвечая на приветствия знакомых, он подносил руку к своей широкополой шляпе с вылинявшим и потрепанным красным пером, а при встрече с дамами из общества – снимал ее вовсе. Я поспевал следом, разглядывая уличных мальчишек, игравших на мостовой, зеленщиц, толпившихся в колоннаде, и праздных зевак, галдевших у церкви иезуитов. Никогда не была мне свойственна чрезмерная наивность, да и месяцы, проведенные в Мадриде, возымели должное действие, обтесав меня, так сказать, и ошкурив, но все же был я в ту пору очень юн – сущий молокосос – и с неуемным любопытством взирал на открывающийся мне мир, стараясь не упустить самомалейшей подробности его устройства. Тем временем сзади зацокали копыта мулов, загремели по мостовой колеса, и с нами поравнялась карета. Поначалу я лишь мельком взглянул на нее: мало ли экипажей катит по улице Толедо, выходящей прямо к Пласа-Майор и к королевскому дворцу? Но, повернув голову, увидел дверцу без герба и в окошке – девочку с белокурыми локонами. Я раньше и не представлял себе, что бывают глаза такой синевы, такой чистоты и что могут они так переворачивать душу. Мгновенье мы смотрели друг на друга, а потом карета загрохотала вниз по улице, увозя синие глаза и их обладательницу прочь.
В тот миг я затрепетал, толком не понимая, почему.
О знать бы, что минуту назад взглянул на меня сам Дьявол.
* * *
– Придется подраться, – повторил дон Франсиско Кеведо.
Стол был уставлен порожними бутылками, а ведь известно, что всякий раз, как дон Франсиско опрокинет сколько-то стаканов «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас» – что происходило с завидной регулярностью, – он хватается за шпагу и лезет в драку, причем – все равно, с кем. Дон Франсиско Кеведо, забулдыга и задира, поэт и рыцарь ордена Сантьяго[2], подслеповатый волокита, был остер на язык, тяжел на руку, стихи его были изрядны, а неурядицы – бесчисленны. Он кочевал из тюрьмы в каталажку, из ссылки в изгнание, ибо нашему всемилостивейшему государю Филиппу Четвертому и его доблестному министру графу Оливаресу как и всем мадридцам, чрезвычайно нравились бьющие не в бровь, а в глаз стихи дона Франсиско, но вовсе не улыбалось быть в стихах этих главными героями.
Так что бывало не раз и не два, что после появления очередного сонета или эпиграммы, принадлежащих перу неведомого автора хотя в том, что перо это держала длань дона Франсиско, сомнений не возникало ни у кого – полицейские, иначе называемые альгвасилами, вламывались в дом, где он жил, или в кабак, где пил, или в притон, где спал, и почтительно приглашали его следовать за ними, изымая, так сказать, из обращения на сколько-то дней или месяцев. Поэт был упрям и горд, голосу благоразумия внимать не желал, и подобные происшествия случались часто, а характер Кеведо портился непоправимо. Тем не менее он оставался душой всякого застолья и верным, испытанным другом своих друзей. Был среди них и капитан Алатристе. Оба захаживали в таверну «У турка», где занимали лучший стол, неизменно оставляемый для них вышепомянутой Каридад Непрухой, которая в былые дни ласки свои расточала за деньги всем желающим, а теперь дарила бесплатно – но одному лишь, капитану. Компанию Диего Алатристе и дону Франсиско составляли в тот день еще несколько завсегдатаев – лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес и Фадрике-Кривой, аптекарь с Пуэрта-Серрада.
– Нет, придется подраться, – упорствовал поэт.
Как я уже сказал, винные пары произвели на него свое обычное одушевляющее действие. Опрокинув табурет, он вскочил, взялся за рукоять шпаги и метнул испепеляющий взгляд на двоих чужестранцев за соседним столом: повесив свои длинные плащи и портупеи со шпагами на вбитые в стену гвозди, они мирно выпивали и только что похвалили нашего поэта за стихотворение, написанное отнюдь не им, а совсем наоборот – заклятым его врагом и главным соперником на ниве изящной словесности доном Луисом де Гонгорой, которого дон Франсиско Кеведо люто ненавидел и обвинял во всех смертных грехах, называя содомитом и иудейской собакой. Чужестранцы пали жертвой добросовестного заблуждения и отнюдь не хотели обидеть дона Франсиско, но не таков был дон Франсиско, чтобы стерпеть обиду.
Свиным я сальцем строчки свои смажу, Чтоб пасть на них не разевал поганец – Быть может, тем предотвращу покражу…Так, не слишком твердо держась на ногах, начал он стихотворную отповедь, но собутыльники держали его, не давая выхватить шпагу и наброситься на чужестранцев, которые пытались объясниться и извиниться.
– Нет, черт возьми, это им так не сойдет! – Одолевая икоту, поэт пытался высвободиться, а другой рукой поправлял съехавшие очки. – Не-ет, сейчас мы все – ик! – расставим по местам!.. До печенок меня до – ик! – стали, значит, дело дошло до стали!
– Стоит ли так горячиться из-за сущих пустяков, дон Франсиско? – рассудительно молвил капитан.
– Это не я горячусь! – свирепо распушив усы и не сводя глаз с незнакомцев, отвечал поэт. – Это им сейчас станет горячо! Это – дворяне? Какие, к черту, дворяне? Дворняжки они, а не дворяне! Я бы даже сказал – «шавки»!
После таких слов чужестранцам ничего не оставалось, как, прихватив шпаги, двинуться к выходу, чтобы подождать оскорбителя на улице, а капитан и прочие, поняв, что дело заходит слишком далеко, обратились к ним с покорнейшей просьбой принять в расчет помраченное вином сознание дона Франсиско и отступить без боя, ибо нет чести в том, чтобы скрестить оружие с мертвецки пьяным, как не будет и бесчестья, если они благоразумно удалятся, не доводя дело до греха.
– Bella gerant alii[3], – попытался увещевать поэта преподобный Перес.
Этот священник-иезуит был настоятелем соседней церкви Святых Петра и Павла. Его добродушие и латинские изречения, произносимые им с неотразимой убедительностью, обычно помогали уладить ссору. Но эти двое чужестранцев латыни не знали, зато оскорбительное замечание насчет дворян и дворняжек пропустить мимо ушей никак не могли.
Кроме того, увещеваниям клирика помешал лиценциат Кальсонес, присяжный крючкотвор и природный сутяга, дневавший и ночевавший в судах и умевший превратить любое дело, за которое брался, в бесконечный процесс, длившийся, пока клиента не высасывали досуха, до самого донышка.
– Только до смерти не убивай их, дон Франсиско, – глумливо молвил он. – Чтоб было с кого судебные издержки взыскать.
После этого обстановка в таверне стала стремительно приближаться к той, о каких на следующий день оповещает газета в разделе «Происшествия». Капитан же Алатристе, хоть и не оставлял попыток утихомирить приятеля, осознал все же, что шпагу обнажить придется – не оставлять же дона Франсиско одного.
– Aio te vincere posse[4], – смиренно произнес преподобный Перес.
Лиценциат поднес ко рту стакан с вином, скрывая широкую улыбку. Алатристе же с глубоким вздохом принялся выбираться из-за стола. Кеведо, который успел пальца на четыре вытащить шпагу из ножен, поглядел на него с нежной благодарностью и даже нашел в себе силы продекламировать две только что сочиненные строчки:
Род Алатристе – с этим древом старым…– Дон Франсиско, не морочь мне голову, – неприветливо ответствовал капитан. – Раз уж так получилось, будем драться, но голову мне не морочь.
– Вот! Вот слова, достойные настоящего мужчины! – икнув, воскликнул поэт, явно радуясь сплетенной им интриге.
Прочие собутыльники единодушными возгласами подбадривали его, уподобясь преподобному Пересу, то есть бросив попытки примирения, и в глубине души предвкушали упоительное зрелище – дон Франсиско, даже в дым упитый, оставался грозным бойцом, участие же капитана Алатристе в предстоящей схватке не оставляло сомнений в ее исходе. Вопрос был лишь в том, сколько ударов шпагой получат на двоих чужеземцы, не ведавшие, в какую переделку влипли – по этому поводу присутствующие и заключали пари.
Капитан, уже поднявшись из-за стола, допил остававшееся в стакане вино, поглядел на чужеземцев так, словно заранее извинялся за все, что им предстоит, и, оберегая меблировку и утварь Каридад Непрухи, мотнул головой в сторону двери:
– Мы к вашим услугам, господа.
Те перепоясались шпагами, и все участники предстоящего действа вкупе со зрителями направились к выходу, пропуская друг друга вперед и стараясь не поворачиваться спиной, ибо памятовали, что все люди, конечно, братья, но большей частью – двоюродные. Они еще не успели покинуть таверну, а шпаги – ножны, когда к несказанному разочарованию публики и к несказанной радости Диего Алатристе в дверном проеме возникла всем хорошо известная фигура. На пороге стоял лейтенант королевской полиции Мартин Салданья.
– Испортил праздник, – заметил дон Франсиско Кеведо.
Пожал плечами, поправил съехавшие с переносицы очки, вернулся к столу и как ни в чем не бывало откупорил новую бутылку.
* * *
– Дело у меня к тебе.
Лейтенант Мартин Салданья был сух и тверд, как хорошо обожженный кирпич. Поверх камзола он имел обыкновение предусмотрительно надевать нагрудник из буйволовой кожи, отлично защищающий от ударов ножа, и был обвешан оружием с ног до головы – шпага, кинжал, кривой нож, пара пистолетов. Он тоже в свое время повоевал во Фландрии вместе с Диего Алатристе и моим покойным отцом, а когда наш покойный государь Филипп Третий заключил с голландцами перемирие и войска вернулись из Фландрии, много лет хлебал разнообразное лихо, мыкал горе, терпел нужду, однако в конце концов ухватил фортуну за ворот. Если мой родитель давно уже нюхал цветочки в райских кущах, а капитан, как уже было сказано, добывал себе хлеб насущный шпагой, Салданья при посредстве шурина, служившего при дворе в камер-лакеях, и супруги – женщины более чем зрелых лет, но еще сохранившей былую красоту – сумел устроиться в Мадриде. За что купил, за то и продаю – я был слишком юн тогда и многих подробностей не знал, – однако ходили слухи, будто некий коррехидор в благодарность за милости жены поспособствовал назначению мужа на должность лейтенанта альгвасилов, а иными словами, отдал ему под начало патрули, следившие за порядком в мадридских кварталах. Так оно было или иначе, никто в его присутствии не осмеливался намекать на то, чему и кому обязан он своей карьерой. Если даже и был Салданья рогоносцем, он, как человек большой храбрости и крутого нрава, видавший разные виды и во многих местах продырявленный, умел кулаками ли, клинком внушить к себе должное уважение. На иные чувства альгвасил в ту пору претендовать никак не мог. Он высоко ставил Алатристе и по мере сил всячески ему покровительствовал. Их, можно сказать, связывала старинная дружба, какая возникает у однополчан – дружба без соплей и слюней, искренняя и истинная.
– Дело? – переспросил капитан.
Прихватив по стакану вина, они уже вышли наружу и, прислонясь к стене, стояли на солнечной стороне улицы Толедо, разглядывая шагавших мимо прохожих и катящиеся кареты. Салданья несколько мгновений молча смотрел на приятеля, поглаживая густую седеющую бородку, которую недавно отпустил, чтобы скрыть шрам, тянувшийся от нижней губы до правого уха, – раньше он, как старый солдат, ограничивался лишь бакенбардами.
– Ты только что вышел из тюряги, и в кармане у тебя пусто, – промолвил он наконец. – День-два – и раздобудешь себе грошовую работенку: наймешься в провожатые к какому-нибудь юному вертопраху, чтобы брат его любовницы не пристукнул его на углу, или возложат на тебя ответственное поручение – отрезать уши несостоятельному должнику. Или начнешь обходить дозором дома публичные и игорные – потрошить заблудившихся иностранцев и блудящих попов, что тратят на девок содержимое церковной кружки… И для тебя это скверно кончится. Так ли, иначе ли, рано или поздно, но тебя непременно проткнут шпагой, зарежут из-за угла или схватят по доносу. – Он прихлебнул вина, не сводя сощуренных глаз с капитана. – Разве это жизнь?
Диего Алатристе пожал плечами:
– Другой нет.
И поглядел на старого товарища пристально и прямо, как бы говоря: «Не всем так пофартило как тебе». Салданья поковырял пальцем в зубах, дважды дернул головой сверху вниз. Оба знали, что, сложись обстоятельства иначе, не выпади ему счастливая карта, он оказался бы точно в таком же положении. По улицам и площадям Мадрида, таская за пазухой мятый ворох никчемных бумаг – рекомендательных писем и послужных списков, проку от которых не было ни малейшего, – бродили толпы отставных вояк, напрасно ожидавших счастливого поворота судьбы.
– С этим-то я к тебе и пришел. Ты кое-кому можешь пригодиться.
– Я или моя шпага?
Капитан встопорщил ус, что в подобных случаях означало улыбку. Салданья расхохотался.
– Что за дурацкий вопрос! Женщины притягательны своими прелестями, попы – отпущением грехов, старики – денежками… Ну а мы-то с тобой кому нужны без наших шпаг? – Помолчав, он оглянулся по сторонам, снова отхлебнул вина и, понизив голос, договорил:
– Речь идет об очень важных людях. Дело верное и не слишком опасное – не опасней прочих твоих затей… Обещаю – набьешь мошну.
Капитан поглядел на приятеля с интересом. В эту пору лишь слово «мошна» могло бы избавить его от погружения в глубочайший сон или в беспробудное пьянство.
– Сколько?
– Шестьдесят эскудо. Золотыми дублонами[5] по четыре.
– Недурно… – Зрачки светлых глаз Алатристе сузились. – Что, требуется пришить кого-нибудь?
Салданья уклончиво повел рукой, воровато оглянувшись на дверь таверны.
– По всей видимости, но в подробности я не посвящен… И слава богу. Меньше знаешь – крепче спишь. Мне известно лишь, что надо будет устроить засаду. Дождешься темноты, лицо закроешь, ну и прочее, как полагается. Главное – чтоб тихо и быстро. Как говорится, «ай, здравствуй и прощай».
– Один справлюсь?
– Вряд ли. Клиентов у тебя, видишь ли, двое. Надо будет положить их на месте или хотя бы пугнуть как следует. Оставить им хорошую зарубку на память. Тебя уведомят, что предпочтительней.
– А каких именно воробушков предстоит прихлопнуть?
Но Салданья досадливо мотнул головой, как бы показывая, что и так наговорил лишнего.
– В свое время тебе все скажут. Я ведь, так сказать, выступаю всего лишь посыльным.
Капитан в задумчивости опорожнил стакан. Надо вам сказать, что пятнадцати золотых дублонов с лихвой бы хватило, чтобы малость наладить бытие – купить белье и одежду, разделаться с долгами. Привести хотя бы в относительный порядок и человеческий вид наше с ним обиталище – две каморки, пристроенные над конюшней, но зато с отдельным входом с улицы Аркебузы. Поесть горяченького, не ставя себя в зависимость от великодушных ляжек Каридад.
– И, помимо всего прочего, – добавил Салданья, казалось, читавший его мысли, – этот заказ сведет тебя с важными людьми. Полезное знакомство может обеспечить твое будущее.
– Мое будущее… – эхом откликнулся погруженный в свои думы капитан.
Глава 2. Люди в масках
На темной улице не было ни души. Капитан Алатристе, завернувшись в старый плащ, одолженный у дона Франсиско Кеведо, остановился у каменной ограды. «Фонарь», – помнится, сказал Салданья. И в самом деле: небольшой фонарь освещал проем ворот, за которыми в переплетении ветвей угадывался темный дом. Было около полуночи – самое гнусное время, когда обыватели с криком «Поберегись!» выливают из окон нечистоты и прочую дрянь, наемные убийцы на неосвещенных улицах подкарауливают свою жертву, а грабители – припозднившегося прохожего. Но здесь не было – и, по всей видимости, вовсе никогда не бывало – соседей; царило полнейшее безмолвие. Что же касается злодеев, охочих до чужого имущества или жизни, то Диего Алатристе застать врасплох было трудно – сызмальства усвоил он главное правило жизни и выживания: в драке ты можешь и должен быть не менее опасен, чем тот, кто пересек твой путь. Не менее, а лучше – более. Пока все соответствовало полученным накануне указаниям – как минуешь старые ворота Святой Варвары, сверни направо и шагай, пока не увидишь каменную стену с фонарем над воротами. Вот стена, а вот фонарь. Капитан, чуточку помедлив, огляделся – причем так, чтобы свет фонаря не ослепил его и не помешал увидеть, что там таится во тьме – потом провел ладонью по нагруднику из буйволовой кожи, призванному смягчить удар, если не удастся отбить его. Пониже надвинул шляпу и медленно двинулся к воротам. За час до этого я наблюдал, как с обстоятельностью, присущей мастеру своего дела, он собирается в дорогу.
– Я вернусь поздно, Иньиго. Ложись спать, меня не жди.
Мы поужинали – похлебка с накрошенными в нее корками хлеба, бутылочка вина и два вкрутую сваренных яйца – а потом при свете сального огарка я взялся штопать вконец прохудившиеся штаны, капитан же вымыл в лохани лицо и руки и стал готовиться к выходу с тщательностью, в данном случае более чем уместной. Нет, не то чтобы он ожидал подвоха со стороны Мартина Салданьи, но, согласитесь: даже лейтенанта королевской полиции можно подкупить или обмануть. И случись со старинным Другом-приятелем подобная неприятность, Диего Алатристе не стал бы предъявлять Салданье чрезмерных претензий. В царствование доброго нашего государя Филиппа Четвертого, такого молодого, миловидного, милосердного, любвеобильного – и столько горя принесшего несчастным своим подданным, – за деньги можно было купить все что угодно. Включая совесть. Впрочем, положение дел не слишком изменилось с тех пор. И капитан принял все меры предосторожности: сзади за пояс заткнул рукоятью вниз пресловутый бискаец, в раструб правого голенища сунул нож, сослуживший ему такую славную службу в королевской каталажке. Покуда он проделывал все это, я время от времени посматривал на него и видел сосредоточенное, серьезное лицо – в дрожащем свете огарка щеки казались особенно впалыми, и особенно дерзко торчали черные, будто нарисованные, усы. Нет, нельзя сказать, чтобы капитан собирался в свое предприятие с легким сердцем: вот он повернулся к зеркалу, встретился со мной взглядом и отвел его тотчас, с некоторой даже поспешностью, словно опасался, что в светлых его глазах я прочту что-то неподобающее и ему несвойственное. Но – лишь на мгновение, а потом вновь глянул на меня открыто и прямо, с беглой улыбкой:
– Кушать-то нам с тобой надо…
И с этими словами туго затянул пояс с висевшей на нем шпагой – не желая уподобляться тем нахалам и бахвалам, которых в последнее время развелось такое множество, он только на войне, в походах, носил ее на перевязи через плечо, – попробовал, легко ли ходит она в ножнах, и набросил на плечи плащ, одолженный накануне у дона Франсиско. Кстати о плаще: он не только согревал бренное тело стылой мартовской ночью, было у него и иное, не менее полезное предназначение – на узких, скудно освещенных улицах нашего опасного Мадрида часто происходили стычки с применением оружия, сиречь поножовщина, и плащ, будучи перекинут через плечо или обмотан вокруг левой руки, служил прекрасной защитой от ударов противника, а брошенный на его шпагу, помогал сковать на миг его движения – а этого достаточно, чтобы сделать неотразимый выпад. Не будем лукавить: в конце концов, когда на кону собственная шкура, играть, разумеется, можно и по правилам, почему бы и нет; вы спасете свою бессмертную душу и обретете жизнь вечную. Однако в земной жизни честная игра есть наилучший способ переселиться с этого света на тот, имея весьма глупый вид и хороший кусок отточенной стали в печени. Диего же Алатристе нашу слезную юдоль покинуть не спешил.
* * *
При свете масляного фонаря капитан, как было ему указано Салданьей, четырежды стукнул в ворота.
Потом высвободил из-под плаща эфес шпаги, а левую руку завел за спину, дотянувшись до рукояти бискайина. Послышались шаги, калитка бесшумно распахнулась. В проеме возникла фигура слуги.
– Как ваше имя?
– Алатристе.
Отворивший, предшествуя капитану, молча зашагал по дорожке меж деревьев сада к старому дому, казавшемуся заброшенным и нежилым. Хотя этот квартал Мадрида, примыкавший к Орталесскому тракту, был Алатристе не слишком хорошо знаком, капитан припомнил облупившиеся стены и выщербленную кровлю особняка, мимо которого ему как-то раз уже случалось проходить.
– Соблаговолите обождать здесь. Вас позовут, – сказал слуга, приведя его в небольшую комнату, совершенно пустую и голую, если не считать канделябра на полу, освещавшего старинные картины на стене.
В углу стоял человек в черном плаще и черной же широкополой шляпе. При появлении капитана он не шевельнулся, а когда слуга – на свету обнаружились лишь его немолодые лета, ибо ливреи, которая помогла бы определить, кому он служит, на нем не было – вышел, и они оказались наедине, остался недвижим, хотя внимательно разглядывал вновь прибывшего. О том, что это – живое существо, а не каменное изваяние, судить можно было лишь по глазам – очень черным и очень блестящим: идущий снизу свет придавал им какое-то зловещее выражение. Цепкий взгляд Алатристе сразу отметил, что на ногах у него кожаные сапоги, а край плаща приподнят сзади кончиком шпаги. Незнакомец держался с непринужденной уверенностью человека, хорошо владеющего оружием – то была повадка солдата или наемного убийцы. Они не обменялись ни единым словом и стояли на равном расстоянии от канделябра молча и неподвижно, скрестив взгляды: каждый пытался определить, враг перед ним или друг, хотя, если вспомнить, каков был род занятий Диего Алатристе, оба превосходнейшим образом могли оказаться союзниками и противниками одновременно.
* * *
– Не убивать! – произнес тот, кто был выше ростом.
Дородный и осанистый, он выделялся еще и тем, что – единственный из всех – оставался в шляпе, на которой не было ни перьев, ни ленты. Маска закрывала ему лицо, оставляя на виду лишь краешек черной густой бородки. Его темный, дорогого сукна колет был отделан по вороту и рукавам брабантскими кружевами, из-под наброшенного на плечи плаща поблескивали золотая цепь на шее, позолоченная рукоять шпаги. Он говорил тоном человека, умеющего и повелевать, и повиноваться, и хотя бы первое подтверждалось тем, как почтительно обращался к нему его спутник – невысокий, круглоголовый и плешивый, в темном просторном одеянии.
Люди в масках приняли Диего Алатристе и второго гостя лишь после того, как заставили их провести в приемной томительные полчаса.
– Не убивать и не увечить! – настойчиво повторил рослый. – Хорошо бы и вовсе обойтись без кровопусканий – по крайней мере, слишком обильных.
Круглоголовый поднял обе руки. Диего Алатристе заметил, что ногти у него грязные, а пальцы – в чернилах, как у писца, однако на левом мизинце сверкает массивный золотой перстень с печаткой.
– Может, все-таки подколоть чуть-чуть? – произнес он не без опаски. – Чтоб выглядело правдоподобно.
– Хорошо. Но только белокурого.
– Разумеется, ваша светлость.
Алатристе и человек в черном плаще переглянулись с профессиональным недоумением, словно осведомляясь друг у друга о правильном толковании многозначного понятия «подколоть», а заодно и оценивая возможность – покуда еще отдаленную – определить на темной улице, в свалке и неразберихе, светлые волосы под шляпой у их жертвы или же еще какие-нибудь. Нет, ну сами посудите – не скажешь же ему: сударь, а не соизволите ли выйти к свету и обнажить голову, о, благодарю, теперь я вижу, что вы на этой улице – самый белокурый, а потому позвольте вас чуточку пощекотать под девятым ребрышком. Так, что ли? Ладно, мы отвлеклись. Пока что, войдя в комнату, стены которой от пола до потолка занимали полки изъеденных мышами пыльных книг, шляпу снял тот, в черном плаще, и теперь Алатристе при свете горевшего на столе фонаря мог разглядеть его. Высокий, сухопарый, лет тридцати с небольшим, лицо побито оспой, а тонкие, очень коротко подстриженные усики придают всему облику его что-то нездешнее, чужеземное. Весь в черном – под цвет глаз, как говорится, и длинных, до плеч, волос. На боку – шпага с такой здоровенной чашкой и длиннющей крестовиной, что выйти с такой орясиной на люди и подвергнуть ее – и себя – насмешкам решился бы лишь превосходный фехтовальщик, уверенный, что ему хватит и отваги, и мастерства найти веские доводы, причем не словесные, в защиту своей красавицы и в обиду ее не дать. Впрочем, этот малый явно был не из тех, кто вообще позволяет над собою насмехаться. Не из тех, вы скажете, а из каких же? А вот отыщите в книжке слово «убийца» – и получится вылитый он.
– Речь идет о двух молодых иностранцах, – продолжал круглоголовый. – Путешествуют под вымышленными именами, стало быть, кто они такие на самом деле, значения не имеет. Того, что постарше, зовут Томас Смит, он лет тридцати. Второму, Джону Смиту, всего двадцать три года. Приедут в Мадрид верхом, без сопровождающих, в пятницу поздно вечером, то есть завтра. Полагаю, будут сильно утомлены, поскольку в дороге уже несколько дней.
Через какие ворота въедут в город, неизвестно, а потому лучше всего подождать их неподалеку от места назначения… Это Семитрубный Дом. Вам он, наверно, известен?
Спрошенные дружно кивнули. Кто же в Мадриде не знает резиденции графа Бристоля, посла Великобритании?
– Все должно выглядеть так, – говорил меж тем круглоголовый, – словно двое чужестранцев стали жертвами самого обыкновенного разбоя. А потому следует отнять все, что у них будет с собой. Хорошо бы, чтоб один из них – старший – получил легкую рану: оцарапаете ему руку или бедро. Что касается юноши, его достаточно будет напутать. – С этими словами он полуобернулся к своему дородному спутнику, словно ожидая подтверждения. – Очень важно забрать у них все бумаги, все до последнего лоскутка, и передать в целости-сохранности…
– Кому? – спросил Алатристе.
– Тому, кто будет поджидать вас по ту сторону монастыря босоногих кармелитов. Пароль – «егерь», отзыв – «крендель».
С этими словами он сунул руку за отворот своего темного одеяния и вытащил небольшой кошелек.
Капитану показалось, что при этом движении мелькнул вышитый на груди красный крест ордена Калатравы, но внимание его тотчас же отвлекли деньги, которые круглоголовый высыпал на стол: в свете фонаря засверкали десять золотых дублонов – чистеньких, блестящих, свежеотчеканенных монет с профилем нашего государя. «Видать, у того, кто приглашает музыкантов на эту свадебку, в кармане побрякивает», – сказал бы дон Франсиско Кеведо, случись он при этом. Благородный металл, сулящий еду, вино, одежду и женскую любовь.
– Не хватает еще десяти, – сказал капитан. – На каждого.
– Остальное получите завтра ночью в обмен на бумаги, – тоном, не терпящим возражений, ответил круглоголовый.
– А если дело не выгорит?
Сквозь прорези маски человек, к которому его спутник обращался «ваша светлость», метнул на капитана пронизывающий взгляд.
– Да уж вы постарайтесь, чтобы.., выгорело, – сказал он. – Лучше будет для всех.
Тихой медью прозвенел в этих словах явственный отзвук угрозы, и не вызывало сомнений, что произносить угрозы, равно как и приводить их в исполнение, – дело для него привычное. Было также совершенно понятно, что человек этот – из тех, кто впустую грозить не станет, да и вообще почти не нуждается в подобном средстве убеждения. Тем не менее Алатристе двумя пальцами подкрутил кончик левого уса и из-под сдвинутых бровей устремил на своих собеседников прямой и уверенный взгляд, показывая, что его не проймешь ни титулом одного, ни орденским крестом другого. Он не привык получать вознаграждение частями, и ему не понравилось, что ночью, при свете фонаря, двое незнакомцев, прячущих лица под масками, позволяют себе поучать его, тем более что еще ничего не решено.
Однако его длинноволосый и рябоватый спутник оказался менее щепетилен, и его занимало другое:
– А как следует поступить, буде эти прощелыги окажутся при деньгах? – осведомился он. – Прикажете их тоже вам отдать?
Итальянец, сообразил капитан, услышав его выговор. Рябой говорил ровно, негромко, спокойно, почти доверительно, но самый голос его, звучавший сипловато и тускло, словно связки были обожжены чистым спиртом, вселял смутное беспокойство. При всей его безупречной почтительности в нем чувствовалась едва уловимая наигранность и сквозила наглость – надежно упрятанная, но оттого не менее внятная. Он смотрел на заказчиков, привздернув подстриженные усики белозубой улыбкой – одновременно дружелюбной и зловещей. Нетрудно было представить себе, как она играет на его лице и в тот миг, когда клинок со свистом распарывает жилет, а заодно – и живот клиента, и зябко становилось от ее нестерпимой обворожительности.
– Необходимости в этом нет, – ответил круглоголовый после того, как, взглянув на рослого, дождался кивка утвердительного и подтверждающего. – Если угодно, можете взять себе. Как премию.
Итальянец, искоса глянув на капитана, высвистел сквозь зубы двойную руладу – тирури-та-та – и сказал:
– Я склонен думать, что эта работа – по мне.
Улыбка спорхнула с его губ, притаясь в черных, вспыхнувших опасными огоньками глазах. Вот, стало быть, при каких обстоятельствах впервые довелось Диего де Алатристе увидеть улыбку Гвальтерио Малатесты. Потом капитан мне расскажет, что еще при первой их встрече, за которой последовала длинная череда других, неизменно сопровождавшихся разнообразными происшествиями, он решил для себя непреложно: если кто-нибудь вот так улыбнулся тебе на безлюдной улице – ни единой секундочки не теряя, рви шпагу из ножен. Столкнуться с подобным субъектом – значит, всем сердцем прочувствовать настоятельнейшую надобность, просто-таки жизненную необходимость опередить его, пока он тебя не опередил и не определил к месту Вечного упокоения. Представьте себе, господа, что у вас в сообщниках – смертельно опасная змея: будешь гадать, с тобой она или против тебя, – прогадаешь, ибо очень скоро на собственном горьком опыте убедишься: она – за самое себя, а все прочее для нее гроша ломаного не стоит. Таков был и этот человек – жесткий и жиловатый, двоесмысленный и неверный, и столько таилось в его душе глухих закоулков и темных провалов, что глаз с него спускать нельзя было ни на минуту. Человек, которого лучше на всякий случай убить, чем дожидаться, когда он воспользуется случаем убить тебя.
* * *
Рослый и осанистый человек оказался неразговорчив. Не произнося ни слова, он внимательно слушал, как круглоголовый объясняет Диего Алатристе и итальянцу последние подробности, раза два кивнул в знак одобрения, а потом повернулся и пошел к двери.
– Как можно меньше крови, – на прощанье бросил он уже с порога.
По многим признакам – и прежде всего по манере держаться и по той почтительности, с которой обращался к нему спутник – капитан понял, что за дверь только что вылетела птица очень высокого полета. Он еще продолжал размышлять об этом, но круглоголовый оперся рукой о стол и устремил на них пристальный взгляд. Новым, беспокойным блеском засверкали в прорезях маски его глаза, предвещая неожиданный поворот беседы. В полутемной комнате воцарилась напряженная, тревожная тишина – Алатристе и итальянец украдкой переглянулись, задавая друг другу один и тот же безмолвный вопрос: что еще предстоит им узнать? Круглоголовый неподвижно стоял перед ними и, казалось, чего-то ждал. Чего? Или кого?
В следующее мгновенье они получили ответ – едва заметная в полумраке драпировка между книжных полок отдернулась, обнаруживая спрятанную в стене дверь, и в комнату вплыла темная зловещая фигура, которую человек более впечатлительный, нежели Диего Алатристе, наверняка счел бы призраком. Новоприбывший сделал несколько шагов, и фонарь на столе осветил ввалившиеся, прорезанные глубокими морщинами, чисто выбритые щеки и горячечно сверкающие глаза под густыми бровями. Вошедший – он носил черно-белую сутану ордена доминиканцев – был без маски, с открытым лицом – и на этом изможденном лице аскета огнем исступленного фанатизма горели глаза. Ему по виду можно было дать лет пятьдесят с лишним. Седоватые волосы были коротко подрублены над ушами; на макушке выбрита обширная тонзура. Руки, которые при входе в комнату он выпростал из рукавов облачения, казались бесплотными и бескровными, как у покойника, и, вероятно, были столь же ледяными.
Круглоголовый, выказывая крайнюю предупредительность, обернулся к нему и спросил:
– Вы все слышали, святой отец?
Монах коротко и резко кивнул, не сводя оценивающего взгляда с Алатристе и итальянца. Потом повернулся к круглоголовому, и тот, как если бы это движение означало приказ или условный знак, снова обратился к ним с такими словами:
– Сеньор, что недавно покинул нас, пользуется нашим глубоким уважением и полным доверием.
Но.., не он один решает, как нам осуществить нашу затею. А потому уместно будет прояснить немного еще кое-какие вопросы.
Тут он переглянулся с монахом, словно перед тем, как продолжить, ожидал от него подтверждения своим словам. Однако доминиканец оставался недвижим и безмолвен.
– Исходя из интересов высокой политики, – заговорил круглоголовый, – и вопреки мнению сеньора, который только что был здесь, по отношению к обоим англичанам следует применить меры более… – Он на миг запнулся, подыскивая нужное слово. – ..Более решительные. – Он вновь бросил быстрый взгляд на монаха. – То есть такие, что решат вопрос раз и навсегда.
– Вы, сударь, имеете в виду, что… – начал было Диего Алатристе, любивший определенность.
Но молча слушавший доминиканец вдруг, будто потеряв терпение, взмахом костлявой руки заставил его замолчать:
– Он имеет в виду, что обоих еретиков надо уничтожить.
– Обоих?
– Обоих.
Итальянец снова просвистал свою руладу. Он улыбался с таким видом, словно все происходящее его забавляло. Капитан же в некотором замешательстве разглядывал рассыпанные по столу золотые. Потом, после краткого раздумья, пожал плечами:
– Какая разница? Да и товарища моего, как видно, не слишком заботит перемена замысла.
– Наоборот, радует, – не переставая улыбаться, подтвердил итальянец.
– И в самом деле, – продолжал Алатристе. – Это облегчает нам задачу. Прикончить обоих – гораздо проще, чем ранить одного, да еще ночью.
– Сущий пустяк, – кивнул Малатеста. – Я бы даже сказал – «пара пустяков», – Капитан перевел взгляд на круглоголового:
– Меня смущает другое. Тот сеньор, что был здесь, производит впечатление весьма влиятельной особы. И он велел нам никого не убивать… Не знаю, что думает по этому поводу мой товарищ, но как бы ни хотелось угодить вам, господа, мне было бы огорчительно навлечь на себя неудовольствие человека, которого вы называли «ваша светлость» – кем бы он ни был.
– Ваше вознаграждение может быть увеличено, – после недолгого колебания сказал круглоголовый.
– Любопытно было бы узнать, на сколько?
– Еще десять дублонов каждому. Прибавьте их к этим пяти и к тем десяти, которые получите по окончании дела – и выйдет по двадцать пять. Не забудьте, что в придачу вам достанется и все, что вы найдете в карманах Томаса и Джона Смитов.
– Годится, – сказал итальянец. – Меня это устраивает.
Было заметно, что ему совершенно все равно – так ли, эдак ли, ранить ли одного, убить обоих или запечь их в тесте. А Диего Алатристе после недолгого раздумья покачал головой: ох, видно, далеко не простые люди эти англичане, если за то, чтобы проковырять в них лишние дырочки, заказчики готовы отвалить столько денег. А если так щедро платят, значит, едва ли дело обойдется без больших неприятностей в дальнейшем. Нюхом старого солдата он чуял опасность.
– Дело не в деньгах.
– На вас ведь свет клином не сошелся, – с нескрываемой досадой проговорил круглоголовый, и Алатристе не мог бы сказать наверное, идет ли речь о том, что в Мадриде не он один носит шпагу, и замену ему сыскать будет нетрудно, или имеется в виду, что в случае окончательного отказа найдется и на него управа. Однако сама возможность того, что ему могут угрожать, не понравилась капитану до чрезвычайности. По обыкновению он правой рукой начал крутить усы, а левую опустил на эфес шпаги, и движение это ни для кого не осталось незамеченным.
– В этот миг доминиканец взглянул на него.
– Я, – прозвучал надтреснутый неприятный голос, – падре Эмилио Боканегра, председатель Священного Трибунала нашей инквизиции.
После этих слов, казалось, дуновение ледяного ветра прошлось по комнате. А затем доминиканец сжато и сухо объяснил Алатристе и итальянцу, что не прячет лицо под маской, не скрывает имени, не нуждается в том, чтобы по-воровски прокрадываться сюда во тьме ночной, ибо Господь вверил ему такую власть и наделил его таким могуществом, что он в мгновение ока способен уничтожить любого врага святой нашей матери Церкви и его католического величества, государя обеих Испании. Покуда слушавшие эту рацею оторопело сглатывали слюну, монах, помедлив, чтобы убедиться, что слова его произвели должное действие, заговорил столь же напористо и угрожающе.
– Вы – наемные убийцы, и грехов у вас на совести не меньше, чем крови – на ваших шпагах Но пути господни неисповедимы, и случается для правого дела избирать кривые дорожки, а благое дело творить руками недостойных.
Недостойные опасливо переглянулись, а брат Эмилио Боканегра продолжал свою речь, содержание которой вкратце сводилось к тому, что нынче ночью дано им поручение, вдохновленное свыше, и надо его исполнить, ибо так послужат они отправлению божественного правосудия. Если же откажутся, попытаются отвертеться или улизнуть, падет на их головы гнев Господень, и где бы ни попытались они укрыться от него, везде настигнет их длинная, не знающая пощады рука Святейшей инквизиции.
Короче говоря, не шутите с огнем, господа.
Произнеся все это, доминиканец умолк, и никто не осмеливался нарушить наступившую тишину.
Даже итальянец позабыл про свои рулады – а это само по себе свидетельствует о многом. В тогдашней Испании ссора со всемогущей и вездесущей инквизицией означала не то что очень серьезные неприятности, а сущее бедствие, проще говоря – прямую дорогу сперва за решетку, потом на дыбу, а потом и на костер. Одно упоминание Священного Трибунала вселяло ужас в самые бесстрашные души, а Диего Алатристе, как и всем в Мадриде, было хорошо известно имя Эмилио Боканегра, неумолимого председателя Коллегии Шести Судей, имевшего немалое влияние на самого Великого Инквизитора и вхожего в личные покои короля. Не далее как на минувшей неделе его настояниями по обвинению в crimen pessimum – в преступлении тягчайшем – приговорены были к сожжению на медленном огне четверо юных слуг графа де Монтеприето, под пыткой признавшихся в грехе мужеложства.
Что же касается самого графа, своим титулом испанского гранда избавленного от подобной участи, король ограничился тем, что подписал указ о конфискации всех владений этого меланхоличного и уже немолодого холостяка и высылке его в Италию.
Безжалостный падре Боканегра принимал в дознании самое непосредственное участие, и успешно завершенный процесс еще больше укрепил его положение при дворе. Сам граф Оливарес, первый министр короля, старался ладить со свирепым доминиканцем Вздохнув про себя, капитан Алатристе понял, что, стало быть, плетью обуха не перешибешь, и так далее Англичанам – кем бы те ни были – вопреки добрым намерениям «его светлости» вынесен смертный приговор, который обжалованию не подлежит. С Церковью шутки плохи, а споры – не только бессмысленны, но и опасны.
– Так что же мы должны сделать? – наконец осведомился он, смиряясь с неизбежностью.
– Убить обоих! – выкрикнул в ответ падре Эмилио, и фанатичный огонь в его глазах вспыхнул с новой силой.
– Так и не зная, кто они такие?
– Вам уже сказали, кто они такие – заметил круглоголовый. – Мистер Томас и мистер Джон Смиты.
Заезжие англичане.
– Нечестивые англикане, – сдавленным от бешенства голосом прибавил монах. – Не все ли равно, кто они? Важно лишь, что они – жители богомерзкой, погрязшей в ереси страны, от которой исходит пагуба нашей Испании и всей католической вере. Свершив над ними Божий суд, вы искупите многие грехи перед Господом и сослужите добрую службу короне.
С этими словами он вытащил еще один мешочек с золотом и пренебрежительно швырнул его на стол:
– Как видите, небесное правосудие, не в пример земному, воздает не скупясь, но и взыскивает полной мерой, платит вперед, но и отсрочки по платежам не предоставляет. – И пристальным, долгим взглядом он окинул капитана с итальянцем, словно хотел навсегда запечатлеть в памяти их лица. – Никто от него не укроется, никто не избегнет расплаты, ибо кому же как не Господу знать, где отыскать должников.
Диего Алатристе был готов с этим согласиться.
Он видал всякие виды, не раз смотрел смерти в глаза но сейчас испытывал невольный трепет. Впрочем, исступление, звучавшее в словах доминиканца, и весь его облик, в котором – быть может, от тусклого света фонаря – проступило что-то сатанинское, напугали бы самого отчаянного храбреца. Побледнел и Малатеста, на этот раз согнавший с лица свою неизменную улыбку и обошедшийся без тирури-та-та. Даже круглоголовый не решался открыть рот.
Глава 3. Маленькая дама
Оттого, надо полагать, что первоначальные впечатления бытия принято считать самыми сильными, я и по прошествии многих-многих лет с отрадой и умилением вспоминаю таверну «У Турка». Давно уже нет на свете капитана Алатристе, безвозвратно минули бурные дни моего отрочества, и следа не осталось от этого заведения, которое в царствование Четвертого Филиппа было одним из тех четырехсот, где могли утолить жажду семьдесят тысяч обитателей Мадрида – то есть один кабачок приходился на каждые сто семьдесят пять человек, не считая борделей, игорных домов, разнообразных притонов и прочих мест, имеющих законное право именоваться «злачными», и в Испании того времени – ни на что не похожей, единственной в своем роде и неповторимой – посещаемых не реже, чем божьи храмы, причем сплошь и рядом одни и те же люди были и ревностными прихожанами, и отпетыми забулдыгами.
Таверна, над которой были когда-то пристроены две спаленки-каморки, где и обитали мы с капитаном, помещалась на углу улиц Толедо и Аркебузы, шагах в пятистах от Пласа-Майор, и заменяла нам отсутствующую напрочь гостиную. Алатристе, если ничего лучшего не предвиделось – а так чаще всего и случалось, – любил скоротать вечерок в этом заведении: там торговали распивочно и навынос, там было дымно, было чадно, многолюдно, грязно и шумно, там в поисках хлебных крошек мыши сновали прямо под ногами, удирая при появлении кошки – и все-таки, представьте себе, уютно. Да еще и нескучно, ибо туда заглядывали проезжающие, чтобы подкрепиться, пока перепрягают почтовых лошадей, забегали писцы и стряпчие, мелкая судебная шушера и канцелярская шваль, цветочницы и торговки с расположенных по соседству площадей Провиденсии и Себады, захаживали и отставные солдаты, привлеченные удобным местоположением – ведь совсем рядом были главные улицы города и лакомая для сплетников, вестовщиков и праздношатающихся зевак площадь Сан-Фелипе-эль-Реаль. Успеху заведения способствовали и слегка увядшая, но все еще пышная красота его хозяйки, о прежнем ремесле которой не успели еще позабыть в квартале, и подаваемые там мускат и херес, «Вальдеморо» и «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас» с его неповторимым букетом; не забудьте, что было «У Турка» и такое неоспоримое преимущество, как черный ход, выводивший мимо конюшен на другую улицу всякого, кому хотелось бы избежать встречи с альгвасилами, судебными исполнителями, поэтами, заимодавцами или, наоборот, с приятелями, желающими перехватить взаймы, – словом, со всеми, о ком говорится: принесла нелегкая, век бы его не видать. Ну а капитана попечением Каридад Непрухи всегда ждал самый удобный и хорошо освещенный солнцем стол неподалеку от двери, а на нем порой от щедрот хозяйки появлялось и вино, а иногда – и пирожки с мясом или какой-нибудь, например, зельц. Алатристе со времен юности, о которой никогда мне не говорил ни полслова, сохранил страсть к чтению, и я часто видел, как, повесив на вбитый в стену гвоздь шпагу и шляпу, сидит он за столом в полном одиночестве и читает отзывы на последнее представление пьесы Лопе, любимого своего поэта, или газету, или листки с сатирическими стихами, имевшими широчайшее хождение при мадридском дворе в те времена, одновременно великолепные и клонящиеся к упадку, еще изобильные гениями, но уже тронутые гниением, – узнавая, без сомнения, едкое остроумие и в поговорку вошедшую язвительность своего друга, неисправимого брюзги и знаменитого на весь Мадрид поэта дона Франсиско де Кеведо, в таких, например, строках:
Того, кто здесь почил, заждался Сатана: Гнушался он всю жизнь прекрасным полом. Ни уличная блядь, ни мужняя жена Сокровищем, таимым под подолом, Его прельстить ни разу не сумели, Иные избирал утехи он и цели: Сурово порицал он Ирода-царя, Твердил, что зря Тот истребил младенцев в Вифлееме – Сперва попользоваться мог бы ими всемиИ прочее в том же роде. Подозреваю, что моя бедная вдовая мать, сидя в своем захолустье, едва ли пребывала бы в спокойствии, если б могла вообразить себе, сколь странное общество окружает юного капитанова пажа Однако мне, тринадцатилетнему Иньиго Бальбоа, все в ту пору представлялось зрелищем пленительным и чарующим, да и в самом деле было замечательной жизненной школой. Я уже упоминал в начале своего повествования, что дон Франсиско де Кеведо, лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес, одноглазый аптекарь Фадрике и прочие друзья капитана собирались в таверне для ежедневных и пространных бесед о политике, о театре, о поэзии и женщинах, не забывая, разумеется, затронуть и тему бесчисленных и бесконечных войн, которые вела или собиралась вести, или только что завершила несчастная наша Испания, внешне еще могущественная и грозная, но с уже гниющим нутром. Походы и кампании, битвы и марши, осады и штурмы особенно ловко и наглядно представлял из подручных средств – кусков хлеба, столовых приборов, стаканов – эстремадурец Хуан Вигонь: некогда служил он сержантом в кавалерии, под Ньипортом потерял руку и считался истинным стратегом. Война всегда была темой животрепещущей, ибо к тому времени, когда заварилась каша с англичанами и людьми в масках, уже, если не ошибаюсь, года два или три как возобновились боевые действия в Нидерландах: истек срок двенадцатилетнего перемирия, которое наш покойный государь Филипп Третий – отец нынешнего юного монарха – заключил с голландцами. Благодаря этому перемирию – или его последствиям – шатались по обеим Испаниям, бродили по свету или ходили по миру толпы отставных солдат, пополняя собой и без того многочисленные ряды тех, кто в отсутствие другой работы готов был на все – и за самое скромное вознаграждение. Был среди них и капитан Диего Алатристе, который, не в пример многим и многим, никогда не живописал своих подвигов, не распространялся о боях и походах. Откликнувшись на призыв полковой трубы, Алатристе, так же как мой отец и другие храбрецы, под знаменами старого своего начальника – генерала Амбросьо де Спинолы – пошел на войну, оказавшуюся впоследствии Тридцатилетней. Можно не сомневаться – он провоевал бы ее всю, если б не тяжелая рана, полученная под Флерюсом. Так или иначе, хотя война с голландцами и битвы, кипевшие по всей остальной Европе, служили неиссякаемой темой для разговоров, капитан крайне редко рассказывал о своей солдатской жизни. Эта его черта вызывала мое живейшее восхищение, ибо несравненно чаще приходилось мне видеть сотни надутых спесью фанфаронов, которые торчат день-деньской на Пуэрта-дель-Соль или громыхают ножнами шпаг по мостовой улицы Монтера, или стоят, напыжась, на ступенях собора Сан-Фелипе и рассказывают о том, как геройствовали во Фландрии; только не рассказы это, а россказни, ибо правды в них не больше, чем дублонов – на дубу.
* * *
Рано утром прошел дождь, и на полу таверны красовались во множестве следы грязных подошв, и пахло, как и должно пахнуть в питейном заведении в ненастный день – сыростью и опилками. Мало-помалу развиднелось, и солнечный луч – поначалу застенчиво, а потом уверенно – осветил стол, за которым Диего Алатристе, лиценциат Кальсонес, преподобный Перес и Хуан Вигонь, откушав и выпив, вели беседу. Я же, пристроившись на табурете возле двери, упражнялся в искусстве каллиграфии, имея все для этого необходимое, – гусиное перо, чернильницу и десть бумаги, которые были мне предоставлены лиценциатом по просьбе капитана, однажды сказавшему ему так:
– Будет грамоте знать – сможет изучить право, изучит право – пиявкой присосется к истцам и ответчикам и жить станет не хуже всех вас – стряпчих, ходатаев, поверенных и прочих судейских крючков.
Кальсонес в ответ расхохотался. Нрав у него был просто золотой – диковинная смесь прожженного цинизма и искреннего благодушия, – а с Диего Алатристе его связывала дружба давняя и крепкая.
– Истинная правда! – со смехом припечатал он, подмигнув мне. – Верь мне, Иньиго, – пером добудешь больше, чем шпагой.
– Longa manus calami[6], – заметил преподобный.
Никто из присутствующих ему не возразил, то ли потому, что единодушно согласились с этим заключением, то ли по незнанию латыни. И на следующий день лиценциат принес мне письменные принадлежности, позаимствованные, без сомнения, в судебном присутствии, где он зарабатывал себе на жизнь – и недурно, прямо надо сказать, зарабатывал, благодаря страшным злоупотреблениям, неотъемлемым от его ремесла. Алатристе не сказал мне ни слова, но когда я уселся у двери и начал упражняться в чистописании, в его спокойных глазах мелькнуло одобрение. Для начала я занес на бумагу стихи Лопе, которые бормотал себе под нос капитан в те ночи, когда рана мучила его больше обычного:
Он прячет мерзостную рожу И глаз не кажет – знать, недаром. Но я почту его ударом, И выпадом – облагорожу.Бормотал – и время от времени негромко похмыкивал, для того, быть может, чтобы не стонать от боли. Но не только потому врезались мне в память и эти прелестные строки, и другие, которые я тоже слышал бессонной ночью от капитана, а теперь с большим тщанием выводил на бумаге:
Лицом к лицу, в честном бою С врагом сойдясь, я страх отрину, А тот, кто убивает в спину, Навеки губит честь свою.Я как раз дописал последнюю строчку, когда капитан, поднявшийся, чтобы хлебнуть воды из большого кувшина, остановился рядом, взял листок, поднес его к глазам. Молча прочел стихи, окинул меня долгим взглядом – о, сколь хорошо был мне знаком этот взгляд, который неизменно оказывался куда красноречивей любых слов, никогда, впрочем, не произносимых его устами, да и ненужных мне.
Помню, что еще неяркое, невысоко поднявшееся над черепичными крышами солнце в тот миг осветило листки на табурете, ударило в светлые, почти прозрачные глаза Алатристе, устремленные на меня. Еще не просохли чернила на листке, который он держал в руке. Он не улыбнулся, не сказал ни слова – отдал мне листок и вернулся к столу, но прежде чем завести прерванную было беседу с приятелями, вновь, в последний раз длительно поглядел на меня.
Почти одновременно появились Фадрике-Кривой и дон Франсиско де Кеведо. Первый пришел прямо из аптеки, помещавшейся на Пуэрта-Серрада, и принес с собой едкий запах своих пилюль, порошков и притираний. Он, можно сказать, с ходу выпил полулитровую бутылку «Вальдеморо» и принялся растолковывать преподобному Пересу удивительные свойства слабительного, приготовляемого из коры черного индостанского ореха. За этим занятием и застал его наш поэт, который долго вытирал ноги, силясь избавиться от налипшей на подошвы грязи, а потом довольно мрачно произнес:
И грязь, что служит мне, дает совет…Потом, поправив очки, взглянул на мои листки, убедился с удовлетворением, что это стихи не Аларкона и не Гонгоры. Потом своей утиной с перевальцем походочкой – у него с рождения ноги были выгнуты дугой, что отнюдь не мешало ему быть ловким и искусным фехтовальщиком – направился к столу и первым делом протянул руку к ближайшему стакану.
– Пресветлой Бахусовой влаги В стакан поэту нацеди, Чтоб было чем залить бедняге Пожар неистовый в груди, –Сказал он Хуану Вигоню. Я, кажется, уже упоминал об этом здоровеннейшем мужчине, отставном кавалерийском сержанте, потерявшем под Ньипортом правую руку. В возмещение этого убытка ему от казны предоставлено было право содержать маленький игорный дом. Вигонь тотчас протянул поэту стакан с вальдеморским, и дон Франсиско, хоть из всех вин отдавал предпочтение белому «Вальдеиглесиас», осушил его единым духом.
– Ну как дела? – поинтересовался Вигонь.
Поэт вытер губы тыльной стороной ладони. Несколько капель все же пролилось на крест Сантьяго, вышитый на груди его черной епанчи.
– Дела идут на лад, дела на ладан дышат… – пробурчал он.
– Есть ли ответ на ваше прошение?
– Ответа нет, зато есть все основания полагать, – ответствовал поэт, – что прошением моим Филипп Великий подтерся.
– Это – честь, которой не всякий удостаивается… – заметил лиценциат Кальсонес.
– Для высочайшего зада – это высокая честь, – дотянувшись до второго стакана, буркнул дон Франсиско. – Первого сорта бумага, по полдуката за десть.
А почерк какой!
Он был невесел, ибо и проза его, и поэзия, и денежные обстоятельства переживали не лучшие времена. Прошло лишь несколько недель, как Четвертый Филипп отменил указ, осуждавший поэта сперва на тюремное заключение, а потом – на ссылку.
Все эти несчастья посыпались на дона Франсиско после того, как года два-три назад попал в опалу герцог Осуна, его друг и покровитель. Теперь Кеведо смог вернуться в Мадрид, но, оказавшись совсем без средств к существованию, подал королю челобитную о возвращении четырехсот эскудо прежнего пенсиона, назначенного ему в память былых заслуг: он был шпионом в Венеции, еле выбрался оттуда, причем двоих его товарищей казнили, – однако ответа пока не удостоился. Монаршее молчание приводило его в бешенство, подхлестывало природную язвительность и врожденный дар стихотворства – я думаю, они у поэта всегда ходили рука об руку, – а те навлекали на него новые неприятности.
– Patientia lenietur Princeps, – попытался утешить его падре Перес. – По-нашему говоря, «терпение умягчает властителя».
– Лопнуло мое терпение, преподобный отче!
Иезуит с беспокойством огляделся по сторонам.
Всякий раз, когда кто-нибудь из его собутыльников влипал в очередную передрягу, падре Перес спешил поручиться за него перед властями, полагая в этом долг духовного лица и служителя церкви. Кроме того, он время от времени отпускал им грехи, хотя никто его об этом не просил. «Отпущение силком», как говорил капитан. Перес, в отличие от большинства членов своего ордена, был прямодушен и почитал своей священной обязанностью предотвращение ссор да и вообще исправление нравов. Он много повидал на своем веку, был толковым богословом, с пониманием относился к присущим человеку слабостям и отличался необыкновенной благожелательностью и терпимостью. Благодаря этому-то его снисходительному отношению к ближним, к нему на исповедь вечно ломилась целая орава женщин, желавших покаяться в грехах именно и только нашему падре, ибо о нем шла слава, что епитимьи он налагает совсем не суровые. Он соглашался дарить собутыльникам свое общество, свою дружбу и сочувствие на посиделках в таверне «У Турка» с тем условием, чтобы при нем никогда не заводили речь о темных делах и о бабах. «Хватит и того, что за решеткой исповедальни я только и слышу, как кто-то кого-то раздел – на темной улице или в чужой супружеской спальне», – говаривал он. Если же иезуиты рангом повыше пеняли ему за то, что он часами просиживает в таверне в непотребном обществе поэтов и наемных убийц, падре отвечал: «Праведники и сами спасутся, грешников же надо спасать, затем иду я туда, где обретаются они». Добавлю еще, что, к чести преподобного, он был крайне воздержан в питье и никогда ни о ком не говорил дурно: то и другое в Испании тогдашней – да и в нынешней – было – и есть – большой редкостью даже для духовной особы.
– Вооружимся благоразумием, сеньор Кеведо, – промолвил он после соответствующего латинского изречения. – Вы не в том положении, чтобы роптать, тем паче – вслух.
Дон Франсиско, поправив очки, воззрился на священника:
– Роптать? Ошибаешься, преподобный! Ропщут втихомолку – я же ору во всю глотку!
Он вскочил, повернулся ко всем прочим собутыльникам и продекламировал, отчетливо и звучно выговаривая каждый слог:
Покручиваешь пальцем у виска, Перст указательный к губам подносишь, Твердишь мне, что расплата, мол, близка, Молчанья и благоразумья просишь… – От этих просьб – такая, брат, тоска, Что, выпив раз, вовеки пить не бросишь!Хуан Вигонь и лиценциат Кальсонес захлопали в ладоши, а Фадрике-Кривой одобрительно и важно склонил голову. Капитан поглядел на поэта с широкой, но невеселой улыбкой, и тот улыбнулся в ответ.
Преподобный, осознав тщету своих устремлений, обратился к мускату, едва ли не наполовину разбавленному водой. Дон Франсиско не унимался и выкрикнул теперь первый катрен своего любимого сонета, который любил приводить по всякому случаю:
Я видел стены родины моей Когда-то неприступные твердыни, Они обрушились и пали ныне, Устав от смены быстротечных дней.Подошла забрать пустые стаканы Каридад Непруха и, прежде чем удалиться, качанием крутого бедра попросила вести себя немножко потише. Все повернули головы ей вслед – все, кроме преподобного, который сосредоточенно потягивал свой мускат, и дона Франсиско, который продолжал свою битву с безмолвными призраками:
…в свой дом вошел я и увидел: тенью Былого стал он, предан запустенью; И шпага, отслужив, сдалась в войне Со старостью, и посох мой погнулся; И все, чего бы взгляд мой ни коснулся, О смерти властно говорило мне[7].В таверну вошли новые, незнакомые посетители, и Диего Алатристе предостерегающе дотронулся до руки поэта. «О смерти властно говорило мне…» – повторил дон Франсиско уже как бы про себя, опустился на табурет и принял от капитана очередной стакан. Надо вам сказать, жизнь сеньора Кеведо складывалась так, что он появлялся в Мадриде в промежутках между отсидками или ссылками. Может быть, тем и объяснялось, что – хоть он порой и покупал дома, на сдаче которых в аренду бессовестно наживались его управляющие, – поэту не хотелось обзаводиться в нашей столице постоянным обиталищем и жил он исключительно в гостиницах.
Столь непрерывной чередой шли на него неприятности, неурядицы, злосчастья, столь краткими были периоды относительного благополучия у этого удивительного человека, который для врагов был бельмо на глазу, а для друзей – свет очей и светоч нашей словесности, что зачастую не мог он отыскать у себя в кармане и ломаного грошика. Фортуна, как известно, – дама весьма переменчивая, но почти неизменно перемены ее оказываются к худшему.
– Нет, придется драться, – вдруг проговорил он спустя несколько мгновений задумчиво и словно бы размышляя вслух, хотя глаза его от выпитого уже давно разъехались в разные стороны.
Алатристе, по-прежнему не отпуская его руки, улыбнулся ему ласково и печально и спросил с отсутствующим видом, будто знал заранее, что ответа не получит:
– С кем драться, дон Франсиско?
Однако поэт – очки его свалились с переносицы и болтались на шнурке над самым краем стакана – воздел палец.
– С глупостью, со злобой, с суеверием, с завистью, с невежеством, – медленно произнес он, а потом надолго загляделся своим отражением в вине, налитом всклянь, то есть вровень с краями стакана. – Иными словами – с Испанией.
* * *
Сидя на своем табурете подле двери, я услышал эту речь и замер, пораженный ею, ощутив не разумом, но сердцем, что мрачные слова Кеведо объясняются причинами, постичь которые мне пока не дано, и дело тут вовсе не в очередной вспышке обычной его раздражительности. Я по малолетству тогда еще не понимал, что можно с предельной жесткостью говорить о том, что любишь, – и именно потому, что любишь, ибо одна лишь любовь дарует моральное право на отзыв нелицеприятный. У дона Франсиско де Кеведо, как убедился я впоследствии, «болела Испания». Она еще могла внушать трепет, но как бы пышно ни наряжалась, к каким бы ухищрениям ни прибегала, как бы ни был наш король молод и мил, как бы ни тешили национальную нашу гордость военные триумфы – неуклонно погружалась в дремотное оцепенение, чему немало способствовали золото и серебро, несякнущим потоком лившиеся из Индий. Впрочем, сокровища эти попадали в загребущие руки аристократии, чиновничества, клира – одинаково продажных, растленных и ни на что не годных, – либо тратились на грандиозные, но бессмысленные предприятия вроде войны во Фландрии, где каждый шаг стоил несусветных денег. Доходило до того, что у тех же самых голландцев, с которыми шла война, покупали мы товары, произведенные их мануфактурами, а их торговые представители сидели не где-нибудь, а в самом что ни на есть Кадисе, наиглавнейшем нашем порту, распоряжаясь теми потоками драгоценных металлов, что привозили с Востока наши галеоны – в том, понятно, случае, если им удавалось разминуться с голландскими же пиратами. Арагон и Каталония отгородились от нас собственными законами и, уверяя, что наш им не писан, оказались, вопреки пословице, вовсе не дураками; Португалия только и ждала удобного часа, чтобы сбросить наше ярмо, на торговлю наложили лапу голландские – опять же – купцы, на финансы – генуэзские банкиры, а работать в нашей отчизне не работал никто, за исключением нищих крестьян, которых мытари всех мастей стригли так усердно, что те, шерстью обрастать не поспевая, принуждены порой были отдавать и саму шкуру. И во всем этом разврате и безумии, тянувших Испанию наперекор и встречь ходу истории, несчастная наша страна, казавшаяся прекрасным хищным зверем, еще грозным с виду, еще способным, быть может, показать разящую мощь клыков и когтей, но со злокачественной опухолью, разъедающей ей самое сердце, неумолимо клонилась к упадку и обречена была в недалеком будущем впасть в полное ничтожество – и картина эта ясно представала перед провидческим взором дона Франсиско де Кеведо, ибо человек он был необыкновенный. Но я-то – щенок в ту пору – способен был лишь испугаться его дерзких слов да завертеть головой из стороны в сторону, гадая, откуда явятся альгвасилы и за опрометчивое слово покарают делом – то есть тюрьмой.
Тут я увидел карету. Ребячеством было бы с моей стороны отрицать, что я ждал ее, ибо примерно в один и тот же час два или три раза в неделю по улице Толедо проезжала она – черная снаружи, изнутри обитая кожей и красным бархатом, и кучер правил ею, как и принято править подобными экипажами, то есть сидел не на козлах, а верхом на одном из двух мулов, которыми была она запряжена. Она выглядела солидно и скромно, и ее владелец явно не бедствовал, однако не имел права или желания кому бы то ни было пускать пыль в глаза. Вероятно, богатый купец, а может, сановник из тех, кто, не принадлежа к родовитой знати, занимают тем не менее при дворе весьма заметное положение.
Меня, однако, занимал не столько внешний вид кареты, сколько ее внутреннее содержание, верней – содержимое. Полудетская ручка, белая, как шелковая бумага, чуть высовывалась из окна. Ореол длинных золотисто-пепельных локонов. И глаза. Столько времени прошло с тех пор, как я впервые увидел их, столько приключений и передряг испытал я в последующие годы по милости этих синих глаз – а мне и сейчас не под силу описать словами на бумаге, какое действие производили эти лучезарно чистые – о, как обманчива оказалась эта чистота! – глаза цвета мадридских небес, которые, как никто другой, умел запечатлевать на полотне любимый живописец нашего государя дон Диего Веласкес.
В том году Анхелике де Алькесар было, наверное, лет одиннадцать-двенадцать, со временем она обещала стать ослепительной красавицей, и обещание свое сдержала, что году этак в 1635-м и засвидетельствовал все тот же дон Веласкес своей знаменитой картиной. Но более чем за десять лет до этого, в мартовское утро, предшествовавшее истории с англичанами, я понятия не имел о том, что за барышня – почти ребенок – каждые два-три дня проезжает в карете по улице Толедо в сторону Пласа-Майор и королевского дворца, где, как я узнал позже, состоит в менинах, то есть во фрейлинах королевы или юных принцесс, – честь, которой она обязана была своему дядюшке, арагонцу Луису де Алькесару, одному из самых влиятельных секретарей нашего государя. Мне же белокурая барышня в окошке кареты представала небесным видением, представлялась чудом из чудес и была так же невообразимо далека от меня и моей жизни, как, скажем, солнце или зажегшаяся на потемневшем небосклоне прекрасная звезда – от угла улицы Толедо, по которой высокомерно грохочущие колеса расшвыривали во все стороны комья грязи.
Но в то утро случилось непредвиденное. Карета не проехала вопреки обыкновению мимо таверны, чтобы двинуться дальше, вверх по улице, на миг явив мне в окошке уже ставшее привычным видение, а вдруг остановилась шагах в двадцати от дверей. Обломок бочарной клепки, вязкой грязью намертво прилепленный к ободу заднего колеса, вертелся с ним вместе, покуда не уперся в ось, застопорив ход, и кучеру не оставалось ничего другого, как соскочить на землю – точней сказать, в жидкую грязь – и приступить к устранению помехи. Тотчас появилась и кучка уличных сорванцов, принявшихся потешаться над незадачливым возницей, а тот, пребывая, вероятно, в скверном расположении духа, потянулся за своим кнутом с явным намерением отхлестать наглецов. Этого делать не следовало ни в коем случае. Мадридские мальчишки той поры были назойливей и беспощадней оводов, отличались неустрашимым нравом, хотя и их радость тоже можно понять – не всякий день выпадает такая удача и попадает под руку такая великолепная мишень. Недолго думая, они вооружились комьями грязи и показали, на что способны, и выказали меткость, какой не зазорно было бы поучиться у них искуснейшим аркебузирам наших полков.
Я поднялся, слегка встревожась. Плачевный кучерский удел меня не волновал, но карета его перевозила кладь, драгоценней которой, по моим тогдашним понятиям, и быть не могло. Кроме того, отец мой, Лопе Бальбоа, принял славную смерть, защищая нашего короля. Так что выбора у меня не было. Решив сразиться в честь той, кого я издали и с величайшим уважением избрал своей прекрасной дамой, я атаковал неприятеля, двумя затрещинами и четырьмя оплеухами заставив маленьких негодяев в беспорядке отступить. Поле сражения осталось за мной.
В пылу боя – впрочем, врать не стану: и в соответствии с моим тайным замыслом – я оказался в самой непосредственной близости от кареты, кучер же – скотина неблагодарная, – окинув меня неприветливым взглядом, снова взялся за работу. Впору было удалиться, но синие глаза, вдруг возникшие в окне, пригвоздили меня к земле. Я стоял, не в силах шевельнуться, и чувствовал, что вспыхнул не хуже аркебузного фитиля. Барышня с пепельными локонами вперила в меня неотрывный взгляд, исполненный такой пристальной силы, что он мог бы перекрыть воду в фонтане неподалеку. Беленькая. Бледная. Прекрасная. Да чего там говорить! Не улыбаясь, она продолжала с любопытством меня разглядывать. Ясно, что моя вылазка не осталась незамеченной. А я был этим явлением и этим взглядом вознагражден свыше всякой меры. Плавным движением сняв и отведя в сторону воображаемую шляпу, я низко поклонился:
– Иньиго Бальбоа, к вашим услугам, – пробормотал я, стараясь, чтобы голос мой звучал с подходящей к случаю твердостью, но вместе с тем – учтиво. – Паж капитана дона Диего Алатристе.
Девочка невозмутимо выдержала мой взгляд. Кучер уже взобрался в седло, щелкнул кнутом, и карета тронулась. Я невольно сделал шаг назад, чтобы уберечься от грязи из-под колес, и тут девочка взялась за раму окна маленькой ручкой – совершенной формы и сахарной белизны! – и мне почудилось, будто мгновенье назад я эту ручку поцеловал.
Божественно очерченные неяркие губы чуть заметно изогнулись, и кто бы запретил мне истолковать это движение как улыбку – отдаленную, загадочную, таинственную? Снова щелкнул кнут, карета умчалась, унося эту улыбку, о которой я и сегодня не могу сказать наверное, была ли она в действительности или привиделась мне. А я остался стоять посреди улицы, влюбленный до последней жилочки, – стоять и смотреть, как скрывается вдали эта девочка, этот златовласый ангел. О горе мне – я не знал тогда, что в ту минуту увидел самого сладостного, самого опасного, самого неумолимого из моих врагов – смертельного врага.
Глава 4. Засада
Мартовский день короток. Небо еще не померкло окончательно, но на узких улицах, затененных нависавшими над ними крышами, было как у волка в пасти. Капитан Алатристе и его спутник отыскали узкий темный переулок, миновать который англичане, направляясь в Семитрубный Дом, не смогли бы никак. Час прибытия и путь следования сообщил неведомый связной, и он же уточнил подробности во избежание ошибки: Томас Смит – годами постарше и волосами посветлей – едет на серой в яблоках лошади, на нем серый дорожный кафтан, небогато расшитый серебром, серые высокие сапоги и серая же шляпа с лентой. Что касается его юного спутника, Джона Смита, то он – верхом на кауром, кафтан у него коричневый с кожаными пуговицами, а шляпа украшена тремя маленькими белыми перышками. Оба в пути уже несколько дней, и потому пропылились насквозь и устали. Едут налегке, у каждого за седлом приторочено лишь по небольшому дорожному вьюку.
Притаившись в темной выемке ворот, Диего Алатристе не сводил глаз с фонаря, который они с итальянцем поставили на повороте для того, чтобы заметить англичан прежде, чем те заметят их. Переулок, изогнутый на середине под прямым углом, начинался с улицы Баркильо у самого дворца графа де Гуадальмедина, тянулся вдоль обнесенного оградой сада кармелитского монастыря и обрывался неподалеку от Семитрубного Дома, который высился на пересечении улицы Торрес с улицей Инфантес. Для засады было выбрано место недалеко от этого крутого изгиба – темное, узкое, пустынное, оно наилучшим образом подходило для того, чтобы без труда спешить обоих англичан.
Стало свежеть, и капитан поплотнее завернулся в новый плащ – вот и пригодился полученный задаток. При этом движении зазвенела сталь спрятанного под плащом арсенала – рукоять бискайца задела эфес шпаги, а тот стукнулся о ствол вычищенного, смазанного и заряженного пистолета, заткнутого сзади за кожаный кушак на тот случай, если все же нельзя будет обойтись без этого убийственно-убедительного и к тому же строжайше запрещенного специальным королевским указом аргумента, который, однако, в трудных переделках так уместно на противника навести, а в ответ на его доводы – привести. Помимо всего вышеперечисленного, Алатристе не забыл надеть нагрудник из буйволовой кожи и сунуть обвалочный нож за голенище старого ботфорта: собираясь в предприятия такого рода, капитан предпочитал удобную, хорошо разношенную обувь, в какой не поскользнешься, когда придет пора поплясать.
Чтобы скрасить ожидание, он стал тихо, себе под нос читать «Овечий источник» Лопе – одну из любимейших своих пьес, – а потом вновь замолчал и низко, до самых бровей надвинул шляпу. В нескольких шагах от того места, где стоял он, мелькнула неясная тень: итальянец занял позицию под аркой ворот, ведших в сад босоногих отцов-кармелитов. Должно быть, после нескончаемого получаса неподвижности он тоже совсем окоченел. Странный малый. Пришел весь в черном, завернувшись в черный плащ, и рябоватое его лицо оживилось лишь в тот миг, когда Алатристе предложил поставить фонарь на въезде в облюбованный ими переулок.
– Годится, – только и просипел он. – Они – на свету, мы – в темноте. Я тебя вижу, а ты меня – нет.
Он продолжал насвистывать свое излюбленное тирури-та-та, покуда споро и без спора, как водится у тех, кто дело свое знает, распределялись роли:
Алатристе займется старшим англичанином, всадником в сером и на сером в яблоках коне; итальянец примется за младшего, одетого в коричневое и верхом на кауром. Никакой стрельбы – все должно быть тихо и пристойно, чтобы, сделав дело, без помехи и суеты обшарить клиентов, забрать бумаги и – чем черт не шутит? – денежки, буде таковые найдутся при них. Если же поднимется пальба, начнется шум, сбежится народ – пиши пропало. Семитрубный Дом – невдалеке, люди английского посла вполне могут поспешить на выручку к своим соотечественникам. Стало быть, надо действовать стремительно и беспощадно, чтоб даже пискнуть не успели: как выразился Салданья, «ай, здравствуй и прощай».
И обоих – прямо в пекло или где там черти держат англичан-нехристей. Тем более что эти двое – не в пример добрым католикам – не станут во всю глотку исповедоваться в грехах, грозя перебудить пол-Мадрида.
Капитан поплотнее запахнул плащ, устремил взгляд туда, где на повороте переулка тускло горел фонарь. Согретая плащом левая рука Алатристе лежала на рукояти шпаги. На мгновение он отвлекся, попытавшись припомнить, сколько же человек он убил, да нет, не на войне – когда вокруг кипит рукопашный бой, редко удается сказать наверное, достиг ли цели твой выпад или выстрел, – а вот так, в поединке. Лицом к лицу. Вот именно, «лицом к лицу», ибо это имело значение – по крайней мере, для капитана: в отличие от других наемных удальцов, он никогда не убивал в спину. Другое дело, что не всегда он давал противнику время стать в позицию, это так, но справедливость требует отметить, что ни разу не нанес удар тому, кто не успел обнажить шпагу и обернуться к нему. Разве что тех голландских часовых сняли ножами. Ну так на то и война, чтоб убивать врагов – немцев ли, поднявших мятеж в Маастрихте, или всех, с кем сходился он на поле брани. А в мирное время подобная щепетильность встречалась редко, но капитан принадлежал к тем немногим, кому она помогает сохранить, по крайней мере, хоть гран уважения к себе. В житейские шахматы каждый играет по своим правилам, и для Алатристе его незыблемые понятия были не чистоплюйством, но самооправданием и возможностью жить в ладу со своей совестью. Случалось, что и это не приносило облегчения, но когда под воздействием спиртного все демоны, когтившие капитанову душу, представали его взору въяве и едва ли не вживе, когда перемешанное с раскаяньем омерзение к себе делалось невыносимым, когда он спохватывался, что с живейшим любопытством всматривается в черный зрачок своего пистолета, – понятия эти служили той самой соломинкой, которая, глядишь, и поможет утопающему выплыть.
Одиннадцать человек, подвел он итог. Так, стало быть: если войну не считать, четверых однополчан уложил он на поединках во Фландрии и Италии, одного – в Мадриде, одного в Севилье. Всех из-за карт, неосторожно брошенных слов или из-за женщин.
Остальных – по заказу. Пять оплаченных смертей.
По поводу троих убитых Алатристе никаких угрызений совести не испытывал – все как на подбор были крепкие, тертые, жиловатые мужчины, способные любому дать отпор, и к тому же – сволочи первостатейные. Но оставались еще двое. В первом случае речь шла о чести некой дамы, чей законный супруг не нашел в своей душе решимости самому отпилить себе рога. В тот вечер, когда на полутемной улице капитан вышел навстречу беспечному любовнику, тот слишком много выпил, и Алатристе до сих пор вспоминает мутный, недоуменный взгляд несчастного – едва успел он неверной рукой обнажить шпагу, как чужой клинок на добрую пядь вошел ему в грудь. Вторым был юный аристократ, глупенький, весь в кружевах и лентах, херувимчик, чье пребывание на этом свете сильно досаждало графу де Гуадальмедина – всякие там запутанные права наследования, родство второй очереди, спорные завещания и прочее, – попросившего Алатристе, так сказать, немножко прополоть правовое поле.
Это и было сделано во время увеселительной загородной прогулки, которую юный красавчик – звали его, кстати, маркиз Альваро де Сото – предпринял вместе с друзьями и дамами и в угоду последним: им, видишь ли, захотелось искупаться непременно за сеговийским мостом. Пустячный предлог – толчок плечом – обмен резкими словами, и маркиз, которому едва исполнилось двадцать, сам лезет на рожон, то есть хватается за шпагу. Все произошло почти мгновенно: присутствующие ахнуть не успели, а капитан Алатристе и те двое, что прикрывали его, исчезли, оставив бездыханного маркиза в луже крови – к ужасу остальных участников пикника. Эта история наделала шуму в Мадриде, однако стараниями графа – человека весьма и весьма влиятельного – дело удалось замять. Тем не менее у капитана остался нехороший осадок, и долго еще, бередя душу, стояло у него перед глазами бледное лицо этого юноши, вовсе не желавшего выходить на поединок с совершенно неизвестным человеком, которому черные, дерзко торчащие усы и ледяные светлые глаза придавали особенно зловещий вид, – не желал, да пришлось, ибо ссора произошла на глазах друзей и дам.
И когда маркизик изящно отсалютовал и стал в позицию, припоминая изысканные наставления своего учителя фехтования, Алатристе без затей и не мудрствуя, описал клинком шпаги полную окружность, завершив ее выпадом, и пропорол противника насквозь.
Одиннадцать человек. За исключением Альваро де Сото и заколотого на поединке во Фландрии солдата Кармело Техады, как их звали, он не помнил. Не помнил, а может, и никогда не знал. Так или иначе, поджидая в темном проеме ворот новые жертвы и чувствуя, как ноет рана, удерживающая его в Мадриде, вспомнил капитан фламандские поля, грохот аркебуз, ржание коней, рокот барабанов, ровный шаг полков с развернутыми старыми знаменами в бой.
Да уж, по сравнению с тягостными воспоминаниями и с засадой, устроенной в этом мадридском переулке на тех, кого он никогда прежде и в глаза не видал, война нынче вечером представилась капитану делом честным и чистым: товарищи – рядом, враг – перед тобой, и с нами – Бог.
* * *
На колокольне Кармен-Дескальсо пробило восемь.
И почти сразу же, словно колокола оповестили о появлении гостей, в дальнем конце переулка послышался стук копыт. Диего Алатристе поглядел на темный силуэт напарника, прижавшегося к монастырской ограде, и тот негромким тирури-та-та дал ему знать, что начеку. Капитан расстегнул пряжку плаща и сбросил его, чтобы не сковывал движения. Он всматривался в освещенный фонарем угол переулка, а цоканье подков меж тем делалось громче – всадники медленно приближались. Желтоватый свет блеснул на обнаженном клинке в руке итальянца.
Капитан оправил нагрудник и вытащил шпагу.
Копыта стучали уже на углу, и вот вдоль стены поползла первая, исполинская, тень всадника и лошади. Пять-шесть раз глубоко вздохнув и резко выдохнув, чтобы освободить грудь от дурных гуморов, Алатристе пружинисто и бодро вышел из-под навеса ворот, сжимая в правой руке шпагу, а в левой – кинжал. От калитки отделился темный силуэт итальянца – в каждой руке у него тоже посверкивала сталь. Оба двигались навстречу огромным теням, скользившим по белой монастырской ограде. Шаг, другой, третий, еще один – все в этом узеньком и коротком переулке оказалось совсем близко. Вот они завернули за угол – и все смешалось: перед глазами оторопевших от неожиданности англичан вспыхнули клинки, послышалось прерывистое дыхание итальянца, кинувшегося на свою жертву. Англичане вели своих лошадей в поводу, и это облегчало дело – особенно после того, как Алатристе, переводя взгляд с одного на другого, определил своего.
Итальянец оказался более проворным или менее косным – он то ли сразу узнал предназначенного ему, то ли предпочел нарушить договор, но так или иначе, без долгих дум ринулся к тому, кто ближе и, значит, оказался застигнут врасплох. Судьба распорядилась так, что он угадал: Алатристе увидел, как юноша в коричневом кафтане, держа свою лошадь под уздцы, вскрикнул, подавая сигнал тревоги, и метнулся в сторону, каким-то чудом увернувшись от направленного ему в грудь клинка, ибо итальянец сделал выпад, не дожидаясь, пока противник приготовится к защите.
– Стини! Стини-и!
Он не звал на помощь, а предупреждал товарища о нападении. Алатристе услышал этот дважды повторенный крик, когда, обогнув круп лошади, которая, почуяв свободу, беспокойно заплясала на месте, устремился на второго англичанина, в свете фонаря оказавшегося писаным красавцем – белокурым, с тонкими усиками. Тот выпустил поводья своего коня, отскочил назад и поспешно выхватил шпагу.
Еретиком он был или добрым христианином, но его проворство превратило убийство в поединок – поскольку англичанин не подпустил капитана к себе вплотную, тот, выставив правую ногу и крепко упершись левой, повел атаку по всем правилам и сбоку нанес отвлекающий удар бискайцем, как только англичанин, отбив шпагу противника, свою отвел чуть в сторону. Спустя мгновение англичанину пришлось отступить еще на четыре шага, и теперь он, прижатый спиной к стене, лишился возможности маневрировать. Между тем капитан вел схватку обстоятельно и уверенно, тесня противника и дожидаясь первой оплошности, чтобы разящим выпадом вогнать клинок на три четверти длины ему в грудь.
Исход был предрешен, ибо англичанин в сером, хоть и защищался довольно грамотно, был чересчур горяч, не соразмерил силы и уже тяжело дышал. Beдя бой, Алатристе слышал за спиной звон клинков, приглушенные проклятия и ловил краем глаза пляшущие на стене тени сражающихся.
Но вот в металлический перестук шпаг ворвался сдавленный стон – и капитан увидел, как юный англичанин припал на одно колено. Вероятно, получил рану и теперь с неимоверным трудом отбивал снизу вверх удары итальянца, усилившего натиск.
Такой оборот событий лишил противника Алатристе душевного равновесия и инстинкта самосохранения, равно как и проворства, благодаря которым ему до сей поры с грехом пополам удавалось парировать выпады капитана.
– Посчадит мой спьютник! – вскричал он с сильным акцентом. – Посчадит мой спьютник!
Такое пренебрежение правилами боя дорого обошлось ему – он не мог не ослабить бдительность, допустил ошибку, и капитан простейшим финтом без труда обезоружил его. Ох уж эти мне еретики, подумал он, вовсе безмозглые существа: этот вот просит о пощаде для другого, хотя собственная жизнь – на волоске. Отлетевшая в сторону шпага англичанина еще не успела зазвенеть о мостовую, а капитан, нацелив острие своего клинка ему в горло, уже чуть отвел назад локоть, чтобы сделать смертоносный выпад. «Пощадите моего спутника!»
Ну кто, кроме умалишенного или англичанина, будет кричать такое на темной мадридской улочке под градом ударов, каждый из которых может оказаться роковым?
Англичанин же вновь повел себя странно. Вместо того чтобы взмолиться о пощаде или наоборот – доказывая, что не трус, – выхватить короткий кинжал, висевший на поясе, хотя проку от этого было бы немного, он, с отчаяньем поглядев туда, где из последних сил защищался его товарищ, указал на него Диего Алатристе и опять закричал:
– Посчадит мой спьютник!
Капитан придержал уже занесенную шпагу Он был слегка сбит с толку: этот белокурый, совсем еще молодой человек с выхоленными усами и длинными, растрепавшимися в долгом пути волосами, одетый в изящный, хоть и пропыленный насквозь дорожный костюм, боялся не за себя, а за своего друга; а тому приходилось совсем скверно, ибо итальянец мог заколоть его в любую секунду. Лишь теперь, при свете фонаря, тускло озарявшем место схватки, Алатристе смог наконец как следует рассмотреть своего противника – голубые глаза, тонкие черты бледного лица, искаженного страхом – но не за собственную жизнь. Белые, гладкие руки. Несомненный аристократ За милю чувствуется знатное происхождение. И припомнив разговор с людьми в масках и то, как один приказывал обойтись по возможности без кровопролития, тогда как другой, поддержанный инквизитором Боканегра, требовал непременно прикончить обоих, капитан сказал себе так: "Нет, тут дело нечисто – слишком много загадок, чтобы, завершив парад рипостом[8], вытереть клинок и спать спокойно".
«Вот ведь дерьмо какое! Наидерьмовейшее дерьмо! Дьявол бы разодрал вас всех с вашими тайнами и меня, что ввязался в это!» – в таком направлении текли мысли капитана Алатристе, по-прежнему державшего занесенную шпагу в непосредственной близости от горла англичанина, и тот догадался о его колебаниях. Он взглянул капитану в глаза и жестом, исполненным необычайного – и, пожалуй, невероятного, если вспомнить, в каком положении он находился – благородства, положил правую руку на грудь, на сердце, словно собирался в чем-то поклясться, и в последний раз, тихо и как-то доверительно сказал:
– Посчадит!
И Диего Алатристе, продолжая поносить себя отборной бранью, понял, что этого англичанина, будь он неладен, хладнокровно прикончить не сможет – по крайней мере, здесь и сейчас. И, опуская шпагу, понял и то, что вот-вот, как распоследний олух, влипнет в очередное приключение, на которые судьба и так никогда не скупилась.
* * *
Капитан обернулся и увидел, что итальянец развлекается от души. Он уже несколько раз мог прикончить раненого, но забавлялся, делая ложные выпады и финты, будто находил удовольствие в том, что медлил, не нанося решительный и смертельный удар. Он напоминал поджарого черного кота, играющего с мышью. Англичанин, стоя на одном колене, привалясь плечом к стене и зажимая свободной рукой кровоточащую рану, вяло отбивался, с неимоверными усилиями сдерживая натиск Он не просил о пощаде – зубы крепко стиснуты, на смертельно бледном лице – решимость умереть, но не произнести ни слова мольбы или жалобы.
– Брось его! – крикнул Алатристе итальянцу.
Тот между двумя выпадами взглянул на капитана и явно удивился, что доставшийся ему англичанин обезоружен, но жив. Мгновение поколебавшись, он повернулся к своему противнику, нанес очередной удар – уже без прежнего злого азарта – и вновь посмотрел на Алатристе.
– Шутите, сударь? – осведомился он, отступив на шаг, чтобы перевести дыхание, и клинок его дважды – слева направо, сверху вниз – с басовитым жужжанием разрезал воздух.
– Брось, я сказал!
Итальянец смерил его взглядом с головы до ног, словно не веря своим ушам. В унылом свете фонаря побитое оспой лицо напоминало лунный диск Обнажая зловещей усмешкой белейшие зубы, ощетинились черные усики.
– Ты дурака-то не валяй, – проговорил он.
Алатристе шагнул к нему, и итальянец взглянул на шпагу у него в руке. Раненый англичанин, полулежа на земле, недоуменно переводил глаза с одного на другого, силясь понять, что происходит.
– Очень много неясного, – сказал капитан. – Все неясно. Ничего не ясно. Так что погодим пока их убивать.
Итальянец смотрел на него все так же пристально. Улыбка стала еще шире, еще недоверчивей – и вдруг исчезла, погасла. Он дернул головой.
– Я склонен думать, ты спятил. Нам это может стоить головы.
– Все беру на себя.
– Ладно.
Итальянец, казалось, размышлял. Вдруг он сделал молниеносный выпад, и если бы не Алатристе, успевший подставить свою шпагу, пригвоздил бы юного англичанина к стене. Итальянец, выругавшись, обернулся к нежданному противнику и капитану потребовалось все его фехтовальное мастерство, чтобы отбить новый удар, направленный ему прямо в сердце.
– Мы еще встретимся! – закричал убийца. – Где-нибудь здесь!
Пинком опрокинув фонарь, он бросился прочь и вскоре тень его растворилась во тьме. Еще мгновение спустя предвестием злейших бед грянул вдали его смех.
Глава 5. Англичане
Фонарь зажгли снова. Юного англичанина подвели поближе к свету и, осмотрев его рану, убедились, что она не опасна – шпага итальянца лишь рассекла кожу справа подмышкой, оставив царапину из тех, что обильно кровоточат, но заживают сами собой, давая возможность ее обладателю форсить перед дамами с рукой на перевязи. В данном же случае не потребовалась и косынка. Англичанин в сером костюме приложил к ране чистый платок и тотчас снова застегнул на своем юном спутнике сорочку, колет и епанчу мягко и негромко разговаривая с ним на своем языке. Покуда продолжалась операция, он стоял к Алатристе спиной, показывая, что больше не опасается его; капитан же получил возможность отметить для себя кое-какие занимательные подробности. Во-первых, когда англичанин в сером, как ни силился он сохранять невозмутимость, расстегнул одежду своего товарища, чтобы осмотреть рану, руки у него сильно дрожали. Во-вторых, хотя познания капитана в английском языке ограничивались лишь несколькими словами, какие обычно слышишь, когда берут корабль на абордаж или лезут по осадным лестницам на бастион, а потому в лексиконе старого испанского солдата значились только фак-ю, сан-оф-э-битч, уир гоинг ту кат ер баллз[9], Диего мог убедиться, что англичанин в сером разговаривает со своим товарищем ласково-почтительно и обращается к нему с церемонным милорд, тогда как тот называет его Стини: несомненно, это было имя или дружеское прозвище. «Вот где собака зарыта, – подумал капитан, – и не какая-нибудь шелудивая уличная шавка, но песик с хорошей родословной». Любопытство его было возбуждено в сильнейшей степени, и, хотя благоразумие не то что нашептывало, но криком кричало о необходимости смыться поскорее, Алатристе по-прежнему стоял рядом с англичанами, которые по его милости едва не отправились недавно в лучший мир, и не без горечи размышлял о нелепости своего поведения и о том, что люди в масках вкупе с отцом Эмилио Боканегра с нетерпением ждут отчета, а значит, песенка его спета.
Теперь уж все равно, все едино: хочешь – спасайся, хочешь – оставайся, хочешь – чакону пляши. Но не в обычае капитана Алатристе было прятать голову в песок, как, по рассказам бывалых людей, поступает в минуту опасности африканская птица страус, да это ничего бы и не решило. Он сознавал, что, парировав удар итальянца, совершил ошибку непоправимую, дело это назад не отыграешь, и, стало быть, ничего другого не остается, как продолжить партию с теми картами, которые, стасовав колоду только что сдала ему глумливая насмешница-Судьба, даже если это не карты, а чистое недоразумение. Он окинул взглядом двоих англичан, которым к этому времени в соответствии с договоренностью – в кармане у Алатристе еще побрякивало золото, полученное за их головы, – полагалось бы уже валяться вверх копытами, и почувствовал, как струйки пота текут у него по спине. «Доля моя горемычная, сучья судьба», – посетовал он про себя. Нечего сказать – нашел время рыцарствовать и играть в благородство! И где – в темном мадридском переулке! Наделал ты делов, капитан Алатристе! И ведь это еще только самое начало.
* * *
Англичанин в сером тем временем не сводил с него взора, да и капитан смог теперь рассмотреть его повнимательней, отметив, что светлые усики тщательно подстрижены, что во всем облике сквозит изысканность, но от усталости и тревоги под голубыми глазами залегли тени. Лет тридцати и хорошей породы. Так же, как у его товарища, лицо не то что бледное, а совершенно восковое – видно, оба еще не отошли от потрясения, произведенного выросшими как из-под земли убийцами.
– Мы в неоплатном долгу перед вами, сударь, – промолвил англичанин и, помолчав, добавил? – Несмотря ни на что.
Он говорил по-испански неважно, с сильным чужестранным – а верней, британским – акцентом, но искренно и горячо. Не вызывало сомнений, что оба англичанина сознают: они сию минуту разминулись со смертью, причем совсем не героической – их едва не зарезали из-за угла, чуть не задавили, как крыс, в темном переулке, бесконечно удаленном от всего, что хотя бы отдаленно напоминает доблесть и славу. Что ж, и этот опыт может оказаться не лишним для щедро взысканных судьбой, для баловней Фортуны по праву рождения, слишком твердо уверовавших, что если уж помирать – так с музыкой, и желательно – с духовой; под пенье труб и гром литавр. И старший из англичан, не сводя глаз с капитана, время от времени жмурился и встряхивал головой, словно не верил, что остался жив. Верно, нехристь ты британский, это и в самом деле – чудо.
– Несмотря ни на что, – повторил он.
Капитан не нашелся, что на это ответить. Затея сорвалась, но что из того? Они с итальянцем были преисполнены решимости отправить двоих Смитов – или как их там на самом деле? – на тот свет. Заполняя томительно-неловкую паузу, Алатристе огляделся и заметил валявшуюся неподалеку шпагу. Он поднял ее с земли и протянул англичанину, а тот – Стини, или Томас Смит, или как там его нарекли при крещении – задумчиво взвесил ее на руке, прежде чем вложить в ножны. И при этом голубые его глаза все смотрели на капитана так открыто и доверчиво, что неловко становилось.
– Сначала мы подумали, что вы… – начал он и замолчал, словно ожидая, что капитан договорит за него.
Но Алатристе лишь пожал плечами. В этот миг раненый сделал попытку встать на ноги, и Томас Смит поспешил к нему на помощь. Оба англичанина продолжали, как зачарованные, разглядывать своего спасителя.
– ..обыкновенный разбойник, но потом поняли, что это не так, – завершил фразу Смит-старший, и к его бледным щекам наконец-то вновь прихлынула кровь.
Диего Алатристе окинул взглядом раненого юношу, которого его спутник называл милорд. Выхоленные тонкие усики, изящные руки, и аристократическому его виду не помеха ни дорожная грязь, ни дорожный костюм. Если он не принадлежит к самой что ни на есть высшей знати, подумал капитан, завтра же перейду в турецкую веру.
– Как вас звать? – спросил англичанин в сером.
Действительно, странно, что они остались живы, ибо свет еще не видывал таких чудаков, как эти двое.
А может, как раз поэтому и уцелели? Как бы то ни было, Алатристе хранил невозмутимое молчание, ибо не склонен был к доверительным беседам ни с кем, а уж особенно – с теми, кому едва не выпустил кишки. «Как вас звать»… Без зова он пришел в этот переулок. Так что совсем непонятно, чего ради щеголеватый англичанин полагает, что он сейчас – вот так, за здорово живешь – начнет изливать ему Душу И, хотя ему до смерти хотелось понять подоплеку всего этого загадочного и паскудного дела, капитан стал склоняться к мысли, что лучше все-таки ему отвалить отсюда подобру-поздорову и чем скорей, тем лучше. Вопросы, ответы, объяснения – нет уж, увольте, не надо нам этого ни в малейшей степени. Кроме того, в любую минуту мог появиться полицейский патруль или, насвистывая свое тирури-та-та, итальянец, не дай бог, решит вернуться на место происшествия, да не один, а с подмогой, чтобы доделать брошенное на полдороге дело. Последнее соображение заставило капитана с беспокойством оглядеться по сторонам. Нет-нет, надо отсюда – как это говорится у нынешних? – уматывать.
– Кто вас послал? – продолжал допытываться англичанин.
Алатристе, не удостоив его ответом, подобрал с земли свой плащ и перекинул его через плечо, оставив на всякий случай правую руку свободной. Лошади стояли поблизости, позвякивая удилами.
– Садитесь и уезжайте, – сказал он наконец.
Но тот, кого звали Стини, не двинувшись с места, обратился с вопросом к своему спутнику, который пока не произнес ни слова по-испански и, судя по всему, вообще не говорил на этом языке. Англичане вполголоса обменялись несколькими фразами, и раненый завершил разговор одобрительным кивком. Старший вновь обратился к Алатристе:
– Вы могли убить меня – и не убили. Вы спасли жизнь моему другу… Почему?
– По старости. Размяк с годами.
Стини покачал головой:
– Тут что-то не так… – Он переглянулся с юношей и с удвоенным жаром вновь приступил к расспросам:
– Вас ведь подослали к нам, правда?
Подобная настырность стала досаждать капитану, и раздражение его еще усилилось, когда он увидел, что собеседник потянулся к висевшему на поясе кошельку как бы давая понять, что всякое полезное сведение может быть соответствующим образом вознаграждено. А потому он нахмурился, закрутил ус и взялся за рукоять шпаги.
– Сударь, – сказал он. – Неужели я похож на человека, который станет выкладывать первому встречному всю подноготную?
Англичанин пристально поглядел на него и медленно отвел руку от кошелька.
– Нет, не похожи. Совсем не похожи.
Алатристе одобрительно кивнул:
– Отрадно, что заметили. Ну так вот – садитесь на своих лошадок и хорошенько их пришпорьте.
Мой напарник может вернуться.
– А вы?
– А я уж как-нибудь.
Англичане вновь обменялись несколькими словами. Потом старший в задумчивости сложил руки на груди, причем большим и указательным пальцами правой подпер подбородок. Эта вычурная и картинная поза лучше смотрелась бы в роскошной зале какого-нибудь лондонского дворца, чем на темной улочке старого Мадрида, где, тем не менее, этот самый Стини чувствовал себя вполне уверенно, ибо явно привык везде и всюду вести себя, как ему вздумается, не заботясь о мнении окружающих. Белокожий, белокурый, изящный – настоящий придворный вертопрах, который однако же в недавней схватке выказал – впрочем, как и его спутник – мужество и стойкость. Капитан отметил про себя, что скроены оба англичанина по одной колодке. Жеребята из хорошей конюшни. Кому же они стали поперек дороги? Вероятно, тут замешаны женщины, религия или политика. А может – и то, и другое, и третье.
– Об этом никто не должен знать, – произнес наконец англичанин, и Алатристе в ответ тихо рассмеялся сквозь зубы:
– Я в этом заинтересован больше, чем кто-либо другой.
Его смех обескуражил англичанина, а, быть может, смысл сказанного дошел до него не сразу. Но через мгновение улыбнулся и он. Улыбнулся самым краешком губ – учтиво и чуть презрительно.
– На карту поставлено очень многое, – пояснил Стини.
Справедливость этого высказывания Алатристе не мог не признать.
– Еще бы, – буркнул он. – Моя голова, например.
Если англичанин и понял иронию, то не придал ей значения. Он снова задумался.
– Мой друг нуждается в отдыхе. Человек, который ранил его, может подкарауливать нас где-нибудь еще. – Он на мгновение замолчал, пытливо вглядываясь в того, кто стоял перед ним, и словно пытаясь определить, действовал тот по влечению сердца или же по коварному расчету Потом пожал плечами, как бы давая понять, что ни ему, ни его спутнику выбирать не приходится. – Вам известно, куда мы направлялись?
Алатристе бестрепетно выдержал его взгляд:
– Может, и известно…
– Вы знаете, где находится Семитрубный Дом?
– Предположим, что так.
– Проводите нас туда?
– Нет.
– Передадите записку?
– Ни за что на свете.
Нет, этот Смит явно считает его слабоумным. Вот этого как раз капитану и не хватало – всю жизнь мечтал своими ногами отправиться прямо к волку в пасть, в гости к английскому послу и его людям! «Любопытство сгубило кошку, – думал Алатристе, беспокойно оглядываясь по сторонам, – сейчас самое время позаботиться о сохранности своей шкуры, ибо много появилось желающих попортить ее непоправимо. Самое время подумать о себе», – и на этой мысли он недвусмысленно показал англичанину, что желает закруглить беседу. Однако тот не внял:
– Но, может быть, вы укажете нам какое-нибудь место неподалеку, где мы могли бы немного отдохнуть? И где бы нам оказали помощь?
Диего Алатристе, прежде чем раствориться во тьме, собрался в очередной и последний раз ответить отрицательно, но тут его осенило – удачнейшая мысль вспыхнула в голове ослепительной зарницей. Он вдруг сообразил, что и ему самому невредно было бы где-то притаиться на время – итальянец и люди, посланные заказчиками и падре Боканегра, вполне могут отправиться на улицу Аркебузы, где, кстати сказать, уже спал сном праведника я, Иньиго Бальбоа. Но мне-то опасаться нечего, а вот капитану перережут глотку, даже не дав обнажить шпагу И он сообразил, где сможет обрести приют и помощь, а заодно – помочь англичанам, попутно выяснив кое-что про них и про тех, кто с таким рвением пытались переселить их на тот свет.
И эта возможность – этот пятый туз, который Алатристе держал в рукаве на самый что ни на есть крайний случай – носила имя Альваро де ла Марка, графа де Гуадальмедина. А дворец его находился в ста шагах отсюда.
* * *
– Ну, ты и вляпался, нечего сказать.
Альваро Луис Гонсага де ла Марка-и-Альварес де Сидония, граф де Гуадальмедина был хорош собой, элегантен и богат. Богат до такой степени, что не моргнув глазом мог в одну ночь проиграть или прокутить с какой-нибудь из своих милашек тысяч десять дукатов. В ту пору, когда заварилась каша с англичанами, было ему, наверное, года тридцать три или тридцать четыре, так что находился он в самом расцвете сил. От старого графа де Гуадальмедины – дона Фернандо Гонсага де ла Марка, геройствовавшего во Фландрии в царствования Филиппа Второго Великого и его преемника на престоле Филиппа Третьего, – ему по наследству достался титул испанского гранда, а с титулом вместе перешло право не снимать шляпу в присутствии нашего юного монарха, четвертого по счету Филиппа, дарившего его своей дружбой и, по слухам, вместе с ним развлекавшегося в обществе актрис и дам не самого высшего разбора, к которым оба питали непобедимую склонность. Холостяк-граф – он был обольстителен, образован, покровительствовал искусствам и сам пописывал стихи, обожал женщин и пользовался у них чрезвычайным успехом – купил у короны пост главного почт-директора, вакантный после недавнего и породившего много толков убийства графа де Вильямедиана: поговаривали, что и его сгубила юбка или, вернее, чья-то ревность. В тогдашней нашей растленной Испании, где на продажу выставлено было все, начиная от сана священнослужителя и кончая самыми доходными должностями в государстве, высокий чин и проистекающие от него выгоды увеличили состояние Гуадальмедины и еще больше укрепили его положение при дворе, прочности которого немало способствовала также недолгая, но блестящая военная карьера – в молодости, лет в двадцать с небольшим, состоя при штабе герцога де Осуны, он отличился в морских сражениях с венецианцами и турками. В ту пору и свел он знакомство с Диего Алатристе.
– Вляпался по уши, – повторил граф.
Капитан пожал плечами. Сняв шляпу, скинув плащ, он стоял посреди маленькой комнаты, убранной фламандскими коврами, так и не прикоснувшись к стаканчику водки, поставленному на зеленый бархат скатерти. Гуадальмедина, в роскошном халате и атласных туфлях, прохаживался перед зажженным камином и, озабоченно хмуря брови, осмыслял то, что рассказал ему минуту назад Алатристе: рассказано же за исключением некоторых подробностей было все с начала до конца – от беседы с людьми в масках и до неудавшегося нападения.
Граф был одним из тех немногих, кому капитан мог доверять слепо и безоговорочно, тем более, что, как рассудил он по дороге во дворец, выбор-то в сущности был весьма и весьма небогат.
– Ты хоть имеешь представление, кого пытался прикончить сегодня?
– Нет. Ни представления, ни понятия. – Капитан тщательно подбирал слова. – Мне назвали их имена – Томас Смит и Джон Смит. Так, по крайней мере, было сказано.
– Кем?
– Вот это и я бы не прочь узнать.
Граф остановился и взглянул на Алатристе не то восхищенно, не то осуждающе. Капитан еле заметно кивнул в подтверждение своих слов, и Гуадальмедина, пробормотав «черт побери!», вновь забегал взад-вперед по комнате. К этому времени слуги, спешно поднятые с постелей, уже провели англичан в лучшую гостиную особняка. Покуда капитан ожидал появления графа, во дворце начался такой переполох, что создавалось впечатление, будто сыграли боевую тревогу – захлопали двери, затопало множество ног, загремели голоса, со двора донеслось ржание коней, в оконных стеклах заметались отблески факелов. Сам граф написал и отправил с нарочными несколько записок и лишь затем вышел к Алатристе, причем тот не мог не признать, что никогда еще не видел хладнокровного и неизменно благодушного хозяина в таком, можно сказать, смятении.
– Значит, Томас Смит? – пробормотал граф.
– Так мне сказали.
– Томас Смит, говоришь?
– Томас Смит.
Гуадальмедина снова остановился перед капитаном.
– Черта лысого это Томас Смит! – гаркнул он, потеряв терпение. – Англичанина в сером зовут Джордж Вильерс! – Порывисто схватив со стола стаканчик с водкой, до которого так и не дотронулся Алатристе, он выпил его одним духом. – В Европе он больше известен по своему родовому имени – маркиз Бекингем!
При этих словах подкосились бы ноги у любого – но только не у Диего Алатристе-и-Тенорио, ветерана фламандских кампаний. Любой стал бы озираться, ища, где бы присесть, а лучше – прилечь. Но капитан, обнаруживая замечательное присутствие Духа, выдержал взгляд графа Гуадальмедина как ни в чем не бывало. Впрочем, потом, за бутылкой вина, он признался мне – и только мне, – что в ту минуту принужден был, чтобы скрыть дрожь, сунуть большие пальцы за свой ременный пояс. И что голова у него пошла кругом, словно он сидел на ярмарочной карусели. В Испании хорошо знали маркиза Бекингема – юного фаворита его британского величества, короля Иакова I, знатнейшего и родовитейшего аристократа, любимца дам и дамского угодника, вельможу, в весьма значительной степени определявшего политику Сент-Джеймсского двора.
Всего несколько недель спустя, еще в пору его пребывания в Мадриде, ему будет пожалован титул герцога.
– Что ж, подведем итог, – желчно продолжил Гуадальмедина. – Стало быть, ты чуть было не выпустил кишки любимцу английского короля, путешествующему инкогнито. Что же касается второго…
– Джона Смита? – невинно уточнил капитан.
Граф сделал такое движение, будто хотел схватиться за голову, и Алатристе заметил, что одного упоминания о младшем англичанине хватило, чтобы розы на щеках его собеседника обратились в лилеи. Однако, справившись с собой, Гуадальмедина поскреб ногтем большого пальца свою эспаньолку и восхищенно оглядел капитана с головы до ног.
– Невероятный ты малый, Алатристе. – Он прошелся по комнате, остановился перед капитаном и вновь воззрился на него с тем же выражением на лице. – Просто невероятный.
Пожалуй, назвать «дружескими» отношения, связывавшие испанского гранда графа де Гуадальмедина и отставного солдата Диего Алатристе, было бы сильной натяжкой, однако, несомненно, они отдавали друг другу должное. Альваро де ла Марка высоко ценил капитана – так повелось с той поры, когда тот сражался во Фландрии под знаменами старого графа и сумел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Впоследствии превратности войны свели его с Альваро в Неаполе, и капитан – тогда его так еще не называли – выполнял для сына своего старого генерала кое-какие важные поручения. Граф никогда не забывал этого и впоследствии, сменив латы воина на брыжи придворного, унаследовав титул и состояние, старался отблагодарить Алатристе.
Время от времени он прибегал к услугам его самого и его шпаги, когда надо было утрясти денежные вопросы, проводить на небезопасное любовное свидание, образумить взбесившегося рогоносца, унять ревнивого соперника, увещевать ополоумевшего заимодавца или устранить невесть откуда взявшегося претендента на наследство, как, если помните, и было поступлено в случае с маркизом де Сото, которому Алатристе по предписанию графа сделал, использовав вместо шприца шпагу, укол, приведший к летальному исходу. Впрочем, он – не в пример другим наемным храбрецам, рыскавших по Мадриду в поисках заработка, – никогда не злоупотреблял доверием Гуадальмедина, знал свое место, в друзья не лез и обращался к нему лишь в таких вот случаях – когда положение становилось просто отчаянным. Но с другой стороны, он никогда бы в этом положении не оказался, если бы наверное знал, как высоко летают те птички, которых они с итальянцем собрались прихлопнуть, и какие хлопоты воспоследуют от этого. Вот уж истинно – не на тех напали!
– Ты уверен, что не знаешь людей в масках?
– Я ведь вам уже говорил. Впечатление такое, что это – какие-то важные шишки, но я никого не узнал.
Гуадальмедина снова поскреб бородку.
– Их было только двое?
– Только двое.
– И один велел не убивать, а второй – прикончить непременно?
– Более или менее.
Граф окинул Алатристе долгим взглядом:
– Ты чего-то не договариваешь.
Капитан выдержал его взгляд и в очередной раз пожал плечами:
– Может, и так, – ответил он спокойно.
Альваро де ла Марка, не спуская с него испытующих глаз, криво усмехнулся. Слишком давно были они знакомы, чтобы сомневаться – капитан скажет лишь то, что захочет сказать, даже если за это граф выставит его на улицу. Да, он выложил Гуадальмедина почти все – умолчал лишь о знакомстве с падре Эмилио Боканегра. Не потому, что боялся бросить тень на его имя – бояться надо было самого инквизитора, – а потому, что, хоть и питал к графу едва ли не беспредельное доверие, по природе своей гнушался доносительства. Одно дело – говорить о людях под масками и совсем другое – назвать тех, кто подрядил его на эту работу, пусть даже один из заказчиков – монах-доминиканец, и вся эта история, а в особенности – ее плачевный финал, вполне могла стоить капитану тесного и малоприятного знакомства с палачом. Алатристе, воспользовавшись благоволением графа, вверил ему судьбу этих англичан, да и свою собственную. Однако у него, старого солдата и наемного убийцы, были свои незыблемые понятия о порядочности, и даже сейчас, в минуту смертельной опасности, преступать их он не желал, о чем было превосходно известно Гуадальмедине. Ибо когда Алатристе случалось выполнять поручения графа, он столь же непреклонно отказывался называть его имя третьим лицам. Такие вот правила действовали на том ограниченном пространстве мира, где жили эти двое – хоть и очень по-разному они жили. И граф тоже не склонен был нарушать их, несмотря на то, что свалившийся как снег на голову маркиз Бекингем со своим спутником сидел сейчас в гостиной его особняка. По лицу хозяина капитан понимал со всей очевидностью – тот лихорадочно соображает, какую пользу можно извлечь из государственной тайны, которую слепой случай и Диего Алатристе преподнесли ему, с позволения сказать, на блюдечке.
В дверях появился и почтительно замер слуга.
Граф подошел к нему, и Алатристе слышал, как они вполголоса обменялись несколькими словами. Потом он вернулся на прежнее место и вновь окинул капитана задумчивым взглядом.
– Я уведомил английского посла, но эти джентльмены считают, что неудобно будет устраивать встречу у меня… Так что я сам провожу их в Семитрубный Дом – да с надежной охраной во избежание новых неприятных сюрпризов.
– Могу ли я вам быть чем-нибудь полезен?
– Не довольно ли полезных дел на сегодня? – с усталой иронией ответил граф. – Лучше всего будет, если ты без промедления отсюда удалишься.
Алатристе кивнул, как бы смиряясь с неизбежностью, и, подавив вздох горькой досады, стал откланиваться. Было ясно, что ни у себя дома, ни у кого-либо из друзей он переночевать не может, и раз уж граф оказался столь негостеприимен, придется до утра шататься по улицам, надеясь не встретить врагов или альгвасилов Мартина Салданьи, которому, наверное, уже доложили о происшествии. Гуадальмедина не мог не понимать этого. Столь же отчетливо должен был он сознавать, что капитан лучше сдохнет, чем попросит о помощи прямо: гордость не позволит. А если просьбу невысказанную хозяин предпочел не расслышать, значит, остается рассчитывать только на свою шпагу. Однако граф уже улыбался, переменив решение:
– Сегодня можешь остаться здесь. Утро вечера мудренее… Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили комнату.
Алатристе перевел дух, сохраняя при этом совершенно непроницаемый вид. В приоткрытую дверь он видел, как хозяина собирают в дорогу – помимо прочего, слуги не забыли принести нагрудник из буйволовой кожи и пистолеты. Альваро де ла Марка явно не собирался подвергать своих случайных гостей новым опасностям – или, по крайней мере, желал встретить их во всеоружии.
– Через несколько часов станет известно об их прибытии, и весь Мадрид будет вверх дном, – зашептал граф. – Они взяли с меня честное слово испанского дворянина, что я никому не скажу ни о том, как вы с этим итальянцем напали на них, ни о том, кто привел их сюда… Пойми, Диего, дело очень тонкое. И на кону стоит кое-что подороже твоей головы.
Стало быть, так – путешествие Смитов благополучно завершилось у резиденции британского посла.
Этим мы сейчас и займемся.
Он уже направился было в соседнюю комнату, чтобы переодеться, но на полпути остановился, словно вспомнив что-то важное.
– Они хотят увидеться с тобой перед уходом. Уж не знаю, сможешь ли ты смотреть им в глаза, но когда я рассказал, кто ты такой и как все это дело заваривалось, понял, что они, кажется, зла на тебя не держат. Ох уж эти островитяне со своей хваленой британской невозмутимостью!.. Если бы я натерпелся по твоей милости такого страху, то криком бы кричал, требуя, чтоб с тебя спустили шкуру. И вероятней всего – требуемое бы получил.
* * *
Свидание было кратким и происходило в огромной приемной зале под картиной Тициана, на которой Зевс в облике золотого дождя ублажал Данаю. Альваро де ла Марка, одетый и снаряженный так, словно шел брать на абордаж турецкую галеру – то есть со шпагой у бедра, с кинжалом на боку и с пистолетами за поясом, – подвел капитана к закутанным в плащи англичанам, которых окружали его слуги, также вооруженные до зубов. Толпа челяди с факелами и алебардами ожидала во дворе. Для полного сходства с полком, выходящим в ночной дозор, не хватало только барабанного боя.
– Вот и он, – иронически сказал граф, указывая на Алатристе.
Англичане оправились от потрясения и привели себя в порядок – платье их было вычищено, а младший держал пострадавшую руку на широкой перевязи. Второй, в сером дорожном колете, – маркиз Бекингем, если верить графу – уже обрел присущую ему надменность, которой Алатристе, однако, не заметил при первом знакомстве в темном переулке. Джордж Вильерс, маркиз Бекингем, в ту пору был уже первым лордом адмиралтейства и обладал значительным влиянием на короля Иакова. Этот честолюбивый вельможа, умный политик, пылкий волокита и неисправимый искатель приключений вот-вот должен был получить герцогский титул и войти с ним в историю и в легенду. А сейчас молодой королевский фаворит пристально и недобро вглядывался в лицо человека, по милости которого пережил несколько пренеприятнейших минут. Но Алатристе с невозмутимым и безмятежным видом выдержал этот взгляд – ему от него было ни холодно, ни жарко, и совершенно все равно, маркиз перед ним, архиепископ, конюх или племянник самого Папы Римского. Ворочаться без сна нынче ночью ему предстояло при мысли о доминиканце Эмилио Боканегра, тех двоих под масками и – ох, кабы только о них!
– Чуть было не убил нас сегодня вечером, – по-испански, с сильным британским выговором и очень спокойно произнес Бекингем, обращаясь скорее к Гуадальмедина, чем к Алатристе.
– Весьма сожалею, – еще спокойнее ответил капитан, слегка поклонившись. – Не всегда мы вольны направить наши шпаги куда захотим.
Англичанин еще несколько мгновений не сводил с него голубых глаз, вновь обретших прежнее высокомерное выражение, сменившее растерянность, которая появилась в них сразу после стычки. Бекингем уже вполне пришел в себя, и теперь самолюбие его жестоко страдало при воспоминании о том, как этот безвестный убийца даровал ему жизнь – вот чем объяснялась чрезмерная надменность, и следа которой не наблюдал давеча Алатристе, когда тусклый свет фонаря играл на стали скрещенных шпаг.
– Думаю, мы в расчете, – бросил наконец Бекингем и, резко отвернувшись, стал натягивать перчатки.
Второй англичанин – тот, кого называли Джоном Смитом – молча стоял рядом. У него был высокий, благородно очерченный бледный лоб, тонкие черты лица, изящные маленькие руки и непринужденная осанка. Все это – несмотря на простое дорожное платье – с головой выдавало в нем особу знатного происхождения. Капитан уловил едва заметную улыбку, морщившую его губы под светлыми, негустыми усиками. Он собрался поклониться и удалиться, но тут юноша произнес по-английски несколько слов, заставивших Бекингема вновь повернуться к нему. Краем глаза Алатристе видел, что граф Гуадальмедина, помимо французского с латынью знавший и язык безбожных островитян, тоже улыбается.
– Мой друг говорит, что обязан вам жизнью. – Джордж Вильерс чувствовал себя не очень ловко, ибо он-то считал, что разговор окончен, и последнее слово осталось за ним, а теперь против воли должен был переводить слова своего спутника. – Ибо последний удар этого человека в черном был бы смертельным… Если бы не вы.
– Не исключено. – Алатристе тоже позволил себе улыбнуться. – Будем считать, что нам всем нынче ночью повезло.
Юный англичанин, надевая перчатки, внимательно выслушал перевод.
– Он спрашивает, почему вы изменили решение и перешли на другую сторону?
– Никуда я не переходил, – отвечал Алатристе. – Я всегда на стороне самого себя. И охочусь в одиночку Юноша задумчиво разглядывал его, покуда Бекингем переводил слова капитана, и тот понял, что первое впечатление было обманчиво – этот самый, с позволения сказать, Джон Смит вдруг предстал перед ним человеком куда более зрелым и властным, чем казалось сначала. Алатристе отметил, что и Гуадальмедина выказывает больше почтения ему, нежели его спутнику, а ведь это был не кто-нибудь – сам Бекингем! Тем временем он вновь произнес короткую фразу, и Бекингем возразил ему словно не желая передавать капитану эти последние слова. Однако юноша настаивал – и с такими повелительными нотками в голосе, что ослушаться было решительно невозможно.
– Этот сеньор говорит, – с явной неохотой заговорил на своем ломаном испанском Бекингем, – что ему не важно ваше происхождение и род занятий.
Вы проявили благородство, не допустив, чтобы его убили, как собаку, подло и предательски… Он говорит, что, несмотря ни на что, считает себя в долгу перед вами и хочет, чтобы вы это знали… Еще он говорит… – тут переводчик на миг замялся, озабоченно переглянувшись с графом, – ..что утром вся Европа будет знать, что в Мадрид в сопровождении и под охраной одного лишь человека – своего друга маркиза Бекингема – прибыл старший сын короля Иакова Английского… И последнее: хотя интересы государства требуют, чтобы вчерашнее происшествие не сделалось достоянием гласности, он, Карл Стюарт, принц Уэльский, наследник британского престола, будущий король Англии, Шотландии и Ирландии, никогда не забудет, как человек по имени Диего Алатристе мог убить его – и не убил.
Глава 6. Искусство наживать врагов
Проснувшийся утром Мадрид был ошеломлен невероятным известием: Карл Стюарт, детеныш британского льва, прискучив медлительностью переговоров о своем бракосочетании с инфантой доньей Марией, сестрой нашего государя Филиппа Четвертого, предпринял вместе с маркизом Бекингемом затею столь же безрассудную, сколь и необычайную – инкогнито отправился в нашу столицу, горя желанием увидеть свою невесту и тем самым превратить холодную дипломатическую комбинацию, на протяжении долгих месяцев разрабатываемую в канцеляриях, в рыцарский роман. Свадьба англиканского принца и католической инфанты к этому времени превратилась в настоящую головоломку, к решению которой причастны оказались послы, министры, иностранные государи и даже его святейшество Папа – тот должен был дать на это апостольское соизволение и при этом извлечь для себя всю возможную выгоду. И вот в итоге юношески пылкое воображение принца Уэльского, раздосадованного тем, что такая аппетитная куропаточка – да нет, толкуя об августейшей особе, назовем ее скорее уж цесарочкой, или на кого там охотятся обреченные вечному проклятью еретики? – никак не дается ему в руки, подвигло его при живейшем содействии Бекингема на столь решительный шаг, призванный несколько ускорить процесс. И вот эти двое задумали пуститься в весьма опасное приключение, рассчитывая, что, нагрянув вот так, без предупреждения, приглашения и прочих тонкостей протокола и этикета в Испанию, покорят инфанту с первого взгляда, покорят да и увезут ее в Англию на глазах у всей ошеломленной Европы и под восторженные рукоплескания народов английского и испанского, благословляющих этот брачный союз.
Такова в общих чертах была завязка интриги.
Король Иаков поначалу возражал категорически, но затем дрогнул, сдался и позволил молодым людям пуститься в путь. И хоть риск этого предприятия был очень велик – дорожное происшествие, неудача сватовства или пренебрежительное отношение испанской стороны непоправимо замарало бы честь британской короны, – однако оправдывался в глазах старого короля предполагаемыми выгодами. Прежде всего, попасть в зятья к тому, кто повелевал державой, все еще остающейся самой могучей на свете – дело, я вам скажу далеко не пустячное даже для принца Уэльского. Кроме того, этот брак, весьма желанный для англичан и сдержанно одобряемый графом Оливаресом и твердолобыми католиками из окружения короля Филиппа, положил бы предел давней вражде двух народов. Сами посудите, господа: тридцати лет еще не минуло с той поры, как пустилась в плаванье Непобедимая Армада, и под гром артиллерийской канонады наш добрый государь Филипп Второй насмерть сцепился с этой рыжей выдрой, что откликалась на кличку Елизавета Английская, а всем протестантам, пиратам и прочим сукиным детям была как мать родная, хоть и называлась «королевой-девственницей», и будь я проклят, если смогу себе вообразить, в каком месте она это свое девство хранила. И наконец, в случае женитьбы юного еретика на нашей инфанте, которая была хоть и не Венера, но очень даже из себя ничего, если верить кисти дона Диего Веласкеса, запечатлевшей ее – юную, белокурую, все при ней, включая и оттопыренную габсбургскую губку, – чуть попозже описываемых нами событий, – так вот, в случае женитьбы этой Англия получала возможность мирным путем продвинуть свои товары в Вест-Индию и решить в свою пользу жгучий вопрос Пфальцского наследства, о котором – я имею в виду вопрос, но также и наследство – распространяться здесь не намерен, отсылая любопытствующих к учебникам истории.
Вот, стало быть, какие события предшествовали той ночи, пока я, Иньиго Бальбоа, безмятежно дрых в каморке на улице Аркебузы, понятия не имея о том, что происходит, а капитан бодрствовал в одной из комнат графского особняка, одной рукой поглаживая пистолет за поясом, а, другую расположив в непосредственной близости от эфеса шпаги. Что же касается англичан, то устроили их со значительными большими удобствами и со всеми, как говорится, онерами, в резиденции британского посла, а наутро, когда весть о прибытии разнеслась по городу и советники нашего доброго государя во главе с графом Оливаресом принялись лихорадочно искать выход из создавшегося положения, граждане Мадрида толпами стали стекаться к Семитрубному Дому, чтобы приветствовать отважного путешественника. Карл Стюарт был молод, пылок и преисполнен надежды на лучшее; ему едва минуло двадцать два года, и со свойственной этому цветущему возрасту самоуверенностью он питал надежду, что его рыцарский поступок пробудит любовь в сердце принцессы, ему пока еще неведомой; не сомневался он также и в том, что мы, испанцы, желая поддержать свою славу людей гостеприимных и падких до красивых жестов, оценим его поступок столь же высоко, как и прекрасная дама-инфанта. И правильно делал, что не сомневался. Если бы за почти полувековое царствование славного и никчемного нашего короля Филиппа Четвертого, в насмешку прозванного Великим, страсть к гостеприимству и к красивым жестам, праздничный день с обедней, да без обеда, прогулка при полном параде, да с пустым брюхом наставили нас на путь истинный или привели бы к чему-нибудь путному, скажу, переиначив присловье, что другой петушок пропел бы тогда мне и капитану Алатристе, каждому из испанцев по отдельности и всей Испании в совокупности. Ту гнусную эпоху принято называть Золотым Веком, но мы, жившие в то время и пережившие его, не то что золота, а и серебра видали всего ничего. Зато уж чего-чего, а бесплодного самопожертвования, героических поражений, упадка морали и порчи нравов, плутовства и воровства, нищеты и совершеннейшего бесстыдства нахлебались вдосталь и досыта. Да что говорить – гляньте на картину Веласкеса, перелистайте пьесу Лопе или Кальдерона, прочтите сонет дона Франсиско де Кеведо, и если скажете: «Славное было времечко!» – мне вас от души будет жаль.
Но я отвлекся. Речь у нас, помнится, шла о том, что известие о приезде принца распространилось по Мадриду скорей, чем огонь – по запальному шнуру, и, разумеется, воспламенило весь город, тогда как впечатление, произведенное на нашего славного короля и его первого министра Оливареса – впрочем, это выяснилось впоследствии – приездом незваного и непрошеного наследника британского престола, смело уподоблю пистолетному выстрелу меж глаз. Разумеется, виду не показали, соблюли приличия, рассыпались в сплошных «добропожаловать» да «милостипросим». О засаде и нападении не упомянули ни полсловом. Подробности Диего Алатристе узнал от графа Гуадальмедина, когда тот уже утром вернулся домой, чрезвычайно обрадованный тем обстоятельством, что обоих англичан удалось доставить до места безо всяких происшествий и заручиться благодарностью их, а равно и британского посла. После того как в резиденции нашему гранду отвесили полные руки любезностей, его спешно вызвали в Алькасар-Реаль, и там он ввел в курс дела его величество и первого министра. Связанный честным словом, граф не мог рассказать им о давешней засаде, однако, не поступаясь своей честью и не заходя на запретное поле, умудрился намеками, умолчаниями, обиняками, иносказаниями, красноречивой мимикой добиться того, что и монарх, и его фаворит с ужасом поняли – вчера, в одном из темных переулков их столицы беспечных путешественников едва не настругали ломтиками.
Он же, то есть Альваро де ла Марка граф Гуадальмедина, предоставил капитану если не исчерпывающее объяснение, то хотя бы ключ к разгадке этой истории. Все утро он разъезжал между Семитрубным Домом и королевским дворцом, а вернувшись домой, привез свежие новости, не слишком, впрочем, обнадеживающего свойства:
– Все проще простого, – подвел он итог. – Англия хочет, чтобы бракосочетание состоялось как можно скорее, Оливарес же и Государственный совет, которым он вертит как хочет, предпочитают не спешить. При одной мысли о том, что принцесса Кастильская выйдет замуж за еретика-англиканина, им в нос шибает запах серы… Королю – всего восемнадцать лет, а по разуму – и того меньше, и в этом вопросе, как и во всех прочих, он всецело полагается на Оливареса. Идет, куда тот ведет. Люди, вхожие в ближний круг, полагают, что наш первый министр согласится на брак лишь при том условии, что Карл перейдет в католичество. Раз Оливарес вертит вода, принц Уэльский берет быка – за рога, разумеется – и решает поставить нас.., нет, не так, как ты подумал, а перед свершившимся фактом.
Сидя за столом, покрытым зеленой бархатной скатертью, Альваро де ла Марка закусывал. Время близилось к полудню, собеседники находились в той же самой комнате, где накануне вечером граф принимал капитана, а теперь с большим увлечением жевал пирог с курятиной, прихлебывая вино из серебряного кубка – успех посреднической миссии сильно разжигает аппетит. Он предложил капитану составить ему компанию, однако тот приглашение отклонил и остался стоять у стены, глядя, как ест его покровитель. Алатристе – небритый, осунувшийся после бессонной ночи – был уже готов к выходу: рядом, на стуле, лежали плащ и шляпа.
– Кому же, по вашему мнению, свадьба эта – поперек горла? – осведомился он.
Гуадальмедина проглотил кусок, впился зубами в другой, а в промежутке взглянул на капитана:
– У-у, да очень многим. – Он положил пирог на блюдо и принялся загибать блестящие от жира пальцы. – У нас в Испании – церковь и инквизиция решительно против. И не забудь, что Папа, Франция, Савойя и Венеция готовы пойти на что угодно, лишь бы сорвать наш союз с Англией… Ты представляешь, что началось бы, если бы вчера вечером ты все-таки приколол принца с Бекингемом?
– Полагаю, началась бы война с Англией.
Граф вновь принялся за пирог.
– Правильно полагаешь, – мрачно ответил он. – Сейчас все заинтересованные лица согласились сделать вид, будто ничего и не было. Карл и Бекингем утверждают, что на них напали самые обыкновенные грабители, а наш король с Оливаресом делают вид, что верят этому. Однако потом его величество поручил министру провести расследование, и тот обещал разобраться досконально. – Туадальмедина замолчал, чтобы пропустить хороший глоток вина, утер усы и бородку огромной белой, до хруста накрахмаленной салфеткой. – Зная Оливареса, я уверен, что и с него бы сталось подстроить нападение – он и глазом бы не моргнул, просто сейчас ему это невыгодно. Перемирие с Голландией доживает последние дни, и нам нет никакого резона распылять силы, затевая никому не нужную свару с англичанами…
Граф разделывался с последним ломтем пирога, устремив рассеянный взгляд на фламандский гобелен, висевший за спиной у его собеседника, – там всадники в латах осаждали замок, с зубчатых стен которого люди в чалмах осыпали их стрелами и камнями. Гобелен висел здесь уже лет тридцать, с тех героических пор, как при Филиппе Втором его в качестве трофея вывез из штурмом взятого Антверпена генерал Фернандо де ла Марка. Теперь тут сидел его сын – медленно жевал и размышлял. Но вот он перевел глаза на Алатристе:
– Твои заказчики вполне могли бы оказаться агентами Венеции, Савойи, Франции или еще дьявол знает чьими… Ты уверен, что они – испанцы?
– Такие же, как вы да я. Испанцы – и благородного происхождения.
– Вот уж за это ручаться нельзя. Теперь куда ни плюнь – не в идальго попадешь, так в кабальеро.
Вчера мне пришлось рассчитать своего цирюльника, который явился брить меня со шпагой на боку – спасибо, что не ею. Ныне даже лакеи подались в благородные. А поскольку работа есть бесчестье, ни одна собака в этой стране не работает.
– Те, кто нанимал меня, – отнюдь не лакеи. Но испанцы.
– Ладно. Испанцы или не испанцы – не в том суть. Как будто чужеземцы не смогли бы заплатить нашим, чтобы те обтяпали это дело… – Граф горько хмыкнул. – Милый мой, в нашей заавстрияченной державе вельможу купить не трудней, чем конюха, были бы деньги. У нас на продажу выставлено все, кроме национальной чести, да и ту загнали бы при первой возможности да по сходной цене. А о прочем что уж говорить… – Он поглядел на Алатристе поверх края серебряного кубка. – О наших шпагах, например.
– О наших душах, – поставил точку капитан.
Гуадальмедина, не сводя с него глаз, глотнул вина.
– Вот именно. Не исключено, что эти люди в масках состоят на жалованье у нашего славного понтифика Григория Пятнадцатого. Его святейшество испанцев видеть не может даже на картинке.
Большой, отделанный мрамором камин не был разожжен, солнце, проникавшее в комнату, пригревало лишь чуть-чуть, но при этих словах капитана бросило в жар. Зловещая фигура доминиканца Эмилио Боканегра мгновенно воскресла в памяти – всю прошлую ночь монах не давал Алатристе покоя: лицо его возникало то на темном потолке, то вырисовывалось в листве стучавших в окно деревьев. Вот и дневного света оказалось недостаточно, чтобы проклятая тень сгинула. От произнесенных Гуадальмедина слов она вновь обрела плоть.
– Кем бы ни были они, – продолжал граф, – цель их ясна: расстроить свадьбу, жестоко проучить Англию и развязать войну. А ты, занеся, но опустив руку со шпагой, погубил их замысел. Ты в совершенстве превзошел искусство заводить врагов, ты в этом деле несравненный дока, докторскую шапку впору получать. Беда в том, что я больше не могу тебя прикрывать и даже оставить тебя здесь не могу: это чревато большими неприятностями уже для меня самого… На твоем месте я бы уехал – далеко и надолго. А о том, что знаешь, не говори никому – ни единой живой душе, даже на исповеди, ибо если духовник услышит такое, он повесит свое облачение на гвоздик, продаст тебя и разбогатеет.
– Ну а что англичанин? Ему больше ничего не грозит?
– Разумеется, нет, – сказал Гуадальмедина. – Теперь, когда вся Европа знает об этой эскападе, принц Уэльский может чувствовать себя в Мадриде так же уверенно, как в своем проклятом Тауэре. Король и Оливарес твердо намерены тянуть и волынить, кормить обещаниями и посулами до тех пор, пока он не плюнет да не вернется домой с попутным ветром.
Однако безопасность Карлу они уж как-нибудь да обеспечат. Тут одно с другим путать не надо… Кроме того, – добавил он. – Оливарес – большой мастер находить неожиданные решения, и ему совершенно не обязательно играть по написанным нотам. Он придумает что-нибудь новенькое и уговорит короля.
Знаешь, что сказал он сегодня утром в моем присутствии? Что если Рим не разрешит бракосочетание и инфанту не смогут отдать Карлу в жены, он получит ее как любовницу. У этого Оливареса – гениальная голова! С ним держи ухо востро – сожрет и не подавится! А Карл – доволен и считает, что уже заключил Марию в объятия.
– А как она ко всему этому относится?
– Ну как она может относиться в восемнадцать-то лет? Позволяет себя любить. То, что еретик королевской крови, молодой и приятный на вид, оказался способен прискакать сюда, ее и отталкивает, и пленяет. Но ведь она – инфанта Кастильская, и каждый ее шаг предусмотрен и расписан. Сильно сомневаюсь, что их хоть на мгновение оставят наедине – «отче наш» сказать не дадут, не то чтобы чего другого позволить. Знаешь, по дороге домой мне в голову пришло начало сонета:
Уэльский принц явился к нам до срока – Принцессу нашу сватает держава…– А? Как тебе? – стихотворец пытливо взглянул на Алатристе, но тот лишь чуть заметно улыбнулся, благоразумно воздерживаясь от суждений. – Ну, до Лопе мне, конечно, далеко, и твой друг Кеведо наверняка сыщет здесь тьму погрешностей – а все же недурно, на мой взгляд! – Граф допил вино, скомкал и швырнул на стол салфетку и поднялся. – Возвращаясь к политике, скажу тебе, что союз с Англией очень бы помог нам противостоять Франции, ибо опасней ее для нас в Европе нет никого – ну разве что протестанты. Лучше всего было бы со временем перестать артачиться да сыграть свадьбу, хотя, судя по тому, какие речи слышал я сегодня от короля и Оливареса, вряд ли это произойдет.
Он сделал несколько шагов по комнате, снова взглянул на гобелен, утащенный его, отцом из Антверпена, и в задумчивости остановился у окна.
– Одно дело – прирезать ночью безымянного чужестранца, которого вроде бы здесь и нет, и совсем-совсем другое – покуситься на жизнь внука Марии Стюарт, гостя нашего обожаемого монарха и будущего повелителя Англии. Время упущено. А потому могу себе представить, в каком бешенстве пребывают твои заказчики и как они алчут мести. Кроме того, ты – свидетель, а чтоб свидетель молчал, его лучше всего убрать. Мертвец не проболтается. – Он пристально поглядел на капитана. – Улавливаешь? Ну и славно. Ладно, заболтался я с тобой, а у меня еще много дел… Вот сонет надо дописать. Так что уноси ноги, капитан Алатристе. Ступай с Богом.
* * *
Весь Мадрид высыпал на улицы, и к Семитрубному Дому началось настоящее паломничество. Любопытствующий народ пестрой толпой валил по улице Алькала до церкви Кармен-Дескальсо, толпился напротив резиденции английского посла, где натиск его не слишком ретиво сдерживали несколько полицейских, и восторженно рукоплескал всякий раз, как из ворот или в ворота следовала карета. Зеваки дружными криками требовали, чтобы принц Уэльский вышел к ним, и устроили настоящую овацию светловолосому юноше, который, появившись на мгновенье в окне, сделал им ручкой – да так приветливо и милостиво, что пленил горожан окончательно. Такой уж у нас в Мадриде народ: завоюешь его сердце – все тебе отдаст, ничего не пожалеет; и все то время, что наследник британского престола провел у нас, люди без устали выказывали ему свою приязнь и расположение. Думается мне, что иной была бы злосчастная история нашей Испании, если бы душевные порывы населяющих ее чаще принимались в расчет, а жесткое понятие «государственные интересы» вкупе с себялюбием, продажностью и бездарностью власть имущих сторонилось и отступало, пропуская вперед великодушие. Начнешь размышлять над горестной историей нашего народа, неизменно и безотказно отдающего все лучшее, что у него есть – свое простодушие, свои деньги, свой труд, свою кровь, – и почти ничего не получающего взамен, невольно вспомянешь и не раз повторишь строчку старинного романса о Сиде: «Чтоб хорошим быть вассалом, надобен сеньор хороший».
Ну да ладно. Весь наш квартал в полном раже и воодушевлении отправился приветствовать британского принца, а за Каридад Непрухой, которая не могла пропустить такое зрелище, увязался и я. Не помню, успел ли я вам рассказать, что в свои тридцать-тридцать пять лет она сохранила еще горделивую стать и грубовато-броскую андалусскую красоту, то есть была смугла, черноглаза, пышногруда. Лет пять она подвизалась на театральных подмостках и столько же – в борделе на улице Уэртас, а потом, утомясь от жизни такой и заметив первые «гусиные лапки» у глаз, на все свои сбережения купила таверну «У Турка», позволявшую ей вести вполне пристойное и безбедное существование. Скажу еще, не боясь выдать тайну, что Каридад была без памяти влюблена в моего хозяина Диего Алатристе и по этой причине кормила и поила его, а удобное расположение капитановой каморки, сообщавшейся и с черным ходом таверны, и с комнатой Непрухи, способствовало тому что с завидной частотой разделяли они и ложе. Капитан при мне скрывал свои отношения с хозяйкой, но когда живешь бок о бок с кем-нибудь, все тайное постепенно становится явным, тем более что и я, желторотый птенец из захолустной Оньяте, был достаточно смекалист.
Ну, так вот, о чем бишь я? В тот день я сопровождал Каридад Непруху по улицам Майор, Монтера и Алькала до самой резиденции, и там замешались мы в густую толпу, кричавшую «ура» принцу и состоявшую из людей всех сословий и самого разнообразного вида. Улица же превратилась в какое-то торжище почище, чем ступени Сан-Фелипе – излюбленное место сбора всех зевак и вестовщиков, – и в толчее сновали водоносы и разносчики медовухи, бойко шла торговля пирожками, вареньем и прочей снедью, отчего возникали этакие передвижные, на скорую руку смастеренные харчевенки, где за пригоршню медяков можно было перекусить и выпить; христарадничали нищие, шныряли горничные, пажи и лакеи; из уст в уста перелетали самые невероятные истории и россказни, передавались последние дворцовые новости и слухи, и, разумеется, на все лады обсуждались рыцарский поступок юного принца, равно как – тут уж первое место принадлежало прекрасной половине толпы – лицо, фигура и прочие явленные и прикровенные достоинства его самого и Бекингема. И так вот, очень оживленно и вполне на испанский манер, катилось к полудню утро.
– Хорош! – заявила Каридад после того, как пресловутый принц показался в окне. – Загляденье!
Стройный, статный – какая парочка будет с нашей инфантой!
И краешком мантильи отерла слезу умиления.
Она, как и большая часть присутствующих женщин, держала сторону влюбленного англичанина – его неустрашимость снискала их симпатии, и они полагали дело сделанным.
– Как жаль, что такой ладный парнишечка – и нате вам: еретик! Ну да ничего – с таким духовником он быстро обратится, а со временем и окрестится, – добрая Каридад в невинности своей полагала, будто англичане – наподобие басурман и не ведают христианских таинств. – С милой в кроватке и катехизисы сладки.
И расхохоталась так, что ходуном заходила обширная грудь, неизменно вселявшая в меня смутное волнение и почему-то – не могу объяснить этого – напоминавшая мне о матери. Отлично помню свои ощущения в те минуты, когда, накрывая на стол, она наклонялась, и из-за шнуровки корсажа выплывали эти огромные, смуглые полушария, исполненные тайны. Мне до смерти хотелось узнать, что делает с ними капитан после того, как, отослав меня купить что-нибудь или просто поиграть на улицу, остается с Непрухой наедине, и когда я, перескакивая через две ступеньки, спускался по лестнице, сверху долетал до меня ее веселый и громкий смех.
И вот, стало быть, пока торчали мы на улице, глазея на окна британского посольства и принимаясь рукоплескать всякий раз, как оттуда кто-нибудь выглядывал, появился капитан Алатристе. Надо прямо сказать: далеко не впервые не ночевал он дома, и потому накануне я мирно спал, нимало не тревожась его отсутствием. Однако, увидев его перед Семитрубным Домом, тотчас понял: что-то стряслось.
Шляпу он надвинул на глаза, краем плаща закрывал нижнюю часть лица; и – что уж было совсем на него непохоже, ибо солдатская привычка рано утром приводить себя в порядок укоренилась в нем глубоко – был небрит. Светлые глаза смотрели одновременно устало и как-то, я бы сказал, затравленно, пробирался он сквозь толпу, настороженно оглядываясь, как человек, в любую минуту ожидающий подвоха. Впрочем, когда я сказал ему, что ни ночью, ни утром никто о нем не справлялся, капитан немного успокоился. Непруха заверила его, что и в таверне новых лиц и подозрительных расспросов не было.
Потом, отведя его чуть в сторону, шепотом осведомилась, в какую очередную передрягу он попал. Я делал вид, что не слышу, хотя держал ушки на макушке, но Диего Алатристе ничего не ответил трактирщице и продолжал с непроницаемым видом оглядывать окна резиденции.
В толпе зевак попадались люди из общества, сидевшие в паланкинах или портшезах; были и две-три кареты, где за шторками окон прятались знатные дамы и сопровождавшие их дуэньи – к ним устремлялись бродячие торговцы, наперебой предлагая напитки, фрукты и сласти. Мне показалось, что я узнал один экипаж – запряженную парой сытых крепких мулов черную карету без герба на дверце. Кучер был так увлечен болтовней с зеваками, что я без помехи сумел подобраться вплотную к подножке. И, увидав в окошке синие глаза и пепельные локоны, удостоверился, что сердце – а оно колотилось так, что готово было вот-вот выскочить из груди – подсказало мне правильно.
– К вашим услугам, сударыня, – сказал я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал.
Я и сейчас не понимаю, как это в столь нежном возрасте – сколько ей тогда было? – умела Анхелика де Алькесар улыбаться столь обольстительно, как улыбнулась она мне тогда возле Семитрубного Дома, а вот поди ж ты – умела! Медленно, очень медленно скользила по ее губам снисходительная и всепонимающая улыбка. Девочка ее лет просто еще не успела бы научиться такой улыбке – с этим умением надо родиться, получить его в дар при появлении на свет вместе с сиянием глаз и навылет пробивающим взглядом, ибо это плод многовекового безмолвного наблюдения над тем, как мужчины вытворяют разнообразнейшие глупости. Я был слишком мал в ту пору, чтобы предвидеть, до какой степени унижения способны дойти мы, представители сильного пола, и догадываться, сколь многое можно постичь по этой улыбке, по этому взгляду, но во взрослой моей жизни мне удалось бы избежать изрядного числа неудач и промахов, если бы я прилежней изучал эту науку. Однако никто не рождается мудрецом, а когда желаешь насладиться плодами благоприобретенной мудрости, то уже, как правило, – слишком поздно: плоды эти не пойдут тебе на пользу и успеха не принесут.
Ну, как бы то ни было, скажу, что девочка, у которой были пепельные локоны, а глаза – светло-синие, как зимнее мадридское небо, и такие же холодные, улыбнулась, узнав меня; более того – зашумев ломким шелком платья, приподнялась, подалась вперед, опираясь тонкой белой ручкой о раму окна.
Я стоял у подножки кареты, где сидела моя маленькая дама, и разлитое в воздухе ликование вкупе с тем, что сколько-то лет спустя будут называть атмосферой – атмосферой рыцарственной галантности – придали мне смелости. Способствовало моему порыву и еще одно немаловажное обстоятельство – в то утро одет я был вполне пристойно и даже не без щегольства – в темно-коричневый колет и короткие, до середины икры, штаны: то и другое принадлежало капитану Алатристе, а Каридад Непруха, вооружась иголкой с ниткой, подогнала мне одежонку по росту так, что выглядела она как новая, сидела как влитая.
– Сегодня совсем не грязно, – произнесла девочка, и голос ее вселил в меня трепет.
Была в нем какая-то безмятежная обольстительность, а детского ничего не было – даже слишком серьезно и важно для ее возраста звучал он. Так говорят, обращаясь к своим поклонникам, взрослые дамы и актрисы на сцене. Но Анхелика де Алькесар – я в ту пору еще не знал, что именно так ее зовут – была не актриса и не дама, а девочка лет двенадцати.
Видно, с молоком матери всосала она искусство произносить самые немудрящие слова так, что они обретали иное значение и тайный смысл, а внимавший им ощущал себя мало того что взрослым сильным мужчиной, но – мужчиной единственным на тысячу миль кругом.
– Совсем не грязно, – эхом отозвался я и продолжал, сам не понимая, что говорю:
– И это очень жалко, ибо я не могу еще раз услужить вам.
При этих словах я положил руку на грудь слева, где сердце. Признайте, господа, что я не ударил лицом в эту несуществующую грязь, и обходительные ответ и жест достойны были моей дамы и обстоятельств. Вероятно, так оно и было, потому что девочка не стала притворяться, будто не понимает, о чем я толкую, а улыбнулась мне вновь. И на всем белом свете не было в то мгновенье никого счастливее меня, и никого галантней, и никого, кто с большим правом мог бы зваться настоящим идальго.
– Это – паж того человека, о котором я вам говорила, – произнесла меж тем девочка, обращаясь к кому-то невидимому в глубине кареты. – Его зовут Иньиго, он живет на улице Аркебузы… – Она снова повернулась ко мне, застывшему разинув рот, ибо я поверить не мог, что она запомнила мое имя. – ..с этим, с капитаном, да? Как его – Летристе? Батисте?
В полутьме что-то шевельнулось, и вот – из-за плеча девочки появились сначала пальцы с грязными ногтями, а потом и вся рука в черном рукаве. Показался черный колет с красным крестом ордена Калатравы на груди, и, наконец, над маленьким, круглым, чуть накрахмаленным воротником-голильей возникла круглая голова с редкими бесцветно-серыми волосами. Высунувшемуся из окошка человеку по виду было под пятьдесят, и, несмотря на изысканность наряда, все в нем – плебейски-грубые черты лица, толстая шея, мясистый красноватый нос, немытые руки, манера склонять голову набок, а главное – высокомерно-брюзгливый взгляд лавочника, который каким-то образом обрел деньги, власть и влияние – производило отталкивающее впечатление. Мне стало как-то не по себе при мысли о том, что этот отвратительный мужлан не только сидит в одной карете с моей юной прекрасной дамой, но и, вероятно, связан с нею узами родства. Но сильней всего встревожили меня ненависть и злоба, вспыхнувшие в его странно заблестевших глазах при упоминании имени Алатристе.
Глава 7. Улица Прадо
Следующий день пришелся на воскресенье. Начался он праздником, а для нас с Диего Алатристе едва не закончился большой бедой. Но не будем забегать вперед. Упомянутый мною праздник происходил на улицах, выбранных королем Филиппом Четвертым для торжественного шествия, предваряющего церемонию представления Карла Стюарта инфанте и придворным. В шествии этом по традиции принимал участие, что называется, «весь Мадрид», двигавшийся пешком, верхом и в каретах по улице Майор, между Санта-Мария де ла Альмудена и колоннадой Сан-Фелипе, а потом – вниз, до садов герцога Лермы, монастыря иеронимитов и Прадо де Сан-Херонимо. Улица Майор вела от самого центра города до королевского дворца Алькасар-Реаль, и размещались на ней бесчисленные ювелирные мастерские и модные лавки, а потому после полудня неизменно заполнялась дамами в каретах и нарядными кавалерами, стремившимися привлечь их внимание. Что же касается Прадо, то это было место благословенное – особенно в солнечные зимние дни и летние вечера: сплошь в густой зелени рощ, где струились двадцать три ручья, высились изгороди фруктовых садов, и по обсаженной тополями аллее катились экипажи и расхаживали, ведя оживленную беседу, гуляющие. Помимо того, Прадо издавна было облюбовано распутными придворными, назначавшими там тайные свидания на лоне природы.
Так что наш славный государь, уже в силу своего цветущего возраста склонный к галантным забавам, решительно не смог бы выбрать место, которое больше подходило бы для первой встречи испанской нашей инфанты и британского претендента на ее руку и сердце. Свидание это, разумеется, должно было проходить в полном соответствии с дипломатическим протоколом и в рамках этикета, принятого при испанском дворе и столь строгого, что жизнь каждого из членов царствующей фамилии была заранее и на много лет вперед расписана даже не по дням, а по часам и минутам. Стоит ли удивляться, что нежданный и негаданный визит принца Уэльского, нагрянувшего в Мадрид, наш король использовал для того, чтобы нарушить этот незыблемый и нерушимый порядок и экспромтом, так сказать, устроить череду празднеств и развлечений.
Что ж, сказано – сделано, и по воле Филиппа Четвертого выехала бесконечная вереница карет с теми, кто занимал хоть мало-мальски заметное положение при дворе, а мадридское население выступило в роли свидетелей этого парада, приятно щекотавшего национальное самолюбие, да и на англичан, без сомнения, произведшего сильное впечатление, ибо зрелище и в самом деле было красочное и ни на что не похожее. Когда же будущий Карл Первый, король Англии, осведомился о том, будет ли ему позволено приветствовать свою невесту – ну, хотя бы просто поздороваться с ней, – граф Оливарес и прочие советники долго переглядывались со значительным видом, прежде чем рекомендовать его высочеству – опять же с соблюдением всех правил политеса и этикетных тонкостей – августейшую свою губу не раскатывать, ибо и в мыслях допустить нельзя, чтобы кто-нибудь, пусть даже принц Уэльский, который, кстати, еще не представлен официально, говорил с инфантой доньей Марией или с кем бы то ни было из принцесс крови. Не то что говорить – близко подойти нельзя. Увидятся во время процессии – и на том спасибо.
Я сам стоял тогда в толпе зевак и потому свидетельствую – праздник удался на славу, вышел пышным и утонченным, собрал сливки общества и цвет дворянства, разряженного и принарядившегося, и должен также отметить, что, поскольку наши гости пребывали на нем инкогнито, все вели себя в высшей степени непринужденно. Принц Уэльский, Бекингем, британский посол Бристоль и граф Гондомар, наш посол в Англии находились в карете, стоявшей у Гвадалахарских ворот, и, раз уж строго-настрого было запрещено приветствовать сидевших в ней или вообще обращать на них внимание, была эта карета словно бы невидима – и из окна ее Карл Стюарт наблюдал за вереницей экипажей, везших высочайших особ. И в одном, рядом с двадцатилетней красавицей-королевой Изабеллой де Бурбон увидал он наконец беленькую, миленькую, скромную инфанту донью Марию в полном цвете юности, в осыпанном бриллиантами платье и с голубой лентой на руке – чтобы жених не терзался сомнениями, а узнал сразу. От улицы Майор до Прадо и обратно трижды проехала эта карета мимо кареты англичан, и принц, успев разглядеть даже голубые глаза и золотистую головку, украшенную перьями и драгоценными камнями, влюбился, говорят, в нашу инфанту без памяти. За что купил – за то и продаю, но люди зря не скажут, тем более что англичанин пробыл в Мадриде еще пять месяцев, добиваясь успеха своего сватовства; король же вел себя с ним, как с родным братом, а граф Оливарес, выступая во всем блеске своего несравненного дипломатического искусства, морочил ему голову и водил за нос, придумывая новые и новые отговорки и проволочки.
Но, хоть и была надежда, что кончится дело свадьбой, повернулось дело так, что англичане приостановили переговоры и стали пакостить нам где могли – главным образом на море, посылая своих пиратов, своих каперов и своих дружков-голландцев, чтоб им всем, сволочам, ни дна ни покрышки, захватывать наши галеры, везущие золото из Индий.
Вот и остались все заинтересованные стороны при пиковом интересе.
Капитан Алатристе не послушал доброго совета графа де Гуадальмедина – никуда не сбежал и не стал прятаться. Выше я уже рассказывал, как в то самое утро, когда Мадрид узнал о приезде принца Уэльского, Алатристе прогуливался у Семитрубного Дома, и я имел счастье лицезреть своего хозяина, который задумчиво разглядывал карету с англичанами.
Неважно, что стоял он, по слову поэта, «усы прикрыв плащом, а брови – шляпой». Трусость и осторожность – разные вещи, а береженого, как известно, бог бережет.
Капитан словом не обмолвился о засаде и ее последствиях, но я почувствовал – что-то стряслось.
Ночевать он отправил меня к Непрухе под тем предлогом, что к нему должны прийти люди по делу. Я, однако, сразу понял, что ночь он провел без сна, в обществе двух заряженных пистолетов, шпаги и кинжала. Тем не менее обошлось без происшествий, и с первым светом зари Алатристе смог наконец улечься: вернувшись утром домой, я обнаружил, что масло в коптилке догорело, капитан же спит, не раздеваясь, сложив оружие – да нет, не в том смысле! – сложив оружие так, чтобы под рукой было, дыша приоткрытым ртом ровно и глубоко, нахмурив брови, и даже во сне с лица его не сошло привычное упрямое выражение.
Капитан Алатристе был фаталистом. Надо думать, его боевое прошлое – ведь он воевал во Фландрии и в Средиземноморье с тринадцати лет, бросив школу и поступив в полк барабанщиком – способствовало тому, что опасности, риск, передряги, неприятности большие и малые, неопределенность и прочие особенности тяжкого и трудного своего бытия воспринимал стоически – так, словно давно научился ничего другого от жизни не ждать. Как будто его имел в виду французский маршал Граммон, когда несколько позже отзывался об испанцах в таких словах: «Свойственное им непоказное мужество проявляется в равной степени и в терпении, с которым выполняют они любую работу, и в стойкости, с которой встречают они опасность… Испанские солдаты редко сетуют на постигшую их неудачу, утешаясь надеждой, что судьба в скором времени окажется к ним более благосклонной…» А вот что писала другая француженка, мадам де Онуа. «Под ударами стихий или судьбы, в нищете обнаруживают они вопреки всему большую смелость, надменность и гордость, нежели в роскоши и благополучии…» Видит бог, это – истинная правда, и я, переживший и эти, и еще более лихие времена – они не замедлили настать – свидетельствую: мадам имеет резон, Что же касается Диего Алатристе, его надменность и гордость были глубоко запрятаны и проявлялись лишь в том, как упорно он замолкал на целые часы. Я, помнится, уже говорил, что не в пример многим и многим бахвалам, залихватски крутившим усы и горланившим на улицах и на всякого рода сборищах, капитан никогда не рассказывал о том, как воевал. Бывало, впрочем, что его однополчане за бурдюком вина вспоминали прошлое, и многое в этих воспоминаниях относилось к нему, а я слушал с жадностью, хотя по малолетству своему видел в Алатристе всего лишь замену отца, павшего с честью за нашего короля, подобно многим другим – не знатного рода, но кремневой породы – людям, которых неустанно рождает наша Испания и о которых Кальдерон – да простит меня за то, что привожу Кальдерона вместо столь любимого им Лопе мой покойный хозяин, в вечном ли блаженстве пребывает он сейчас или горит в геенне, – написал так:
…Все выдержат в спокойствии надменном, Не унижаясь мыслью о деньгах, Вовеки не бывало, чтоб презренным Крылом бы осенил их лица страх. Все вынесут они на поле брани, Лишь не снесут к ним обращенной брани.Вспоминается мне один случай, произведший на меня в свое время особенное действие потому, что обнаружил в полном блеске дарования капитана Алатристе. Хуан Вигонь, служивший в чине сержанта в кавалерийском полку, разгромленном на песчаных берегах Ньипорта – горе матери, чей сын оказался там и тогда! – несколько раз, используя для наглядности хлебные корки и стаканы с вином, живописал нам злосчастную судьбу испанских войск. Он сам, мой отец и Алатристе оказались в числе тех счастливцев, кому этот прискорбный день суждено было пережить в отличие от пяти тысяч своих соотечественников – и среди них полутора сотен офицеров, – полегших в бою с голландцами, англичанами и французами, которые довольно часто грызлись между собой, но когда представилась счастливая возможность засадить нам по полной, мигом сколотили коалицию. В Ньипорте все вышло очень славно, лучше и не бывает: главнокомандующего, дона Гаспара Сапену убило, адмирал де Арагон и другие командиры кораблей попали в плен, войска наши дрогнули, и, видя, что командиры перебиты, Хуан Вигонь, сам раненный в руку – неделю спустя руку пришлось отнять, потому что антонов огонь прикинулся, – увел жалкие остатки своего эскадрона. И, обернувшись в последний раз, прежде чем унестись во весь опор, увидел, что Картахенский полк, в рядах которого сражались мой отец и Диего Алатристе, пытается покинуть заваленное трупами поле сражения под натиском, как говорится, превосходящих сил противника, осыпавшего испанцев пулями и ядрами. Куда ни глянь, – повествовал однорукий Хуан, – всюду мертвые, умирающие, раненые, разгром полный. И вот под палящим солнцем, в лучах которого песок сверкал нестерпимым слепящим блеском, на сильном ветру, гонявшим по небу облачка порохового дыма и пыли, ощетинясь пиками на четыре стороны света, построясь в каре с пробитыми картечью знаменами посередине, огрызаясь мушкетным огнем, сохраняя строй и смыкая ряды всякий раз, как образовывались в нем бреши от ядер и бомб неприятеля, не осмеливавшегося подойти вплотную и броситься в рукопашную, медленно отступают роты Картахенского полка. Отойдут на десять шагов, остановятся, постоят и снова двинутся, не переставая отбиваться, не ускоряя хода, не сбиваясь с шага, размеряемого медленным-медленным рокотом барабанов, грозные даже в час поражения, спокойные и торжественные, как на параде…
– Картахенский полк прибыл в Ньипорт под вечер, – завершал свой рассказ Хуан Вигонь, единственной рукой двигая по столу корки и кубки. – Пришли тем же мерным, неспешным шагом, да только не все – лишь семьсот человек, а начинали сражение тысяча сто пятьдесят… Среди вернувшихся были и Лопе Бальбоа с Диего Алатристе – черные от пороховой гари, измученные, терзаемые лютой жаждой. Спаслись они тем, что не сломали строй и сохранили хладнокровие посреди всеобщей паники и бегства. А знаете ли вы, что ответил мне Диего, когда я обнял его, поздравляя с тем, что выжил и уцелел?
Уперся в меня своими глазищами, ледяными, как вода в этих окаянных голландских каналах, и сказал:
«Где уж нам было бежать – слишком выдохлись».
* * *
За ним пришли не ночью, как он ожидал, а когда только начинало вечереть, и вели себя более или менее в рамках закона. Постучали в дверь, и я, отворив, увидел на пороге тощую фигуру лейтенанта Мартина Салданьи. На лестнице и во дворике стояли альгвасилы – я насчитал шестерых – со шпагами наголо.
Салданья вошел один, закрыл за собой дверь и остановился посреди комнаты, не сняв шляпы и портупеи со шпагой, помимо которой на нем было еще множество кое-чего полезного для смертоубийства. Алатристе поднялся ему навстречу и лишь теперь разжал пальцы, обхватившие рукоять кинжала в тот миг, когда раздался стук в дверь.
– Клянусь кровью Христовой, Диего, ты со мной играешь в поддавки! – мрачно заговорил полицейский, делая вид, что не замечает лежащих на столе пистолетов. – Мог бы удрать из Мадрида. Или, по крайней мере, перебраться на другую квартиру.
– Я не тебя ждал.
– Да уж понимаю, что не меня. – Салданья наконец бросил беглый взгляд на пистолеты, прошелся по комнате, снял и бросил на стол шляпу, прикрыв ею оружие. – Но кого-то все-таки ждал.
– В чем дело?
Встревоженный всем происходящим, я застыл в дверях своей каморки. Салданья мельком взглянул на меня и вновь зашагал взад-вперед. Он тоже знавал моего отца – они вместе воевали во Фландрии.
– Разрази меня гром, если знаю, – ответил он. – Приказано взять тебя под стражу и доставить живым или, если окажешь сопротивление, мертвым.
– В чем меня обвиняют?
Салданья уклончиво повел плечом:
– Никто тебя ни в чем не обвиняет. Мне приказано сопроводить тебя для беседы.
– Кем приказано?
– Это тебя не касается. Приказано – и на том конец. – Салданья взглянул на капитана с тоскливым упреком, словно тот был виноват, что он оказался в столь затруднительном положении. – Что ты натворил, Диего? Даже не представляешь, какие тучи собрались над твоей головой.
Алатристе улыбнулся, но улыбка вышла кривой и невеселой.
– Я всего лишь согласился выполнить работу, на которую ты же меня, кстати, и подрядил.
– Будь проклят тот час, когда я это сделал! – Салданья протяжно и шумно вздохнул. – Видит бог, твои заказчики остались не вполне удовлетворены качеством работы.
– Слишком грязной она оказалась, Мартин.
– Грязная? Эка невидаль! Можно подумать, за последние тридцать лет тебе поручали дела иного рода! А?
– Слишком грязно даже для нашего брата.
– Ладно, хватит! – Салданья вскинул обе руки, как бы заграждая капитану уста и отгоняя искушение услышать нечто большее. – Не желаю ничего знать! В наше время много будешь знать – не скоро состаришься, а до старости не дотянешь… – Он устремил на Алатристе взгляд смущенный и вместе с тем – исполненный решимости:
– Ну что, по-хорошему пойдешь или как?
– У меня есть выбор?
Салданью озадачил этот вопрос, но – лишь на мгновенье.
– Ну, как тебе сказать… – вынес он свой вердикт. – Я, конечно, могу замешкаться здесь, покуда ты попытаешь счастья с теми, кто остался снаружи…
Людишки – так себе, не из самых отборных, зато шестеро на одного. Сильно сомневаюсь, что сумеешь прорваться на улицу, не получив двух-трех ударов шпагой, а то и пули.
– Понятно. А по дороге?
– И думать забудь – повезем тебя в закрытой карете. Раньше, милый друг, надо было уходить, до того, как мы нагрянули. Времени у тебя было – выше крыши. – Взгляд Салданьи был полон укоризны. – Будь я проклят во веки веков, если ожидал застать тебя здесь!
– И куда же ты меня повезешь?
– Не имею права говорить. Я и так сказал гораздо больше, чем должен. – Тут он снова взглянул на меня, а я во все продолжение разговора их молча и неподвижно стоял у двери во вторую нашу комнатенку. – Хочешь, я присмотрю за мальчишкой?
– Нет. – Алатристе, погруженный в свои размышления, даже не обернулся ко мне. – Непруха о нем позаботится.
– Воля твоя. Ну – идешь?
– Скажи мне, куда мы направляемся, Мартин.
Тот резко мотнул головой:
– Сто раз тебе повторять? Не имею права!
– Но ведь не в тюрьму же, так ведь?
Молчание Салданьи было красноречивей всяких слов, и на лице Алатристе появилась гримаса, в подобных случаях обозначавшая улыбку – Ты должен прикончить меня по дороге? – спросил он тоном столь безмятежным, словно справлялся, не слишком ли сегодня сыро на дворе. Салданья снова покачал головой.
– Нет. Честное слово, мне приказано доставить тебя живым – если не окажешь сопротивления. А вот выйдешь ли ты оттуда, куда я тебя доставлю, – вопрос другой. Но этот вопрос – уже не ко мне.
– Если бы они не боялись огласки, меня распотрошили бы прямо здесь, не сходя с места, – Алатристе выразительно чиркнул указательным пальцем под кадыком. – Ты нужен, чтобы придать всему делу вид официальности… Задержан, доставлен, допрошен, отпущен на все четыре… И почем нам знать, что там с ним потом приключилось. Так?
Салданья не стал темнить и кивнул.
– Думаю, так. Странно, что не предъявили обвинений, ибо на этом свете нет ничего легче, чем состряпать дело. Должно быть, боятся, что ты окажешься чересчур словоохотлив… К твоему сведению, мне вообще запретили с тобой говорить. И заносить тебя в арестантскую книгу… Эх, пропади оно все пропадом!
– Мартин… Не хочется мне идти туда с пустыми руками.
Лейтенант ошеломленно воззрился на него:
– Даже и не заводи со мной этих разговоров, – произнес он наконец.
Алатристе с намеренной медлительностью извлек из-за голенища нож и показал его Салданье:
– Мартин… Только это, а?
– Ты спятил? Или, может, меня считаешь полоумным?
Алатристе качнул головой:
– Ни то ни другое, – ответил он просто. – Меня хотят убить. Ничего особенного – издержки моего ремесла. Рано или поздно такое случается. Но почему я должен дать зарезать себя, как барана? – Он снова обозначил улыбку. – Клянусь, тебе ничего не грозит.
Салданья потеребил бороду. Тянувшийся от правого уха до угла рта шрам, который она прикрывала, напоминал о ране, полученной при осаде Остенде, когда штурмом брали бастионы «Конь» и «Куртина».
Среди тех, кто шел с ним плечом к плечу в тот – да ..и не только в тот – день, был и Диего Алатристе.
– Ни мне, ни моим людям, – проговорил он.
– Клянусь.
Лейтенант все еще терзался сомнениями. Но вот, матерясь сквозь зубы, он отвернулся, и Алатристе сунул нож на прежнее место – за голенище.
– Пропади оно все пропадом, Диего! – повторил Салданья. – Шагай, что ли!
* * *
И без дальнейших разговоров они вышли. Капитан предпочел идти налегке, без плаща, для большей свободы движений, и Салданья не возражал. Более того, он разрешил Алатристе натянуть поверх колета нагрудник из буйволовой кожи.
– Чтоб не просквозило, – скупо улыбнувшись, проговорил он. Что же до меня, я не остался дома и не пошел к Непрухе, а чуть только капитан и его спутник спустились по лестнице, схватил, недолго думая, пистолеты со стола, сорвал висевшую на стене шпагу завернул все это в плащ, сунул узел подмышку и помчался следом.
Мадридский день мерк и угасал, но в той стороне, где течет Мансанарес и стоит Алькасар-Реаль, небо еще не успело потемнеть, и четко вырисовывались на нем крыши и шпили колоколен. И вот, в наступающих сумерках, все гуще окутывавших улицы, старался я не потерять из виду четверку мулов, рысью тащивших закрытую карету, в которой Мартин Салданья со своими присными вез капитана. Миновали здание иезуитского коллежа, двинулись вниз по улице Толедо, на маленькой площади Себада своротили – явно чтобы избежать людных мест – направо, потом еще раз направо и оказались едва ли не в городском предместье – неподалеку от Толедского тракта, от скотобойни и того места, где было когда-то мавританское кладбище, благодаря чему место и доныне зовется Портильо-де-лас-Анимас, то есть Приют Духов. Вообразите, каково мне было в этом глухом месте, окутанном мрачными легендами, да еще в этот тревожный предвечерний час.
Было уже совсем темно, когда карета наконец остановилась перед домом гнусного вида с двумя маленькими окошками и дверьми такими широченными, словно строили их в расчете не на людей, а на лошадей или быков. Так оно, судя по всему, и было – некогда здесь находился постоялый двор для барышников и торговцев скотом. По-прежнему держа подмышкой узелок, с трудом переводя дух, я притаился за углом и увидел, как из кареты спокойно, всем своим видом являя полную покорность судьбе, вышел капитан и альгвасилы; те ввели его в двери и через мгновение вышли, сели в карету и уехали. Кто же остался с моим хозяином внутри? – обеспокоился я. Подойти ближе я не решался – меня могли обнаружить. И вот, снедаемый внутренней тревогой, я решил запастись терпением, ибо качество это, по словам того же капитана, должно быть присуще всякому настоящему воину – и потому поплотнее прижался спиной к стене, тонувшей в густой тьме, и приготовился ждать. Не скрою – мне было холодно, мне было страшно. Но Лопе Бальбоа пал во Фландрии за короля. И я не мог бросить в беде друга моего отца.
Глава 8. Приют духов
Все это напоминало суд, и у Диего Алатристе не было ни малейших сомнений, что в определенном смысле так оно и есть. Не хватало того рослого и осанистого сеньора под маской, который требовал не проливать крови. Однако его тогдашний спутник – круглоголовый, с редкими прилизанными волосами – был налицо и с маской на лице: он сидел за просторным столом, где горела свеча в канделябре и рядом с чернильницей были разложены бумаги и перья. Одного этого человека, всем своим видом буквально источавшего враждебность, хватило бы, чтобы вселить трепет в самую закаленную душу, но мало того – рядом с ним, не пряча лицо под маской, то втягивая, то вытягивая из широких рукавов сутаны руки, подобные двум костлявым змеям, сидел, наводя еще больший ужас, падре Эмилио Боканегра.
Присесть было некуда, и Алатристе оставался на ногах в продолжение всего допроса. А допрос ему был учинен самый настоящий, с соблюдением всех формальностей, и доминиканец, ведя его, чувствовал себя в родной стихии. Впрочем, удовольствие от занятия любимым делом никак не мешало ему пребывать в ярости, бесконечно далекой от самого слабого намека на христианское милосердие. От причудливой игры теней плохо выбритые щеки казались еще более впалыми; ввалившиеся глаза вспыхивали ненавистью при взгляде на Алатристе. Все – даже самый строй произносимых им фраз, даже самое незначительное движение – проникнуто было злобой такой лютой, дышало угрозой столь смертельной, что капитан невольно оглянулся по сторонам, ища дыбу и прочие орудия пытки, без которых дело, судя по всему, обойтись никак не могло. Его, правда, удивило: когда Салданья вместе со своими людьми удалился, ниоткуда не вынырнули стражники или мастера заплечных дел, и в комнате остались лишь круглоголовый, доминиканец и он сам, капитан Алатристе. Это обстоятельство шло вразрез со всем прочим и сулило нечто неожиданное. Что-то здесь не так, как должно. Или как должно быть.
Полчаса задавали капитану вопросы инквизитор и круглоголовый, который время от времени подавался вперед, обмакивал перо в чернильницу и что-то записывал, и Алатристе вскоре уяснил, где находится, и главное – почему еще жив и способен ворочать языком, издавая членораздельные звуки, а не валяется с перерезанным горлом в какой-нибудь сточной канаве. Его, с позволения сказать, собеседников больше всего интересовало, что именно и кому он успел рассказать. Многие вопросы касались того, какую роль сыграл граф де Туадальмедина в судьбе двоих англичан и какими сведениями он располагает. Особо старались вызнать, не посвящен ли еще кто-нибудь в суть и подробности дела, столь блистательно проваленного капитаном, и если посвящен, то как его зовут. Алатристе был начеку, твердил, что словом никому ни чем не обмолвился, а вмешательство графа произошло по случайному стечению обстоятельств, хотя инквизиторы, похоже, были непреложно убеждены в обратном. «Ясное дело, – проносилось в голове у Алатристе, – в королевском дворце у них есть свой человек, который сообщил им о том, сколько раз наутро после неудавшегося покушения побывал там Гуадальмедина». Тем не менее он стоял на своем – ни граф и ни одна живая душа не знают о его разговоре с людьми в масках и с доминиканцем. Впрочем, говорил капитан мало, а ограничивался односложными «да» и «нет», кивал или качал головой. Ему было душно – то ли давил кожаный нагрудник, то ли бросало в жар при одной мысли, что вот сейчас откроется потаенная дверка, выскочат оттуда палачи, скрутят его и поволокут в преддверие преисподней. Допрос прерывался, когда круглоголовый писарским почерком, с тщательностью прирожденного канцеляриста выводя каждую буковку, заносил на бумагу показания капитана, но падре Эмилио Боканегра и в эти минуты сверлил капитана завораживающим взглядом, от которого у самого отчаянного удальца волосы встали бы дыбом. Алатристе недоумевал: неужели его не спросят о главном – почему он отбил удар итальянца, направленный в сердце младшего из англичан? Хотя, в сущности, им в высокой степени наплевать, какие причины его к этому побудили. И тут, словно прочитав его мысли, монах подвигал по столу рукой, потом оперся ею о темное дерево столешницы, потом ткнул в капитана восковым указательным пальцем:
– Что может побудить человека покинуть ряды Господнего воинства и перебежать к нечестивым еретикам?
"Ай да воинство набрал себе Господь, – подумал Алатристе:
– бешеный монах, писарь, прячущий лицо под маской, да наемный убийца-итальянец". В других обстоятельствах он, может быть, даже рассмеялся бы, но сейчас ему в самом буквальном смысле было не до смеху. И потому ограничился тем, что, не отводя глаз и не моргая, выдержал взгляд доминиканца, а тут и круглоголовый перестал водить перышком по бумаге и сквозь прорези маски тоже воззрился на капитана без малейшей искры приязни.
– Не знаю. Вероятно, то, что один из этих англичан в смертный, можно сказать, час не взмолился о пощаде, а попросил сохранить жизнь своему товарищу.
Падре Эмилио Боканегра и круглоголовый обменялись быстрыми недоверчивыми взглядами.
– Боже всемогущий… – пробормотал монах.
Глаза его горели огнем фанатизма и ненависти.
«Я – покойник», – подумал капитан, прочитав в этом черном беспощадном взоре своей смертный приговор. Что тут ни делай, какие рацеи ни разводи, этим безжалостным взглядом он осужден на казнь, а вялое безразличие, с которым круглоголовый вновь взялся за перо, приговор скрепило. Диего Алатристе-и-Тенорио, бывшему солдату, ветерану фламандских кампаний, кормившемуся в царствование дона Филиппа Четвертого своей шпагой, жить оставалось ровно столько, сколько понадобится этим двоим, чтобы выяснить все интересующие их подробности. И, если судить по тому обороту, который принял разговор, – недолго.
– А вот ваш напарник оказался не столь щепетилен. – Круглоголовый говорил, а сам продолжал писать, и похоронным звоном прозвучал для капитана его скучливо-постный тон.
– Охотно верю, – отозвался Алатристе. – Ему это даже было в радость.
Человек в маске задержал руку с пером и с явной насмешкой произнес:
– Каков негодник! А вам?
– А меня чужая смерть не радует. Для меня убивать – не пристрастие, а ремесло.
– Вижу, вижу… – Он снова обмакнул перо в чернила. – Вы, стало быть, глубоко привержены христианскому милосердию…
– Ошибаетесь, сударь. От меня скорее дождешься доброго удара шпагой, нежели добрых чувств.
– Мне вас рекомендовали именно в этом качестве. К сожалению, вышло иначе.
– Да нет, отчего же. Но если злосчастная судьба вынудила меня пасть столь низко, это не значит, что я утратил понятие о чести. Я всю жизнь прослужил в солдатах, и есть еще такое, на что я пойти не могу.
Падре Эмилио Боканегра, который во время этого диалога оставался неподвижен и безмолвен, как сфинкс, вдруг передернулся всем телом, а потом подался вперед, словно собираясь испепелить Алатристе здесь же, на месте и немедленно.
– О чем тут толковать? В солдатах он, видите ли, служил! Солдаты – те же преступники, место которым – на галерах! – с нескрываемым отвращением воскликнул он. – Обвешанный оружием сброд, который святотатствует, богохульствует, грабит и насилует! Убийца, для которого чужая жизнь гроша ломаного не стоит, – и вдруг засовестился!
Капитан принял эту диатрибу молча и лишь под конец слегка пожал плечами:
– Вы совершенно правы. Не знаю, как вам объяснить… Да, я собирался убить этого англичанина. И убил бы, вздумай он защищаться или молить о пощаде… Но он попросил спасти не себя, а другого.
Скользившее по бумаге перо в руке круглоголового замерло.
– Может быть, вы поняли, кто перед вами?
– Нет, хотя они могли бы назваться и тем самым спастись. Говорю ведь – почти тридцать лет я воевал. Мне случалось и убивать, и совершать такое, за что буду гореть в аду… Но чужую отвагу я ценить научился. И потом.., еретики они или нет.., но оба еще так молоды…
– Вы придаете такое значение отваге?
– Порой это – единственное, что остается, – спокойно ответил капитан. – А особенно – в наши времена, когда самые темные дела вершат под сенью священных хоругвей и с именем Божьим на устах.
Если он ожидал, что ему ответят или возразят, то ошибся. Круглоголовый все так же пристально вглядывался в него и лишь потом спросил:
– Но теперь-то, надо полагать, вам известно, кто такие эти двое?
Алатристе, помолчав, коротко вздохнул:
– Если я скажу «нет», разве вы мне поверите? Со вчерашнего дня это известно всему Мадриду. – Он поочередно задержал взгляд на монахе, потом на круглоголовом. – И я рад, что хоть этого греха у меня на совести нет.
Человек в маске дернулся всем телом, словно отбрасывая то, чего не хотел брать на себя Диего Алатристе.
– Признаться, причудливые извивы вашей совести нам надоели.., ка-пи-тан.
Он в первый раз назвал его так, и Алатристе, почуяв звучавшую в этом обращении насмешку, нахмурился. Ему оно не понравилось.
– А мне, признаться, плевать, надоели, нет ли, – ответил он. – Мне не по вкусу резать из-за угла заезжих чужестранцев, которые потом оказываются наследными принцами. – Он мрачно закрутил ус. – Мне не по вкусу, когда меня обманывают и пытаются использовать втемную.
– И что же? – вдруг осведомился падре Эмилио Боканегра, с интересом прислушивавшийся к разговору – Даже теперь не захотелось узнать, что побудило вполне достойных людей обречь двоих еретиков на смерть? Не пришло в голову, что они хотели сорвать коварный замысел этих злодеев, которые намеревались воспользоваться доверчивостью нашего юного государя и, как наложницу, увезти испанскую инфанту в свою богомерзкую отчизну?..
Алатристе медленно покачал головой:
– Я не любопытен. Вы, господа, могли бы уж заметить это мое качество – я ведь ни разу даже не попытался выяснить, что же за личность скрывается под этой личиной… – Он оглядел круглоголового с преувеличенной и потому выглядевшей особенно дерзко серьезностью. – И кем была та важная особа, которая в прошлую нашу встречу особо подчеркивала, что Джон и Томас Смиты должны отделаться легким испугом, лишиться всех своих бумаг, но непременно остаться живы.
Монах и круглоголовый несколько мгновений молчали, будто погрузившись в размышления. Первым, разглядывая испачканные чернилами пальцы, заговорил человек в маске.
– А вы случаем сами не догадались, кто был перед вами?
– Нет! Я, черт возьми, лишь теперь догадываюсь, что не по себе дерево рубил, и от всей души раскаиваюсь в этом. Теперь хотелось бы только выпутаться целым и невредимым.
– Поздно, с-сударь, с-спохватили-с-сь, – произнес монах, и капитану в этих словах почудился тихий змеиный присвист.
– Что ж, вернемся к нашим англичанам, – сказал круглоголовый. – Вы, наверно, помните, что после ухода упомянутой вами особы получили от святого отца и от меня совсем иные наставления…
– Как не помнить! Я помню и то, сколь почтительно обращались вы к ней, а оспорить отданный им приказ осмелились, лишь когда за ней закрылась дверь и из-за драпировки появился святой.., гм… – Алатристе искоса взглянул на монаха, сидевшего с непроницаемым лицом, словно речь шла не о нем. – …отец. Не скрою, и это тоже повлияло на мое решение сохранить англичанам жизни.
– Вам было заплачено – и недурно – за то, чтобы вы их не сохранили.
– Ваша правда. – Капитан нашарил на поясе кошелек. – Получите.
Дублоны раскатились по столу, засверкали на свету Падре Эмилио даже не взглянул на золото, словно оно было проклято, тогда как круглоголовый проворно сгреб монеты и принялся пересчитывать, раскладывая их перед чернильницей на две небольшие кучки.
– Четырех не хватает, – заметил он.
– Верно, – согласился капитан. – Удержано за труды. И за то, что сочли меня безмозглым олухом.
Доминиканец не справился с нахлынувшей яростью:
– Низкий, презренный изменник, – голос его подрагивал от еле сдерживаемой ненависти. – Своей совестливостью, проснувшейся так не вовремя, своим неуместным чистоплюйством ты сыграл на руку врагам Господа и нашей отчизны. Обещаю тебе – тягчайшее воздаяние и самые страшные муки ада постигнут твою навеки погубленную душу, но это будет потом, а сперва ты здесь, на этом свете, поплатишься своей плотью, тленной и растленной. – Последние слова, сорвавшиеся с тонких поджатых холодных губ, прозвучали особенно зловеще: словно тело капитана и впрямь вот-вот готово было рассыпаться в прах. – Слишком много ты видел, слишком много слышал, слишком тяжкий проступок свершил. Твое земное существование завершено. Ты уже труп, Диего Алатристе, хоть по странной случайности еще стоишь на ногах.
Круглоголовый, не выказывая интереса к этому потоку угроз, посыпал песком бумагу, чтобы поскорее просохли чернила. Затем сложил лист вдвое и, когда он прятал его в карман, Алатристе снова заметил мелькнувший под черным одеянием кончик красного креста – знак ордена Калатравы. Заметил он и то, что кавалер его ссыпал золото в карман, запамятовав, должно быть, что часть монет досталась капитану от падре Эмилио.
– Вы свободны, – сказал он Алатристе, взглянув на него так, словно только сейчас заметил его присутствие. – Можете идти.
– Свободен? – удивленно переспросил тот.
– Это всего лишь оборот речи, – вмешался падре Эмилио, усмехаясь так, словно отлучал капитана от церкви. – Далеко ли уйдет человек под тяжким бременем своей измены и нашего проклятья?
– Ничего, снесем как-нибудь, – сказал Алатристе, продолжая недоверчиво поглядывать на обоих. – Что же, вы и в самом деле меня отпускаете?
– Ступай. Гнев Господень настигнет тебя повсюду.
– Гнев Господень нынче вечером меня не особенно заботит. Другое дело – ваша милость… – двусмысленно отвечал капитан.
Круглоголовый и монах поднялись из-за стола.
– Мы закончили, – сказал первый.
Алатристе всматривался в их лица, по которым метались тени.
– Не верится, – произнес он. – После того, как привезли меня сюда…
– Это уже не наше дело, – отвечая ему человек в маске.
Оба вышли, унеся с собой подсвечник, но капитан успел перехватить взгляд, который падре Эмилио метнул на него с порога, прежде чем спрятать руки в широкие рукава сутаны и вместе со своим спутником раствориться во тьме. Взгляд этот был полон такой исступленной ненависти, что Алатристе бессознательно потянулся за шпагой, совсем забыв, что безоружен.
– В чем же подвох, черт возьми?
Напрасно задавал он этот вопрос, большими шагами расхаживая по комнате взад-вперед. Ответа не было. Тут он вспомнил о запрятанном в голенище ноже – вытащил его, крепко стиснул рукоять, ожидая появления палачей, которые должны были вот-вот кинуться на него. Но никого не было. Все ушли, а он непостижимым образом остался один в комнате, озаренной лунным сиянием, лившимся через окно.
* * *
Затрудняюсь вам сказать, как долго стоял я неподвижно, притаясь за углом и крепко прижимая к груди узел, чтобы хоть немного согреться – я ведь выбежал вслед за каретой в чем был, а был я в одном камзольчике, – и еще крепче стискивая зубы, чтоб они не клацали друг о дружку. Полагаю, времени прошло немало. Наконец, видя, что никто из дома не выходит, я забеспокоился. Не хотелось верить, что Салданья прикончил моего хозяина, но в ту эпоху и в тогдашнем нашем Мадриде все было возможно. Тут я встревожился всерьез. Присмотревшись, я заметил, что одно из окон слабо светится, как если бы за ним зажгли лампу, но с моего наблюдательного поста убедиться в этом не получалось никак. Тогда я решил подобраться поближе.
И совсем уж было собрался сделать первый шаг, как вдруг, словно по наитию, которое порой спасает нам жизнь, повернул голову и в дверях соседнего дома заметил едва уловимое шевеление. Продолжалось это не более секунды, однако сомнений не было: там двигалась какая-то тень, больше всего похожая на ту, которую отбрасывал бы предмет неодушевленный и вдруг оживший. Уняв нетерпение, я замер на месте, не сводя с нее глаз. Еще миг – и тень снова шевельнулась, и тут с другого конца маленькой площади долетела до меня негромко и музыкально высвистанная рулада – тирури-та-та. Это явно был условный знак. И кровь застыла у меня в жилах.
Стало быть, их по крайней мере двое, смекнул я, до рези в глазах всматриваясь в окутанный тьмой Приют Духов. Один – тот, кого я заметил первым, – прятался у дверей соседнего дома. Второй – тот, что свистел, – находился дальше от меня, на углу площади, куда примыкала глинобитная стена скотобойни. Однако дом, куда завели капитана, выходил на три стороны: я начал искать глазами третью фигуру и вскоре, когда ветер разогнал тучи, и на ночное небо выплыл ятаган молодого месяца, – нашел.
Темный силуэт неподвижно стоял на углу.
Дело было ясное, дело было скверное. Но я никак не мог исхитриться и преодолеть тридцать шагов, отделявших меня от дома, и при этом остаться незамеченным. Размышляя, как быть, я развязал узел, присел на корточки и положил на колени один из капитановых пистолетов. Ношение огнестрельного оружия было воспрещено королевским указом, и если бы меня застукали с пистолетом, то даже малолетство мое не избавило бы от кары – тотчас загремел бы на галеры. Но в тот миг я об этом и не думал, уповая на счастливую звезду И, памятуя, как делал это при мне капитан, я ощупью убедился, что зубчатый кремень стоит на месте, взвел курок, а чтобы щелкнуло не очень громко, накрыл оружие плащом.
Потом сунул пистолет за пазуху, под камзол, поставил на боевой взвод второй, переложил его в левую руку, а в правую взял шпагу Плащ же использовал по его прямому назначению – то есть накинул на плечи, после чего вновь принялся терпеливо ждать.
Ждал я недолго. В широченных дверях вспыхнул и тотчас погас свет; подкатила маленькая карета, запряженная вороными мулами, и я заметил зловещий силуэт кучера на козлах. Черная тень приблизилась к дверям, откуда вышли еще двое, севшие после кратчайшей беседы в карету, которая, едва не задев меня, тронулась и, свернув с площади в один из боковых проулков, сгинула во тьме.
Но раздумывать о том, что это за таинственный экипаж, мне было некогда. Еще не успело стихнуть звонкое цоканье подков, как послышалось очередное тирури-та-та, и в ответ раздался тот совершенно особый и ни на что не похожий звук, который производит, медленно выползая из ножен, лезвие шпаги. Я отчаянно взмолился, чтобы Бог разогнал тучи, снова закрывшие месяц, и дал мне увидеть, что же происходит. Однако Вседержитель молитву мою не услышал или было ему в тот вечер не до меня, а потому тучи остались на прежнем месте. Я готов был отчаяться, голова шла кругом. Дав плащу соскользнуть с плеч, я поднялся, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. И тут в дверях возникла фигура капитана Алатристе.
С этого мгновения все происходило с быстротой сверхъестественной. Тот, кто был ближе ко мне, вышел из своего укрытия и оказался возле Алатристе почти одновременно со мной. Он не замечал меня, и, затаив дыхание, крадучись, я сделал шаг, другой, третий. Тут, вероятно, Господь все же внял моей молитве и разогнал тучи, и в слабом свете месяца я различил широкую спину этого человека, с обнаженной шпагой в руке приближавшегося к Алатристе, а краем глаза заметил, как с противоположных концов площади движутся еще две мужские фигуры. Сжимая шпагу в правой руке, я вытянул перед собой левую с пистолетом и увидел, что капитан остановился посреди маленькой площади, и в руке у него немощно и жалко блеснула сталь бесполезного в этих обстоятельствах обвалочного ножа. Тогда я сделал еще два шага вперед, так что почти уперся дулом пистолета в спину человека со шпагой, а он, что-то почувствовав, резко повернулся. Я спустил курок – вспышка выстрела озарила его ошеломленное лицо, и над Приютом Духов грохнул воспламененный порох.
Дальше все понеслось еще стремительней – просто вскачь. Я вскрикнул – или мне это показалось? – и желая предупредить капитана, и от жуткой боли: тяжеленный пистолет при отдаче чуть не вывихнул мне руку. Но Алатристе, услышав выстрел, сам все понял и, когда я плавно швырнул шпагу через голову медленно оседавшего наземь человека, – прыгнул навстречу летящему клинку, уклонился, чтобы не задело, и, чуть только оружие коснулось земли, подхватил его. Месяц снова скрылся в тучах, я бросил разряженный пистолет, выхватил из-за пазухи второй и, держа его обеими руками, прицелился в надвигавшиеся на моего хозяина силуэты.
Однако руки у меня тряслись, и пуля ушла, как говорится, в белый свет, а отдача сбила меня с ног, опрокинула на спину. Ослепленный вспышкой, я упал, успев увидеть, что двое мужчин со шпагами и кинжалами атакуют Алатристе, а тот отбивается, как сам сатана.
* * *
Диего Алатристе заметил их за долю секунду до того, как раскатился гром первого выстрела. Он, разумеется, едва лишь выйдя из дверей, ожидал чего-нибудь в этом роде и отчетливо сознавал, что со своим смехотворным ножичком навряд ли сумеет продать жизнь подороже. Грохот выстрела ошеломил его, как и всех прочих, и в первую минуту он решил даже, что стреляли в него. Но сразу вслед за тем раздался мой крик, и капитан, не успев даже сообразить, какого черта оказался я в столь поздний час в столь глухом месте, увидел свою шпагу, которая в буквальном смысле с неба свалилась. В мгновение ока Алатристе подхватил ее – и как раз вовремя, чтобы встретить ринувшихся на него врагов не с пустыми руками. При вспышке второго выстрела – пуля прожужжала между ним и нападавшими – он сумел оценить положение, весьма, кстати, незавидное: первый атаковал, так сказать, с фронта, второй наседал слева, и держались они под углом примерно в девяносто градусов друг к другу, так что один не давал ему обернуться, другой же, улучив удобный момент, должен был нанести ему смертельный удар в левый бок или в живот. Капитан, бывавший если не в таких, так в схожих переделках, знал, как непросто ему будет парировать выпады одного и удерживать на почтительном расстоянии другого, имея для этого в своем распоряжении не кинжал, а лишь короткий нож. Он должен был употребить всю свою ловкость, чтобы, ужом вертясь из стороны в сторону, сохранить себе пространство для маневра. Левый фланг требовал большего внимания: натиск усиливался с каждой секундой, так что после десятка финтов и выпадов кольцо вокруг него замкнулось, и уже дважды острие чужой шпаги ткнулось в нагрудник из буйволовой кожи. Можно было не сомневаться, что будь это место обитаемым, на звук выстрелов и лязг стали, разносившиеся по всей площади, давно бы уж распахнулись все окна в домах по соседству. И все же судьба, которая, как известно, всегда благоволит к тем, кто при любых обстоятельствах сохраняет твердость духа и ясность ума, наконец улыбнулась Диего Алатристе, сделав так, что при очередном выпаде острие его клинка, проникнув за витые переплетения гарды, задело пальцы или запястье противника, который с проклятьем отпрянул назад.
Прежде чем он успел опомниться, капитан с такой яростью нанес три молниеносных удара второму, что и тот принужден был отступить на два шага.
Этого было достаточно, чтобы Алатристе обрел уверенность в себе и спокойствие: когда раненый вновь перешел к атаке, капитан выпустил нож, заслонил лицо ладонью, открылся – и напор, с которым атаковал его противник, довершил дело: тот сам наскочил на клинок Алатристе, глубоко вошедший ему в грудь. Нападавший вскрикнул «Иисусе!», зашатался, выронил шпагу, со звоном откатившуюся за спину капитану.
Второй невольно приостановил наступление.
Алатристе, отпрыгнув, чтобы извлечь клинок из груди поверженного наземь врага, обернулся к нему.
Тучи раздернулись словно для того, чтобы при свете месяца он узнал итальянца.
– Теперь поговорим на равных, – едва переводя дыхание, сказал капитан.
– Годится, – белозубо ощерясь, ответил итальянец.
И, еще не договорив, снизу, стремительным, почти незаметным глазу, как бросок жалящего аспида, движением нанес удар. Однако Алатристе, успевший изучить его повадки, знал, с кем имеет дело, и был настороже: отклонил корпус, вскинув для равновесия левую руку, и смертоносный выпад не достиг цели. Однако кинжал итальянца все же зацепил ему кисть. Сочтя это всего лишь царапиной, капитан сверху вниз парировал второй выпад – такой же молниеносный, как первый. Клинки с металлическим стуком столкнулись. Итальянец сделал шаг назад, и противники, шумно дыша, замерли напротив друг друга. Оба уже порядком выбились из сил. Капитан, пошевелив пальцами поврежденной руки, с облегчением удостоверился, что сухожилия целы, но почувствовал, как медленными горячими каплями стекает с нее кровь.
– Предлагаю ничью, – сказал он.
После недолгого раздумья итальянец мотнул головой:
– Не пойдет. Чересчур опрометчиво вел ты себя той ночью.
Голос его звучал тускло и устало, и капитан решил, что итальянцу опротивело все это не меньше, чем ему самому.
– Ну и что?
– А то, что теперь – либо твоя голова, либо моя.
Снова наступило молчание. Итальянец чуть-чуть шевельнулся, и Алатристе, карауливший каждое его движение, – тоже. Медленно, очень медленно они кружили друг перед другом, выжидая и примериваясь. Капитан почувствовал, что сорочка под кожаным нагрудником насквозь промокла от пота.
– А можно ли узнать твое имя?
– Это к делу не относится.
– Свое имя скрывают только самые отъявленные негодяи.
В ответ послышался сухой смешок:
– Может, я и отъявленный. А вот ты – продырявленный.
– Ничего, до свадьбы заживет.
Итальянец, казалось, раздумывал: он устремил взгляд на неподвижное тело своего, извините за каламбур, сподвижника, потом посмотрел туда, где лежал на земле я, а рядом еще слабо шевелился третий из нападавших, должно быть, очень тяжело раненный – мы слышали, как он тихо стонет, прося исповедника.
– Пожалуй, что так, – согласился итальянец. – Поживешь еще немного.
Сказавши это, он стал поворачиваться, выказывая намерение уйти, и вдруг, как бы продолжая начатое движение, метнул в капитана кинжал, чудом не задевший того.
– Сукин сын, – процедил капитан сквозь зубы.
– А ты думал, я стану спрашивать у тебя разрешения?
И снова оба на какое-то время замерли, чутко ловя каждое движение другого. Итальянец едва заметно шевельнул шпагой, Алатристе ответил тем же, и оба благоразумно подняли шпаги, а потом с легким металлическим лязгом вновь скрестили их.
– Ладно, – просипел итальянец. – Бог троицу любит.
Он стал очень медленно отступать, держа капитана в поле зрения, а шпагу – наготове, и только на углу площади решился повернуться спиной.
– А зовут меня Гвальтерио Малатеста, – крикнул он, прежде чем скрыться во тьме. – Я из Палермо…
Запомни хорошенько имя того, кто убьет тебя!
* * *
Человек, которого я свалил выстрелом из пистолета, все еще требовал позвать священника. Плечо у него было разворочено так, что из раны торчал обломок ключицы. На этом свете он свое отгулял, а на том его уже поджидали с нетерпением. Диего Алатристе, окинув распростертого на земле человека беглым и равнодушным взглядом, обшарил его карманы – точно так же поступил он за минуту до этого и с заколотым, – а потом подошел ко мне и опустился на колени. Он не благодарил меня и вообще не произнес тех слов, какие полагалось бы сказать человеку, которому тринадцатилетний мальчишка спас жизнь. Осведомился лишь, цел ли я, и, услышав ответ утвердительный, взял шпагу подмышку, обхватил меня за плечи и помог встать на ноги. При этом усы его на мгновение коснулись моей щеки, а глаза, в лунном свете казавшиеся особенно светлыми, смотрели на меня с непривычной пристальностью, словно увидели впервые.
Раненый вновь застонал, зовя священника. Капитан обернулся к нему в раздумье:
– Сбегай-ка в монастырь Сан-Андрее, – сказал он. – Пусть придут соборовать беднягу. – При этих словах лицо его исказилось горькой и мрачной гримасой. – Это Ордоньес. Я знал его по Фландрии.
Потом подобрал с земли пистолеты и зашагал прочь. Бегом догнав своего хозяина, я протянул ему подобранный с земли плащ. Капитан перекинул его через плечо и с непривычной лаской слегка потрепал меня по щеке, причем посмотрел так же, как в ту минуту, когда спрашивал, цел ли я. Ну а я, гордясь и смущаясь одновременно, почувствовал на щеке каплю его крови.
Глава 9. Ступени Сан-Фелипе
После этой бурной ночи несколько дней прошли спокойно. Хотя что значит – «спокойно»? Поскольку Диего Алатристе по-прежнему не желал покинуть Мадрид или сменить обиталище, мы пребывали в постоянном напряжении, как на войне. Тут и выяснилось: куда легче позволить, чтоб тебя убили, чем постараться выжить. Тут гляди в оба, ушки держи на макушке и вообще не раскисай. Капитан отсыпался днем, а ночью не смыкал глаз, я же подскакивал от малейшего постороннего звука – пройдет ли кот по крыше или скрипнет рассыхающаяся ступенька, – и всякий раз видел одно и то же: капитан полусидит в постели с пистолетом в руке. После схватки у Приюта Духов он даже попробовал было отослать меня домой к мамаше или спрятать у кого-нибудь из приятелей. Но я наотрез отказался покинуть поле сражения, заявив, что намерен разделить его судьбу, и что если смог два раза выстрелить из пистолета, так смогу и двадцать два. И, сообщая о своем решительном нежелании расставаться с ним, я еще более окреп духом. Мне неизвестно, оценил ли капитан мою самоотверженность, ибо, как уже говорилось выше, к душевным излияниям он был отнюдь не расположен. Однако я добился того, что он пожал плечами и от первоначального своего намерения отказался, а наутро я обнаружил у себя под подушкой превосходный кинжал, недавно купленный им на улице Оружейников, – с золотой насечкой на крестообразной рукояти, с длинным, хорошо закаленным клинком. Наши прадеды называли такое оружие «кинжалом милосердия», ибо толстое трехгранное лезвие как нельзя лучше подходило для того, чтобы вскрыть им створки панциря или шлема и добить сшибленного с коня рыцаря. Первое мое оружие!
Верой и правдой служило оно мне двадцать лет – до тех пор, пока в бою при Рокруа я не был вынужден оставить его там, куда всадил, – между пластинами лат, защищавших грудь одного француза. Что ж, то был не худший конец для такого славного кинжала.
Так вот, покуда мы с капитаном спали вполглаза и шарахались от собственной тени, Мадрид ликовал – шли бесконечные празднества и увеселения по случаю прибытия принца Уэльского, о чем было наконец извещено официально. Верховые прогулки чередовались со зваными обедами в покоях королевского дворца, танцевальные вечера перемежались костюмированными балами, а на Пласа-Майор устроили корриду, какой не бывало с незапамятных времен: в искусстве владеть копьем, держаться в седле и побеждать свирепых быков из Харамы состязались блестящие придворные кавалеры – и среди них наш юный король. Бой быков был в ту пору – как, впрочем, и сейчас – любимейшей народной забавой и в Мадриде, и во многих прочих городах нашего отечества; дань увлечения им отдавали наш государь и прекрасная королева Изабелла, даром что была родная дочь Генриха IV и, стало быть, француженка. Кроме того, Филипп, да будет вам известно, обожал охоту – как-то раз он затравил трех оленей, насмерть загнав своего коня, был отменным наездником и стрелком, и эту его ипостась дон Диего Веласкес обессмертил на полотне, а виднейшие наши поэты: и сам Лопе, и дон Франсиско де Кеведо, и дон Кальдерон де ла Барка – в пьесах и стихах.
Я, помнится, уже упоминал где-то, что в свои восемнадцать или двадцать лет наш славный король был – и долгое время оставался – еще и славным малым, знавшим толк в женщинах и в застолье; народ любил его, ибо добрый и многострадальный испанский народ всегда имел обыкновение считать своих властителей самыми справедливыми и великодушными на свете, нимало не смущаясь тем обстоятельством, что могущество Испании клонилось к упадку а недолгое царствование Филиппа Третьего решительно не удалось, потому что он вверил бразды правления своему продажному и бездарному фавориту, преемник же его, Филипп Четвертый, хоть и был рыцарь с головы до пят, выказал вкупе с полнейшим безволием совершенную неспособность заниматься государственными делами и целиком зависел от того, попадет ли его первый министр – граф, а впоследствии герцог Оливарес – в цель или впросак. Второе случалось не в пример чаще. Сильно с тех пор переменился народ испанский – или то, что от него еще осталось. Если прежде он гордился и восхищался своими королями, то потом стал их презирать; на место пылкой хвалы пришла едкая хула; мечты о величии сменились глубочайшей подавленностью и унынием всеобщим и всеобъемлющим. Вспоминается мне, что как раз во время корриды, устроенной в честь принца Уэльского – а может, я ошибаюсь, и было это не тогда, а позже, – один из быков оказался столь свирепым, что никак не удавалось укротить его, обездвижить или прикончить, и никто, включая немцев, бургундцев и кастильцев, охранявших высочайших особ, не решался к нему приблизиться. И вот наш юный государь встает, жестом требует у одного из караульных гвардейцев аркебузу и, не теряя царственного своего величия, не меняясь в лице, неустрашимо идет на арену, бестрепетно швыряет плащ, ловко сбрасывает шляпу, прикладывается, бац! – и нет быка. Публика в полном восторге разразилась громом рукоплесканий и криками «да здравствует король!», о происшествии толковали еще несколько месяцев в прозе и в стихах: Кальдерон, Уртадо де Мендоса, Аларкон, Белее де Гевара, Рохас, Сааведра Фахардо, сам дон Франсиско Кеведо и вообще все, кто мало-мальски умел ставить слово к слову, воззвали к музам, чтобы запечатлеть для потомства бессмертное деяние нашего монарха, сравнив его с Юпитером Громовержцем или с Тезеем, убивающим Минотавра. Помню, что знаменитое стихотворение дона Франсиско начиналось так:
Король Иберии, Европы повелитель, Пал от твоей руки Европы похититель…И даже сам великий Лопе почтил рогатого смутьяна, сраженного царственной пулей, такими строками:
Я бытие твое иною мерой мерю: Не сознавая жизнь как дар, – Смерть не воспримешь как потерю.А ведь уж кто-кто, но Лопе в ту пору не нуждался в том, чтобы расточать хвалы кому бы то ни было.
Сами видите, господа, как обстояли тогда дела, что представляла собой Испания и обитатели ее, как бессовестно злоупотребляли власть имущие доверием простодушного народа, как легко было снискать его любовь, как неуклонно – по злому ли умыслу, по недомыслию ли – толкали нас в пропасть, хоть, видит бог, заслуживали мы лучшей участи. Если бы Филипп Четвертый, став во главе своих овеянных бранной славой полков, отвоевал Голландию, расколошматил Людовика Французского вместе с кардиналом Ришелье, очистил Атлантику от пиратов, а Средиземноморье – от турок, если бы высадился на британские острова и вознес крест Святого Андрея над лондонским Тауэром, то и тогда не вызвал бы он большего восторга у своих подданных, чем отважной выходкой, пресекшей бычье бытие…
О, как разительно отличался тогдашний Филипп от того, каким увидел я его тридцать лет спустя, когда мне выпала честь сопровождать его, потерявшего жену, не нашедшего утешения в детях – одни умерли, другие превратились в слабоумных выродков, – в томительно-медленном путешествии через разоренную, опустошенную войнами, голодом и нищетой страну, из всех жителей которой только несчастные крестьяне еще выходили на обочины дорог, чтобы вяло приветствовать своего короля. Облаченный в траур, одряхлевший, понурый, направлялся он в пограничное местечко Бидасоа, где предстояло ему, до дна выпив горькую чашу унижения, выдать дочь за французского короля и подписать брачный контракт, более похожий на свидетельство о смерти – смерти горемычной его Испании, которую он же и довел до катастрофы, тратя вывезенные из Америки золото и серебро на суетные увеселения, обогащая растленных чиновников, клириков, знать, устилая телами храбрецов поля всей Европы.
* * *
Однако не станем забегать вперед и предвосхищать события. Столь прискорбные времена были еще впереди, а пока Мадрид оставался столицей обеих Испании и всего мира. В описываемые мною дни, равно как и в последующие недели, равно как и в течение всех тех месяцев, что длилось сватовство принца Уэльского, бесконечной чередой шли разнообразные празднества с участием самых прекрасных дам и самых блестящих кавалеров, появлявшихся в свите царствующей фамилии и ее августейшего гостя на улицах и на Прадо, совершавших прогулки в садах Алькасара, в рощах Каса-де-Кампо или по берегам Асеро. Соблюдались, само собой разумеется, строжайшие правила этикета и протокола, так что молодых людей ни на миг не оставляли наедине и – к вящему разочарованию пылкого принца – без присмотра целой тучи бдительных лакеев и дуэний.
Мадридская же аристократия, не ведая, какие схватки кипят в канцеляриях, какая борьба развернулась при дворе в пользу или против этого брачного союза, состязалась с простонародьем, кто воздаст больше почестей принцу и его приверженцам, партия которых мало-помалу набирала все больше веса. Из уст в уста передавалось за верное, что инфанта будто бы усердно учит английский язык, тогда как Карлу Стюарту ученые богословы преподают доктрину католицизма, и ему вот-вот воссияет свет истинной веры. Как выяснилось позднее, эти достоверные сведения были бесконечно далеки от истины. Но в те дни и в той обстановке всеобщей благожелательности подобные слухи лишь прибавляли статному, изящному и привлекательному наследнику британского престола всеобщей любви. Она, любовь эта, несколько позже сумела даже искупить фокусы и фортели Бекингема, которого король Иаков только что возвел в герцогское достоинство: он, как, впрочем, и Карл, вскоре сообразил, что дело предстоит долгое и муторное, легкой победы не обещает, а потому закусил, что называется, удила, во всей красе проявил свой нрав, дурной и вздорный, дал волю нестерпимому высокомерию и вел себя безобразно.
Трудно было сносить это суровым испанским дворянам, ибо они священными почитали три вещи – приличия, религию и женщин, – и только благодаря их выдержке и гостеприимству не нарвался Бекингем на очень крупные неприятности, и лишь поэтому в ответ на очередную наглую выходку ничья перчатка не погуляла по его щекам, предваряя встречу раненько утром на Прадо-де-лос-Херонимос или же на Пуэрта-де-ла-Вега, где пришлось бы ему ответить за свои слова как полагается – со шпагой в руке и при секундантах. Что же касается графа Оливареса, то натянутой учтивости, диктуемой политическими расчетами, хватило ему только на первые дни, после чего отношения с Бекингемом стали портиться стремительно и непоправимо, и потом, когда уже и речи не шло ни о каком брачном союзе, это возымело самые пагубные последствия для интересов Испании. И вот теперь, по прошествии стольких лет, я задаю себе вопрос: не правильней ли поступил бы Диего Алатристе, если бы не утруждал себя в ту приснопамятную ночь чрезмерной щепетильностью, а взял бы да и проковырял в англичанине лишнюю дырочку, хоть, конечно, держался проклятый еретик молодцом? Да кто ж мог знать, чем все это обернется? Ну, так или иначе, душка Вильерс свое получил чуть позже и под отеческими небесами, когда некий пуританин по имени Фелтон, науськанный, как утверждали, баронессой Винтер – она же небезызвестная миледи, – его зарезал, причем ножевых ран на покойнике оказалось, что молитв в требнике.
Ну, короче. Обо всем этом горы книг написаны – к ним и отсылаю я любознательного читателя, охочего до мелких подробностей, к нашему повествованию прямого касательства не имеющих. Я же ограничусь тем лишь, что сообщу: мы с капитаном участия в придворных увеселениях не принимали, ибо нас никто на них не приглашал, а и пригласили бы – все равно бы не пошли. После стычки у Приюта Духов несколько дней, как уж было сказано, миновали без происшествий, что объясняется очень просто: те, кто дергал за веревочки, так увлеклись приемом принца Уэльского, что мелочами заниматься им было недосуг – под мелочами я разумею Диего Алатристе и себя самого; однако иллюзий мы не питали, будучи непреложно убеждены, что рано или поздно нам выставят счет – и немалый. Недаром же говорится: как веревочка ни вейся, а конец будет. Хорошо бы, чтоб нас на той веревочке не повесили.
* * *
Я вроде бы уже упоминал, что было в Мадриде три средоточия сплетен, слухов и вестей, и из этих трех первым и главным по праву считалась паперть августинской церкви Сан-Фелипе, расположенной на пересечении улиц Корреос, Майор и Эспартерос.
Мостовая тут шла под уклон, и потому ступени возвышались над нею, образуя внизу довольно просторный закут, где размещались лавчонки, торговавшие гитарами и разного рода игрушками-безделушками. Сверху на случай непогоды крыт он был навесом из каменных плиток и снабжен перилами.
Короче говоря, нечто вроде галереи, по которой очень способно было прогуливаться, чесать языком и глазеть на прохожих и кареты. Паперть Сан-Фелипе стала самым оживленным, самым любимым, самым шумным и людным местом в Мадриде, благодаря и близости к королевскому почтамту, куда приходили письма и депеши со всей Испании и со всего мира, и непосредственному соседству с главной улицей города: все это превращало паперть не то в клуб, не то в салон под открытым небом, где обменивались мнениями и слухами зеваки, бахвалились своими подвигами солдаты, делились свежими сплетнями клирики, в поте лица трудились карманные воры, искали вдохновения поэты. Среди прочих часто появлялись там Лопе, дон Франсиско де Кеведо и мексиканец Аларкон. Не было такой новости или слуха, которые, прозвучав там, не покатились бы потом по всему городу, как снежный ком, обрастая тысячекратно невероятными подробностями, и не было в Мадриде человека – от короля до последнего бродяги, – который избежал бы длинных языков вездесущей молвы. Даже сам великий дон Мигель де Сервантес, упокой господи его душу, помянул это место в своем «Путешествии на Парнас», а спустя много лет воспел его поэт Агустин Морето, сочинив в одной из своих комедий такой диалог:
– Опять ты здесь! Пришел узнать, что слышно? – Без сих ступеней не прожить и дня, Боюсь, они меня околдовали: Ведь в целом мире ты найдешь едва ли Край, где так славно, изобильно, пышно Произрастала бы брехня!Привожу эти стихи здесь в доказательство того, сколь знаменита была паперть Сан-Фелипе. Там о положении дел во Фландрии, в Италии или в Индиях высказывались суждения такие глубокомысленные, что куда там Государственному Совету, перелетали из уст в уста шпильки, анекдоты и эпиграммы, пятналась женская гордость, маралась девичья честь, обсуждались супружеские измены, весьма вольно потешались над графом Оливаресом и вполголоса живописали любовные похождения его величества… И так вот переливался и искрился этот источник поэтического вдохновения, злоязычия и сведений с утра пораньше – и до полудня, а когда колокол возвещал о наступлении часа «ангелюса»[10], все это сборище обнажало головы и мигом расточалось, уступая место нищим попрошайкам, бедным студентам, гулящим девкам и всякого рода оборванцам, которые стекались туда, чтобы получить из рук отцов-августинцев тарелку бесплатной гороховой похлебки. Паперть вновь оживала ближе к вечеру, когда на улице Майор начиналось гулянье, и, служа предметом и поводом для разговоров и шуточек, появлялись знатные дамы в каретах, сомнительные красотки, корчившие из себя несомненных аристократок, и питомицы близлежащих борделей – как раз напротив помещался самый из них знаменитый.
Так продолжалось, пока вновь не звонил колокол, сзывая к вечерней молитве, и присутствующие, сняв шляпы и помолясь, не расходились с богом до утра.
Выше я уже упоминал, кажется, что дон Франсиско постоянно бывал на ступенях Сан-Фелипе и часто брал с собой кого-либо из друзей – лиценциата Кальсонеса, Хуана Вигоня или Диего Алатристе. Его склонность к обществу моего хозяина имела, помимо прочего, и вполне практическое объяснение-дело в том, что наш поэт всегда постоянно вел военные действия со своими собратьями по музе, из которых одни рьяно соперничали с ним, другие ему люто завидовали, а третьи были им горько обижены, что было вполне в духе того времени и – больше скажу – любого другого, если только протекает оно в нашей стране, где словом можно не только задеть, но и наповал уложить. Кое-кто – например Луис де Гонгора или Хуан Руис де Аларкон – доказали это блистательно. Вот, скажем, рекомендует Гонгора дону Франсиско:
За Музой оком недреманным Следи – она ведь, тварь такая, Все шарит по чужим карманам, За строчкой строчку извлекая. Но звук из лиры самый слабый Извлечь, хоть тресни, не смогла бы.А уже на следующий день Кеведо разражается такими вот стишками, которые мгновенно став знаменитыми и облетев весь Мадрид, живого места на доне Луисе не оставляют, а наоборот, от него оставляют – мокрое:
Все громче соловей твой на бесптичье Вонючей канонадою гремит. В культистском сем куле дерьма наличье Спешит удостоверить содомит[11].Не щадил дон Франсиско и бедного Руиса де Аларкона, над физическим увечьем которого – горбом – издевался безжалостно:
Ухабистые позвонки, Середь стиха – ухабы, И с музой наперегонки Прочь удирают бабы. Сам Бог велел бы дать обет Суровый целибата Тому, чей искривлен хребет, И чья строфа горбата.Подобные стихи считались анонимными, но всему свету было доподлинно известно, кто и из каких побуждений их сочиняет. Тем более что дон Франсиско, смочив перо самой едкой желчью, талант свой не скрывал и не таил, но развивал и оттачивал, нападал и защищался, а написанные сонеты и эпиграммы читал на ступенях Сан-Фелипе. И жертвой его могли стать не только Гонгора или Аларкон, а и кто угодно, ибо в те дни, когда вставал он не с той ноги, открывал наш саркастический поэт огонь по всему, что шевелится:
Рога твои – жену ли в том винить? – Увесисты, развесисты, ветвисты И столь длинны, что, словно пахарь истый, Ты мог бы ими поле боронить.А потому неудивительно, что, будучи отнюдь не робкого десятка и искусен в обращении со шпагой, Кеведо все же чувствовал себя спокойней, если в часы прогулки на ступенях и в чаянии вполне вероятной встречи с людьми, им обиженными, находился рядом с капитаном Алатристе. Вот, например, кто-то узнал себя в ехидном сонете о рогоносце – а узнать было нетрудно, ибо в Мадриде обманутых мужей насчитывалось тринадцать на дюжину – и однажды утром там же, на паперти, в сопровождении друга подошел к дону Франсиско потребовать объяснений. Объяснения были представлены в тот же день, ближе к вечеру, на одном из мадридских пустырей, и оказались столь исчерпывающими, что мнительный рогоносец и его товарищ, излечившись от ран, именуемых колотыми, в руки никогда больше не брали сонеты, а читали исключительно прозу.
* * *
В то утро на ступенях Сан-Фелипе толковали только о принце Уэльском да об инфанте Кастильской, изредка перемежая придворные сплетни новостями из Фландрии, где недавно возобновились бои. Помнится, день был ясный, солнечный, ярко-синее небо сияло над крышами соседних домов, а народу на паперти столпилось как никогда. Капитан Алатристе, который по-прежнему не страшился выходить на люди и о последствиях не заботился – шпага итальянца лишь слегка оцарапала ему руку – надел в тот день серые штаны, доверху застегнул темный колет, а на плечи, несмотря на теплую погоду, набросил плащ, призванный скрыть рукоять заткнутого за пояс пистолета. Не в пример другим ветеранам, он терпеть не мог ничего пестрого и крикливого, а потому единственным ярким пятном было красное перо, украшавшее тулью его широкополой шляпы.
Тем не менее разряженным щеголем казался он рядом с доном Франсиско де Кеведо, о котором можно было бы сказать, что тот с ног до головы облачен в чопорно-черное, если бы не алел вышитый на груди крест ордена Сантьяго. Я увязался за ними следом, а потом к нашему обществу присоединились лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес и еще несколько человек. Все собрались у балюстрады, откуда улица Майор была как на ладони. Живо обсуждалась последняя выходка Бекингема, дерзнувшего, как уверяли хорошо осведомленные люди, приволокнуться за женой Оливареса.
– Коварный Альбион! – воскликнул лиценциат, на дух не переносивший англичан с тех давних пор, как его корабль, возвращавшийся из Индий, чудом ушел от сэра Уолтера Рэйли, потеряв фок-мачту и пятнадцать человек экипажа убитыми.
– С ними по-хорошему нельзя, – заметил Вигонь. – С этими еретиками вот как надо разговаривать. – И он сжал свою единственную руку в кулак. – Другого языка не понимают. Вот, стало быть, чем отплатил он нашему королю за гостеприимство!
Сдержанно согласились собеседники, среди которых были два усача-ветерана самой героической наружности, но ни разу в жизни не нюхавшие пороху; двое-трое зевак; долговязый, изголодавшийся и оборванный студент из Саламанки; молодой художник, недавно появившийся при дворе и рекомендованный Кеведо его другом Хуаном де Фонсекой, и холодный сапожник с улицы Монтера по имени Табарка, известный тем, что верховодил так называемыми мушкетерами, которые являлись на первое представление каждой комедии и, сопровождая действие либо громом рукоплесканий, либо свистом, определяли ее успех или провал.
Дивиться ли, что драматурги, желавшие добиться известности при дворе, а равно и те, кто в этом преуспел, заискивали перед безграмотным простолюдином Табаркой, уважали его и побаивались – и не потому, что крестился он, само собой разумеется, едва ли не раньше Христа и происходил из знатного, но впавшего в ничтожество рода – этим у нас никого не удивишь, тут все такие, – а из-за его влияния.
– И тем не менее, – похабно подмигивая, продолжал лиценциат. – Утверждают, что когда дошло до дела, законная супружница нашего министра не слишком брыкалась. И Бекингем не подкачал.
– Ради всего святого, сеньор лиценциат! – не выдержал преподобный Перес. – Опомнитесь! Я знаком с ее духовником и могу ответственно заявить, что сеньора донья Инее де Суньига – благочестивая дама самых строгих правил.
– Этой даме строгих правил кой-чего маркиз заправил, – без запинки ответствовал Кальсонес.
И расхохотался, наслаждаясь смятением иезуита, который пугливо озирался по сторонам, осеняя себя крестным знамением. Капитан же устремил на лиценциата укоризненный взгляд, ибо считал, что в моем присутствии вести столь вольные разговоры непозволительно. А художник – молодой человек лет примерно двадцати трех, недавно приехавший из Севильи и еще не избавившийся от тамошнего выговора – растерянно оглядывал собравшихся, будто недоумевая, куда же это он попал.
– С башего посболения, милостибые государи… – робко начал он, воздев указательный палец, выпачканный масляной краской.
Однако никто не обратил на него внимания. Несмотря на рекомендацию своего друга Фонсеки, дон Франсиско не позабыл, как этот провинциал, не успев оглядеться в Мадриде, первым делом написал портрет Луиса де Гонгоры, а потому, не имея ничего против юноши, решил наложить на него за это прегрешение епитимью – в течение нескольких дней делать вид, будто знать его не знает и в упор не видит. Впрочем, уже очень скоро поэт и художник сблизятся, и из всех портретов Кеведо лучший будет принадлежать кисти именно этого юнца. Он крепко подружится также с капитаном Алатристе и со мной, хотя это произойдет несколько позднее, когда он будет уже очень знаменит и к своему родовому имени Диего де Сильвы присоединит материнскую фамилию – Веласкес.
Ну да ладно, я отвлекся. Стало быть, после неудачной попытки художника вступить в разговор кто-то упомянул пресловутое пфальцграфство, и завязался оживленный спор о том, какую политику должна проводить Испания в Центральной Европе: сапожник Табарка с невероятным апломбом высказался о герцоге Максимилиане Баварском, о пфальцграфском электоре и о Римском Папе, смешав всех троих с дерьмом. Один из вышеупомянутых вояк собрался было предоставить самые, по его словам, свежие сведения, почерпнутые у служащего во дворце деверя, но тут, слава тебе господи, беседа прервалась, ибо все перегнулись через балюстраду, чтобы приветствовать знакомых дам, которые, до отказа наполняя открытую карету шелком и парчой, лентами и кружевами своих пышных туалетов, катили в сторону Пуэрта-де-Гвадалахары с явным намерением обшмыгать тамошние ювелирные лавки.
Были эти дамы не то что обыкновенные шлюхи, но и не самого высшего разбора куртизанки, однако в нашей объавстрияченной Испании даже проститутки корчили из себя невесть что.
Затем, как по команде «накройсь!», все надели шляпы, и разговор возобновился. Дон Франсиско участия в нем не принял, а подошел к Алатристе и, вздернув украшенный эспаньолкой подбородок, показал на двоих субъектов, державшихся в отдалении, в густой толчее.
– Как полагаете, капитан? – спросил он вполголоса и с таким видом, словно говорил о чем-то совершенно постороннем. – Эти двое следят за вами?
Или за мной?
Алатристе незаметно взглянул на парочку Оба явно находились здесь по долгу службы. Почувствовав, что за ними наблюдают, они под благовидным предлогом повернулись спиной.
– Да пожалуй, что за мной, дон Франсиско. Хотя, если вспомнить вас и ваши стихи, не поручусь.
Поэт нахмурился и посмотрел на моего хозяина:
– Ладно, предположим, что за вами. И что же – серьезное дело?
– Скорей всего, да.
– Черт возьми! Значит, придется подраться… Моя помощь нужна?
– Пока нет. – Капитан, прищурившись, вгляделся в соглядатаев, словно желая покрепче запечатлеть в памяти их лица. – Да и потом, у вас, дон Франсиско, и своих забот хватает – куда ж еще обременять вас моими?
Кеведо помолчал, закрутил ус, поправил очки и – на этот раз уже не скрываясь – метнул в неизвестных взгляд, исполненный решимости и гнева.
– И все же, двое на двое – лучше, нежели двое на одного. Как-то оно симметричней выходит, – сказал он. – Можете на меня рассчитывать.
– Знаю, – ответил Алатристе.
– Вдвоем веселей, – он опустил руку на эфес шпаги. – Я ведь перед вами в долгу. И учился не у Пачеко.
Капитан улыбнулся в ответ на лукавую улыбку поэта. Луис Пачеко де Нарваэс сделался в Мадриде самым знаменитым учителем фехтования после того, как преподавал эту науку нашему государю. Он сочинил несколько трактатов о том, как владеть холодным оружием, и все бы ничего, но в один пре" красный вечер в одном весьма приличном доме вышел у него с доном Франсиско спор – вполне, впрочем, дружелюбный – из-за некоторых постулатов и выводов, и когда спорящие, прихватив для наглядности шпаги, спустились во двор, чтобы доказать один другому свою правоту, Кеведо в первой же атаке обозначил смертельный удар в голову маэстро, сбив с него шляпу. С того дня возненавидели они друг друга лютой ненавистью: один писал доносы в инквизицию, второй выставил соперника на позор и осмеяние в своей книжке «Жизнь пройдохи по имени дон Паблос», напечатанной два или три года спустя, а допрежь того ходившей по всему Мадриду в списках.
– Лопе, – сказал кто-то.
Все обнажили головы и расступились, когда Лопе, великий Феликс Лопе де Вега Карпио, медленной поступью прошел по галерее и, отвечая на приветствия собравшихся, остановился возле дона Франсиско, который поздравил гения нашей словесности с назначенной на завтра премьерой в театре Принсипе, куда Алатристе обещал повести меня, ибо до той поры я в театре не бывал. Затем Кеведо начал церемонию представления:
– Капитан дон Диего Алатристе-и-Тенорио… С Хуаном Вигонем вы, кажется, уже знакомы… Диего Сильва, живописец… А этого юнца зовут Иньиго Бальбоа, его отец был убит во Фландрии.
Услышав это, Лопе на мгновение опустил мне руку на голову. Впоследствии мне довелось еще несколько раз встретиться с ним, но тогда я видел его впервые и в память мне навсегда врезалась важная, исполненная достоинства осанка этого шестидесятилетнего старика в черном священническом одеянии, его худощавое лицо, коротко остриженная, совсем уже белая голова и полуседые усы – и то, как сердечно, однако устало-рассеянно улыбнулся он всем присутствующим, прежде чем распрощаться и уйти, кивая направо и налево в ответ на почтительные поклоны.
– Не забудь этого человека и этот день, – промолвил капитан, слегка и совсем не больно щелкнув меня по макушке, которой минуту назад коснулся Лопе.
И я не забыл. Даже теперь, по прошествии стольких лет, стоит мне поднести руку к темени, чтобы вновь ощутить ласковое прикосновение нашего Феникса. Ни его, ни дона Франсиско де Кеведо, ни Веласкеса, ни капитана Алатристе давно нет на свете, как "нет и той величественной и жалкой эпохи. Однако пребудет в библиотеках, в книгах, на холстах, в соборах и дворцах, на улицах и площадях след, который оставили все эти люди, проходя по земле. Умру и я, и вместе со мной исчезнет воспоминание о руке Лопе, о провинциальном выговоре Веласкеса, о звоне золотых шпор, сопровождавшем косолапый шаг Кеведо, или о спокойных, цвета морской волны глазах капитана Алатристе. Но отзвук их бытия будет слышаться до тех пор, пока существует это непонятное место, где разноплеменные народы смешали воедино свои наречия, свою кровь, свои несбывшиеся мечты, пока стоят подмостки, на которых разыгрывается чудесное и трагическое действо, которое мы называем Испанией.
* * *
Не забыть мне и того, что произошло потом. Уже близился час «ангелюса», когда напротив паперти Сан-Фелипе остановилась черная, хорошо мне знакомая карета. Я стоял несколько в стороне от остальных, у самой ограды, и слушал, о чем толкуют взрослые. И когда вдруг наткнулся на устремленный на меня снизу взгляд, который, казалось, отражал небо, засиневшее над нашими головами и бурыми мадридскими крышами, исчезло все, кроме этого неба, или этой синевы, или этого взгляда, порождавшего сладостную муку, которой невозможно было противостоять. В ту минуту мне подумалось: «В смертный свой час я хотел бы раствориться в этой синеве». И едва ли не против собственной воли, будто зельем каким опоенный, я медленно двинулся по ступеням паперти Сан-Фелипе вниз, к улице Майор.
И в помраченном сознании слепящей зарницей вспыхнуло и уже не покидало меня ощущение того, что из какой-то дальней дали, отделенный от меня многотысячемильным пространством, с тревогой глядит мне вслед капитан Алатристе.
Глава 10. Театр «Принсипе»
Мне подстроили ловушку. А точнее говоря, пяти минут разговора оказалось достаточно, чтобы я сам в нее угодил. И сегодня, по прошествии стольких лет, хочу думать, что Анхелика де Алькесар была всего лишь марионеткой в чужих руках, и за спиной ее стояли взрослые люди, однако не могу быть в этом уверен, ибо слишком хорошо узнал это существо впоследствии. Всю ее жизнь, до самой смерти чувствовалось в ней нечто такое, чему выучиться нельзя и что некоторые женщины всасывают с молоком матери – холодную и мудрую злобу. Да, быть может, получают и еще раньше, даже до своего появления на свет. Сейчас не время и здесь не место обсуждать, кто же в этом виноват, и рассмотрение этого вопроса увело бы нас слишком далеко от нашего повествования. Ограничусь на сей раз лишь тем, что скажу: того оружия, которое Господь и природа раздают женщинам для защиты от глупости и злонравия мужчин, у Анхелики было в избытке.
И на следующий день, по дороге в театр воспоминание о нашей вчерашней встрече отравило мне предвкушение праздника – так бывает, когда в безупречно, казалось бы, исполняемой музыкальной пьесе вдруг расслышишь фальшивую ноту Накануне, подойдя к карете, я, пребывая в одурении от золотисто-пепельных локонов и загадочной улыбки, обменялся с Анхеликой немногими словами, благо сопровождавшая ее дуэнья что-то покупала в лавчонках, а кучер неподвижно стоял у своих мулов и не препятствовал мне, ибо, надо полагать, получил на этот счет соответствующее распоряжение. И она снова поблагодарила меня за то, что я обратил в бегство сорванцов с улицы Толедо, и осведомилась, как идет моя служба у капитана Тристе или Батисте или как его там и каковы мои житейские обстоятельства и намерения. Тут, прямо надо сказать, я малость распустил хвост. Эти синие, широко, будто в безмерном удивлении раскрытые глаза, развязали мне язык и я, должно быть, наговорил лишнего – о Лопе, которому был представлен пять минут назад, отзывался как о старинном приятеле, ввернул мимоходом, что вот собираюсь вместе с капитаном посетить первое представление его возобновленной на театре комедии «Севильская набережная». Потом спросил, как зовут мою прекрасную собеседницу, и, когда после мгновения сладостного ожидания услышал слетевший с очаровательно надутых губ ответ – Анхелика, – в полном восторге заявил, что иного имени у ангела и быть не может. Она молча с интересом воззрилась на меня и смотрела так долго, что за это время я успел переместиться к самым вратам рая. Но тут вернулась дуэнья, заметил меня кучер, карета укатила, а я остался в людской толчее с полнейшим ощущением того, что меня здоровенным пинком низринули с небес на землю. Ночь не принесла успокоения, благотворный сон не смежил мне вежды, а на следующий день по пути в театр кое-какие странности – ну, скажите на милость, какая барышня из благородных станет точить лясы с почти незнакомым юнцом да еще посреди улицы? – смутили мою душу, вселив в нее чувство неосознанной опасности. И я невольно стал спрашивать себя, не связано ли оно, чувство это, с достопамятными происшествиями, имевшими место у Приюта Духов. Что за чушь, думал я, что может быть общего у этого златокудрого ангела с наемными убийцами? И вскоре радостная мысль о том, что скоро я увижу комедию Лопе, вытеснила все прочие. Нет, недаром сказано: «Кого бог желает погубить, того лишает разума».
* * *
При Филиппе Четвертом вся Испания от венценосца до последнего водоноса без памяти любила театр. Комедии в ту пору делились на три «дня» или «действия», а писались в стихах различными размерами, с рифмами и без. Сочинители, как видели мы на примере Лопе, были любимы и почитаемы народом, актеры и актрисы пользовались популярностью неимоверной. Каждая премьера, каждое возобновление знаменитой комедии собирали толпы зрителей, которые, затаив дыхание, битых три часа следили за действием, разыгрываемым при дневном свете и на свежем воздухе, то бишь под открытым небом, в особом помещении, именуемом корралъ[12].
В Мадриде таковых насчитывалось два – «Принсипе» и «Крус». Лопе любил ставить свои пьесы во втором, и ему же отдавал предпочтение наш государь, который, как и его августейшая супруга, донья Изабелла де Бурбон, был завзятым театралом. Внимания его юного и резвого величества – без особой, впрочем, огласки – удостаивались и прекрасные жрицы этого храма, а одна, по имени Мария Кальдерон, даже успела подарить ему сына, второго дона Хуана Австрийского.
Но в тот день в театре «Принсипе» играли знаменитую комедию Лопе «Севильская набережная», давно не ставившуюся на сцене и потому особенно долгожданную. Уже спозаранку направились к театру самые нетерпеливые зрители, а к полудню на узкой улочке напротив монастыря Святой Анны началась толчея. Мы с капитаном нагнали лиценциата Кальсонеса и Хуана Вигоня – неистовых поклонников и ценителей творчества Лопе, – а у входа в театр повстречали и дона Франсиско де Кеведо. В таком представительном составе вошли мы в зал, где, по избитому, но верному выражению, яблоку было негде упасть. Здесь был весь Мадрид: знать рассаживалась в ложи, публика попроще жалась на боковых ступенях и деревянных скамьях, женщины заполняли предназначенные им места – ибо в ту пору в церкви и в театре прекрасному полу надлежало находиться отдельно – свободное пространство посреди зала занимали пресловутые мушкетеры во главе со своим предводителем и духовным вождем, а он, сапожник Табарка, вполне сознавая, сколь важна миссия, на него возложенная, раскланялся с нами торжественно и чинно. К двум часам дня вся улица являла собой разворошенный муравейник, суетливыми обитателями коего выступали торговцы, мастеровые, пажи, школяры, клирики, писаря, солдаты, лакеи и всякий прочий сброд, по такому случаю перепоясавшийся шпагами, назвавшийся кабальеро и готовый с оружием в руках отстаивать свое право на встречу с прекрасным. Все это шумело и галдело, а мимо, обмахиваясь веерами, шелестя юбками, стреляя глазами в ответ на взгляды из лож, где крутила усы сильная половина человечества, проходили на отведенные им места женщины. Между ними тоже время от времени вспыхивали ссоры, так что приходилось порой употреблять власть, дабы в этом цветнике воцарялся мир и покой. Надо сказать, что попытки добыть себе место или проникнуть в театр, не заплатив предварительно за билет, равно как и жаркая пря между теми, кто абонировал ложу или кресло, и теми, кто претендовал на них без достаточных оснований, случались сплошь и рядом и столь часто сопровождались резкими словами, а то и движениями, что само собой разумеющимся было присутствие в зале так называемого Алькальда Дома и Двора с несколькими альгвасилами. Подобного рода разбирательства отнюдь не были уделом одних лишь простолюдинов – вот, скажем, герцоги Ферия и Риосеко обнажили шпаги прямо посреди действия, правда, под тем предлогом, что не могут поделить место, а не благосклонность некой актрисы.
Интересные мы все же люди, испанцы. Кто-то из великих заметил позже, что во всех странах, в любой части света люди бросают вызов властям, претерпевают опасности, рискуют жизнью или свободой, побуждаемые к этому голодом, честолюбием, ненавистью, похотью, честью, любовью к отечеству. А вот хвататься за оружие и пускать его в ход только во имя того, чтобы попасть на театральное представление – нет, такого не найдете нигде, кроме заавстрияченной Испании, где плохо ли, хорошо ли – да чего скрывать: хорошего было существенно меньше – скоротал я свое отрочество. Это возможно лишь в стране, даровавшей миру бесплодный героизм Дон Кихота, на горделивое острие клинка поместившей свое право и свой разум.
Итак, мы добрались до дверей, пробившись сквозь густую толпу жаждущих и не менее многочисленную – нищих, клянчивших подаяние. Само собой разумеется, одну половину этой братии составляли слепые, хромые, безрукие, параличные и припадочные побирушки, а другую – самозванцы, неведомо кем и когда возведенные в дворянское достоинство: они не просили милостыню, а взывали о помощи, которую порядочный человек просто обязан оказать равному, если тот попал в затруднительные обстоятельства. Вот с этими-то во избежание больших неприятностей следовало держаться учтиво и отказывать им вежливой фразой: «Извините, сударь, я нынче не при деньгах». Забавно, что национальный характер сказывается и в том, кто и как попрошайничает: немцы канючат хором, французы перемежают униженные мольбы усердным «Отче наш» и «Верую», португальцы жалуются и сетуют на судьбу, итальянцы подробно и пространно повествуют о постигших их бедах, и только испанцы, грозя и дерзя, действуют нахрапом, напористо, настырно и надменно.
Сколько-то мелочи раздали мы Христа ради у первой двери, сколько-то – на пропитание у второй и еще двадцать медяков уплатили, чтобы получить места на скамье. Разумеется, они оказались заняты, но капитан – как я понимаю, из-за меня – решил не устраивать разбирательств и вместе с Кеведо, Вигонем и прочими устроился перед сценой, рядом с мушкетерами. Можете себе представить, как вертел я головой, как жадно разглядывал все, что творилось вокруг «в этом капище искусства, в этом скопище людском», где стоял оглушительный гул голосов, прорезаемый выкриками разносчиков, наперебой предлагавших сласти и прохладительные напитки, колыхались юбки, развевались баскины и мантильи дам и слепили глаза костюмы знатных господ, сидевших в ложах. Поговаривали, что и его величество инкогнито посещает полюбившиеся ему представления, и судя по тому, что на ступенях виднелись фигуры королевских гвардейцев – они, хоть были и не в мундирах, находились здесь не по зову сердца, но по службе, – поговаривали не зря.
Мы вглядывались в окна лож, надеясь увидеть нашего юного государя или королеву, но среди аристократических лиц, иногда мелькавших за портьерами, августейшую чету не обнаружили. Зато был замечен и громом рукоплесканий встречен сам Лопе.
Присутствовал здесь и граф де Гуадальмедина в компании друзей и дам – когда капитан, встретившись с ним глазами, приветствовал его, приложив два пальца к шляпе, тот отвечал учтивой улыбкой.
Какие-то приятели дона Франсиско, потеснившись, нашли ему место на скамье, и он, извинившись перед нами, перебрался туда. Лиценциат и Вигонь стояли несколько в стороне, обсуждая пьесу, предлагаемую нашему вниманию, – Кальсонес несколько лет назад был на премьере, о которой сохранил самые отрадные воспоминания. Ну а мы с Диего Алатристе, не расставаясь, протиснулись к самому барьеру, где выстроилась первая шеренга мушкетеров. Капитан купил мне вафель и, покуда я упоенно хрустел ими, держал меня за плечо, чтоб не затерли в толчее и давке. Но вдруг рука его напряглась, а потом он медленно опустил ее на эфес шпаги.
Проследив за его взглядом, я различил в толпе двоих мужчин – тех самых, что накануне крутились неподалеку от нас на ступенях Сан-Фелипе. Они стояли срецимушкетеров и, как мне показалось, подали условный знак еще двоим молодцам, подвигавшимся к ним неспешно, но так, чтобы в нужный момент оказаться поближе. Низко надвинутые шляпы, перекинутые через плечо плащи, усы, торчащие, как крестовина шпаги, исполосованные шрамами лица, манера стоять, широко расставив ноги и сторожко озираясь по сторонам – все приметы красноречиво указывали на то, какого сорта эти люди. Другое дело, что среди публики половина была таких, однако этих четверых явно интересовали мы с капитаном.
Раздался, возвещая начало представления, троекратный стук.
– Шляпы долой! – вскричали мушкетеры, и все обнажили головы, раздернулся занавес – ив тот же миг я позабыл об этих подозрительных личностях да и обо всем на свете, устремив все внимание на сцену, где уже появились персонажи комедии – Лаура и Урбана. На фоне грубо размалеванного задника высилась вырезанная из картона Башня Золота.
– Нет на свете места краше Этой набережной! – Да! – Чередой плывут суда К пристаням Севильи нашей[13].Я и сейчас прихожу в волнение, произнося эти стихи – первые стихи, услышанные мною с театральных подмостков – еще и потому, что актриса, исполнявшая роль доньи Лауры, – прекрасная Мария де Кастро – позднее занимала кое-какое место в жизни капитана Алатристе да и в моей тоже. Но в тот день я видел лишь красавицу Лауру, которая вместе со своей тетушкой Урбаной стоит у ворот Севильи, где в гавани вот-вот бросят якорь галеры и она случайно встретится с доном Лопе и его слугой Толедо.
…мы побудем тут. Взгляни, Сколько кораблей. Они Знают штормы океана.И надо ли говорить, что уже через несколько минут все вокруг меня исчезло: завороженно внимая речам героев, я перенесся в Севилью, без памяти влюбился в Лауру, мечтал обладать отвагой капитанов Фахардо и Кастельяноса, обменяться несколькими ударами шпагой с полицейскими, а потом ступить на борт королевского корабля. Но в тот миг, когда главный герой сообщил, что
страсть – источник многих зол, ревность путает понятья; стал соперника искать я И, казалось мне, нашел. Мы сразились с ним тогда…– стоявший рядом с нами зритель повернулся к Алатристе и произнес сердитое «тс-с-с», как бы требуя замолчать, хотя, видит бог, хозяин мой не произнес ни слова. Я удивился, а капитан внимательно оглядел этого ревнителя тишины: вида тот был довольно гнусного, вчетверо сложенный плащ свисал у него через плечо, а рука лежала на эфесе шпаги.
Комедия шла своим чередом, я снова обо всем позабыл, благо Алатристе оставался безмолвен и неподвижен, но вскоре этот малый вновь зашикал, а потом, глянув на капитана весьма недружелюбно, вполголоса прошелся насчет невоспитанных людей, которых нельзя пускать в приличные места. Капитан слегка отодвинул меня в сторону, и как я заметил, подобрал полу плаща, чтобы не мешала в случае надобности взяться за рукоять кинжала, острием вверх висевшего сзади на поясе в чехле. Тут первое действие окончилось, публика захлопала, капитан же и его требовательный сосед молча скрестили… нет, пока еще только взгляды. Еще четверо мужчин – двое справа, двое слева – стояли чуть поодаль и глаз не спускали с Алатристе и его – равно как и вашего – покорного слуги.
Покуда шла балетная интермедия, капитан отыскал взглядом лиценциата и Вигоня и отослал меня к ним – оттуда, мол, лучше видно. Тут загремели рукоплескания, и все мы повернулись к одной из верхних лож – туда при начале первого акта, не привлекая к себе внимания, вошел наш государь. Тогда-то я и увидел впервые его бледное лицо, рыжеватые волосы, завитые спереди и на висках, рот с оттопыренной нижней губой – родовой приметой Габсбургского дома, – в ту пору еще не опушенной стреловидной бородкой. Его величество был облачен – в полном соответствии с им же только что изданным эдиктом против роскоши – в черный бархатный колет с круглым накрахмаленным воротником и тусклыми серебряными пуговицами, а в тонкой белой руке держал замшевую перчатку время от времени поднося ее ко рту, чтобы скрыть улыбку или заглушить слова, обращаемые к его спутникам, среди которых публика к несказанному своему удовольствию узнала и принца Уэльского с герцогом Бекингемом: король был к англичанам так благосклонен, что удостоил их приглашения на спектакль в своем присутствии, хоть и сохранял видимость инкогнито – по крайней мере, никто из находившихся рядом с ним, вопреки требованиям этикета, не снял шляпы. По сравнению с суровой простотой испанских костюмов наряды молодых и статных англичан выглядели особенно роскошно – перья, ленты, кружева, драгоценности, – и зрители, заполнявшие корраль, с удовольствием приветствовали наследника британского престола и его фаворита, а дамы из-за решетчатых перегородок своих лож вовсю использовали язык вееров и красноречие взоров, исполненных сокрушительного кокетства.
Началось второе действие, и вновь я, позабыв обо всем на свете, следил за происходящим на сцене, буквально впитывая каждое слово, каждое движение героев, но когда Фахардо стал произносить свой монолог, сосед вновь зашикал на капитана, и теперь уже его поддержали двое других, успевших за это время приблизиться почти вплотную. Диего Алатристе самому доводилось использовать этот трюк, так что смысл происходящего был ясен ему, как божий день, тем более что и вторая пара неторопливо, но неуклонно прокладывала себе дорогу к нему. Капитан огляделся по сторонам и отметил многозначительное для себя обстоятельство – ни алькальда Дома и Двора, ни альгвасилов, приставленных следить за порядком в театральной зале, не было видно: сгинули бесследно. На лиценциата, привыкшего действовать пером, но не шпагой, рассчитывать не приходилось, а от Хуана Вигоня толку было мало – куда ему с одной-то рукой да на шестом десятке! Что же касается Кеведо, то наш поэт сидел на скамейке во втором ряду был увлечен спектаклем и знать не знал, какая драма вот-вот разыграется у него за спиной. Самое скверное заключалось в том, что под воздействием этого шиканья, предпринятого с совершенно очевидной целью – вызвать его на скандал, – кое-кто из публики стал посматривать на капитана косо, будто он и в самом деле мешал представлению. Дальнейшее было так же несомненно, как то, что два да два – четыре. В данном случае – три да два будет пять. А пятеро на одного – многовато даже для Диего Алатристе.
Он двинулся было к ближайшим дверям. Если уж драться – так лучше на улице, а не в зале, где не повернешься и где тебя прирежут в мгновение ока.
Кроме того, поблизости – две церкви: там найдешь убежище, если в довершение бед в схватку ввяжутся и блюстители закона. Однако парочка, подошедшая последней, отрезала ему путь к отступлению. Дело принимало скверный оборот. Тут окончилось второе действие, грянули рукоплескания, а четверо негодяев очень плотно обступили Алатристе. Вслед за шиканьем прозвучали кое-какие словечки на повышенных тонах, вдогон божбе понеслась и брань. Делать было нечего – смиряясь с неизбежным, капитан глубоко вздохнул и потащил из ножен шпагу.
* * *
«Ничего, – пронеслось у него в голове, – двоих, по крайней мере, прихвачу на тот свет с собой». Не становясь в позицию, он взмахнул шпагой, словно проводя горизонтальную черту слева направо, и заставил попятиться тех, кто подобрался слишком близко. Запустив другую руку за спину, извлек из чехла бискаец. Публика шарахнулась в стороны, очищая место, завизжали женщины, из лож свесились головы любопытствующих. Как я уже сказал, в те времена было совсем не в диковинку, когда действие с подмостков переносилось в зал, и зрители приготовились к новому, увлекательному и к тому же даровому представлению, обступив его участников плотным кольцом. Капитан, не сомневаясь, что против пятерых вооруженных и поднаторевших в своем ремесле головорезов долго не выстоит, решил обойтись без фехтовальных изысков и не осторожничать. Он ткнул шпагой зачинщика ссоры и, даже не взглянув, достиг ли его выпад цели, ибо если даже он и зацепил этого малого с плащом на плече, то вряд ли причинил ему большой ущерб, – предпринял попытку достать кинжалом второго. Если продолжить арифметические подсчеты, пять шпаг и пять кинжалов – это десять клинков, рассекающих воздух, так что удары в буквальном смысле сыпались на капитана градом. Один распорол ему рукав колета, другой, пожалуй, пронзил бы насквозь, если бы острие шпаги не завязло в плотной ткани плаща.
Алатристе, перемежая выпады рубящими ударами направо и налево, прыгая из стороны в сторону, вертясь как бешеный и крутя «мельницу», отбросил двоих наседавших на него, парировал удар шпагой третьего, отбил бискайцем кинжал четвертого, но в этот миг почувствовал жгучее ледяное прикосновение лезвия, вскользь полоснувшего его по лбу, – кровь хлынула меж бровей. «Плохи твои дела, Диего, – с удивительной отчетливостью пронеслось в мозгу – Вроде бы все». Он и вправду уже выбился из сил: руки будто налились свинцом, сочившаяся со лба кровь слепила глаза. Вскинув левую руку с кинжалом, капитан хотел вытереть лоб тыльной стороной ладони – и увидел острие, направленное ему прямо в горло. Но тут раздался громоподобный крик:
– Держись, Алатристе! Я иду! – Дон Франсиско де Кеведо, перепрыгнув через скамью, оказался рядом и успел отбить удар, который, без сомнения, стал бы для капитана роковым. – Вдвоем веселей! – воскликнул он, подняв шпагу и приветствуя Алатристе задорным кивком. – Придется подраться!
И, как обуянный демонами, ринулся в схватку, невзирая на свою косолапость, впрочем, нимало не мешавшую ему орудовать изделием толедских мастеров. Можно было не сомневаться: при этом он складывает в голове очередное десятистишие, которое непременно будет занесено на бумагу, если его самого не вынесут ногами вперед. Свалившиеся с носа очки болтались на шнурке рядом с красным крестом ордена Сантьяго. Взмокший от пота дон Франсиско дрался с той яростью и остервенением, что приберегались обычно для словесных поединков, но весьма уместны оказывались и в переделках, подобных нынешней, когда взамен отточенной остроты в ход шла не менее острая сталь. Нападавшие не ожидали такого напора и невольно подались назад, причем один даже получил рану в плечо чуть пониже перевязи. Но быстро опомнились, сомкнули ряды, и бой закипел с новой силой. Даже актеры вышли из-за кулис поглядеть, чем кончится дело.
* * *
То, что произошло вслед за тем, стало достоянием истории. Свидетели уверяют, что в ложе, где сидели никем якобы не узнанный король, принц Уэльский, Бекингем и кавалеры их свиты, за дракой наблюдали с большим вниманием, но чувства при этом испытывали разные. Его величество, натурально, не мог одобрить такое безобразное нарушение порядка в общественном месте, более того – в его августейшем присутствии. Но, будучи молод, пылок и весьма склонен к рыцарским утехам, четвертый наш Филипп в глубине души, быть может, и самому себе в этом не признаваясь, одобрил, что его подданные внезапно решили показать свою отвагу знатным чужестранным гостям, с соотечественниками которых им – нам, то есть – рано или поздно придется сойтись на поле битвы. Кроме того, человек, сражавшийся один против пятерых и проявивший такую отчаянную, просто неслыханную храбрость, постепенно сумел снискать себе симпатии публики и исторгнуть горестные «ай!» из груди дам, взволновавшихся за его судьбу. Рассказывают, что в душе нашего государя происходила борьба, так сказать, долга и чувства, уважения к протоколу и страсти к турнирам, а потому он медлил, не приказывая начальнику стражи прекратить свалку. И в тот самый миг, когда король открыл наконец рот, дабы отдать соответствующее распоряжение, подлежащее немедленному исполнению, ко всеобщему изумлению, в драку ввязался – причем чрезвычайно вовремя – дон Франсиско де Кеведо, личность при дворе хорошо известная.
Однако главное изумление было впереди. Поэт, как мы помним, спеша на выручку к Алатристе, выкрикнул его имя, и король буквально оторопел, заметив, как переглянулись высокие гости.
– Оу, Алатристе! – по-юношески звонко воскликнул Карл Стюарт с неподражаемым британским выговором.
Высунувшись из-за барьера ложи, он с живейшим любопытством оглядел происходящее, потом снова обернулся к Бекингему, потом бросил взгляд на Филиппа. За те несколько дней, что наследник английского престола провел в Мадриде, он успел выучить несколько слов по-испански, а потому и обратился к нашему королю на его родном языке:
– Уаше уеличестуо изуинит менъя… Я обьязан этому тшеяоуеку джизнъюВслед за тем с величайшим хладнокровием – так, словно находился в одной из гостиных СентДжеймского дворца, – он снял шляпу, натянул перчатки, обнажил шпагу и взглянул на Бекингема, сказавши только:
– Стини.
И ринулся вниз по ступеням, а за ним – Бекингем со шпагой наголо. И Филипп Четвертый, потеряв дар речи, не знал, что делать – задержать ли их или не вмешиваться в происходящее, – так что покуда он раздумывал, англичане внизу уже вступили в бой, достойный занесения на скрижали: когда потрясенная публика увидела принца Уэльского и герцога Бекингема, отважно пришедших на помощь Диего Алатристе и дону Франсиско де Кеведо, ложи, партер, боковые скамьи и амфитеатр взорвались громом рукоплесканий и восторженными криками.
Тут наконец его величество вышел из столбняка, встал и, оборотясь к своей свите, повелел немедленно прекратить это безобразие. И швырнул на пол перчатку. Надо же знать, с кем дело имеешь – столь резкое движение, произведенное человеком, который за сорок четыре года своего царствования ни разу на людях не изменится в лице, бровью не поведет даже при получении самых неожиданных и неприятных вестей, показывает, что в тот день державный властелин полумира был очень крепко сбит с панталыку.
Глава 11. Печать и письмо
Через открытое окно, выходившее в один из внутренних дворов Алькасара, доносились выкрики команд – должно быть, начинался развод караула. В комнате, куда привели капитана, стоял только неимоверных размеров темный письменный стол, заваленный бумагами и книгами и производивший столь же внушительное впечатление, как и человек, который за ним сидел. Человек этот методически просматривал один документ за другим и время от времени, обмакивая гусиное перо в фаянсовую талаверскую чернильницу, что-то писал на полях – причем с ходу, не тратя ни секунды на обдумывание, словно мысли его сами собой облекались в слова, а слова стекали на бумагу так же легко, как чернила – с кончика пера. Это продолжалось довольно долго, и человек за столом не поднял голову, даже когда лейтенант Мартин Салданья в сопровождении сержанта и двоих королевских гвардейцев тайными дворцовыми переходами доставил сюда Диего Алатристе – доставил, поставил посреди кабинета и оставил наедине с хозяином. Тот невозмутимо, будто находился в полном одиночестве, продолжал разбирать бумажную гору, так что капитану вполне хватило времени, чтобы внимательно разглядеть его. Дородный и осанистый, большеголовый, краснолицый, черноволосый, с темной остроконечной бородкой, начинавшейся прямо под нижней губой, с густейшими, распушенными на концах, торчащими в стороны усами. Одет он был в темно-синий, отделанный черными плетеными лентами шелковый колет и такого же цвета короткие штаны; только алевший на груди крест ордена Калатравы, белый отложной воротник да тонкая золотая цепь несколько оживляли этот скромный и строгий наряд.
Хотя Гаспар де Гусман, третий граф Оливарес, получил герцогский титул лишь спустя два года после описываемых нами событий, этот испанский гранд к своим тридцати пяти годам уже находился в зените могущества и влияния. Юный Филипп, государственным делам предпочитавший празднества и охоты, был слепым орудием его воли; возможных соперников Оливарес устранил, убрал, удалил – причем иных так, что дальше уже и некуда. Приближенных покойного государя и прежних своих покровителей – герцога де Уседу и монаха Луиса де Альягу – отправил в ссылку, герцога де Осуну изгнал из страны, забрав все его имущество в казну; а герцог де Лерма не поплатился головой лишь потому, что успел укрыть ее под красной кардинальской шляпой – «дело в шляпе», как острили по этому поводу в Мадриде, – тогда как Родриго Кальдерона, игравшего заметнейшую роль при дворе покойного государя, казнили на площади при большом стечении публики. И теперь никто не стоял поперек дороги у этого умного, образованного, бешено честолюбивого патриота, крепко взявшего бразды правления империей, могущественней которой в ту пору не было на свете.
Нетрудно представить себе, какие чувства обуревали Диего Алатристе, когда он оказался наедине со всесильным министром в этой просторной пустой, если не считать ковра да письменного стола, комнате, единственным украшением которой служил портрет покойного короля Филиппа Второго, деда нынешнего нашего государя, висевший над не разожженным камином. Да, нетрудно вообразить, какие мысли вихрем понеслись у него в голове – особенно после того, как он без малейшего напряжения и усилия, ни на миг не засомневавшись, узнал в Оливаресе того рослого и тучного человека в маске, который имел с ним беседу в заброшенном особняке у ворот Святой Варвары. Того, к кому его круглоголовый спутник обращался «ваша светлость», и кто перед самым уходом, помедлив на пороге, еще раз потребовал, чтобы крови пролилось как можно меньше.
«Надеюсь, – думал капитан, – что мы обойдемся без гарроты». Конечно, болтаться в петле – тоже удовольствие сомнительное, но все же это лучше, чем когда тебе медленно, но все туже и туже сдавливают горло этим омерзительным приспособлением на винте, а палач приговаривает «Не прогневайтесь, сударь, я – человек подневольный». А этому еще будут предшествовать все прелести допроса с пристрастием – дыба, жаровня, национальная наша обувь, называемая «испанский сапожок», ибо ведь никак не возможно просто отправить человека на тот свет: непременно надо сначала измытарить его до умопомрачения, вытянуть из него предварительно все жилы, а заодно – и признание по всей форме. Совсем плохо, что под аккомпанемент такого струнного трио Диего Алатристе петь не захочет, так что мучительная канитель, ожидающая его, обещает стать весьма продолжительной. Конечно, будь выбор за ним, он предпочел бы окончить свои дни в бою, и Всевышний Лекарь поступил бы справедливо, прописав на прощанье старому солдату укольчик шпагой или свинцовую пилюлю. Вот это было бы дело:
«Да здравствует Испания!» и все такое, глазом моргнуть не успеешь, а ты уж среди ангелочков. Ишь, чего захотел! Так легко не отделаешься. Не об этом ли толковал Мартин Салданья, когда нынче на рассвете явился в тюрьму, чтобы доставить его в королевский дворец:
– Сдается мне, Диего, на этот раз ты испекся.
– Ничего, бывало и похуже.
– Нет. Хуже не бывает. От того, кто желает тебя видеть, не отобьешься.
Тем более что Алатристе отбиваться было нечем: после схватки в театре, когда только вмешательство англичан спасло его от неминуемой гибели, капитана разоружили – даже вытащили припрятанный за голенищем нож.
– Теперь мы в расчете, – промолвил принц Уэльский, с помощью гвардейцев разняв сражавшихся и тем самым сохранив жизнь Алатристе. Потом вложил шпагу в ножны и под рукоплескания публики вернулся вместе с Бекингемом в ложу, потеряв интерес к происходящему.
Дона Франсиско де Кеведо отпустили по личному приказу короля, которому, судя по всему, понравился его последний сонет. Из пяти нападавших двоим под шумок удалось улизнуть, один был тяжело ранен, и еще двоих арестовали вместе с капитаном и поместили в соседнюю камеру. Но проходя утром под конвоем Салданьи по тюремному коридору, Алатристе увидел, что она пуста.
Граф Оливарес продолжал разбирать почту, а капитан с угрюмой надеждой покосился на открытое окно. Сигануть оттуда, что ли? Это избавило бы его от свидания с палачом и сильно сократило бы процедуру ухода на тот свет. С другой стороны, не так уж высоко оно расположено – всего футов тридцать – ну как не расшибешься насмерть, а только кости переломаешь, и когда тебя взвалят на спину мулу и повезут вешать, зрелище будет не слишком радовать глаз. Да, и еще одно – если там, наверху, кто-то есть, самоволка через окно весьма омрачит капитану пребывание в вечности, и эта перспектива при всей своей туманности не могла его не тревожить. Так что – труби отбой, Алатристе: в лучший мир поедешь по-человечески, исповедавшись и причастившись святых тайн, и умрешь от чужой руки, хоть разница, по сути, невелика. В конце концов, утешил он себя, как бы ни терзали и ни мучили, как бы ни медлила смерть, все равно ведь помрешь. А помрешь – отдохнешь.
Он еще предавался этим веселым размышлениям, когда вдруг заметил, что Оливарес, отложив очередное письмо, уставился на него черными живыми глазами и внимательно разглядывает. Алатристе в душе пожалел, что после стычки в театре и ночевки в тюрьме выглядит так непрезентабельно – сущий оборванец. Дали б хоть побриться. Не помешало бы также завязать чистой холстинкой рассеченный лоб и смыть размазанные по лицу потеки засохшей крови.
– Вы когда-нибудь видели меня раньше?
Вопрос Оливареса застал капитана врасплох. Но внутренний голос – или, может быть, шестое чувство? – схожий с шелестом стального лезвия о точильный камень, посоветовал поступать осмотрительно и дать ответ не правильный, но верный:
– Нет. Никогда.
– Никогда?
– Я ж говорю – не приходилось.
– Может быть, на улице или на каком-нибудь празднестве?
Капитан – словно бы в сосредоточенном раздумье – пригладил усы:
– На улице?.. Ну, то есть на Пласа-Майор или на Хоронимое или в тому подобных людных местах… – Сказал он это с видом кристально честного человека, которому решительно нечего скрывать. – Да-да…Вот там, может быть, и видел.
Оливарес невозмутимо выдержал его взгляд.
– И больше нигде?
– И больше нигде.
Капитану почудилось, что под разбойничьими усами его собеседника скользнула мимолетная усмешка. Однако поручиться, что это было именно так, он не мог. Оливарес между тем рассеянно перелистал одну из папок, лежавших перед ним.
– Насколько я знаю, вы служили во Фландрии и в Неаполе. Воевали с турками в Леванте и в Берберии…
Славный боевой путь.
– Я в солдатах с тринадцати лет.
– Капитан, как я понимаю, – это прозвище?
– Точно так. Я дослужился всего лишь до сержанта, да и то был разжалован после одного неприятного случая.
– Да, тут сказано. – Министр полистал папку. – Повздорили с прапорщиком, вышли с ним на поединок, ранили его… Удивительно, как это вас не повесили.
– Собирались. К тому все и шло. Но в этот самый день взбунтовались наши части, расквартированные в Маастрихте, – им пять месяцев не платили жалованья. Я же не примкнул к мятежникам, и мне выпало счастье спасти от них полковника Мигеля де Ордунью.
– Вам не нравятся мятежи?
– Мне не нравится, когда убивают офицеров.
Министр вздернул бровь и недовольно поглядел на Алатристе:
– Даже тех, которые собираются вас вздернуть?
– Одно другому не мешает.
– Тут написано, что, защищая своего полковника, вы закололи двоих или троих.
– Это были немцы. И потом сам дон Мигель сказал мне: «Черт побери, Алатристе, если уж мне суждено погибнуть от руки мятежников, пусть они будут испанцами». Я счел, что он прав, отбил его и тем самым избежал петли.
Оливарес выслушал его внимательно, время от времени переводя задумчивый взгляд с подшитых в папке бумаг на стоящего перед ним человека.
– Вижу, – произнес он. – Здесь имеется рекомендательное письмо старого графа де Гуадальмедина и собственноручное ходатайство самого генерала Амбросьо де Спинолы о назначении вам восьми эскудо пенсиона в признание ваших боевых заслуг и отваги, проявленной перед лицом неприятеля… Получили?
– Нет. Покуда прошение шло по канцеляриям, стараниями всей этой секретарской швали сумма похудела вдвое, но и четырех эскудо я пока не видал.
Оливарес понимающе покивал, словно и его обходили наградами, арендами и пенсиями, или наоборот – одобряя рачительность секретарей и писарей, сберегающих казенные средства. Алатристе обратил внимание, что он листает бумаги со сноровкой прирожденного чиновника.
– Из армии уволен в связи с тяжелым ранением при Флерюсе был, – продолжал министр и оглядел грязную окровавленную повязку на лбу капитана. – Да у вас, я вижу, прямо какая-то склонность к получению ран.
– И – к нанесению оных.
Он выпрямился и закрутил ус. Никто на всем белом свете, включая и всемогущего министра, способного в любую минуту уничтожить его, не имел права подшучивать над ранами Диего Алатристе.
Оливарес с любопытством взглянул капитану в глаза, где вспыхнул опасный огонек, и вновь углубился в бумаги.
– Похоже на то, – заметил он. – Однако, судя по отзывам, в мирной жизни вы вели себя не так образцово, как на войне… Тут упоминается драка в Неаполе, повлекшая за собой смертельный исход… Ага!
Во время подавления восстания морисков[14] в Валенсии вы отказались выполнить приказ. – Оливарес нахмурился. – Вам что же – не пришелся по вкусу королевский эдикт об их изгнании?
Прежде чем ответить, Алатристе немного помолчал.
– Я – солдат, – произнес он наконец. – А не мясник.
– Мне казалось, что вы прежде всего – верный слуга нашего государя.
– Так оно и есть. Я служу королю лучше, нежели Господу Богу, ибо Его десять заповедей нарушал постоянно, а королевские приказы до того случая – ни разу.
Оливарес вскинул бровь:
– Мне докладывали, что там, в Валенсии, наши полки покрыли себя славой…
– Вас ввели в заблуждение. Когда грабишь дома, насилуешь женщин и рубишь головы безоружным крестьянам, покрываешь себя не славой, а позором.
Оливарес слушал его с непроницаемым видом.
– Они не желали признавать истинную веру, – веско заметил он. – И отречься от Магомета.
Капитан пожал плечами.
– Очень может быть. И поэтому их надо убивать?
Я не желал.
– Вот как? – с деланным удивлением сказал министр. – А убивать по заказу и за плату вам милее?
– Я не убиваю ни детей, ни стариков.
– Ну, ясно. И, стало быть, вы покинули свой полк и поступили в Неаполе на королевский галерный флот?
– Если уж надо уничтожать неверных, то пусть это будут настоящие мусульмане – турки, которые умеют защищаться.
Оливарес некоторое время разглядывал его, не произнося ни слова, потом вновь принялся листать бумаги. Видно было, что последние слова Алатристе заставили его призадуматься.
– Как бы то ни было, за вас ручаются весьма достойные люди. Вот, скажем, молодой граф де Гуадальмедина. Или дон Франсиско де Кеведо, который вчера с таким пылом спрягал глаголы в действительном залоге. Впрочем, рекомендации этого стихотворца могут принести его друзьям не только пользу, но и вред – все зависит от того, благоволит ли к нему Фортуна или отвратила от него свой лик. – Министр выдержал длинную и многозначительную паузу. – Пли вот наш свежеиспеченный герцог Бекингем… Он считает себя в долгу перед вами… – И вновь надолго замолчал. – Или принц Уэльский.
Алатристе, не меняясь в лице, пожал плечами.
– С ними я не знаком. Но вчера эти джентльмены более чем убедительно доказали, что долг – истинный или воображаемый – платежом красен.
Оливарес медленно покачал головой и с усталым вздохом ответил:
– Да нет… Не далее как сегодня утром принц Уэльский снова интересовался вами и вашей судьбой. Даже его величество, который продолжает недоумевать по поводу случившегося, желает быть в курсе дела… – Он резко отбросил в сторону папку. – Неприятного дела… И очень деликатного.
Он смотрел на Алатристе снизу вверх так, словно спрашивал себя, что же с ним делать.
– Какая жалость, что пятеро головорезов, которые вчера набросились на вас в театре, так скверно знают свое ремесло. Но тот, кто их нанял, поступил правильно… В определенном смысле вопрос был бы решен.
– У вашей жалости – ядовитое жало.
Взгляд Оливареса изменился – стал жестким и непроницаемым.
– А вот скажите-ка мне, правду ль говорят, будто несколько дней назад вы спасли жизнь некоему британскому путешественнику, которого ваш напарник собирался прикончить?
"Барабанщики! Бей тревогу! В ружье! Становись!
Разберись!" – понеслось в голове капитана. Подобный оборот разговора чреват большими опасностями, нежели ночная атака голландцев на беспечно спящий бивуак, и выводит прямехонько на дорогу, в конечной точке которой покачивается хорошо намыленная петля. Ломаного гроша не дал бы сейчас за свою жизнь Диего Алатристе.
– Виноват, я ничего подобного не припомню.
– А лучше было бы припомнить.
Капитан, во-первых, издавна привык выслушивать угрозы, а во-вторых, уже свыкся с мыслью, что из этой переделки ему не выбраться. И потому остался невозмутим, что вовсе не помешало ему предпринять попытку к спасению, облеченную в такие слова:
– Я, право, не знаю, кому я спас жизнь, – промолвил он после недолгого раздумья. – Но вот что помню, то помню: однажды давали мне некое поручение, и главный заказчик сказал, что надо, мол, исхитриться и никого не убить.
– Да что вы говорите? Так и сказал?
– Этими самыми словами.
Капитану в этот миг показалось, что на него уставились не глаза, а два ружейных дула.
– И кто же такой этот «главный»? – со зловещей мягкостью осведомился Оливарес.
Алатристе глазом не моргнул:
– Понятия не имею. Он был под маской.
Теперь Оливарес взглянул на него с новым интересом:
– Но если таковы были приказы, как же ваш сообщник осмелился пойти дальше?
– Я не знаю, какого сообщника вы имеете в виду.
Но потом, когда тот, кого я считал главным, удалился, другие люди отдали мне другие приказы.
– Другие? – Министра, кажется, очень заинтересовало множественное число. – Клянусь пятью язвами Христа, мне до смерти хочется узнать, как их звали. Или – хотя бы, как они выглядели.
– Боюсь, что это невозможно. Вы ведь, должно быть, уже заметили: память у меня просто дырявая.
Да и потом маски…
Оливарес стукнул кулаком по столу, якобы потеряв терпение. Но Алатристе мог бы ручаться, что смотрел он на него скорее одобрительно, нежели угрожающе. И явно при этом что-то обдумывал.
– Надоело мне слушать басни про вашу дырявую память! Я вас предупреждаю: в моем распоряжении есть мастера, которые так ее заштукуют, что будет как новая!
– Сударь, вы меня очень обяжете, если вглядитесь в меня повнимательней.
Оливарес, который и так не сводил глаз с Алатристе, резко сдвинул брови. Он изменился в лице: был и раздосадован, и сбит с толку. Капитан решил, что вот сейчас, пожалуй, он вызовет стражу и прикажет без церемоний и формальностей вздернуть несговорчивого собеседника. Однако министр молчал и не шевелился, уставившись на капитана. Потом, вероятно, что-то рассмотрев в очертаниях крутого подбородка, в ледяных зеленовато-голубых глазах, не моргая выдерживавших его взгляд, решил признать его правоту.
– Может быть, так оно и есть, – кивнул он. – Может, вы и в самом деле из породы забывчивых. Или немых.
Еще мгновение Оливарес размышлял, перебирая бумаги, и наконец сказал:
– Мне надо кое-что выяснить. Соблаговолите подождать еще немного.
Он приподнялся и, дотянувшись до свисавшего с потолка шнура, дернул за него один раз. Затем вновь уселся за стол и больше уже не обращал на капитана никакого внимания.
Человек, поспешивший явиться на зов Оливареса, сразу показался Алатристе знакомым, а когда он заговорил, исчезли и последние сомнения. Черт побери, подумал он, встреча старых друзей: не хватает только падре Эмилио Боканегра да рябого итальянца – и вся капелла была бы в сборе. У вошедшего была круглая, почти совсем лысая голова – лишь на темени в беспорядке торчали редкие седоватые пряди. Столь же скудна была и прочая растительность – спускавшиеся ниже ушей бакенбарды, узкая бородка, жиденькие, но подвитые усы. Щеки и крупный нос – в красных прожилках. Ни строгий черный наряд, ни даже вышитый на груди крест ордена Калатравы не могли придать его наружности ни значительности, ни благообразия – этому противились несвежий, плохо накрахмаленный круглый воротник, чернильные пятна на руках, придававшие ему сходство с каким-то захудалым канцеляристом и никак не вязавшиеся с массивным золотым перстнем на левом мизинце. Однако живые глаза светились злым умом и волей, а левая бровь, приподнятая будто в вечном ироническом недоумении, красноречиво свидетельствовала о хитрости и изворотливости. Удивленное выражение, появившееся на его лице при виде Диего Алатристе, тотчас сменилось на холодно-пренебрежительное.
То был Луис де Алькесар, личный секретарь нашего короля Филиппа Четвертого. На сей раз он появился без маски.
* * *
– Ну-с, так, – произнес Оливарес. – Мы имеем дело с двумя заговорами. Первый ставил своей целью поучить уму-разуму заезжих англичан, а заодно отобрать у них кое-какие секретные документы. Второй же – просто убить их. О первом мне докладывали…
Второй оказался почти полной неожиданностью.
Может быть, вы, дон Луис, как секретарь его величества и человек, искушенный в хитросплетениях придворной жизни, что-нибудь слышали о нем?
Министр говорил, очень медленно роняя слова и разделяя фразы долгими паузами, и при этом не сводил глаз с Алькесара. Тот слушал молча, время от времени искоса поглядывая на капитана, который стоял рядом и гадал, чем же вся эта история кончится. Да ничем хорошим, недаром же говорится: «Пастухам – ужин, а овечке – вертел».
Оливарес замолчал в ожидании ответа. Луис де Алькесар откашлялся.
– Боюсь, что не смогу быть особенно полезен вашей светлости, – начал он, и по тону его было более чем очевидно, что присутствие Алатристе сбивает его с толку. – Мне приходилось слышать кое-что о первом заговоре… Что же касается второго… – тут он снова метнул взгляд на Алатристе, и левая бровь изогнулась еще круче, словно занесенный клинок турецкого ятагана, – ..то я, право, не знаю, что мог рассказать этот.., гм.., человек.
Оливарес в нетерпении выбил пальцами по столу барабанную дробь:
– Этот человек не рассказал ничего. Он здесь находится по другому делу.
Алькесар, явно пытаясь угадать истинный смысл услышанного, молча и довольно долго глядел на министра, потом перевел взгляд на Алатристе и опять – на Оливареса.
– Но…
– Никаких «но».
Алькесар вновь прокашлялся.
– Вы, ваша светлость, затронули столь деликатную тему в присутствии третьего лица, что я подумал было…
– И совершенно напрасно.
– Простите… – Секретарь беспокойно покосился на бумаги, загромождавшие стол, словно чуял в них какую-то опасность для себя. Он заметно побледнел. – Не знаю, имею ли я право при постороннем…
Оливарес повелительно вскинул руку. Алатристе мог бы поклясться, что все происходящее доставляет министру истинное наслаждение.
– Имеете.
Алькесар уже четырежды прочищал горло – на этот раз это вышло у него особенно звучно.
– Слушаю, ваша светлость. – Смертельная бледность на лице секретаря сменилась густым румянцем, словно его бросало то в жар, то в холод. – Вот что я могу предположить по поводу второго заговора…
– Покорнейше вас прошу предполагать как можно более подробно.
– Разумеется, ваша светлость. – Алькесар тщетно пытался разглядеть, какие бумаги лежат на столе у Оливареса: неодолимый чиновничий инстинкт побуждал его искать в них подоплеку происходящего. – Так вот, я могу предположить, что здесь имело место столкновение противоборствующих интересов. К примеру, Церковь…
– Церковь – чересчур общее понятие. Вы кого имеете в виду?
– Ну, есть слуги Церкви, не чуждающиеся земных помыслов… И им, разумеется, совсем не нравится, что еретик…
– Теперь понятно, – оборвал его министр. – Речь идет о таких святых мужах, как падре Эмилио Боканегра, например.
Алатристе заметил, что когда прозвучало это имя, секретарь с трудом справился со своим удивлением.
– Я не собирался называть имя его преподобия, – собрав все свое хладнокровие, ответил он. – Но раз уж вы сами удостоили его упоминания, отрицать не стану Отец Эмилио и в самом деле не принадлежит к числу тех, кого радует сближение с Англией.
– Странно, что вы, питая подобные подозрения, не сочли нужным посоветоваться со мной.
Алькесар вздохнул и послал Оливаресу улыбку единомышленника, если не сообщника. Чем дольше шел разговор, тем лучше он понимал, какого тона держаться, и постепенно обретал прежнюю уверенность в себе.
– Ах, ваша светлость, вам ли не знать, что такое двор! Как трудно угодить и грекам, и троянцам! Соперничают партии. Противоборствуют влияния.
Оказывается давление. Кроме того, распространилось мнение, будто и вы не являетесь рьяным поборником союза с Англией… В конце концов, кто-то хотел просто услужить вам.
– Уверяю вас, дон Луис, за услуги такого рода мне в свое время пришлось кое-кого повесить. – Взгляд Оливареса, как мушкетная пуля, пробил секретаря навылет. – Тем паче, в исполнении этой услуги наверняка не обошлось без золота Ришелье, Савойи и Венеции.
Угодливую улыбку, которой Алькесар показывал министру, что они – вместе и заодно, будто смыло с его лица.
– Не понимаю, о чем вы, ваша светлость.
– Не понимаете? Забавно. Мои шпионы подтвердили, что некая значительная сумма была передана некоему влиятельному при дворе лицу, однако не смогли установить, кому именно… Теперь многое становится на свои места.
Алькесар приложил руку к груди – как раз к тому месту, где был вышит крест Калатравы.
– Не думаете же вы, ваша светлость, что я…
– Вы? А при чем тут вы? – Оливарес взмахнул рукой, словно отбрасывая это нелепое предположение, и Алькесар вновь заулыбался. – В конце концов, всем известно, что именно я приставил вас к его величеству в качестве личного секретаря. Вы пользовались моим доверием. Вы были моим человеком. И хотя в последнее время ваши позиции до известной степени усилились, я сомневаюсь, что вам взбрело бы в голову плести заговоры по собственному почину. Это было бы полнейшим безрассудством, не правда ли?
Улыбка на губах секретаря вновь стала блекнуть и меркнуть.
– Разумеется, ваша светлость, – тихо проговорил он.
– И уж тем более – в тех областях, которые представляют особенный интерес для иностранных держав. Преподобному Эмилио это еще сошло бы с рук, ибо он – лицо духовное, да еще и с прочными связями при дворе. А всякому другому за такие проделки не сносить головы.
И Оливарес устремил на него взгляд, исполненный грозной многозначительности.
– Ваша светлость, – меняясь в лице, пролепетал Алькесар. – Вы же знаете, до какой степени я вам предан…
– И до какой же? – насмешливо осведомился министр.
– Я предан вам беззаветно! Верен беспредельно!
И очень полезен!
– Напоминаю вам, дон Луис, что преданными, верными, полезными людьми я заполнил не одно кладбище.
И, произнеся эту зловеще-хвастливую фразу, звучавшую в его устах отнюдь не пустой угрозой, граф Оливарес с рассеянным видом стал вертеть в пальцах перо, словно раздумывая, не скрепить ли своей подписью некий приговор. Алатристе заметил, что Алькесар следил за этими движениями с нескрываемым ужасом.
– Да, кстати о кладбищах, – вдруг добавил министр. – Позвольте вам представить Диего Алатристе, больше известного как капитан Алатристе… Вы ведь не знакомы?
– Я?.. Кхм… Нет. Откуда же мне его знать?
– Приятно вращаться в обществе предусмотрительных людей – никто никого не знает.
Губы Оливареса снова дрогнули, возвещая усмешку, которой так и не последовало. Кончиком пера он указал на капитана.
– Дон Диего Алатристе – достойнейшая личность с безупречным послужным списком, но из-за недавно полученной раны и неблагоприятного стечения обстоятельств оказался в трудном положении. Он кажется мне человеком отважным и заслуживающим доверия… Надежным – вот правильное слово. Такие люди встречаются нечасто, и я уверен, что если повезет, для него наступят лучшие времена.
Было бы жаль навсегда отказаться от услуг, которые он время от времени мог бы нам оказывать. – Пронизывающим взором Оливарес оглядел секретаря.
– Как вы полагаете, дон Луис, я прав?
– Совершенно правы, ваша светлость, – поспешил ответить тот. – Но мне сдается, что образ жизни сеньора Алатристе с большой вероятностью предполагает всякого рода неприятные неожиданности… Несчастный случай по собственной неосторожности или что-то подобное… Если такое произойдет, винить в этом будет некого.
С этими словами он послал капитану соболезнующий взгляд.
– А мне кажется справедливым, если мы с нашей стороны не станем предрешать столь плачевный финал. А? Какого вы мнения на сей счет, господин королевский секретарь?
– Полностью с вами согласен. – Голос Алькесара дрогнул от досады.
– А иначе я буду очень огорчен.
– Понимаю, ваша светлость.
– Очень! И буду расценивать это едва ли не как оскорбление. Нанесенное лично мне.
Казалось, что у Алькесара вот-вот произойдет разлитие желчи. Испуганная гримаса, искривившая его лицо, долженствовала обозначать улыбку.
– Разумеется, ваша светлость, – пробормотал он.
Оливарес, воздев палец, как если бы вдруг вспомнил нечто очень важное, порылся в бумагах, вытащил какой-то документ и протянул его Алькесару.
– Вы снимете камень с моей души, если самолично озаботитесь назначением этого пенсиона.
Видите – ходатайство подписано лично доном Амбросьо де Спинолой: дону Диего Алатристе за безупречную службу во Фландрии причитается четыре эскудо ежемесячно. Эта сумма поможет ему, не бедствуя, коротать время в ожидании выгодного заказа.
Ясно, дон Луис?
Алькесар принял бумагу кончиками пальцев, словно боясь обжечься. Глаза его блуждали, казалось, он вот-вот лишится чувств. Судорога бессильной ярости свела ему челюсти так, что он еле смог выговорить:
– Уж куда ясней, ваша светлость.
– Ну и прекрасно. Больше вас не задерживаю.
И снова уткнувшись в бумаги, могущественнейший человек Европы небрежным движением руки отослал королевского секретаря.
* * *
Оставшись наедине с Алатристе, он вскинул голову и надолго задержал на нем пытливый взгляд.
– Ни давать, ни требовать объяснений не собираюсь, – произнес он мрачно.
– Я и не прошу, ваша светлость.
– А попросили бы – уже находились бы в царствии небесном. Или на полпути туда.
Наступило молчание. Министр поднялся из-за стола, подошел к окну, мимо которого, возвещая дождь, медленно проплывали тучи. Заложив руки за спину, он некоторое время наблюдал за марширующими во дворе гвардейцами. Против света его темный силуэт казался особенно громоздким.
– Так или иначе, – прибавил Оливарес, не оборачиваясь, – скажите спасибо, что живы.
– Это меня и удивляет, – отвечал Алатристе. – Особенно после того, что я услышал.
– Если предположить, что вообще что-нибудь слышали.
– Да, если я вообще что-нибудь слышал…
Оливарес, по-прежнему стоя лицом к окну, пожал могучими плечами:
– Вы живы потому, что не заслуживаете смерти, вот и все. По крайней мере, пока. И еще потому, что есть люди, заинтересованные в вас.
– Благодарю вас, ваша светлость.
– Не стоит. – Оливарес отошел от окна, сделал несколько шагов, гулко отозвавшихся по деревянному полу. – Существует и третья причина: оставляя вас в живых, я наношу кое-кому жесточайшее из всех возможных оскорблений. Эти «кое-кто» полезны мне, ибо продажны и честолюбивы, и по той же самой причине они порой поддаются искушению действовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц… Как быть! С цельными и чистыми людьми можно выигрывать битвы, но нельзя управлять государством. Таким, как это, по крайней мере.
Он окинул задумчивым взглядом портрет Филиппа Второго над камином и после долгого молчания вдруг глубоко вздохнул – не рисуясь и не лукавя. Потом, словно вспомнив о существовании капитана, повернулся к нему:
– И потому не торопитесь торжествовать победу Человек, который только что вышел отсюда, никогда не простит вас. Алькесар – исключение среди арагонцев: он умен и очень хитер, очень непрост и вышколен своим предшественником Антонио Пересом на славу… Его единственная слабость – племянница, она еще совсем девочка, но его стараниями уже взята ко двору в королевские фрейлины. Берегитесь этого человека как чумы. Но помните, что если мои приказы Алькесара до поры до времени еще могут держать в узде, то на падре Эмилио Боканегра моя власть не распространяется. На месте капитана Алатристе я бы постарался как можно скорее залечить свою рану и уехать во Фландрию. Генерал Амбросьо де Спинола, под знаменами которого вы сражались раньше, намеревается стяжать для Испании новые лавры: будет разумно умереть там, а не здесь.
Оливарес сразу как-то сник, будто на него вдруг навалилась неимоверная усталость, и – как галерник на весло, к которому прикован, – взглянул на свой заваленный бумагами стол. Медленно он направился к нему, уселся, но прежде чем проститься с капитаном, извлек из потайного ящика ларчик черного дерева.
– И последнее, – сказал он. – В Мадриде сейчас пребывает некий английский путешественник, который невесть почему считает, что чем-то вам обязан… Маловероятно, что ваши с ним пути когда-нибудь пересекутся вновь. И потому он попросил меня передать вам это. Внутри находятся перстень с его печатью и письмо. Я прочел его, уж не обессудьте.
Это – нечто вроде охранной грамоты или, если угодно, векселя. Всем подданным его британского величества предписывается оказывать всяческую помощь, поддержку и содействие капитану Диего Алатристе. Подписано – Карл, принц Уэльский.
Алатристе открыл эбеновый, отделанный перламутровыми инкрустациями ларчик. На печатке золотого перстня были вырезаны три пера – герб наследника британского престола – и они же оттиснуты на сургуче, которым был запечатан сложенный вчетверо лист бумаги. Подняв голову, капитан увидел, что Оливарес смотрит на него с меланхолической улыбкой на губах, оттененных разбойничьей бородой и густыми усами.
– Дорого бы я дал за такое письмецо, – сказал он.
Эпилог
Наплывавшие с востока тяжелые тучи зацепились за острый шпиль Золотой Башни, грозя обрушиться на королевский дворец ливнем. Закутавшись в старую капитанову епанчу, иногда служившую мне плащом, я сидел на какой-то каменной приступочке, не сводя глаз с ворот дворца, от которых меня уже трижды отгоняли часовые; и сидел, между прочим, уже довольно давно – с утра, после того, как к тюрьме, где мы с Алатристе переночевали – он внутри, а я снаружи, – подъехала карета, и альгвасилы лейтенанта Салданьи доставили моего хозяина к одному из боковых входов во дворец Алькасар. Во рту у меня маковой росинки не было со вчерашнего вечера, когда дон Франсиско де Кеведо перед тем, как идти спать, подошел к воротам тюрьмы справиться об Алатристе и, увидев меня у ворот, купил мне у разносчика ломоть хлеба с куском вяленого мяса. Видно, так уж судьба распорядилась, что изрядную часть жизни провел я в ожидании капитана Алатристе, влипавшего в очередную передрягу. И всегда – с пустым брюхом и стесненным от тревоги сердцем.
По каменным плитам, которыми была вымощена дворцовая эспланада, защелкали первые капли; мало-помалу дождь припустил сильней, серая кисея ливня задернула фасады домов, с каждой минутой все отчетливей отражающихся в лужах. Какое-то время, благо его все равно надо было как-то убить, я развлекался, разглядывая картины, возникавшие у меня под ногами. И был всецело поглощен этим занятием, когда вдруг прозвучала столь памятная мне музыкальная рулада – тирури-та-та – и среди зыблющихся охристо-серых отражений возникла темная неподвижная тень. Подняв голову, я увидел удлиненную плащом фигуру, которая могла принадлежать только одному человеку. И не ошибся – передо мной стоял Гуальтерио Малатеста.
Признаюсь, при виде старинного знакомца первым моим побуждением было кинуться прочь со всех ног, однако, впав от неожиданности в некий столбняк, то есть оцепенев и потеряв дар речи, я замер под пристальным взглядом его черных блистающих глаз. Когда же минуло первоначальное ошеломление, в голову мне пришли две дельные, но противоречащие друг другу мысли. Первая – кинуться прочь со всех ног. Вторая – выхватив кинжал, висевший сзади на поясе под епанчей, всадить его в живот итальянцу. Но что-то в том, как он держал себя, побудило меня отказаться и от одного намерения, и от другого. Хотя весь облик его – черные плащ и шляпа, худое лицо с ввалившимися щеками, покрытое рябинами, изборожденное шрамами – был, как и прежде, зловещ, я почему-то понял, что опасаться мне нечего. И тут как будто кто-то невидимый резким взмахом кисти мазнул его по губам ярко-белой краской – итальянец улыбнулся.
– Ждешь?
Я продолжал сидеть и смотреть на него неотрывно, как зачарованный. Капли дождя катились по моему лицу, собирались в лужицы на широких полях его шляпы, копились в складках плаща.
– Скоро придет, – как всегда, сипло проговорил он, не спуская с меня глаз и не трогаясь с места. Я промолчал и на этот раз, а он посмотрел мне за спину, потом оглянулся по сторонам и наконец уперся глазами в фасад дворца.
– Я тоже поджидал его, – добавил итальянец задумчиво. – Правда, по другим причинам, сам понимаешь.
Да, он был одновременно и озадачен и вместе с тем словно позабавлен неожиданным поворотом дела.
– По другим, – повторил он.
Мимо проехала карета с закутанным в плащ кучером на козлах. Я стал вглядываться, надеясь рассмотреть, кто сидит внутри. Нет, это был не капитан.
Итальянец вновь взглянул на меня с прежней зловещей улыбкой.
– Не старайся. Мне сказали, он выйдет на своих ногах. Свободным.
– Откуда вы знаете?
И с этими словами осторожно и словно случайно завел руку за спину. Но это движение не ускользнуло от внимания итальянца. Улыбка его стала еще шире.
– Да уж знаю, – медленно произнес он. – Я тоже поджидал его. Как и ты. Гостинец припас. Но мне только что сказали, что сейчас в этом нет нужды. Отпала надобность. Пока.
Я глядел на него с таким недоверием, что итальянец расхохотался – казалось, глухо затрещало, ломаясь, гнилое дерево.
– Я ухожу паренек Дел много. А к тебе у меня просьба. Передай от меня капитану Алатристе… Ладно?
Я продолжал смотреть молча и недоверчиво. Он снова взглянул мне за спину, потом огляделся по сторонам, и я услышал медленный, еле уловимый вздох. Дождь между тем усиливался. Итальянец – черный, неподвижный – вдруг показался мне смертельно усталым. Может быть, негодяи тоже устают?
Никто ведь не выбирает себе судьбу.
– Так вот, передай капитану: Гуальтерио Малатеста свой счет к нему не закрыл. Жизнь, она – длинная, вьется, вьется, возьмет да оборвется… Еще скажи, что когда мы с ним снова встретимся, я уж изловчусь, расстараюсь – и убью его. Без громких слов и без малейшей злобы. Выберу время, найду место – и спокойно убью. Тут дело личное. И, так сказать, профессиональное. И я уверен, он прекрасно поймет все, что ты ему скажешь от моего имени. Передашь, не забудешь? – Снова под черными усами молнией вспыхнула улыбка, ослепительная и опасная. – Черт возьми, я знал, что ты – толковый мальчуган.
Он, словно позабыв на миг обо мне и обо всем на свете, уставился в какую-то точку на тонущей в сером тумане площади. Потом, совсем уж собравшись уходить, вдруг остановился.
– Вот еще что, – прибавил он, не глядя на меня. – Той ночью, у Приюта Духов, ты вел себя молодцом… Выскочил с этими своими пистолетами…. Полагаю, Алатристе знает, что обязан тебе жизнью.
Он стряхнул дождевые капли с плаща и завернулся в него. И вот теперь наконец черные полированные агаты его глаз остановились на мне.
– Так что, полагаю, и с тобой мы тоже еще свидимся, – сказал он уже на ходу но вдруг застыл на месте и повернулся вполоборота. – Хотя, знаешь… Надо бы прикончить тебя, пока ты еще мал… А не то вырастешь – и, чего доброго, меня прикончишь.
И он медленно двинулся прочь, с каждым шагом вновь становясь прежней, черной тенью. И я слышал, как замирает вдали его смех.
Приложение. Извлечения из «Перлов поэзии, сотворенных несколькими гениями того времени»
Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
Приписывается дону Франсиско де Кеведо.
Сонет, в котором воспевается воинская доблесть, выказанная капитаном доном Диего Алатристе.
Род Алатристе – с этим древом старым В прямом родстве и кровь твоя, и шпага. Покуда ты живешь, твоя отвага Разит врага решительным ударом. Мундир твой незапятнан. Ведь недаром Пехотный полк назад не делал шага, Ты высоко вздымаешь древко флага Фамильной чести над сердечным жаром. О смелый капитан, во время оно Увенчан славой ты на ратном поле. Честь для тебя – и альфа, и омега. Ты проучить умеешь фанфарона, И в мирный день не дав бахвалу воли. Ты безупречен – значит, ты Диего[15].Десима, написанная на ту же тему, но в шутливом роде.
Да, за горами славны бубны, А все ж в бою нужнее – пики, Объял француза страх великий, «Спасайся!» – глас раздался трубный, Бегом бежал четыре лиги[16] Враг без оглядки и привала. Судьба победу даровала, Где, галл, теперь твое веселье? Нигде – ни в Генте, ни в Брюсселе – Победы громче не бывало.Граф де Гуадальмедина.
Сонет, посвященный пребыванию Карла, принца Уэльского в Мадриде.
Уэльский принц явился к нам до срока – Принцессу нашу сватает держава. Британский лев в расчет не принял здраво, Что выдержка порой – верней наскока. Орлом надменным воспаря высоко, Принц на добычу заявляет право, Не рассудив, что там, где власть и слава, Любовь бывает жертвой злого рока. Любезный Карл, да будет вам уроком: На местном мелководье – знаем сами! – Не тот герой, кто мчит под парусами. На мель он вскоре сядет ненароком. Венком лавровым не напрасно бредит Не тот, кто скор, а тот, кто тише едет[17].Его же.
Октава, в коей хозяин имения Торре де Хуан Абад уподобляется некоторым святым.
Святому Роху следуя в смиренье, Игнатию Лойоле – в деле бранном, И Доминику – в христианском рвенье, Тягаясь в красноречьи с Иоанном, Как Иероним погрузясь в ученье, Фомы не обошел в служенье рьяном Кеведо – незадачливый скиталец: Увидит рану – сразу вложит палец[18].II. Чистая кровь
Посвящается Карлоте, которой придется подраться
Здесь золотом Америк полны трюмы,
Гербы – кичливы и девизы – хлестки,
Здесь труд неведом трутням при дворе.
Здесь весел плут, а честные – угрюмы.
Здесь режутся на каждом перекрестке,
Здесь вешают на каждом пустыре.
Томас Боррас, «Кастилия»I. Порученьице сеньора Кеведо
В тот день должен был состояться бой быков, однако лейтенанту альгвасилов Мартину Салданье попасть на корриду не довелось. Возле церкви Св. Хинеса обнаружили портшез, а в нем – задушенную женщину, державшую в руке кошелек, где лежали пятьдесят эскудо и клочок бумаги со словами: «На заупокойные мессы». Без подписи. Наткнулась на портшез какая-то прихожанка, по благочестию своему явившаяся в церковь ни свет ни заря: она бросилась к причетнику, тот позвал священника, а священник, на скорую руку отпустив богомолке грехи, дал знать властям. Когда Салданья пришел на церковную площадь, вокруг портшеза уже толпились соседи и набежавшие зеваки. С каждой минутой их становилось все больше, порядка – все меньше, так что полицейским пришлось оттеснить любопытствующих, чтобы не мешали судье и писарю составлять протокол, а лейтенанту – производить осмотр мертвого тела.
Салданья всегда действовал так неторопливо, словно у него впереди была вечность. Может быть, сказывались навык и повадка старого солдата, который много лет отвоевал во Фландрии, прежде чем получил – как поговаривали втихомолку, стараниями своей жены – должность лейтенанта альгвасилов; но так или иначе, к служебным своим обязанностям относился он с истинно воловьей невозмутимостью, что дало повод некоему остроумцу по имени Руис де Вильясека сочинить стишок содержания весьма ядовитого и крайне обидного для мужского достоинства Салданьи. Мартин, однако, если в чем-то и проявлял медлительность, то уж не в тех случаях, когда извлекал из арсенала, неизменно побрякивавшего у него на поясе, шпагу, кинжал, нож или вычищенные и на славу смазанные пистолеты. И лейтенантово проворство мог бы подтвердить и засвидетельствовать сам стихотворец Вильясека, ибо, прочитав свой пасквилек на ступенях Сан-Фелипе, он приобрел спустя ровно трое суток прямо на пороге собственного дома три лишних дырочки, сквозь которые и устремилась его грешная душа в чистилище ли, в преисподнюю или еще куда.
Однако дело-то все было в том, что доскональный осмотр покойницы результатов не дал. Убитая оказалась женщиной более чем зрелых лет – ближе к пятидесяти, нежели к сорока, – одетой в просторное платье черного сукна и с током [[19]] на голове, что указывало на принадлежность к племени дуэний или дам-компаньонок. В карманах у нее обнаружились четки, ключ и смятая бумажная иконка с изображением Пресвятой Девы Аточеской, на шее – золотая цепочка с ладанкой Святой Агеды, а черты лица свидетельствовали, что бог ее красотой не обделил и не обидел, и в молодости она должна была пользоваться успехом. Шелковый шнурок, стягивавший ее горло, да страдальчески оскаленный рот говорили о том, что умереть ей помогли. По состоянию кожных покровов и трупному окоченению можно было установить: смерть наступила минувшей ночью. Даму эту удавили в собственном ее портшезе, который не успели внести в притвор церкви. Кошелек с полусотней эскудо, предназначенных на помин ее души, доказывал, что убийца обладал либо весьма извращенным чувством юмора, либо истинно христианским милосердием. Но, должен вам сказать, в тогдашней Испании, во времена смуты, буйства и неразберихи, которые переживали мы под монаршьим присмотром католического нашего государя Филиппа Четвертого, даже самые отпетые головорезы и отъявленные душегубы, схлопотав пулю или удар шпагой, громогласно требовали к себе священника со святыми дарами, так что богобоязненный убийца был не в диковину.
О происшествии Мартин Салданья поведал нам ближе к вечеру. Верней сказать – не «нам», а капитану Алатристе, с которым встретился, когда мы в толпе народа возвращались с корриды, а сам он уже завершил осмотр тела, затем положенного в гроб и выставленного для опознания в госпитале «Санта-Крус». Упомянул между прочим и мимоходом, ибо гораздо больше интересовался тем, как прошел бой быков, нежели расследованием порученного ему дела. Да и то сказать: в неспокойном нашем Мадриде убийства на улице случались часто, а вот добрые корриды – все реже и реже. Так называемые канъяс – нечто вроде упражнений по выездке, в которых показывали свое умение владеть конем и копьем титулованные сливки нашей знати, а порой и сам король – были словно бы отданы на откуп юным придворным шаркунам-вертопрахам, а тех больше занимали ленты, кружева и дамы, нежели грамотный, хорошо поставленный удар, и потому нынешние состязания даже отдаленно не напоминали те ристалища, что проводились в стародавние времена, когда христиане воевали с маврами, или хотя бы те, что устраивались при великом Филиппе Втором – дедушке нынешнего нашего государя. Касательно же боя быков, то в первой трети нашего столетия он оставался любимейшим развлечением испанского народа. Из семидесяти с лишним тысяч мадридцев не менее полусотни тысяч спешили на Пласа-Майор всякий раз, как на этой перекрытой со всех сторон площади устраивалась коррида, и громовыми криками и рукоплесканиями воздавали должное отваге и мастерству истинных кабальеро, вступавших в единоборство с круторогими страшилищами из Харамы. Да, вы не ослышались – кабальеро, ибо в ту пору дворяне, испанские гранды и даже принцы крови еще не гнушались выезжать на лучших своих лошадях на арену, чтобы всадить копье в загривок быку, не робели выходить на него со шпагой под восторженный гул публики, единодушной в своих пристрастиях и склонностях, теснилась ли она на стоячих местах или же сидела на балконах, куда билетец стоил от двадцати пяти до пятидесяти эскудо, что было по карману лишь придворным высокого ранга да иностранным послам, включая сюда и папского нунция. Схватки эти тотчас воспевались в стихотворных куплетах, причем всякого рода забавные происшествия тоже становились добычей рифмачей и виршеплетов, мгновенно, так сказать, вонзавших в неудачников свои отточенные перья. Вот, скажем, однажды бык погнался за альгвасилом, а поскольку блюстители порядка ни тогда, ни теперь не могли похвастаться народной любовью, все немедленно приняли сторону четвероногого:
Сеньоры, лучше обойтись без прений – Бычище прав, хоть на расправу скор: Два рогоносца на одной арене – Конечно, это явный перебор.
А в другой раз вышло и того чище – адмирал де Кастилья, преследуя быка, случайно ранил копьем графа Кабру [[20]]. И уже на следующий день весь Мадрид облетели такие стишки, сразу ставшие знаменитыми:
Бесстрашный адмирал, глаза разуй! Ты сослепу, а может – с перепою Или объятый яростью слепою, – В единоборстве одолел козу.
И стало быть, само собой разумеется, Мартин Салданья, повстречавшись в то воскресенье со старинным своим приятелем Диего Алатристе, первым делом принялся объяснять, что именно помешало ему прийти на корриду, а капитан стал рассказывать во всех подробностях, как дело было – и что в королевской ложе присутствовали их величества, и где он со мной сидел, грызя орешки и люпиновые семечки, в народе именуемые «волчий боб», и что быков было четверо и все оказались хорошей, как принято говорить, злобности, и что граф де Гуадальмедина, равно как и граф, дай бог памяти… Будьтенате или что-то в этом роде – блеснули мастерством и сломали каждый по копью. Причем под первым – старинным нашим знакомцем Альваро де ла Маркой – свирепый харамский рогач убил лошадь, и граф, как истинный дворянин и храбрец, продолжил поединок пешим и отстоял свою честь, сначала подрезав быку поджилки, а затем прикончив двумя точными ударами, чем снискал похвалу короля, улыбку королевы и оживленнейшее мельтешение вееров, с помощью коих дамы в ту пору изъяснялись не хуже, чем словами. Да, все взгляды обратились тогда к нему, ибо Гуадальмедина был статен и красив. Не обошлось и без происшествий: бык, выпущенный на арену последним, набросился на королевских гвардейцев, которые, надобно вам знать, по одному от каждой роты – испанцев, немцев и лучников – назначались в караул под королевской ложей перед самым барьером, переступать который было им строжайше воспрещено, если только бык не устремится к ним с янычарскими, так сказать, намерениями. Вероятно, в тот раз быка слишком сильно раздразнили, и он, ринувшись на гвардейцев, разметал их вместе с алебардами в разные стороны, а одному – дюжему и рыжему немцу – вспорол рогами брюхо, так что пришлось его здесь же, на площади, под забористую германскую брань безотлагательно соборовать.
– Потроха наружу, как у того прапорщика… – завершил свой отчет капитан Алатристе. – Ну, помнишь, при Остенде? Когда в пятый раз за день брали бастион «Конь»… Как его бишь звали? Ортис или Руис, что-то в этом роде.
Мартин Салданья покивал, приглаживая седеющую бородку, которую, вопреки солдатскому обычаю, не так давно отпустил в рассуждении скрыть шрам от раны, полученной, кстати сказать, при взятии этого самого Остенде лет двадцать назад, то есть когда столетию нашему пошел не то третий, не то четвертый годик. На рассвете Алатристе, Салданья и еще пятьсот человек, а среди них и Лопе Бальбоа, родитель мой, вылезли из траншей и побежали по земляному валу на приступ, имея впереди капитана Томаса де ла Куэсту и знамя с крестом Святого Андрея, которое нес этот самый прапорщик Ортис, Руис или как его там, и в рукопашной схватке выбили голландцев с первой линии укреплений, а потом полезли на парапет под сильнейшим, можно даже сказать – шквальным огнем неприятеля и никак не менее получаса резались с ним на стенах, в результате чего и заимел Мартин Салданья рубец через всю щеку, Диего Алатристе – шрам в виде полумесяца на лбу, а знаменщик Ортис или Руис, которому ударом шпаги зверски разворотили нутро, попытался было, придерживая волочащиеся по земле кишки, выйти из боя, да не успел: пуля попала ему в голову. И когда капитан Томас де ла Куэста, весь залитый кровью, ибо и ему досталось изрядно – отделали не хуже Господа Бога нашего Иисуса Христа, – высказался в том смысле, что, мол, «сеньоры, мы сделали все, что было в наших силах, а теперь предлагаю вам взять ноги в руки, мы отступаем», то папаша мой и с ним еще другой солдат – низкорослый крепенький арагонец по имени Себастьян Копонс – помогли Салданье и Алатристе добраться до своих окопов, а голландцы – судя по плотности огня, все, сколько ни есть их на свете – палили им вслед и вдогонку со стен, тогда как наши бежали, тревожа Пречистую Деву и Пресвятую Троицу страшной матерщиной вперемежку с мольбой о заступничестве, что в данном случае – одно и то же. Однако хватило же у кого-то и времени, и мужества подобрать выроненное беднягой Ортисом или Руисом знамя, валявшееся на бастионе вместе с распотрошенными останками прапорщика и трупами еще двухсот наших, которым не довелось ни ворваться в Остенде, ни вернуться в свое расположение да и вообще ничего больше в этой жизни сделать не пришлось.
– Все-таки мне помнится, что звали его Ортис, – промолвил Салданья.
Что ж, через год они сполна расквитались и за прапорщика, и за всех, кто полег в том бою, равно как и во всех предыдущих, ибо с восьмого или девятого раза бастион «Конь» удалось-таки взять, и когда Салданья, Алатристе, папаша мой, Копонс и все прочие уцелевшие ветераны Картахенского полка уже на чистой, как говорится, злобе пробились внутрь, за стены, и голландцы залопотали по-своему srinden, srinden, что значит «друзья», и veijiven ons over или что-то в этом роде, мол, «сдаемся», капитан де ла Куэста, у которого с иностранными языками было из рук вон скверно, зато с памятью – замечательно, сказал: «Нет уж, черта лысого вам, а не шринден! Господа, пленных не брать, пощады не давать, и чтоб ни одного живого еретика на этом редуте не было», – и Диего Алатристе при содействии других поднял над бастионом старое, многажды простреленное знамя с Андреевским крестом – то самое, что нес Ортис или Руис, пока не запутался в собственных кишках; все были по локоть в голландской крови, струившейся по лезвиям кинжалов и шпаг.
– Говорят, ты собрался повоевать? – сказал Салданья.
– Подумываю.
И слова эти не ускользнули от моего внимания, хотя я все еще был ослеплен корридой и жадно разглядывал зрителей, выходивших с площади на Калье-Майор – знатных дам и кавалеров, кричавших своим кучерам: «Подавай!» и садившихся в кареты, всадников, легкой рысью направлявшихся в сторону церкви Сан-Фелипе. На дворе был тысяча шестьсот двадцать третий год, от начала же царствования юного нашего государя Филиппа Четвертого – второй, и возобновление военных действий во Фландрии настоятельно требовало денег, оружия, людей. Генерал дон Амбросьо Спинола набирал солдат по всей Европе, и сотни ветеранов намеревались вернуться под его знамена. Картахенский полк, потерявший при штурме бастиона Юлих, где, кстати, сложил голову и мой отец, каждого десятого, а год спустя под Флёрюсом – две трети списочного состава, был сформирован заново и вскоре должен был выступить в поход, чтобы присоединиться к войскам, осаждавшим крепость Бреду. Я знал, что Диего Алатристе, хоть полученная под Флёрюсом рана его не зарубцевалась окончательно, сговаривался с несколькими своими старыми товарищами насчет возвращения в строй. В последнее время у него появились весьма и весьма могущественные враги при дворе, а потому он счел разумным покинуть на некоторое время Мадрид.
– Что ж, мысль неплохая… – сказал Салданья. – Здесь припекать начинает, да? Мальчишку-то возьмешь с собой?
Минуя закрытые ювелирные лавки, мы шли в густой толпе в сторону Пуэрта-де-Соль. Капитан мельком оглядел меня и как-то неопределенно повел плечами:
– Да вроде рановато ему.
Лейтенант, усмехнувшись в бороду, опустил мне на макушку свою широченную жесткую ладонь, а я тем временем восторженно пялился на сверкающие стволы его пистолетов, кинжал и шпагу с широкой чашкой, висевшую на перевязи поверх нагрудника из буйволовой кожи, способного защитить грудь от ударов, которые на Салданью так и сыпались – еще бы, при его-то ремесле.
– Для чего рано, а для чего и нет, – Салданья заулыбался еще шире с оттенком недоброго лукавства: ему ли было не знать, что когда раскрутилась приснопамятная история с англичанами, я не сплоховал. – Ты и сам-то в его годы пошел служить.
Да, так оно и было: четверть длинного нашего века назад Диего Алатристе, второй сын в семье дворян-однодворцев, имея тринадцать лет от роду, некрепко затвердив четыре правила арифметики, азы латыни и начатки Закона Божьего, бросил школу и сбежал из дому, попал в Мадрид и, прибавив себе года, поступил барабанщиком в один из полков, отправлявшихся под командой инфанта-кардинала Альберта во Фландрию, в действующую армию.
– Иные были времена, – ответил капитан.
Он посторонился, уступая дорогу двум молоденьким вертихвосткам, по виду – проституткам не из дешевых, которые шли в сопровождении своих кавалеров. Салданья, должно быть, знал, кто они такие, и потому снял шляпу с преувеличенной и потому почти оскорбительной учтивостью, чем вызвал яростный взгляд одного из их спутников. Ярость, впрочем, улетучилась бесследно, едва лишь этот щеголь разглядел, какое убийственное – вот уж точно! – количество всякого железного добра навешано на лейтенанте.
– Ну, тут я с тобой соглашусь, – задумчиво, будто припоминая что-то, ответил Салданья. – Иные были времена, иные люди.
– И короли.
Лейтенант, смотревший девицам вслед, с некоторым недоумением перевел взгляд на Алатристе, а затем покосился на меня.
– Полно, Диего, зачем же при нем-то?.. – Он стал беспокойно озираться по сторонам. – Да и со мной таких разговоров лучше не вести. Я все же как-никак – представитель закона.
– Каких это «таких»? Я всегда был верен тем, кому присягал. Однако присягал я троим, оттого и говорю тебе – король королю рознь.
– Ну?
– Гну!
Салданья поскреб бородку и прежде чем повернуться к Алатристе, вновь огляделся, более того – я заметил, что он почти бессознательным движением опустил руку на эфес.
– Ты что же, Диего, ссоры со мной ищешь? Капитан не ответил. Его светлые немигающие глаза выдержали взгляд Салданьи, а тот расправил плечи и слегка выпятил грудь, поскольку был жилист и коренаст да ростом не вышел, – и так вот стояли они, двое старых солдат, вплотную друг к другу и лицом обветренным, иссеченным ранними морщинками и боевыми шрамами – к лицу. Прохожие посматривали на них с любопытством. В буйной, нищей, гордой нашей Испании – гордость к тому времени была едва ли не единственным ее достоянием: чего-чего, а уж этого было в избытке – люди крепко усвоили, что слово – не воробей, и даже старые верные друзья готовы были из-за опрометчивого высказывания пустить в ход оружие, ибо недаром же сказал поэт:
В речах ли вольных кто-то был неосторожен, взглянул ли косо иль с улыбкою кривой – и в тот же самый миг ты шпагу рвешь из ножен и, с места не сходя, вступаешь в смертный бой.
Совсем недавно на улице Прадо, средь бела дня и при всем честном народе маркиз де Новоа, обозвав своего кучера болваном, получил от него шесть ударов ножом, и подобное – со столь же вескими основаниями – случалось сплошь и рядом. Так что я подумал было, что Салданья сейчас обнажит шпагу, и прямо на улице начнется поединок. Лейтенант альгвасилов в случае соответствующего приказа, глазом не моргнув, отправил бы друга на галеры, а то и на плаху – в чем я имел случай убедиться сам, – но не вызывало ни малейших сомнений, что он никогда не употребит власть, которой облечен, для сведения личных счетов, и уж тем более – не злоупотребит ею, ибо такие вот несколько причудливые, а по нынешним временам – извращенные, понятия о порядочности были в ходу у этих людей, из чистой бронзы отлитых; я же, вращаясь в их кругу и в юные годы, и на протяжении всей остальной своей жизни, свидетельствую здесь и честным словом ручаюсь, что у самых отпетых негодяев и отъявленных мерзавцев, мошенников и плутов, у отставных солдат, ставших наемными убийцами, случалось мне замечать больше уважения к неким неписаным законам и правилам, нежели в среде людей добропорядочных или, по крайней мере, почитающих себя таковыми. Мартин Салданья был другой породы: всякого рода недоразумения и разногласия предпочитал он улаживать самолично, с оружием в руках и с глазу на глаз, никогда не прибегая – он вообще был не из тех, кто бегает – к помощи королевской власти, которую, между прочим, представлял. И слава тебе, Господи, что они с капитаном вовремя остановились, не оскорбили друг друга публично, не сделали шагов, могущих нанести их дружбе – корявой и шершавой, но испытанной и верной – ущерб непоправимый. Так или иначе, не увидела Калье-Майор, где после корриды прогуливался «весь Мадрид», как обменялись эти двое резкими словами, за которыми непременно последовал бы и обмен ударами. И напыжившийся было Салданья шумно выдохнул и обмяк, а в темных глазах его, по-прежнему устремленных на Алатристе, заискрилось подобие улыбки.
– Доиграешься, Диего: когда-нибудь тебя убьют.
– Может быть. Так что лучше уж ты сам этим займись.
Теперь уже капитан улыбнулся в свои густые солдатские усы. Я увидел, как Салданья поднял руку и с грубоватой лаской коснулся плеча Алатристе.
– Поговорим-ка лучше о чем-нибудь еще. Пойдем выпьем, ты меня угостишь.
Тем все дело и кончилось. Пройдя еще буквально несколько шагов, мы завернули в таверну «У кузнецов», как всегда, переполненную лакеями, пажами, грузчиками и разносчиками, а также старухами, предоставляющими свои услуги в качестве дуэньи, матушки или тетушки. Служанка поставила на грязный, залитый вином стол два кувшина с «вальдеморо», которые капитан с Салданьей опорожнили с ходу, ибо как же тут беседовать, когда в горле пересохло? Мне еще не исполнилось четырнадцати и потому пришлось довольствоваться водой: хозяин давал мне вино лишь в похлебке, а верней будет сказать – тюре, составлявшей обычный наш завтрак: на шоколад-то, сами понимаете, хватало не всегда, и в чистом же виде я его получал исключительно в лечебных целях, когда прихварывал. Впрочем, Каридад Непруха тайком угощала меня ломтиками хлеба, вымоченными в вине с сахаром, что мне в пору моего отрочества и по причине полного незнакомства с иными сластями представлялось лакомством вкуса неземного. Капитан утверждал, что, мол, с вином всегда успеется: мое от меня не уйдет, подрасту и буду пить, сколько влезет, но чем позднее я узнаю вкус вина, тем будет лучше, ибо многих достойных людей сгубило пристрастие к Бахусовым забавам. Не подумайте только, будто он читал мне проповеди о пользе трезвости – все это произносилось лишь мимоходом и вскользь, ибо, сколько помнится, я уже упоминал, что был Диего Алатристе крайне несловоохотлив и молчал красноречивей, нежели говорил. Конечно, потом уже, когда пошел я в солдаты, случалось мне и выпивать, и напиваться, однако я все же уберегся от этого порока – хватает мне иных и похуже – и по большей части всегда потреблял вино весьма умеренно: только чтобы взбодриться или же для препровождения времени. Полагаю, что воздержанностью своей я обязан капитану, хоть он никак не мог служить мне наглядным примером и образцом для подражания. Напротив, хорошо помню, что сам-то он пил много, подолгу и молча. И не в пример другим – чаще всего не в компании и уж точно не на радостях. Пил Диего Алатристе невозмутимо, меланхолично, будто исполнял, как сказали бы судейские крючки, заранее обдуманное намерение, а когда чувствовал, что вино оказывает действие – затворял уста, замыкался в себе. Нет, в самом деле – вспоминая об этом, чаще всего я вижу его в нашей пристроечке на задах таверны «У турка»: в упорном молчании сидит неподвижно над стаканом, кувшином или бутылкой, уставясь в стену, на которой висят его шпага, кинжал и шляпа, и словно созерцает такое, что лишь он один и может вызвать из небытия. И судя по тому, как кривились его губы под усами, осмелился бы я предположить, что проплывающие перед мысленным его взором картины отрады ему не доставляют. И если правда, что каждый из нас волочет за собой толпу теней, то призраки, одолевавшие Диего Алатристе-и-Тенорио, не были к нему благорасположены или дружелюбны, а он удовольствия от общения с ними не получал нимало. Но тут уж ничего не поделаешь: случалось мне иногда видеть, как на лице его появлялось выражение, какого я никогда ни у кого другого не наблюдал – выражение какого-то покорного безразличия – и слышать, как, пожимая плечами, бормочет он: «Порядочный человек может выбрать, где и как ему принять смерть, но над своими воспоминаниями не властен».
Паперть церкви Сан-Фелипе являла собой обычное зрелище – на ступенях и галерейке кипел людской водоворот, стоял разноголосый гомон: все говорили разом, перекликались со знакомыми, глазели, прислонясь к балюстраде, на прохожих и кареты, катившие по Калье Майор, на которую обращен был фасад собора. Тут Мартин Салданья с нами распрощался, но пребывали в одиночестве мы недолго: вскоре подошел Фадрике-Кривой, аптекарь с Пуэрта-Серрада, а за ним и преподобный Перес – оба они стали наперебой расхваливать недавнюю корриду. Именно случившийся поблизости иезуит причастил немецкого гвардейца, бычьим рогом уволенного в бессрочный отпуск, и теперь рассказывал подробности – оказалось, королева, будучи, во-первых, француженкой, а во-вторых, совсем еще молоденькой француженкой, сильно изменилась в лице, и тогда наш государь ласково взял жену за руку и принялся успокаивать, так что вопреки всеобщим ожиданиям ее величество все-таки осталась в ложе, проявив выдержку, столь восхитившую публику, что по окончании корриды она приветствовала августейшую чету громом рукоплесканий, и юный наш король со свойственной ему рыцарственной учтивостью ответил на них, снова явив подданным свой лик.
Помнится, я по другому случаю упоминал уже, что в первой трети столетия народ мадридский при всей своей природной плутоватости и исконном лукавстве оставался весьма простодушен, и подобные знаки внимания со стороны высочайших особ тешили его самолюбие. С течением времени и под бременем валившихся на нас злосчастий простодушие это сменилось горчайшим разочарованием, стыдом и злобой. Но в те годы, о которых я веду рассказ, государь наш был еще юн, а Испания, хоть нутро ее и гнило заживо, хоть и разъедала ей сердце смертельная язва, еще сохраняла внешний блеск и благопристойное обличье. Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медяки. Голландия нас ненавидела, Англия – опасалась, Оттоманская Порта – остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, Святой Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков – во всем мире не было в ту пору им равных, – содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под который шли они. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали: вровень с нами тогдашними некого поставить.
Когда же наконец зашло солнце Теночтитлана, Павии, Сен-Кантена, Лепанто и Бреды [[21]], закат рдел от нашей крови, но и от крови наших врагов, как в тот день при Рокруа [[22]], когда меж пластинами французской кирасы остался кинжал, подаренный мне капитаном Алатристе. Вы скажете, господа, – все свои безмерные усилия и отвагу мы, испанцы, должны были бы употребить на создание себе пристойного обиталища, а не растрачивать их в никому не нужных войнах, не проматывать в плутовстве и мздоимстве, не тратить на несбыточные мечты и святую воду. Да, вы скажете так – и будете правы. Но ведь я толкую о том, что было. И потом, не все народы одинаково благоразумны в выборе своей стези и не всем в равной степени присущ цинизм, без которого потом не оправдаешься перед Историей или перед самими собой. Что же касается нас, мы были дети своего века: не от нас зависело родиться и прожить жизнь в этой самой Испании, жалкой и величественной. Так уж карта легла, такой нам жребий выпал. И, хочешь не хочешь, к этой-то вот невезучей моей отчизне – даже не знаю, как и назвать ее теперь, – прикипел я всей шкурой, ее видят мои усталые глаза, лелеет память.
И глазами памяти ясно, будто вчера дело было, вижу я на нижней ступени паперти Сан-Фелипе дона Франсиско де Кеведо – как всегда, в черном с головы до пят, если не считать белого накрахмаленного воротника да алого креста Сантьяго, вышитого на груди слева. Хотя вечер был теплым, поэт, чтобы скрыть выгнутые дугой ноги, набросил на плечи длинный темный плащ, оттопыренный сзади ножнами шпаги, эфес которой небрежно придерживал. Сняв шляпу, он вел беседу с кем-то из знакомых, когда борзая некой дамы подошла к нему и обнюхала затянутую в перчатку правую руку. Дама – весьма, надо сказать, хорошенькая – стояла чуть поодаль, у подножки своей кареты и вела оживленный разговор с двумя своими спутниками. Дон Франсиско погладил собаку, одновременно послав быстрый и приветливый взгляд ее владелице. Борзая потрусила к ней, словно ей поручили снести поклон, и хозяйка поблагодарила беглой улыбкой и взмахом веера, на что дон Франсиско в свою очередь ответствовал учтивым кивком, после чего закрутил двумя пальцами кончики торчащих усов. Славный поэт и завзятый дуэлянт, Кеведо в ту пору, когда я, благодаря чувству дружества, которое питал к нему капитан, узнал его, был в расцвете сил и пользовался большим успехом у дам, чему нисколько не мешала его кривоногость. Непреклонный стоик, язвительный храбрец, добрый человек с отвратительным характером, верный друг и опасный враг, он одинаково хорошо владел пером и шпагой, наповал разя соперников отточенной остротой или точным выпадом, поспевал и волочиться за дамами, оказывая им знаки внимания и услаждая их слух звучными сонетами, и проводить время в беседах с учеными и философами, ценившими его острый ум. Даже сам великий дон Мигель, гений, равного которому не создавала земля, что бы там ни кудахтали британские еретики про своего Шекспира, даже бессмертный наш Сервантес, ныне сидящий одесную Господа – создатель Дон Кихота всего за семь лет до описываемых мною событий почил в вечной славе, приказав нам всем долго жить и отдав душу тому, от кого ее получил когда-то, – так вот, говорю, даже он упомянул дона Франсиско как превосходного поэта и безупречного кабальеро в этих своих знаменитых стихах:
…Язвительной сатиры свищет бич, Глупцов и олухов с Парнаса изгоняя, Но можно ль вздуть, иль отхлестать, иль высечь, Иль выпороть всех тех, кто порет дичь? – Ведь их – десятки тысяч.Но я отвлекся. Значит, в тот день после полудня, когда весь Мадрид фланировал по Калье-Майор, сеньор Кеведо, не очень любивший корриду, находился на ступенях Сан-Фелипе и, едва завидев капитана Алатристе в обществе преподобного Переса, Фадрике-Кривого и моем, поспешно, хоть и с неизменной своей учтивостью, распрощался со своими собеседниками. О, как бесконечно далек я был от мысли о том, что встреча эта не только осложнит нашу с капитаном жизнь до степени неимоверной, но и будет являть угрозу самому бытию – моему в особенности, – и о том, как изощряется судьба в плетении причудливых арабесок из людей, их деяний и опасностей, их подстерегающих. О, если бы в тот день при виде приближающегося к нам дона Франсиско кто-нибудь сказал нам, что таинственная смерть женщины, задушенной утром, будет иметь к нам самое непосредственное отношение, то улыбка, с которой Диего Алатристе приветствовал поэта, надо полагать, замерла бы у него на губах. Однако никому не дано знать, какой жребий ему выпадет, и превыше сил человеческих предотвратить или изменить его.
– Вынужден попросить вас оказать мне услугу, – сказал дон Франсиско.
Отношения Кеведо и капитана складывались так, что подобные церемонные вступления, отдававшие дань ненужным формальностям, были у них не приняты, а потому и встречены укоризненным взглядом Алатристе. Простившись с аптекарем и преподобным, они направились к лоткам и палаткам, в изобилии теснившимся вокруг фонтана, возле которого всегда сидели те, кто, более важных дел не имея, слушал журчание воды или глазел на фасад церкви и примыкавший к ней лазарет. Капитан с поэтом шли впереди, бок о бок, и в неверном свете меркнущего дня я видел и почему-то навсегда запомнил черное одеяние Кеведо, его переброшенный через плечо плащ, а рядом – простой темный колет капитана, короткую пелерину, присборенные на коленях штаны, шпагу и кинжал на поясе.
– Я слишком многим вам обязан, дон Франсиско, чтобы надо было золотить пилюлю, – ответил капитан. – И потому вы обяжете меня еще сильней, если без околичностей перейдете прямо ко второму действию.
Поэт хмыкнул. Совсем недавно, совсем недалеко отсюда и как раз во время второго действия комедии Лопе подоспел он на выручку Алатристе, который дрался один против пятерых – каша, если помните, заварилась из-за двух заезжих англичан.
– У меня есть друзья, – объяснил дон Франсиско. – Близкие мне люди. Им весьма желательно было бы поговорить с вами.
Он обернулся, чтобы удостовериться, что разговор их не коснется чужого слуха, но увидев, что я глазею на площадь, успокоился. И напрасно – ни слова не было пропущено мною мимо ушей. В тогдашнем Мадриде смышленый паренек рано взрослел, и я, хоть и был еще малолеткой, давно уже смекнул: быть в курсе всего происходящего – нисколько не вредно, скорей наоборот. Жизнь такая, что лучше все знать да помалкивать. Распускать язык, бахвалясь своей осведомленностью, – так же опасно, как погореть по простоте, то есть по неведению. Нет уж, недаром говорится: «Как заиграют – поневоле запляшешь», а иными словами: не влипай – не придется выпутываться.
– Порученьице, должно быть? – спросил капитан.
У него в ходу были такие иносказания. «Порученьица» Диего Алатристе выполнял, как правило, где-нибудь в темном переулке и чаще всего – при содействии шпаги. Полоснуть клинком по лицу, отрезать уши назойливому кредитору или нескромному любовнику, всадить сопернику пулю или добрый кусок толедской стали – – на все имелись свои расценки. Не сходя с места, прямо на площади можно было отыскать десяток мастеров этих дел.
– Да, – кивнул поэт, поправляя очки. – И за хорошие деньги, можете не сомневаться.
При этих словах Диего Алатристе повернул голову к собеседнику, внимательно оглядывая его, и мне на несколько мгновений открылся орлиный профиль, осененный широким полем шляпы с потрепанным красным пером – только оно одно и оживляло скромный наряд капитана.
– Нет, дон Франсиско, положительно вы сегодня задались целью уморить меня, – произнес он наконец. – Не воображаете ли вы, что я возьму с вас деньги – хорошие или плохие?
– Да ведь не обо мне же речь! Мои друзья – отец с двумя сыновьями – попали в затруднительное положение и попросили у меня совета.
Мраморная, отделанная лазуритом Марибланка глядела на нас, а под ногами у нее били струи фонтана. День меркнул и угасал. Возле закрытых лавок, где продавались шелк, сукно, книги, стояли кучки людей устрашающего вида – бывшие солдаты и сущие убийцы: все как на подбор носили длиннющие усы, все имели обыкновение стоять враскоряку и ходить вперевалку, у всех на перевязи или у пояса висела здоровенная шпага. Кое-кто из них подзывал к себе разносчика, закусывал и выпивал здесь же, на площади, где, как муравьи, сновали слепые и нищие, а женщины, которых принято называть уличными, более или менее откровенно предлагали свои услуги. Кое-кто из вояк узнавал Алатристе и здоровался с ним издали, а капитан в ответ с рассеянным видом слегка дотрагивался до шляпы.
– Вас-то это дело касается? – спросил он. Дон Франсиско неопределенно пожал плечами:
– Лишь отчасти. Однако по причинам, которые вам скоро станут понятны, мне придется идти до конца.
Мы миновали еще одну кучку подозрительных усачей, прогуливавшихся перед решетчатой оградой церкви. Площадь и примыкавшую к ней улицу Монтэра личности такого рода облюбовали себе издавна, драки и поножовщина случались здесь постоянно – калитку в воротах потому и заперли, чтобы после смертоубийства злоумышленники, использовав древнее право убежища, не попытались, говоря их языком, «юркнуть в норку», то есть избегнуть правосудия.
– Это опасно?
– Очень.
– Стало быть, придется подраться.
– Боюсь, это грозит кое-чем похуже удара шпагой.
Капитан продолжал молча идти вперед, разглядывая шпиль, венчавший крышу монастыря, который возвышался над узкими домиками на дальнем конце площади, куда выходила улица Св. Иеронима. Что за город такой: шаг шагнешь – на церковь наткнешься!
– А почему я-то?
Дон Франсиско снова хмыкнул:
– Хорош вопросец, черт побери! Потому что вы – мой друг. И еще потому, что вы – из тех, кто всегда оказывается не в голосе, если петь надо под аккомпанемент струнного трио – палача, писца и дознавателя.
Капитан в задумчивости водил двумя пальцами над воротником своей пелерины-.
– И что же – прилично заплатят?
– Будьте покойны.
– Да уж не вы ли?
– Да уж без меня не обойдется. Возможно ли светить, не сгорая?
Алатристе продолжал ощупывать свое горло:
– Всякий раз, как наклевывается выгодное дело, мне чудом удается отвертеться от петли.
– Дай бог, чтоб и теперь удалось…
– Разрази меня гром, ваши слова не больно-то окрыляют!
– Зачем же мне лукавить с вами? Капитан поглядел на Кеведо очень мрачно:
– Вас-то как угораздило снова вляпаться, дон Франсиско?.. Только-только вернули себе расположение короля… Ведь так долго были в опале из-за герцога Осуны…
– Ах, друг мой, в этом и состоит quid [[23]], – печально ответствовал поэт. – Будь проклята благодать, которой поперхиваешься… Но так уж вышло… На кону – моя честь.
– Судя по вашим словам, и голова – тоже. Кеведо насмешливо воззрился на капитана:
– И голова – тоже. Причем не только моя, но и ваша. Если, конечно, решитесь сопутствовать мне.
Последняя фраза тоже была данью приличиям, и оба собеседника это понимали. И тем не менее капитан с задумчивой улыбкой поглядел по сторонам, обогнул кучу отбросов, наваленных прямо на мостовой, рассеянно кивнул подмигнувшей ему девице, чьи телеса, казалось, вот-вот перельются через щедрый вырез платья, и наконец пожал плечами.
– А зачем мне это надо?.. Полк, в котором я прежде служил, вскоре отправится во Фландрию, в действующую армию, и я всерьез подумываю, не пора ли сменить климат.
– Зачем вам это надо? – переспросил Кеведо, разглаживая усы и эспаньолку. – Не знаю, хоть зарежьте. Наверно, затем, что когда друг, как вы изволили выразиться, вляпывается, его надо выручать. Иными словами, за него придется подраться.
– Подраться? Минуту назад вы уверяли, что обойдется без этого.
С этими словами Алатристе вновь устремил на поэта внимательный взгляд. Небо над Мадридом совсем потускнело, и первая тьма, размывая черты и очертания, поползла к нам с дальнего конца площади, откуда разбегались в разные стороны узенькие улочки. На прилавке одной из палаток зажегся фонарь, и под широкополым фетром дона Франсиско вспыхнули стёклышки очков.
– Надеюсь, что обойдется, – ответил он. – А если не обойдется, удары шпагой – наименьшее из всего, что будет нам грозить.
Он засмеялся весьма невесело, а через минуту донесся до меня и смех капитана Алатристе. Больше никто из них не произнес ни слова. В восхищении от услышанного, в предвкушении новых опасностей и приключений, шагал я вслед за двумя темными безмолвными фигурами. Потом дон Франсиско откланялся, капитан же остановился, не произнося ни звука, в полумраке, а я так и не решился приблизиться к нему или окликнуть его. Застыв и словно позабыв о моем присутствии, стоял он до тех пор, пока на колокольне не пробило девять.
II. Веревка и шея
Они пришли на следующий день спозаранку. Я услышал, как заскрипели ступеньки лестницы, направился было к двери, но капитан, не успевший даже надеть колет, опередил меня. Он был чрезвычайно серьезен. Ночью он вычистил, смазал и зарядил свои пистолеты, а один положил на стол – пусть в случае чего будет под рукой. И пояс со шпагой и кинжалом на вбитом в стену гвозде висел так, чтобы легко было дотянуться.
– Иньиго, погуляй немножко.
Я послушно ступил за порог и тут почти столкнулся с Кеведо, который одолевал последние ступени. За ним следовали еще трое, причем поэт делал вид, что не знаком с ними. Я отметил про себя, что гости предпочли войти не с улицы Аркебузы, а через задние двери: завернув с многолюдной улицы Толедо, где легче было затеряться в толпе, в таверну Каридад Непрухи, а уж оттуда, черным ходом, через двор – к нам. Дон Франсиско ласково потрепал меня по голове, и я пошел по галерее, не спуская, однако, глаз с его спутников. Один из них был уже совсем сед, а двое других – красивые юноши лет восемнадцати-двадцати – сильно походили друг на друга: должно быть, братья или еще какая-нибудь близкая родня. Все трое одеты были по-дорожному и чем-то неуловимо отличались от обитателей нашей столицы.
Честью вас уверяю, господа, что был и остаюсь человеком благовоспитанным и скромным, никогда не любил подсматривать и подслушивать, да и сейчас мне это претит. Но в тринадцать лет мир представляется завораживающим зрелищем – боишься пропустить самомалейшую подробность его устройства. Прибавьте к этому и те несколько слов, которыми вчера на исходе дня обменялись поэт Кеведо и капитан Алатристе. Короче говоря, как ручательство того, что все, о чем я сейчас расскажу вам, – чистая правда, признаюсь вам, что обогнул галерею, выбрался на крышу, благо по тогдашнему моему проворству и гибкости труда это не составляло, а потом с тысячью предосторожностей проник через окно в свою комнатенку и, отыскав в стене щель, откуда с большим удобством мог видеть и слышать все, что происходит по соседству, – прильнул к ней, затаив дыхание. Разве мог я не разузнать толком, в какую же затею втягивал дон Франсиско моего хозяина – ведь она, по его же собственным словам, могла стоить им обоим головы. Жаль только, что в тот миг не ведал я, сколь близок был к тому, чтобы лишиться своей собственной.
– …За нападение на монастырь отправят прямиком на плаху, – подвел итог капитан.
Дон Франсиско не произносил ни слова. Он только представил гостей хозяину, а сам участия в беседе не принимал, с несколько отчужденным видом отсев в сторонку. Облокотясь о стол и положив шляпу между пистолетом и кувшином вина, к которому, впрочем, никто даже не притронулся, разговор вел старик. Он же и ответил Алатристе:
– Да, риск немалый. Но иного способа вызволить оттуда мою дочь не существует.
Когда дон Франсиско знакомил их, этот человек, хотя капитан вовсе не настаивал, пожелал отрекомендоваться – дон Висенте де ла Крус, родом из Валенсии, в Мадриде проездом. Худощавый, совсем уже седой, он казался лет шестидесяти с лишним, но сохранил юношескую стать и по виду был еще очень крепок. Сыновья удались в его породу. Старшему – его звали дон Херонимо – едва ли минуло двадцать пять. Младшему – совсем юному дону Луису – было не больше восемнадцати, хоть он и старался держаться солидно. На всех троих ладно и ловко сидело платье, удобное в дороге и на охоте: черный шерстяной кафтан – на отце, синий и темно-зеленый колеты, отделанные замшей, – на сыновьях. Шпаги и кинжалы у пояса, коротко остриженные волосы и фамильная черта – прямой и открытый взгляд.
– Что же это за клирики? – осведомился Алатристе.
Оставаясь на ногах, он привалился спиной к стене и засунул большие пальцы обеих рук за кушак.
Капитан явно не вполне представлял себе, что может воспоследовать от этого визита и чаще поглядывал на Кеведо, чем на гостей, словно спрашивал поэта, какого дьявола тот впутал его во все это. Но дон Франсиско полусидел на подоконнике с таким невозмутимо-отчужденным видом, словно происходящее не имело к нему ни малейшего отношения. Лишь время от времени он поднимал на капитана безразличный взгляд или с необычайным вниманием изучал свои ногти.
– Брат Хуан Короадо и брат Хулиан Гарсо, – ответил дон Висенте. – Всем в монастыре заправляют они, а настоятельница – ее зовут мать Хосефа – действует по их указке и слова поперек не скажет. Прочие сестры либо запуганы до полусмерти, либо в сговоре с этой троицей.
Капитан снова посмотрел на Кеведо, и на этот раз дон Франсиско не отвел глаза. «Сочувствую, – прочел в них Алатристе. – Но только ваша милость может мне помочь».
– Брат Хуан отправляет в монастыре должность капеллана, – продолжал дон Висенте. – Он – клеврет графа Оливареса. Его отец, Амандио Короадо, основавший эту обитель, – единственный португальский банкир, с которым считается наш министр. И теперь, когда тот мечтает избавиться от генуэзцев, Короадо-старший помогает ему выкачивать из Португалии деньги, столь нужные для войны во Фландрии… Потому его сынок наслаждается полнейшей безнаказанностью и в стенах, и за стенами монастыря.
– То, о чем вы рассказали мне, – серьезное обвинение.
– И полностью доказанное. Этот самый брат Хуан – не полуграмотный простодушный клирик, которых у нас такое множество, не монашествующий пьяница и обжора, не святоша и не фанатик Ему тридцать лет, он богат, красив и занимает видное положение при дворе… Этот распутник превратил святую обитель в свой… сераль.
– Можно подобрать и более подходящее слово, – вмешался дон Луис.
Голос его подрагивал от негодования, которое юноша едва сдерживал, обуздывая себя из почтения к отцу.
– Можно, – сурово ответил тот. – Но пока там находится твоя сестра, произнести его я не позволю.
Побледневший дон Луис склонил голову, а его старший брат, который, очевидно, лучше владел собой и в разговор не вступал, успокаивающе коснулся его руки.
– Ну а второй клирик? – спросил Алатристе.
Свет из окна, у которого пристроился дон Франсиско, падал так, что хорошо были видны и давний шрам над левой бровью капитана, и – на лбу, почти у самых волос – свежая памятка о схватке в театре. Приглядевшись, гости могли бы заметить на тыльной стороне руки и третий рубец, оставленный кинжалом в драке у Приюта Духов. Одежда скрывала прочие отметины – в том числе и от полученной при Флёрюсе раны, которая заставила капитана в свое время выйти из полка, а теперь беспрестанным своим нытьем не давала ему уснуть по ночам.
– Брат Хулиан Гарсо приходит в монастырь исповедовать монахинь, – ответил дон Висенте. – Тоже важная шишка. Его дядюшка заседает в государственном совете… Голыми руками не возьмешь.
– Шустрые мальчуганы.
Дон Луис, сдерживаясь из последних сил, стиснул рукоять шпаги:
– Скажите лучше – отъявленные негодяи.
Не находившая себе выхода ярость перехватила ему горло, и голос его сорвался. От того ли, что юноша пустил петуха, или от того, что бритва никогда еще не касалась его щек, покрытых светлым пушком, который лишь над верхней губой становился гуще и темнее, образуя подобие усиков, – но только выглядел дон Луис в эту минуту совсем мальчишкой. Суровым взглядом призвав сына к молчанию, старик продолжал:
– Беда в том, что из-за толстых стен этой обители не просочится наружу ничего. Ни лицемерие капеллана, рядящего свою похотливую суть в мистические одежды; ни граничащая со слабоумием доверчивость настоятельницы; ни простодушие несчастных монахинь, уверенных, что они либо обуяны бесами, либо им предстают потусторонние видения… – Дон Висенте теребил свою бородку, и было видно, что благопристойная сдержанность речей дается ему с неимоверным трудом. – Помимо этого, им день и ночь внушают, что лишь любовью к своему капеллану и слепым повиновением ему они могут снискать себе благодать, приблизиться к Богу, и что лишь известного рода ласками и иными малопристойными действиями, которых требует от них пастырь, можно им будет достичь высшего совершенства.
Диего Алатристе слушал и не удивлялся. При его католическом величестве Филиппе Четвертом большинство наших соотечественников верило в Бога сильно и искренне, и это бы не беда, если бы внешние проявления религиозности не порождали в аристократии ханжество, а в простонародье – суеверие. Духовные лица делились на три категории: одни были фанатичны и невежественны, другие являли собой тупоумный и ленивый сброд, как черт от ладана бегущий от работы или военной службы, а третьих – бессовестных честолюбцев – куда сильней заботило суетное мирское преуспевание, нежели слава Божья. Покуда бедняки платили подати, от которых освобождены были аристократия и духовенство, правоведы спорили о том, является ли эта привилегия правом, дарованным свыше, или нет. И многие клирики пользовались саном своим, чтобы утолить отнюдь не духовную жажду и стяжать себе вполне земные блага. Так что рядом с людьми почтенными и достойными крутились во множестве мошенники, проходимцы и настоящие преступники: священники, давшие обет целомудрия, жили в плотском грехе и производили на свет потомство, исповедники совращали своих духовных дочерей, монашки обзаводились любовниками, и каких только мерзостей не творилось за высокими стенами обителей. К небесам вопияла непорядочность, а считалась – в порядке вещей.
– И никто не сообщил, куда следует, о том, что творится в монастыре?
Дон Висенте уныло покивал:
– Я и сообщил. Представил подробнейшую памятную записку графу Оливаресу. Ответа не дождался.
– А инквизиция?
– Была у меня беседа с одним из членов Высшего совета, он пообещал внимательно разобраться в моей жалобе. Знаю, что в монастырь направили двоих тринитариев [[24]] с чем-то вроде проверки. Однако падре Короадо и Гарсо при живейшем участии настоятельницы сумели убедить их в том, что все обстоит наилучшим образом, и те удалились, очень довольные.
– Наводит на размышления, – заметил вдруг дон Франсиско. – Инквизиция давно подбирается к Оливаресу, а тут вдруг упускает такой редкостный случай прищучить его.
Валенсианец пожал плечами.
– И мы так считали. Однако они, вероятно, рассудили, что через простую послушницу до министра не добраться. Кроме того, мать Хосефа пользуется при дворе большим влиянием и почитается едва ли не святой – помимо ежедневной мессы, она возносит еще и особые молитвы о том, чтобы жена Оливареса и королева произвели на свет младенцев мужского пола. Это обеспечивает ей и почет, и влияние, хотя по сути дела игуменья эта – петая дура, которая от любезного обхождения и приятной наружности своего капеллана лишилась последних крупиц разума. Да что ж, разве она одна такая? – Дон Висенте усмехнулся горько и презрительно. – У нас ведь всякая уважающая себя настоятельница имеет, по крайней мере, пять – по числу язв Господа нашего – стигматов и благоухает святостью… Вывихнутые мистицизмом мозги, неутолимое тщеславие, мания величия и высокие связи – этого довольно, чтобы мать Хосефа возомнила себя новоявленной Терезой Авильской. Да еще деньги, которым падре Короадо не знает счету, так что бенедиктинская обитель Поклонения – самая богатая в Мадриде. Многие знатные семьи мечтают отдать туда своих дочерей.
Слушая, вернее – подслушивая все это, я, несмотря на нежный свой возраст, не очень удивлялся. Учтите, господа: в те времена – бурные, буйные, блестящие, беспутные – дети взрослели быстро. В тогдашнем обществе религия ходила с развратом рука об руку, и было общеизвестно, что исповедники стремились к безраздельному обладанию… да нет, хорошо, если только душой, а то ведь зачастую и плотью своих питомиц, что имело порой самые скандальные последствия. Влияние же священнослужителей было попросту неимоверным. Различные монашеские ордена то враждовали между собой, то заключали альянсы, то вовсе сливались во-едино; одни священники запрещали своим чадам исповедоваться у других, заставляли их рвать семейные узы, а случалось, и призывали к неповиновению светским властям, если те им чем-то не угодили. Галантные клирики охотно разглагольствовали о потусторонней сути божественной любви, не трудясь при этом скрывать завесой духовности вполне земные и человеческие страсти и тяготения – похоть и тщеславие. Образ монаха, предприимчивого и любострастного, всем был хорошо известен и вдоволь высмеян в сатирах того времени.
Не редкостью опять же было, что в чаду суеверия и ханжества, за которыми пряталось столько всякой низости, мы, испанцы – скверно кормленные и еще хуже управляемые, – мечась от полнейшей безнадежности к лютому разочарованию, то отыскивали в религии утешение и опору на краю бездны, то использовали ее как простое и бесстыдное средство доставить себе житейские блага. Усугублялось положение и неисчислимым множеством тех, кто пошел по стезе священнослужения или постригся в монахини, не чувствуя к духовному подвигу ни малейшей склонности – нет, вы вдумайтесь только: во времена моего отрочества было в Испании свыше девяти тысяч монастырей! – что объяснялось старинным, но и по сей день бытующим в бедных дворянских семьях обычаем: отцы, не располагая средствами выдать дочерей замуж как полагается, с приданым, добром ли, силой запирали их в монастырь, и случалось порой поминать старинное присловье насчет того, что ряска-то хороша не только стоячую воду прикрыть, а и грех тоже. И потому без счета водилось в обителях девиц, вовсе не желавших становиться Христовыми невестами – их-то, без сомнения, имел в виду дон Луис Хуртадо де Толедо, переводчик рыцарского романа «Пальмерин Английский», когда сочинил такие вот стишки:
А наши драгоценные родители, Лишь к сыновьям любовию дыша, В приданое не дав нам ни гроша, В господней запирают нас обители, Однако мы и там заводим шашни.
..Дон Франсиско де Кеведо продолжал стоять у окна, следя рассеянным взором за котами, которые шатались по крышам, словно солдаты в увольнении. Прежде чем повернуться к валенсианцам, капитан окинул поэта долгим взглядом.
– Не понимаю, – сказал он. – Как это угораздило вашу дочь там оказаться?
Дон Висенте ответил не сразу. Лившийся в окно свет, беспощадно обнаруживший рубцы на лице капитана, теперь и на лбу старого идальго выявил глубокую продольную морщину – след горестей и тревог.
– Эльвира прибыла в Мадрид с двумя другими послушницами около года назад, когда монастырь Поклонения только открылся. Сопровождавшая их дуэнья – дама с превосходными рекомендациями – должна была опекать девиц до пострижения.
– И что же говорит эта самая дуэнья? Повисло молчание – тягостное и такое плотное, что его, казалось, можно было резать ножом. Дон Висенте де ла Крус, опершись локтем на стол, задумчиво разглядывал кисть своей руки – худой, с узловатыми пальцами, но еще крепкой. Сыновья хмуро уставились в пол, будто что-то изучая у себя под ногами. Я давно уже заметил, какой тяжелый и пристальный взгляд у старшего, дона Херонимо, человека, видно, молчаливого и угрюмого, а поскольку мне и раньше случалось встречать людей, умеющих смотреть так, я вывел непреложный закон: покуда другие бахвалятся и горланят, хлопая шпагой по столам, эти сидят себе тихо в уголку, смотрят не моргая, все видят, все замечают, ничего не упускают из виду, словечка не проронят, а потом вдруг встанут и, в лице не изменясь, всадят тебе в упор пулю или пропорют клинком. Таков же был и капитан Алатристе, и я, благодаря известному навыку, научился различать особей его породы.
– Мы не знаем, где она, – вымолвил наконец старик. – Несколько дней назад будто сгинула.
Снова воцарилось молчание, но на этот раз дон Франсиско оторвался от созерцания котов на крышах и многозначительно переглянулся с Алатристе.
– Сгинула… – задумчиво протянул тот.
Сыновья дона Висенте все так же прилежно рассматривали половицы. После томительной паузы отец кивнул коротко и резко, не сводя при этом глаз со своей руки, замершей на столе рядом со шляпой, кувшином вина и пистолетом.
– Вот именно, – сказал он.
Дон Франсиско отошел от окна, сделал несколько шагов по комнате и остановился перед капитаном.
– Поговаривают, будто она сводничала Хуану Короадо, – произнес он вполголоса.
– Стало быть, сводничала-сводничала, а потом исчезла?
В наступившей тишине Кеведо и Алатристе некоторое время смотрели друг на друга.
– Слух такой ходит, – пояснил поэт.
– Понятно.
Чего уж тут было не понять – дело было ясно даже мне, хоть я и не мог себе представить, какую роль сыграл в этом гнусном деле дон Франсиско. Если все обстоит именно так, найденных в кошельке задушенной дамы денег, которые – если верить Мартину Салданье – предназначены были на заупокойные мессы, для спасения ее души явно не хватит. Я пялил глаз в щелку, и посетители теперь внушали мне большее уважение, чем прежде. Отец казался бодрее, сыновья – зрелее. В конце концов, подумал я, содрогнувшись, речь идет об их дочери и сестре. Дома, в Оньяте, у меня тоже остались сестры, и не знаю, право, не знаю, чего бы не сделал я для них.
– Теперь настоятельница утверждает, что наша Эльвира решила полностью отречься от мира. Вот уже восемь месяцев, как нас не допускают к ней.
– Почему она не покинет монастырь? Дон Висенте беспомощно развел руками.
– Что она может одна? Монашки и послушницы следят друг за дружкой и наушничают настоятельнице… Вы представьте себе, что там творится – видения, грезы, изгнание дьявола, беседы наедине и взаперти под предлогом того, что надо избавить духовную дочь от вселившихся в нее бесов… Ревность, зависть, неизбежные в монастыре свары и склоки… – Его лицо, прежде спокойное, исказилось страданием. – Почти все сестры не старше Эльвиры… Те, кто не обуян дьяволом, те, у кого нет видений, постыдятся в этом признаться и наврут с три короба, чтобы привлечь к себе внимание. Из безмозглой, безвольной настоятельницы капеллан веревки вьет, а та почитает его святым. И вот он со своим причетником ходит из кельи в келью и пестует своих питомиц, вселяет мир в их души.
– А вы-то сами говорили с капелланом?
– Только однажды. И всем святым клянусь – если бы происходило это не в монастырской приемной, убил бы! – Дон Висенте вскинул руку, словно возмущаясь тем, что она не обагрена кровью. – Невзирая на мои седины, этот наглец дерзко смеялся мне в лицо. Ибо наше семейство…
Он замолчал, охваченный душевной мукой, и взглянул на сыновей. Младший изменился в лице, побледнев еще больше, старший же угрюмо отвел глаза.
– Ибо наше семейство не может похвастать совершенной чистотой крови… – совладав с собой, продолжал дон Висенте. – Первым в нашем роду христианство принял только мой прадед, а у деда были большие неприятности с инквизицией. Деньгами удалось уладить дело. Мерзавец Короадо искусно играет на этом. Он грозит донести на Эльвиру, обвинив ее в том, что она тайно исполняет обряды своей прежней веры… Она и мы все.
– Хотя это – бессовестная ложь! – вскричал дон Луис. – Да, мы, к несчастью, не принадлежим к «древним христианам» [[25]], но давным-давно порвали с иудаизмом. В этом отношении мы – безупречны! Лучшим доказательством тому служит доверенность, которой дон Педро Тельес, герцог де Осуна удостаивал моего отца, когда тот служил в Сицилии…
Он осекся на полуслове, и бледность на его лице сменилась багровым румянцем. Я перехватил брошенный на дона Франсиско взгляд капитана. Концы с концами более или менее сошлись. Герцог де Осуна в бытность свою вице-королем Сицилии, а потом Неаполя подружился с Кеведо, что впоследствии аукнулось тому опалой и ссылкой. Теперь ясно, где берут начало обязательства перед доном Висенте, которые пытается выполнить дон Франсиско, а равно и то, откуда дует ветер, принесший старому дворянину столько бедствий и лишивший его защиты при дворе. А Кеведо ли не знать, каково это: еще вчера люди льстили тебе наперебой, а сегодня знать тебя больше не желают.
– Ну так что вы придумали? – осведомился капитан.
Не в первый раз я слышал, как задает он этот вопрос, и хорошо знал, что в этих простых словах звучит и смиренное приятие всего, что припасла ему судьба, и полнейшее безразличие к тому, удачей или провалом окончится его предприятие, и усталая, чурающаяся громких слов решимость, и равнодушие ко всему, кроме сугубо технических, так сказать, подробностей предстоящего дела, и нерассуждающая, неотъемлемая от солдатского ремесла готовность встретить опасность. Впоследствии – и в бесчисленных передрягах, выпадавших нам с ним на долю, и на войне, где мы сражались за нашего государя, – приходилось мне видеть эту вот не одушевленную никаким чувством, бесстрастную пустоту взгляда, от которой светлые глаза его обретали особое, жесткое выражение – так бывало, когда после долгого и неподвижного ожидания гремела, наконец, россыпь барабанной дроби, и пехота, сохраняя восхитительную, величавую размеренность шага, шла в атаку под развернутыми знаменами, сулящими нам славу или позор. По прошествии многих лет усвоил и я себе такой взгляд, такой бесконечно усталый голос: случилось это в тот день, когда, стоя в поредевших шеренгах своего отряда, держа кинжал в зубах, пистолет в левой руке, а шпагу – в правой, смотрел я, как летит на нас лавина французской кавалерии, и закатывалось над Фландрией багровое от крови солнце, которое два столетия кряду внушало всему миру страх и почтение.
Но покуда шел только двадцать третий год нового века, за окном шумел Мадрид, и битва при Рокруа была лишь записью в тайной Книге Судеб, и полных два десятилетия должно было пройти, прежде чем открылась бы эта ее страница. И наш король сохранял еще бодрость духа, Мадрид повелевал и Старым, и Новым Светом, а я был безусым юнцом, прильнувшим к щели в стене в ожидании: что же именно предложат капитану дон Висенте и его сыновья? В тот самый миг, когда старый валенсианец заговорил, кот, прыгнув с карниза в окно, принялся тереться о мои ноги. Я попытался было отшвырнуть его – тщетно! И тут, задетые моим неосторожным и чересчур резким движением, с грохотом упали на пол метелка и жестяной совок. В ужасе подняв голову, я увидел, как старший сынок дона Висенте, яростным пинком распахнувший дверь в мою каморку, заносит надо мной кинжал.
– А я-то полагал, дон Франсиско, что вы чрезвычайно щепетильны насчет чистоты крови… – молвил, насмешливо улыбаясь в усы, капитан Алатристе. – Вот бы не подумал, что сунете голову в петлю из-за семейства выкрестов.
Кеведо, с мрачным видом подсев к столу, рьяно взялся за вино, до которого наконец-то дошел черед. Мы были втроем – дон Висенте и его сыновья уже удалились, обо всем договорившись с капитаном.
– И у старухи бывает прореха, – угрюмо сострил поэт.
– Кто ж спорит? То-то обрадуется, прознав об этом, ваш любимый дон Луис де Гонгора. Он такой сонет смастерит, что костей не соберете.
– Это уж как водится…
Поясню вам, господа, что в те времена ненависть к инаковерующим – еретикам, мусульманам и иудеям – почиталась неотъемлемой от истинной набожности: даже сам Лопе де Бега, даже славный дон Мигель де Сервантес приветствовали, например, изгнание морисков, случившееся всего за несколько лет до описываемых мною событий, а дон Франсис – ко де Кеведо, чрезвычайно гордившийся древностью своего рода, в котором все были христианами до семьдесят седьмого колена, не отличался особенной терпимостью к людям с сомнительной кровью. Напротив – охотно прибегал к этому доводу, когда следовало задеть противника побольнее, а излюбленной мишенью для его сатирических стрел служил вышеупомянутый дон Луис де Гонгора, которому Кеведо приписывал принадлежность к избранному народу.
Недаром Гонгора не ест свинины: На лбу написано, вернее – на носу, Что предначертан путь ему – в раввины.Подобные выпады он перемежал с обвинениями соперника в мужеложстве, вот как в известном стихотворении, кончавшемся такими строками:
Наш дон Луис в сугубой злобе Забыл один отметить штрих: Пока хромаю я на обе – Он педерастит за троих.А теперь, стало быть, дон Франсиско де Кеведо-и-Вильегас, рыцарь ордена Сантьяго, древний христианин, сохранивший благородную чистоту крови, владелец поместья Торре де ла Хуан-Абад, неутомимый преследователь иудеев явных и тайных, еретиков, содомитов, культеранистов всех мастей, затевает ни больше ни меньше как штурм монашеской обители – и лишь ради того, чтобы, рискуя жизнью и добрым именем, помочь семейству валенсианских марранов, то бишь «новых христиан». Даже я ребяческими своими мозгами смекнул, какие чудовищные последствия может возыметь это предприятие.
– Это уж как водится, – повторил поэт.
Я полагаю, что любой и каждый на родном ли языке, по-древнегречески ли или по-еврейски – благо, дон Франсиско владел всеми тремя – принес бы обет любым богам, лишь бы не оказаться в его шкуре. И капитан Алатристе, которому не надо было оказываться в его шкуре, ибо ему и в собственной хлопот хватало, прекрасно это сознавал. Он по-прежнему стоял, привалясь плечом к стене, не присев и после ухода наших посетителей и пальцы из-за ремня не выпростав. Даже когда Херонимо де ла Крус за шиворот взволок меня в комнату, капитан не шевельнулся и произнес только: «Отпустите, пожалуйста» – но так произнес, что валенсианец, замешкавшись не долее, чем на долю секунды, повиновался. А я, сгорев со стыда после такого, по-ученому говоря, афронта, на карачках уполз в дальний угол и там притаился как мышка. Стоило известного труда убедить семейство де ла Крус, что я – неслух и сорванец, но человек вполне надежный и что мне можно доверять – зато сам сеньор Кеведо удостоил меня поручительством. И поскольку я и так уже все слышал, дону Висенте с сыновьями пришлось согласиться с моим присутствием. Впрочем, как медленно проговорил капитан, обводя высокое собрание ледяным и опасным взором, и здесь им ни выбирать, ни возражать тоже не приходится. Наступило долгое и многозначительное молчание, и более уже вопрос моего участия в предстоящем деле не обсуждался.
– …Это порядочные, благородные люди, – говорил меж тем дон Франсиско. – Вот на столечко не могу я упрекнуть их в том, что они – дурные католики. – Он помедлил, подыскивая новые резоны, привести которые считал необходимым. – …И кроме всего прочего, в бытность мою в Италии дон Висенте оказал мне важные услуги. Было бы просто низостью с моей стороны не протянуть ему сейчас руку помощи.
Капитан Алатристе понимающе склонил голову, хотя под густыми усами продолжал прятать усмешку.
– Это делает вам честь, – ответил он. – И все же – с Гонгорой-то как теперь быть? Не вы ли, сударь, неустанно поминаете ему крючковатый нос и отвращение к свинине? Кто сочинил это вот:
Зря в древние ты лезешь христиане: Примета древности – достоинство седин, Меж тем как ты плешив. Оставь старанье: Ты – выкрест и не дворянин.
Дон Франсиско пощипывал эспаньолку, испытывая смешанные чувства – он был и польщен, что капитан знает его стихи наизусть, и несколько обескуражен тем, как глумливо тот прочел их:
– Клянусь плотью Христовой, ну и память у вас, Диего! Какой только чепухи не запоминаете!
Алатристе, не выдержав, расхохотался, но это не улучшило поэту настроения.
– Нет, я теперь представляю, что напишет о вас ваш извечный соперник! – И, водя в воздухе воображаемым пером, с ходу сочинил:
Меня давно уж в иудеи – Нет обвинения серьезней – Кеведо злоба записала А сам, за них душой радея, Совместно с ними строит козни, В рот не беря свиного сала.– …Ну, каково?
Чело дона Франсиско омрачилось еще сильнее – за шуточки такого рода всякому, кроме капитана Алатристе, пришлось бы ответить с оружием в руках. Однако он ограничился тем, что брюзгливо ответил:
– Каково-каково… Плохо! Плохо и плоско! Впрочем, педераст наш севильянский под ними с удовольствием бы подписался. Да и этот ваш приятель – граф де Гуадальмедина… Я не оспариваю его рыцарских достоинств, но как поэт он – совершеннейшее недоразумение. Позор Парнаса… Ну а Гонгора вместе с его трескучей риторикой – всеми этими триклиниями [[26]], икарийскими паденьями, отравой ветра и тенью солнца и прочими красотами – меньше всего меня сейчас занимает. Я и в самом деле боюсь, что втравил вас в смертельно опасную затею… – Он снова припал к стакану, а потом бросил взгляд в мою сторону. – И вас, и мальчугана.
Мальчуган – то бишь я – по-прежнему сидел в углу. Кот уже трижды прошествовал мимо, и я попытался пнуть его – без особого успеха. Тут я заметил, что Алатристе глядит на меня, и улыбка исчезла с его лица.
– Иньиго по своей воле встрял в это дело, – молвил капитан, пожав плечами. – А обо мне не беспокойтесь. Пусть вас это не заботит, ибо… – Он показал на кошелек с золотом, оставленный посреди стола.
– Тяга к деньгам прогоняет тягостные мысли.
– Что ж, вам виднее…
Слова Алатристе явно не убедили Кеведо, и под усами капитана вновь зазмеилась усмешка.
– Черт возьми, дон Франсиско, вы поздновато спохватились. Снявши голову, по волосам не плачут, тем паче, что и головы наши еще при нас.
Поэт понуро отхлебнул вина – раз и другой. Глаза его немного посоловели.
– Вломиться в монастырь – это не шуточки.
– Ничего, будем считать это родовой традицией, – отвечал капитан, подойдя к столу и извлекая из пистолета пыж и пулю. – Слышал я, что мой двоюродный дед [[27]], человек, пользовавшийся большой известностью во времена императора Карла, тоже взял приступом святую обитель. В Севилье дело было. Дон Франсиско, оживившись, вскинул голову:
– Да это уж не тот ли озорник, что вдохновил Тирсо?
– Он самый.
– Я и не знал, что вы с ним в родстве.
– Теперь будете знать. Мир тесен, а Испания – тем более.
Очки свалились с носа сеньора Кеведо и повисли на шнурке. В задумчивости он вертел их в пальцах, не торопясь водружать обратно, потом оставил болтаться у алого креста Сантьяго, вышитого напротив сердца, дотянулся до кувшина и одним глотком допил остававшееся там вино, не сводя при этом глаз с капитана.
– Что мне вам сказать на это? Скверно кончил двоюродный ваш дедушка.
III. Мадридские воды
На следующий день мы с капитаном Алатристе и сеньором Кеведо отправились на мессу. Событие в своем роде весьма примечательное – ибо если дон Франсиско, побуждаемый к сему как кровью сантандерских дворян, текшей у него в жилах, так и принадлежностью к ордену Сантьяго, ревностно и неукоснительно соблюдал все обряды, то капитан был весьма слабо привержен и к доминусу, и к вобискуму [[28]]. Однако я готов присягнуть, что хотя он в силу особенностей, присущих военному человеку, часто поминал и черта, и дьявола, и душу, и мать, ни разу за все те годы, что был я рядом с ним, не пришлось мне услышать от него хоть словечко против религии – даже когда в таверне «У турка» споры, которые вели его приятели с преподобным Пересом, затрагивали недостойное поведение иных духовных лиц. Алатристе не был усердным прихожанином, однако сутану, тонзуру или, скажем, апостольник [[29]] уважал, как уважал и достоинство королевской короны, на чьей бы голове ни красовалась она: не берусь судить, сказывалась ли солдатская привычка к повиновению вышестоящему или столь свойственное ему стоическое безразличие, которое, как мне представляется, и было сокрытым движителем его натуры. Добавлю, что хоть сам он почти не бывал в церкви, меня, однако, побуждал по воскресеньям и двунадесятым праздникам ходить к мессе в приятном обществе Каридад Непрухи, к зрелым годам сделавшейся, как и все, кто сильно распутничал в юности, до чрезвычайности набожной, и не отлынивать от уроков, дважды в неделю даваемых мне преподобным Пересом: по настоянию капитана учился я грамматике, начаткам латыни, катехизису и закону Божьему с тем, чтобы, по его выражению, никто бы не принял меня за турка или навеки проклятого еретика.
Да-с, такие вот противоречия уживались в душе Диего Алатристе. Спустя немного времени, во Фландрии, получил я возможность видеть, как перед самым боем, когда капелланы, обходя шеренги, благословляют христолюбивое воинство, капитан склонял голову, а колени – преклонял, и не из показного благочестия, но исключительно – из уважения к товарищам, которые идут на смерть, свято веруя, что литании и кадильницы помогут. С Богом отношения у него были особые – он не докучал ему славословиями, не обижал святотатственной хулой. Для него Вседержитель был существом могущественным и невозмутимым, которое отнюдь не дергает за веревочки, заставляя своих кукол плясать на подмостках, именуемых миром, но ограничивается бесстрастным наблюдением за ними. Или, в лучшем случае, с мудростью, непостижимой для актеров, представляющих эту человеческую комедию – не хочется говорить: «для шутов, кривляющихся в этом фарсе», – приводит в движение поворотный круг сцены, внезапно открывает крышки коварных люков – ухнешь туда, костей не соберешь – внезапно спускает с колосников и выдвигает из-за кулис невесть откуда взявшиеся декорации, то загоняя тебя в безвыходные тупики, то вызволяя из самых отчаянных положений. Существо это вполне могло бы оказаться тем отдаленным перводвигателем, той бесконечно отнесенной от нас по времени причиною всех причин, о которых однажды вечерком, самую малость и в виде исключения перебрав сладкого вина, попытался было рассказать своим собутыльникам преподобный Перес, когда вздумал толковать о пяти доказательствах Святого Фомы [[30]]. Впрочем, мне кажется, что капитан был больше склонен оценивать это явление в духе древних римлян и того, что они, если не вконец позабыл я латынь, преподанную мне тем же самым Пересом, называли – фатум. Что же, разве не помню я бесстрастно-угрюмое лицо Алатристе в те минуты, когда противник беглым огнем начинал гвоздить из пушек, пробивая бреши в наших боевых порядках, и товарищи его осеняли себя крестным знамением, поручая себя кто Христу, кто – Пречистой Деве и внезапно припоминая затверженные в детстве молитвы, а он произносил «аминь» одновременно с ними, чтобы не так одиноко было им умирать? Однако холодные светлые глаза его зорко следили и за накатывающими волнами неприятельской кавалерии, и за вспышками мушкетных выстрелов с земляного вала, и за дымящимися бомбами, которые волчком крутились по земле, прежде чем рвануть и ослепительной вспышкой отправить тебя в дыму и пламени черту в зубы. И еле слышно пробормотанный «аминь» ни к чему Алатристе не обязывал – чтобы понять это, достаточно было заглянуть в его сосредоточенные глаза, увидеть орлиный профиль старого солдата, внимающего только монотонным раскатам барабанной дроби – такой же неторопливо-ровной, как размеренный шаг атакующей испанской пехоты или стук его сердца, бьющегося не чаще, чем всегда. Ибо Господу Богу капитан Алатристе служил в точности так же, как и своему королю: ему не за что было его любить, нечем в нем восхищаться. Однако Создатель, так сказать, по должности своей мог рассчитывать на подобающее уважение со стороны капитана. Как-то раз, в жарком деле у речки Мерк, неподалеку от крепости Бреда, случилось мне видеть, как дрался капитан, отбивая наше знамя и тело нашего бригадного Педро де ла Даги. И я еще тогда понял, что капитан костьми ляжет за этот изрешеченный мушкетными пулями труп – да и меня рядом положит, – хотя ни полковое знамя, ни павший смертью храбрых дон Педро ломаного гроша в его глазах не стоят. Да, обладал капитан таким вот обескураживающим свойством – чтил Бога, к которому был совершенно равнодушен, стоял до последнего за то, во что не верил, пьянствовал с врагом и рисковал жизнью ради генерала или короля, которых глубоко презирал.
Итак, мы пошли к обедне, хотя капитан, повторяю, набожностью не отличался. А обедню, как вы, наверно, уже догадливо сообразили, правили в церкви бенедиктинской женской обители – ну да, той самой, расположенной поблизости от королевского дворца и почти напротив монастыря Воплощения, на маленькой площади с тем же названием. Посетить восьмичасовую мессу у бенедиктинок считалось в Мадриде признаком хорошего тона, ибо, во-первых, прихожанкой этой церкви была донья Тереса де Гусман, законная супруга нашего министра Оливареса, а во-вторых, монастырский капеллан дон Хуан Короадо радовал глаз у алтаря и слух – на амвоне. По вышеназванной причине ходили к мессе не только богомольные старухи, но и дамы из общества, увлеченные красноречием красавца-капеллана и примером графини Оливарес, а равно и те, кто, к обществу этому не принадлежа, всеми силами туда рвался. Бывали тут и комедиантки, и девицы легкого поведения – а уж как блюли сии блудные дщери десять заповедей, представить нетрудно, – бывали и молились с большим чувством, просвечивая белилами и румянами сквозь тюлевую дымку покрывал и мантилий и щеголяя кружевами из Прованса и Лотарингии, раз уж брюссельские не по карману. А поскольку туда, где есть дамы – высшего ли разбора, с бору ли по сосенке, – мухами на мед непременно слетятся и кавалеры, то к восьми часам в маленькой церкви народу было, извините за выражение, больше, чем гнид в ослиной попоне: прекрасный пол молился или пускал стрелы Купидона из-за прикрытия вееров, сильный – занимал стратегически выгодные позиции за колоннами или у чаши со святой водой, а орава нищих толпилась на паперти, выставляла напоказ язвы, струпья, гнойники и обрубки рук или ног, потерянных якобы во Фландрии, а то и при взятии Трои, собачилась за лучшие места у самого выхода, разнося на все корки высокородных, но прижимистых сеньоров, которым легче удавиться, чем подать бедняку на пропитание.
Мы же втроем устроились неподалеку от дверей, откуда был нам виден и неф – битком набитый народом и до того узкий, что еще бы немножко – и пришлось бы Иисуса над главным алтарем изобразить не распятым, а повешенным, – и хоры, куда выходили зарешеченные галереи, соединявшие церковь с монастырскими помещениями. Я видел, что капитан, сняв шляпу и перекинув плащ через руку, . оглядывает помещение столь же внимательно, как за пять минут до этого – здание монастыря и прилегающий к нему сад. Служба меж тем шла своим чередом, и, когда священник повернулся к пастве, я получил наконец удовольствие лицезреть знаменитого капеллана Короадо, который говорил цветисто и изысканно, а держался весьма уверенно. Было видно, что судьбой он взыскан щедро, не обижен ни красотой, ни силой, что священническое облачение ни тому, ни другому не помеха, равно как и выбритая на макушке тонзура не портит черных, живых волос. Темные глаза брали, что называется, за душу, и нетрудно было представить себе, какое действие должны были они производить на Евиных дочек вообще, и в особенности на монахинь, которым устав возбраняет всякое общение с мирянами, тем паче – противоположного пола. Разумеется, я не мог судить непредвзято, забыв все, что знал о нем и о его распутстве со слов дона Висенте, и, наверно, потому так сильно, до тошноты, раздражало меня, как размеренно, любуясь собой, двигается он, как он красуется, возлагая святые дары на алтарь. Меня даже удивляло, что никто из прихожан не крикнул ему: «Святотатец! Гнусный лицемер!» – напротив, кругом были только просветленные, растроганные лица, а в глазах у многих – дам, разумеется – я заметил восхищение. Что ж, такова она, жизнь, просто я тогда едва ли не в первый, но далеко не в последний раз получил наглядный урок того, сколь часто встречаем мы по одежке, судим по внешности, а она ох как обманчива. Понял я тогда, что и любую гниль можно прикрыть личиною благочестия, милосердия, порядочности, а потому обличать негодяев, не имея доказательств, нападать на них с голыми, так сказать, руками, слепо доверять торжеству правосудия и убеждать себя в том, что истина непременно восторжествует – значит кратчайшим путем следовать к собственной погибели, тогда как супостаты твои, благодаря деньгам ли, связям, выйдут из воды сухими. И еще один урок усвоил я довольно рано: с сильными мира сего силой – ну, или чем другим – лучше не мериться, ибо почти наверняка в состязании этом ты проиграешь. Куда вернее – затаиться и выжидать, песен-плясок не устраивая, покуда время или случай не подведут противника под твою пулю или клинок, ибо у нас в Испании, где все мы рано или поздно сходимся на узкой дорожке, поединок – самое милое дело. И самое верное. А уж если и оно не выгорит – запасись терпением, пусть последнее слово останется за Господом Богом: уж он-то стасует колоду и раздаст что кому причитается.
– Поглядите налево – там еще одна галерея, – прошептал дон Франсиско. – За решеткой.
Капитан Алатристе, смотревший на алтарь, выждал немного и чуть повернул голову в направлении, указанном поэтом. Я проследил его взгляд и различил в торце галереи, соединявшей церковь с монастырем, черные и белые чепцы монахинь и послушниц, смутно видневшиеся за частым переплетением железных прутьев: мало того – внешне строгий устав снабдил двери еще и длинными острыми гвоздями, имеющими целью воспрепятствовать кому бы то ни было постороннему подойти ближе, чем предписывали правила. Узнаю тебя, отчизна-мать: нравы царят суровые, всякий церемониал соблюдается неукоснительно, разного рода предупредительных гвоздей и заградительных решеток понатыкано везде во множестве: нет, ну вы подумайте – когда несчастья в Европе на нас так и сыпались, кастильские кортесы не нашли ничего лучше и уместнее, как обсуждать догмат непорочного зачатия! – а среди всего этого плутоватые клирики и бессовестные чиновники, монашки, не имеющие к затворничеству ни малейшей склонности, судьи, толкующие право вкривь и вкось, знать, ничего не желающая знать, и всякая прочая подлая тварь обирали несчастное наше отечество до нитки, обдирали, как липку, так что Испания – хороша владычица полумира! – сделалась сущим вертепом, разбойничьим притоном, раем для фарисеев, сводников и доносчиков, торжищем, где совесть продавали открыто, а честь не только марали, но и до дыр снашивали. И ничего нельзя было поправить, ибо в нашей стране подлость через край хлестала, а хлеба не хватало.
– Ну, что скажете, капитан?
Кеведо произнес эту фразу тихо, еле разжимая зубы и улучив момент, когда причт затянул «Верую». В одной руке держал он шляпу, другой сжимал эфес шпаги, а глядел прямо перед собой и с очень сосредоточенным видом, по мере сил прикидываясь, что самозабвенно внимает литургии.
– Трудно, – отвечал Алатристе.
Глубокий вздох поэта потонул в звуках «Deum de Deo, lumen de lumine…», который хором завели прихожане. Тут увидел я в отдалении старшего сына дона Висенте – того самого, кто благодаря предательскому поведению кота обнаружил, что их с капитаном беседу подслушивают: он прятался за колонной, стараясь не привлекать к себе внимания и оставаться незамеченным, в точности как вор-карманник в толпе канцелярской шушеры. Лицо он закрывал полой плаща и глядел на зарешеченную галерейку. «Там ли сейчас Эльвира де ла Крус? – спросил я себя. – И может ли она видеть брата?» Чтение рыцарских романов, простительное юнцу моих лет, даром не прошло – воображение нарисовало мне эту прекрасную, неведомую страдалицу, томящуюся в заточении, ожидающую вызволения. Как нескончаемо долги были часы, проводимые в келье в ожидании условного знака, послания, переданного на словах или в записочке: дескать, спасение близко, готовься. Воображение разыгралось не на шутку, и я, сам чувствуя себя героем романа – в конце концов, слепой случай и меня подвиг к участию в этом предприятии, – напрягал зрение, силясь разглядеть Эльвиру за решеткой, которая отделяла ее от мира, так что вскоре мне показалось, что я различаю белую руку, пальцы, на мгновение ухватившиеся за переплет железных прутьев. Довольно долго пялился я, разинув рот и ожидая, не мелькнут ли они снова, пока Алатристе незаметным для других подзатыльником не привел меня в чувство. Лишь тогда я очнулся и смотреть стал вперед. Тут как раз капеллан, повернувшись к нам, возгласил: «Dominus vobiscum», и я, не сводя неморгающих глаз с лицемера, ответил «Et cum spiritu tuo» с таким благочестивым жаром, что бедная моя матушка, случись она в эту минуту здесь, порадовалась бы за меня.
Прозвучало «ite misa est» [[31]], мы вышли на улицу, залитую солнцем, ярко освещавшим герани и тмин, которые монашки обители Воплощения выращивали на подоконниках своих келий. Дон Франсиско приотстал, поскольку то и дело вступал в беседу с бесчисленными знакомыми дамами и их спутниками – весь Мадрид числил он в своих друзьях либо недругах, – однако не выпускал нас с капитаном из поля зрения; мы же неторопливо шагали вдоль глинобитной ограды монастырского сада. Я заметил, что капитан с тем же вниманием, с каким, должно быть, выискивал некогда бреши в стенах неприятельских бастионов, рассматривает маленькую, изнутри запертую калитку, а также стоящую на углу тумбу, с помощью которой при известной ловкости можно перебраться через стену, имевшую футов десять высоты. Она его крайне заинтересовала – сужу по тому, что он характерным движением пригладил двумя пальцами усы, а это неизменно либо означало глубокое раздумье, либо показывало, что кто-то допек его всерьез, терпение истощилось и пора браться за шпагу. В этот миг нас обогнал старший сын дона Висенте – шляпа его была низко надвинута на глаза, а сам он никак не показал, что знаком с нами. По тому, как шел, как сторожко озирался дон Херонимо, понял я, что и он проводит рекогносцировку монастырского сада.
Вслед за тем имело место небольшое происшествие, о котором я упоминаю исключительно потому, что оно дает известное представление о кое-каких свойствах и качествах Диего Алатристе. Мы остановились, капитан принялся что-то там поправлять в своей сбруе, а на самом деле желая вблизи рассмотреть, как запирается калитка, – и тут с нами поравнялись две парочки, тоже вышедшие с мессы: двое изящнейших молодых людей и две простенькие, хоть и очень миловидные девицы. Один из кавалеров – в бархатном, кружевами и лентами отделанном колете с прорезными рукавами и с серебряной лентой на шляпе – наткнулся на меня и весьма неучтиво отшвырнул в сторону, обозвав притом нехорошими словами. Случись такое года через два, за подобную выходку этот щеголь во всем его великолепии поплатился бы ударом кинжала в пах, и его счастье, что я по малолетству кинжал в ту пору не носил, хотя уже очень скоро, во Фландрии, мне выйти без него было – что без штанов. Однако это будет потом, а пока, не имея возможности достойно ответить, я вынужден был безропотно глотать обиды, если только не вступался за мою честь Диего Алатристе. Именно так и произошло на сей раз, а я получил богатую пишу для размышлений о том, как при всем своем угрюмстве и замкнутости относился он ко мне на самом деле. Скажу еще, дабы развеять ваши, господа, сомнения, что после памятных пистолетных выстрелов, прогремевших некоторое время назад у Приюта Духов, были, были у капитана основания относиться ко мне хорошо.
Ну-с, так или иначе, увидев, как отлетел я от толчка, он – медленно и очень спокойно, с той ледяной невозмутимостью, которая знавшим его объясняла убедительней всякого громогласного многоглаголанья, что им самое время отступить на три шага, обнажить шпагу и стать в позицию – повернулся и произнес, обращаясь вроде бы ко мне, но пристально глядя при этом на франтика:
– Черт возьми, Иньиго, этот кобельеро, видно, обознался и спутал тебя с каким-нибудь шалунишкой из числа своих знакомых.
Я молчал – что уж тут можно было сказать? Франтик же почел себя задетым и остановился. Он явно принадлежал к числу тех, кому, как гласит поговорка, и собственная тень служит зеркалом. Заслышав капитаново «Черт возьми», он опустил белую руку украшенную здоровущим золотым перстнем с бриллиантами, на эфес шпаги, а при слове «кобельеро» забарабанил по крестовине пальцами. Надменным взглядом смерил Алатристе сверху донизу, но когда сии замеры были произведены, то, надо признаться, сочетание исцарапанной чужими клинками чашки, шрамов на лице и холодных глаз под широкополым фетром произвело на него должное впечатление и поубавило ему спеси. Тем не менее он продолжал хорохориться.
– Ну а если я ничего не спутал и сказал именно то, что хотел? Тогда что? – произнес он довольно уверенным тоном, что, конечно, делает ему честь, однако от внимания моего не укрылись едва заметное колебание и взгляд, искоса брошенный им на спутников.
В те времена человек для сохранения своего, как говорят французы, реноме шел на смерть – прощалось все, кроме трусости и бесчестья. Честь почиталась исключительным достоянием благородного человека, который не в пример простолюдину, несшему все бремя податей и налогов, не работал и ничего в казну не отдавал. Но знаменитая честь героев Лопе, Тирсо и Кальдерона была лишь отзвуком минувших времен – безупречные рыцари встречались все реже, зато изобиловали мошенники и проходимцы всех видов и сортов. Так что преувеличенное значение, придававшееся чести и бесчестью, отчасти помогало править не такое уж легкое ремесло – жить, рук не мозоля и податей не платя.
Капитан очень медленно пригладил двумя пальцами усы и без малейшей заминки, но и не слишком размашистым движением той же руки высвободил из-под плаща рукояти шпаги и кинжала, висевшего сзади и слева.
– Тогда что? – с чрезвычайной сдержанностью переспросил он. – Тогда есть большая вероятность повстречать того, с кем вы, господа, спутали моего пажа. Если, конечно, соблаговолите прогуляться со мной к Пуэрта де ла Вега.
А расположенная невдалеке Пуэрта де ла Вега была одним из тех мест за городской чертой, где происходила уплата долгов чести. Эти слова, равно как и шпага с кинжалом, предъявленные без околичностей и недомолвок, возымели должное действие. Не осталось незамеченным и множественное число, употребленное капитаном и означавшее, что повеселиться приглашают и второго вертопраха. Девицы, в силу принадлежности своей к слабому и прекрасному полу избавленные от опасности быть действующими лицами, вздернули бровки, готовясь насладиться ролью избранных зрительниц. Второй же красавец – он тоже был разодет по самой последней моде, которая в числе прочего подразумевала широченную пелерину и янтарного цвета перчатки, – поначалу следивший за разговором с пренебрежительной улыбкой, при словах Алатристе улыбаться перестал. Сами понимаете: рука об руку с приятелем демонстрировать дамам свой нрав, вспыльчивый и неукротимый, несдержанность речей и поступков – это одно, а нарваться на человека, который в самом буквальном смысле не говоря худого слова, ни чуточки не бравируя, намерен немедленно взяться за дело, а взявшись, довести его до конца, – совсем другое. Этот вояка знает толк в смертоубийстве, явно подумал вертопрах и, почуяв нешуточную опасность, счел бы уместным под благовидным предлогом ретироваться. Судя по тому, как побледнел мой обидчик, он полностью разделял мнение своего спутника, однако находился в положении более деликатном, ибо наговорил лишнего, а ведь известно – слово не воробей, вылетит – не поймаешь, а вот ты смотри, как бы не поймать дюйма четыре отточенной стали.
– Мальчик не виноват, – высказался наконец второй.
Как истинный дворянин, говорил он твердо и спокойно, однако с явными примирительными нотками: ясно было, что он стремился и сам, фигурально выражаясь, остаться на бережку, и спутнику своему дать возможность отступить с честью, ибо после прогулки к Пуэрта де ла Бега разрезными стали бы не только рукава, но и грудь его колета. Я видел, как ухватившиеся за эфес пальцы разжались и снова стиснулись. Он колебался. Все-таки численный перевес был на их стороне, и улови он в голосе или повадке Алатристе хоть тень смятения или тревоги, попер бы напролом, и поединок был бы неизбежен. Но в ледяной сдержанности капитана, в его неподвижности и немногословии, в полнейшем бесстрастии внятно слышался совет всем и каждому быть с ним поосторожней. Я читал в душе своего обидчика, как в открытой книге: «Если человек нарывается на ссору с двумя хорошо вооруженными незнакомцами, он либо сумасшедший, либо слишком уверен в себе и своей шпаге». Оба соображения относились к числу тех, от которых не поздоровится. Однако этот франтик обладал все же достаточной отвагой. Он предпочел бы уладить дело миром, но желал также сохранить достоинство и оттого лишнее мгновение выдерживал взгляд капитана и лишь потом отвел глаза, словно бы в первый раз увидав меня:
– Я тоже думаю, что мальчик был не виноват, – проговорил он наконец.
Дамочки заулыбались – не без разочарования, ибо лишались увлекательного зрелища, – а спутник вздохнул с облегчением. Ну а мне было безразлично, извинился вертопрах или нет: как зачарованный, рассматривал я чеканный профиль капитана Алатристе, густые усы и невыбритый в то утро подбородок, шрамы на лбу, светлые, ничего не выражающие глаза, устремленные в такую даль, где только он один и мог различить что-нибудь. Потом я перевел взгляд на его обтрепанный, во многих местах залатанный колет, на ветхий плащ и простую пелерину, стираную-перестиранную Каридад Непрухой, увидел, как играет солнечный луч на крестовине шпаги и рукояти кинжала, и подумал, что могу почитать себя вдвойне взысканным судьбою – этот человек был другом моему отцу и стал моим другом, способным полезть за меня в драку. Да нет, в сущности, не за меня, а за самого себя, ибо и война, где сражался он под знаменами их величеств, и клиенты, в аренду которым сдавал свой клинок, и друзья, ради которых брался за опасные дела, и встреченные на улице щеголи, распускающие язык, и даже я сам – все это было только предлогом для того, чтобы, как сказал бы дон Франсиско, издали почуявший, что пахнет жареным и поспешивший к нам на помощь, полезть в драку ради самой драки – в нарушение Господних заветов и наперекор всему. Что ж, как бы то ни было, я по одному слову капитана Алатристе – да и безо всяких слов: хватило бы улыбки или кивка – последовал бы за ним и в адское пекло. И невдомек мне было, что именно туда я и направляюсь.
Я, помнится, уже толковал вам об Анхелике де Алькесар. По прошествии лет, когда стал я солдатом, а потом много кем еще – в свое время будет вам поведано все по порядку – на пути моем встречалось немало женщин. Нет у меня склонности ни к сальной похвальбе за трактирным столом, ни к светлой грусти о былом, так что, раз уж к слову пришлось, скажу, чтоб на том и покончить, что скольких-то я любил и вспоминаю их иногда с нежностью, иногда – с безразличием, а чаще всего – с улыбкою сообщника, и, по крайнему моему разумению, на большее и не может рассчитывать уважающий себя мужчина с тощим кошельком и крепким здоровьем, вышедший из череды сладостных этих встреч целым и невредимым. Но честью уверяю вас, господа, что всех женщин, пересекавших мой жизненный путь, Анхелика де Алькесар, племянница личного королевского секретаря, превосходила красотой, умом, соблазнительностью, а уж в коварстве равных себе не имела и подавно. Вы, пожалуй, возразите на это, что столь сокрушительное действие она оказывала на меня лишь в силу нежного моего возраста – ибо к тому времени, как развернулись события, всего лишь год пребывал я в Мадриде, и мне еще не исполнилось четырнадцати, – но возражение ваше я не приму. И позднее, когда уже повидал я кое-какие виды, а Анхелика стала женщиной в полном смысле слова, чувства мои сохранили первозданную свежесть. Это было то же, что любить дьявола, зная, кто он такой. Я же, сдается мне, без памяти влюбился в нее, еще когда была она девочкой, но в довершение бед обрушилась на меня, поверьте, не та скоропреходящая, не находящая себе выхода страсть, когда не разбираешь, где сон, где явь, где отроческие фантазии, а где – существо из плоти и крови. Нет, мой случай был иным – я день и ночь пребывал в каком-то странном восторге, подобном лишь тому, что испытываешь над краем бездны, которая и притягивает тебя, и ужасает. Лишь потом, много времени спустя – история с монастырем бенедиктинок и задушенной женщиной была лишь первой станцой на крестном этом пути – узнал я, какие мысли и замыслы роились в головке, украшенной золотисто-пепельными локонами, что таили в себе синие глаза этой девочки лет одиннадцати-двенадцати, по милости которой я столько раз ставил на карту и честь свою, и самую жизнь. И все равно – я любил ее до конца. И даже теперь, когда Анхелики де Алькесар, равно как и всех прочих, давно уже нет на свете, когда существует она лишь в памяти моей, клянусь Богом и всеми демонами ада – где, без сомнения, горит она сейчас, – что продолжаю любить ее. Порою память грызет так нестерпимо, что милы становятся даже старинные враги – и я отправляюсь туда, где висит ее портрет, написанный Диего Веласкесом, и по целым часам молча всматриваюсь в лицо Анхелики, сознавая, что сути ее так и не постиг. Но в сердце своем, иссеченном рубцами, – не по ее ли, кстати, милости? – храню я святую веру, что и эта девочка, эта женщина, причинившая мне столько зла, тоже любила меня до самой смерти – пусть и на свой манер.
Однако все это еще предстояло узнать. А в то утро, когда я следовал за ее каретой до самого ручья Асеро, для чего пришлось по Сеговийскому мосту перейти на другой берег Мансанареса, Анхелика оставалась для меня завораживающей тайной. Вы, наверно, помните – несколько раз в неделю проезжала она в карете по улице Толедо, направляясь в королевский дворец, где служила во фрейлинах или, по-нашему говоря, – именинах. Дом на углу улиц Энкомьенда и Эмбахадорес принадлежал старому маркизу де Ортиголасу до тех пор, пока одна комедиантка из «Корраль де ла Крус» не выпотрошила его, как и мясную тушу на бойне не потрошат, после чего дом пришлось продать, чтобы заимодавцам кость бросить. И теперь там жила моя любовь со своим холостым дядюшкой, Луисом де Алькесаром, у которого, помимо властолюбия, утоляемого высоким положением при дворе, была только одна слабость – эта вот племянница-сиротка, дочь его сестры, в двадцать первом году погибшей вместе с мужем при кораблекрушении на пути из Индий.
И я по обыкновению смотрел, как проезжает ее запряженная парой мулов карета мимо таверны «У Турка», а порой шел следом до Пласа-Майор, а то и до самого дворца. Наградой служил переворачивающий все нутро взгляд синих глаз, которым иногда она меня удостаивала, прежде чем вновь рассеянно устремить его в окошко или обратить на дуэнью – тощую и облезлую, как кошелек школяра, даму с уксусно-кислым лицом.
Как вы, должно быть, помните, мне уже случалось во время достопамятного приключения с англичанами обменяться с Анхеликой несколькими словами, и я подозревал, что именно она вольно или невольно помогла подстроить ловушку в театре дель Принсипе, откуда капитана Алатристе просто чудом не вынесли ногами вперед. Однако разве властны мы, хочется спросить, над любовью своей или ненавистью? И потому плелся я за белокурой девочкой как зачарованный, а мысль о том, что все это – лишь игра да притом – дьявольски опасная, – пуще прежнего распаляла мое воображение.
В то утро, погожее и сияющее, проследовал я за каретой до самых Гвадалахарских ворот, до площади Вилья, а оттуда, вместо того, чтобы ехать к Алькасару, кучер погнал мулов вниз и свернул на Сеговййский мост через мелкую речку, неизменно дарившую вдохновение шутливого и насмешливого рода нашим поэтам: даже изысканнейший и изощреннейший стилист-культеранист дон Луис де Гонгора – да простит меня за это упоминание дон Франсиско де Кеведо – почтил Мансанарес таким двустишием:
Осел допил до дна, потом изверг наружу: Он жажду утолил и напрудил нам лужу.
Впоследствии я узнал, что несколько последних дней Анхелике нездоровилось, и доктор рекомендовал ей побольше гулять в роще и на лугу, примыкавшим к так называемому Герцогскому саду – а равно и пить из знаменитого ручья Асеро железистую воду, известную своими целебными свойствами и, в частности, просто незаменимую для дам, страдающих несварением.
Анхелике в силу нежного ее возраста подобные хвори были еще не страшны, однако свежий лесной воздух и солнце должны были пойти ей на пользу. Туда-то и направлялась она в карете с дуэньей, я же следовал за ними на известном расстоянии. За мостом, на другом берегу Мансанареса прогуливались по аллеям дамы и кавалеры. Недавнее мое рассуждение относительно церквей, куда вслед за дамами набивалось множество кавалеров, справедливо и по отношению ко всему тогдашнему Мадриду, а у источника Асеро особы прекрасного пола с дуэньями и без встречались в изобилии, так что и там передавались записочки, звучали признания, назначались любовные свидания, а где любовь – там и ревность, и потому нередко следовали за резкостями и колкостями режущие и колющие удары. Дело-то все в том, что в Испании нашей, которая была и остается страной лицемерной, погрязшей в тине условностей и внешних приличий, бесконечно озабоченной тем, «что люди скажут», мужья и отцы до такой степени оберегают честь жен и дочерей, что держат их взаперти, и оттого невиннейшие в сущности досуги – к мессе сходить или выпить воды из целебного источника – дают счастливую возможность завести интрижку, затеять любовное приключение и прочее, в том же роде.
Дабы приблизить миг желанной встречи скорой, я отведу глаза ревнивому папаше: Дабы не вызнал он заветной тайны нашей, Пожалуюсь, что, мол, страдаю от запора.
Надеюсь, что сумел объяснить, каким пламенем рыцарства, какой жаждой подвигов объята была юная моя душа, покуда следовал я за каретой прекрасной Анхелики к этому в высшей степени примечательному месту, жалея о том лишь, что по малодетству лишен возможности носить на боку и пускать в дело меч, дабы рубить головы возможных соперников. О, даже в самых смелых мечтах не мог я предположить, что возможность сия мне со временем представится, что все сбудется в точности так, как мерещилось мне в чаду отроческого воображения. Но когда пришел час пролить кровь за Анхелику де Алькесар и я сделал это, мы с ней были уже не дети. И убивал я не понарошку.
Черт возьми, вечно я перескакиваю с пятого на десятое, забегаю вперед, теряя нить своего повествования. Вернемся к нему и вспомним главное – восторг от лицезрения возлюбленной заставил меня совершить некую оплошность, которая чуть погодя обошлась мне дорого. С того дня, как посетил нас дон Висенте де ла Крус с сыновьями, стал я замечать, что вокруг нашего дома мельтешат подозрительные личности. Да нет, ничего особенного – просто эти двое-трое прежде не появлялись на улице Толедо, не захаживали в таверну «У Турка». Казалось бы, ну так что с того – поблизости, на Кава-Баха и на других соседних улицах всегда толклось множество пришлого и заезжего народа. Однако в то утро увидел я такое, что – если бы не долгожданное появление Анхелики – заставило бы меня призадуматься и о чем некоторое время спустя появилась у меня отличная возможность поразмыслить без помех, сообразить, как же занесло меня в то зловещее место, где я оказался. И не по своей воле.
Проще говоря, воротившись с мессы, я остался у дверей таверны, а капитан двинулся дальше – на улицу Корреос, где помещался почтамт. И в тот миг, когда Алатристе уже отошел довольно далеко вверх по улице Толедо, двое незнакомцев, до этого с невинным видом прогуливавшихся меж фруктовых лотков, перекинулись вполголоса несколькими словами, а затем один тронулся за капитаном следом, держась от него на известном отдалении. Я наблюдал за ними, размышляя, случайность это или слежка, но появление Анхелики начисто вымело у меня из головы все посторонние мысли. А напрасно, ибо возможно ли было не почуять недоброе при виде этих усищ от уха до уха, этих низко нахлобученных шляп, этих плащей, приподнятых сзади кончиками шпаг, этой походочки с развальцем? Так с горькой, но запоздалой досадой недоумевал я немного погодя, когда времени для праздного сетования оказалось у меня предостаточно. Однако Господь, или дьявол – или кто там еще неустанно, одну за другой отпускает по нашему адресу тяжеловесные шутки, составляющие бытие человеческое? – очень любит смотреть, как из-за собственного нашего недосмотра, высокомерия либо невежества разгуливаем мы по лезвию бритвы.
Она была хороша, как мятежный ангел до своего низвержения с небес. Карета остановилась под тополями, окаймлявшими дорогу, и Анхелика прохаживалась в окрестностях источника. Она по-прежнему носила локоны, а синее камлотовое платье ее казалось куском безоблачно ясного неба, на котором по ту сторону реки так четко вырисовывались мадридские крыши и шпили, старинная стена и громада королевского дворца. Привязав лошадей, кучер присоединился к зубоскалящим в кружок собратьям по ремеслу, а дуэнья отправилась зачерпнуть воды из знаменитого источника. Анхелика на какое-то время осталась одна, и сердце мое заколотилось, когда я еще издали увидел, как грациозно приседает она при встрече с другими юными дамами, пившими под деревьями прохладительное, как принимает предложенное ей угощение, украдкой поглядывая на свою дуэнью. Все на свете – включая юность свою вкупе с иллюзиями – отдал бы я в тот миг, чтобы из смиренного мальчишки-пажа превратиться в одного из тех блестящих – или желавших казаться таковыми – кавалеров, которые прогуливались поблизости, покручивали усы при виде дам, вступали с ними в беседу, в одной руке держа шляпу, а другой изящно упершись в бедро или навершие эфеса. Впрочем, хватало возле источника и людей низкого звания, и очень скоро постиг я, что в наше время – как и в любое другое – не все то золото, что блестит, и что немало прощелыг и проходимцев, обуреваемых тщеславием или корыстью, сшивается здесь, и даже иудей или мавр, выучившись с грехом пополам грамоте, освоив неспешную значительность речей, наделав долгов, сев верхом, опоясавшись шпагой, мог – ну, если не стать, так прослыть истинным кабальеро. Однако был я в ту пору отнюдь не стреляным воробьем, а желторотым птенцом, и так недолго еще жил на свете, что всякий, кто носил плащ и шпагу, каждая, кто щеголяла в мантилье и кринолине, казались мне высокородными сеньорами.
Поблизости гарцевали несколько всадников, показывая свое искусство выездки дамам или девицам, на чье внимание претендовали, и всеми силами души возмечтал я быть таким, как они, и осадить кровного жеребца в нескольких шагах от Анхелики – она в это время углубилась в рощу и, с удивительной грацией придерживая подол, шла меж кустов папоротника вдоль аллеи. Мне показалось, что она внимательно смотрит куда-то себе под ноги, и, подойдя поближе, я увидел – Анхелика идет следом за длинной вереницей деятельных и деловитых муравьев, которые двигались и перестраивались с отчетливостью немецких ландскнехтов. Я, совсем позабыв про осторожность, сделал еще два шага вперед, и сухая ветка хрустнула у меня под каблуком. Девочка вскинула глаза и увидела меня. Нет, не так – синева неба, платья, взгляда окружила меня теплым облаком, и голова моя пошла кругом в точности, как бывало в таверне «У Турка», когда пары пролитого на стол вина вдруг производили на все пять моих чувств оглушительное действие, и мир медленно и плавно отъезжал куда-то вдаль.
– Я тебя знаю, – произнесла она.
Анхелика не улыбнулась, и мое внезапное появление, судя по всему, не удивило и не рассердило ее. Она рассматривала меня с нескрываемым любопытством и очень внимательно – так смотрит мать или старшая сестра, прежде чем сказать: «Знаешь, а ты подрос немного», или «У тебя голос ломается». Поскольку в тот день я, к счастью, был в старом, но чистом колете без заплат и вполне пристойных штанах, а капитан приучил меня чисто мыть лицо и уши, я постарался выдержать этот осмотр бестрепетно, а одолев в краткой борьбе свою застенчивость, сумел даже послать Анхелике ответный взгляд.
– Меня зовут Иньиго Бальбоа.
– Это мне известно. Ты ведь друг этого капитана… как его?.. Тристе? Батисте?
Она говорила мне «ты», что можно было расценить и как пренебрежение, и как приязнь. Однако назвала меня другом капитана – не пажем и не слугой. И вдобавок умудрилась запомнить, кто я такой. В других обстоятельствах упоминание имени «Алатристе» или моего собственного племянницей Луиса де Алькесара отнюдь не тешило бы мое тщеславие, а послужило бы сигналом опасности, но я пребывал в таком упоении, что возликовал, словно меня пожаловали чином или титулом. Анхелика сохранила в памяти мое имя, а с ним вместе – какой-то кусочек моей жизни, которую я готов был всю без остатка сложить к ее ногам, глазом не моргнув, отдать за нее. Не знаю, поймете ли вы мое замысловатое сравнение, но я чувствовал себя, как будто меня проткнули кинжалом – ты жив, покуда он в тебе, и умрешь, как только извлечешь его из раны.
– Приехали выпить воды из целебного источника? – спросил я для того лишь, чтобы нарушить молчание, которое от пристального ее взгляда становилось просто невыносимым.
Она очаровательно сморщила носик:
– Я ем слишком много сладкого.
И беспечно передернула плечами, показывая, что считает это сущим вздором, а потом взглянула туда, где возле источника ее дуэнья вела неспешную беседу с какой-то приятельницей.
– Чепуха все это, – добавила она пренебрежительным тоном.
Я сообразил, что Анхелика де Алькесар не слишком высокого мнения о драконе, охраняющем ее, равно как и о рекомендациях лекарей, которые своими кровопусканиями и снадобьями уморили больше народу, чем севильский палач.
– Полагаю, вы правы. Всякому известно, что сладкое полезно для здоровья, – отвечал я учтиво, решив блеснуть познаниями, полученными в таверне от аптекаря Фадрике. – Оно препятствуют разжижению крови и приводит нас в доброе расположение духа… Доказано, что медовый пончик, коврижка или, скажем, засахаренные фрукты больше способствуют очищению желчновыводящих протоков, чем ведро воды из этого источника…
Тут я замолк, не решаясь углубляться в эту материю, ибо далее сведения мои не простирались.
– У тебя забавный выговор, – молвила Анхелика.
– Баскский. Я родом из Оньяте.
– Ну да, все баски глотают слова…
Она засмеялась. Если бы я не боялся, что это прозвучит непомерным преувеличением, то сказал бы – смех ее звенел серебряным колокольчиком. Точно такие вешают в день праздника Тела Господня на дверях лавок у Гвадалахарских ворот.
– Да, водится за нами такое, – согласился я не без внутренней досады, хотя прежде вроде не замечал этого. – Оньяте – это в провинции Гипускоа.
Мне до смерти хотелось поразить ее чем-нибудь, да только чем же ее поразишь? С туповатым упорством я вознамерился было развить тему сладкого и его благотворного воздействия на организм и потому с нарочитой значительностью произнес:
– Те же, чья натура предрасположена к меланхолии…
Но осекся – рядом возник крупный бурый пес легавой породы, бежавший по своим собачьим делам, и я, не успев даже сообразить, что делаю, в безотчетном, так сказать, побуждении заслонил от него Анхелику. Лягаш отступил без боя, как некогда лев перед Дон Кихотом, девочка же снова, как в самом начале, с любопытством оглядела меня:
– Что ты знаешь о моей натуре?
В голосе ее позванивала нотка вызова, а нестерпимо синие глаза сделались очень серьезны и совсем утратили свое детское выражение. Я засмотрелся на ее полураскрытый рот, на нежно округленный подбородок, на пепельные спирали локонов, спускавшихся на плечи, покрытые зубчатыми брабантскими кружевами. Потом сглотнул слюну и ответил как можно более непринужденно:
– Пока ничего. Знаю только, что готов умереть за вас.
Не могу ручаться, что, сказавши это, не залился густой краской, однако есть на свете такие слова, которые должны быть произнесены: а не произнесешь их – будешь себя всю жизнь грызть с досады. Хотя случается порой и наоборот, и жалеешь как раз о том, что слетело у тебя с языка.
– Умереть, – повторил я.
Воцарилось молчание продолжительное и сладостное. Держа в руке склянку с целебной водой, к нам уже направлялась дуэнья, белым чепцом и черным одеянием похожая на зловещую галку. Дракон готовился вновь вступить в обладание вверенным ему сокровищем, я же, смешавшись, предпочел удалиться. Но Анхелика продолжала разглядывать меня так пристально, словно хотела прочесть мои мысли. Потом проворно сняла с шеи золотой медальончик на тонкой цепочке и сунула мне в руки, шепнув:
– Может, когда-нибудь и сбудется твое желание. Она по-прежнему не сводила с меня загадочного взора. И в этот миг ее детские уста осенила улыбка, казалось, вобравшая в себя все сияние испанского неба, которое бездонной своей синевой могло бы соперничать лишь с ее глазами, – улыбка, полная такого невыразимого совершенства и очарования, что мне и вправду тогда захотелось со шпагой в руке погибнуть за нее, как за короля, отчизну и знамя погиб во Фландрии мой отец. Что ж, подумал я, в конце концов, у отца и сына – судьба едина.
IV. Приступ
Где-то в отдалении четырежды пролаяла собака, и снова все стихло. Капитан Алатристе, подтянув тяжелый пояс со шпагой, кинжалом и пистолетами, смотрел, как лунный диск вот-вот наколется на шпиль монастырской колокольни. Потом оглядел из конца в конец тонущую в полумраке площадь Энкарнасьон. Все было спокойно.
Он оправил нагрудник из буйволовой кожи, откинул назад полы епанчи, и, тотчас, словно это движение послужило условным знаком, три темные тени: две – с одной стороны, одна – с противоположной, – выскользнули на площадь, сойдясь у ограды монастыря. Свет, мерцавший в окне одной из келий, погас и через мгновение вспыхнул снова.
– Она, – прошептал дон Франсиско.
Он стоял, привалясь к стене, в черном с головы до пят, и трезвый как стекло, хотя ночь выдалась холодная, в самый бы раз погреться: но нет – Кеведо, как он выразился, желал сохранить твердость руки. Было так темно, что я лишь по звуку определил – поэт наполовину вытащил шпагу и медленно вдвинул ее назад, проверяя, легко ли ходит она в ножнах. Зато слышал, как он бормочет сквозь зубы свои стихи:
Души моей смятенье не смиряя, Ночная тьма не дарит мне покой…И я еще мельком подумал: дон Франсиско этим способом желает унять свою тревогу или же он и в самом деле наделен таким хладнокровием, что мог бы сочинять стихи даже в преисподней? Но так или иначе момент не благоприятствовал тому, чтобы оценить по достоинству очередной перл нашего гения. Я не спускал глаз с капитана, еле различая его профиль под широкополой шляпой – ложившаяся от нее тень была так густа, что казалась черной полумаской. На другом конце площади неподвижно и безмолвно стояли три темные фигуры. Снова – на сей раз дважды – пролаяла собака, и со склона Каньос-дель-Пераль, словно отзыв на пароль, донеслось приглушенное ржание мулов, запряженных в карету. Тогда Диего Алатристе обернулся ко мне, и в лунном свете блеснули его глаза.
– Ну, с Богом! – сказал он.
И положил мне руку на плечо. Я глубоко вздохнул и двинулся через площадь – прямо к волку в пасть, – спиной чувствуя взгляд капитана и слыша только что сочиненные стихи, которыми напутствовал меня дон Франсиско:
Блажен юнец, что, над землею взмыв…Сердце мое билось так же сильно, как утром, когда я оказался рядом с Анхеликой. А может быть – еще сильней. В горле стоял ком, желудок сводило нестерпимо, в ушах не смолкал надрывный рокот каких-то странных барабанов, и вот в таком-то виде миновал я три темных фигуры – дон Висенте и его сыновья стояли у ограды, поблескивая лезвиями шпаг.
– Поторопись, мой мальчик, – шепнул старик.
Я молча кивнул и прошел вдоль стены до угла, где стояла тумба. Там украдкой перекрестился, вверяя себя тому самому Господу, чью обитель намеревался осквернить наглым вторжением. Потом без труда взлетел на тумбу – в ту пору я был ловчей мартышки, – ухватился за гребень стены, подтянулся на руках и вскарабкался наверх. Потом распластался на стене, стараясь, чтобы мой силуэт не слишком выделялся в лунном сиянии. Итак, слева от меня остались улочка, маленькая площадь и три фигуры моих сподвижников, а справа простиралось темное безмолвие монастырского сада, через равные промежутки времени оглашаемое стрекотом полуночницы-цикады. Прежде чем двинуться дальше, я дождался, когда кровь перестанет с такой силой стучать в висках, и тут, выскользнув из-за ворота, звякнул о камень медальончик на цепочке, который подарила мне Анхелика де Алькесар. Давеча я несколько часов кряду рассматривал его – судя по всему, он был старинной работы и покрыт внутри непонятными и загадочными письменами:
Я снова сунул его на грудь, под сорочку, стиснул в кулаке, надеясь, что амулет принесет мне удачу – без нее в затеянном нами деле никак было не обойтись. Ветви яблони коснулись моего лица, а потом я повернулся, повис на стене, разжал руки и спрыгнул вниз футов с шести или семи. Равновесия не удержав, покатился наземь, но встал, убедился, что ничего себе не сломал, отряхнулся и, молясь Пречистой Деве о том, чтобы в монастырский сад на ночь не выпускали сторожевых собак, ощупью вдоль стены добрался до калитки и осторожно отодвинул засов. Тотчас в калитку, держа шпаги наголо, проскользнули дон Висенте и его сыновья и быстрыми шагами, звук которых заглушала рыхлая земля, пересекли сад. Настал их черед – то, что потребовалось от меня, я выполнил.
Выполнил, не спасовал и не струсил, чего и сам от себя не ожидал – недаром же говорится: не было б нужды в подвигах, кто бы знал героев? И, очень довольный собой, вышел на улицу и, не задерживаясь, пересек площадь, следуя полученному от капитана строгому наставлению – кратчайшим путем вернуться домой. Оставив за спиной площадь Энкарнасьон и монастырь бенедиктинок, я бодро и весело шагал вниз по крутому спуску, и меня просто распирало от гордости – ведь все получилось так, что пальчики оближешь. И внезапно я поддался искушению: решил подождать малость где-нибудь поблизости, чтобы увидеть – пусть хоть при свете луны и на мгновение – спасенную барышню, когда отец и братья будут сажать ее в карету. Я стоял в нерешительности, и в душе моей чувство долга боролось с любопытством. Тут и грохнул первый выстрел.
«Десять человек, самое малое», – прикинул Диего Алатристе, выхватывая из ножен шпагу и кинжал. И сколько-то еще – в монастырском дворе. Они налетели со всех сторон, выскочили из-за углов – улица и площадь озарились блеском обнаженных клинков, содрогнулись от криков «Именем короля!» и «Ни с места! Святейшая инквизиция!». С противоположной стороны раздались выстрелы, из дверей вывалился плотный клубок дерущихся врукопашную. Алатристе на миг показалось, что среди них мелькнул белый чепец послушницы, но все тотчас потонуло в густом пороховом дыму. Да и некогда было всматриваться – пришла пора позаботиться о собственной шкуре. От одного упоминания инквизиции волосы встали бы дыбом у любого, и будь у капитана время пугаться, он испытал бы все, что положено в данных обстоятельствах. Но временем он как раз и не располагал: надо было спасать свою жизнь, а тут уж, право, неважно, окроплен святой водой клинок, который пропорет тебя, или нет. Резко обернувшись, он кинжалом отбил шпагу нападавшего – тот возник у него за спиной в полном смысле слова «откуда ни возьмись» – тремя ударами заставил его отступить и заметил краем глаза, что дон Франсиско дерется сразу с двоими. Кричать в данном случае «Измена!» или что-то в этом роде было совершенно зряшной тратой времени и сил, бесполезным и опасным излишеством, так что капитан и Кеведо сражались молча. Ясно было: кто-то – а кто именно, теперь уже неважно, – устроил на них засаду, так что оставалось только продать жизнь подороже. Не столько увидав, сколько угадав, что противник начинает новую атаку, капитан очень вовремя отбил выпад, сделал шаг, другой и, пропустив вражеский клинок у себя под мышкой, прижал его локтем к левому боку и нанес в лицо нападавшему ответный удар, который, судя по тому, что раздался вскрик, достиг цели. Им повезло – люди инквизиции были не Амадисы Галльские, и это не замедлило сказаться. Алатристе отступал, пока не уперся спиной в стену, и воспользовался передышкой, чтобы взглянуть, как идут дела у дона Франсиско. Поэт, несмотря на свою хромоту, показывал чудеса проворства и, бранясь сквозь зубы, сдерживал натиск наседавших на него. Однако их становилось все больше; как гласит пословица, рук не хватит стольких свиней переколоть. Опять же к счастью, многих отвлекла на себя все жарче разгоравшаяся схватка у входа в монастырь.
Дона Висенте с сыновьями, без сомнения, можно было записывать в поминальник. Капитан почуял запах тлеющих аркебузных фитилей.
– Надо смываться, – крикнул он, силясь заглушить неистовый лязг стали. – Не вышло дело.
– Я пытаюсь! – отвечал поэт между двумя ударами. – И давно уже!
С этими словами он свалил одного из своих противников и стал пятиться вдоль стены, отбиваясь от второго. Перед Алатристе внезапно возникла новая тень – а может, это и в самом деле была тень убитого им минуту назад и теперь явившаяся с того света отомстить. Клинки, сталкиваясь друг с другом и задевая время от времени стену, высекали искры, и капитан, воспользовавшись оплошностью нападавшего, молниеносно нанес ему три удара – шпагой, кинжалом и снова шпагой. Когда противник попытался выпрямиться, из-под лопатки у него торчало не меньше двух пядей стали.
– Матерь Божья! – вскрикнул он в тот миг, когда Алатристе выдернул клинок из его груди. Потом выругался, потом снова воззвал к Пречистой Деве – и рухнул на колени, привалясь к стене и выронив зазвеневшую о камни шпагу.
От дверей монастыря, где по-прежнему кипела схватка, к ним уже бежали. Грянули выстрелы из аркебуз, и, как на масленичном гулянье, улица с площадью озарились, запахли порохом. Несколько пуль прожужжало над головами Алатристе и дона Франсиско, а одна, пролетев между ними, сплющилась о стену.
Кеведо высказался по этому поводу прозой – кратко и выразительно: тут и в самом деле было не до подсчета стоп. Врагов все прибывало. Капитан, взмокший от пота под своим кожаным нагрудником, который сегодня трижды, по крайней мере, спасал ему жизнь, вертел головой, отыскивая путь к отступлению. Дон Франсиско, продолжая отбиваться, оказался вплотную к Алатристе – теперь они стояли плечом к плечу – и явно думал о том же самом.
– Пусть каждый пес себе под хвостом сам лижет, – прерывающимся голосом произнес он.
Парад, финт, рипост – и вот наконец раненый противник завертелся на земле у его ног. Однако силы поэта были на исходе, а второй продолжал наседать. Тогда капитан, взяв кинжал в зубы, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом в упор – расстояние было не больше полуфута – снес нижнюю челюсть тому, кто теснил дона Франсиско. Вспышка и грохот заставили остальных ослабить напор, и, улучив момент, Кеведо кинулся прочь, в очередной раз доказав, что хромота проворству не помеха.
Алатристе через мгновение последовал его примеру: по давней и очень полезной солдатской привычке он еще перед началом дела наметил себе путь возможного отхода – ибо по опыту своему знал, что потом, если дело пойдет наперекосяк, может не хватить здравомыслия, а то и просто сил, – и выскочил в заранее облюбованный узенький проулок, упиравшийся в невысокую ограду, одолеть которую труда не составило, только с громким кудахтаньем шарахнулись из-под ног спугнутые им куры. В окне вспыхнул свет, кто-то закричал, однако Диего Алатристе уже пересек двор. В темноте споткнулся, упал, но не ушибся – и, перемахнув очередную изгородь, понял, что выбрался целым и невредимым, если не считать нескольких царапин, и что во рту у него так пересохло, что впору вспомнить песчаные дюны Ньипорта. Забившись в какую-то щель, чтобы перевести дух, капитан думал о том, удалось ли дону Франсиско унести ноги. А когда вновь обрел возможность слышать не только свое дыхание, понял, что со стороны монастыря бенедиктинок не доносится больше ни криков, ни выстрелов: ломаного грошика не дал бы он теперь за жизнь дона Висенте и его сыновей. В том весьма маловероятном случае, если кто-то из них уцелел в бою.
Послышались тяжелые шаги, бряцание оружия, заметались отблески факелов по стенам – и вновь стало тихо и темно. Он отдохнул и пришел в себя, но еще долго простоял во тьме не шевелясь, не обращая внимания на озноб – сорочка под нагрудником насквозь вымокла от пота. Другое занимало капитана – снова и снова он спрашивал себя, кто же заманил их в ловушку.
Выстрелы и лязг стали заставили меня повернуть назад и задаться тревожным вопросом – что же творится на маленькой площади Энкарнасьон? Припустил было бегом, но благоразумие проторило дорожку к моей душе, и я замедлил шаги. Благодаря Алатристе, крепко была усвоена мною солдатская премудрость: «Потеряешь голову – не сносить тебе головы». И потому я остановился, чувствуя, как колотится сердце, и принялся размышлять о том, что мне делать, и о том, поможет ли мое появление друзьям или напортит им. Размышления эти были прерваны топотом бегущих ног и грозным криком «Ни с места! Инквизиция!», а от этого слова, как я уже говорил вам, господа, кровь стыла в жилах у самого отчаянного храбреца. И потому я счел за благо юркнуть под невысокую каменную стенку, тянувшуюся на манер парапета вдоль всего спуска. И вовремя – едва успел я притаиться, как вновь над самой моей головой загремели выстрелы, зазвенели клинки и раздались голоса. У меня не было времени предаваться печальным думам о судьбе капитана и дона Франсиско – пора было спасать собственную шкуру. И тут совсем неподалеку рухнул наземь человек. Я уже было собрался порскнуть как заяц в сторону, но тут до меня донесся жалобный стон, я вгляделся в черты распростертого на мостовой человека и, благо луна давала достаточно света, узнал младшего из братьев де ла Крус, дона Луиса, тяжело, судя по всему, раненного при отступлении из монастыря. Когда я подобрался ближе, он привстал, испуганно вскинул на меня глаза, в полутьме блестевшие горячечно. Потом провел рукой по моему лицу, как это делают слепцы, пытаясь определить, кто перед ними, и тотчас бессильно повалился ничком. Причина этого изнеможения обнаружилась в тот миг, когда я, подхватив его, ощутил под пальцами обильную ледяную испарину, а ноздрями втянул тошнотворно-сладковатый запах крови – дон Луис, навылет простреленный из аркебузы, получивший вдобавок несколько колотых ран, был весь ею залит.
– Помоги мне, малыш…
Он так тихо, так слабо произнес эти слова, что я скорее угадал их, чем услышал. Усилия, которые потребовались, чтобы выговорить их, оказались для юноши чрезмерны – он снова обмяк. Я попытался приподнять его – тщетно: дон Луис оказался тяжеленек, раны не давали ему шевелиться, а от моих неосторожных движения он протяжно, страдальчески застонал. Тут только я заметил, что из оружия при нем – лишь кинжал у пояса: я наткнулся на рукоять, стараясь поставить раненого на ноги.
– Помоги… – повторил раненый.
В бедственном своем положении он выглядел совсем юным – чуть ли не ровесником мне – и очень жалким: куда девались его молодцеватая и мужественная стать, произведшая на меня при первой встрече столь сильное впечатление? Да, дон Луис был старше и сильней, но дырок в нем понаделали предостаточно, я же остался цел, и потому, исходя кровью, надеяться он мог только на меня. Я понял, что ответственен за него, и потому, подавив естественный порыв бросить его и удрать во всю свою отроческую прыть, закинул руки валенсианца к себе на плечи и попытался взвалить раненого на спину. Не вышло – слабея с каждой минутой, он не держался на ногах и захлебывался собственной кровью. Рука его в поисках опоры коснулась моего лица, и я почувствовал на щеке теплую липкую влагу. Я выпустил его, и дон Луис снова осел на землю, привалившись спиной к стене. Я принялся на ощупь искать те бреши, через которые по капельке выходила из него жизнь, чтобы заткнуть их платком; но когда нашел первую рану и, подобно Фоме Неверному, вложил в нее персты, понял – усилия мои будут бесплодны: юноша нового дня уже не увидит.
Я испытывал какую-то странную досаду. «Беги, Иньиго», – говорил я себе и не трогался с места. Выстрелы и крики стихли, но воцарившееся на маленькой площади безмолвие было почему-то особенно гнетущим. Я думал о капитане и о Кеведо – убиты они, схвачены или за ними погоня? – и ни одна из этих трех возможностей не утешала меня, хотя я надеялся, что благодаря фехтовальному искусству поэта и хладнокровию моего хозяина они отбились и нашли убежище в какой-нибудь из соседних церквей. Но открыты ли были их двери в столь глухой час?
Я медленно выпрямился. Скорчившийся на земле Луис де ла Крус тонул в собственной крови – целая лужа ее поблескивала в лунном сиянии – и, обессилев, больше уже не стонал, не звал на помощь. «Кончается», – подумал я, услышав, как его дыхание, делавшееся с каждой минутой все слабее и прерывистей, время от времени перемежается предсмертными хрипами.
Прозвучавший в отдалении выстрел – из пистолета или аркебузы – вселил в меня надежду: быть может, кто-то из преследователей в бессильной ярости выпалил вслед неуловимому, как тень, капитану Алатристе, невредимым скрывшемуся во тьме. Ну а мне пора было искать убежище. Склонясь над умирающим, я отстегнул у него с пояса кинжал – в дальней дороге он юному дону Луису не пригодится – и решил убираться отсюда поскорей.
В этот миг у меня за спиной прозвучала негромко высвистанная музыкальная рулада – тирури-та-та – я похолодел, и пальцы мои, обагренные кровью дона Луиса, крепче стиснули рукоять его кинжала. Медленно обернулся, одновременно занося клинок, блеснувший в лунном свете. На парапете я увидел хорошо знакомый силуэт в плаще и широкополой шляпе. Увидел и понял: ловушку нам подстроили смертельную, и теперь в нее попался я.
– Вот мы и снова встретились, – произнес он.
Похоронным звоном прозвучал для меня в ночном безмолвии голос Гвальтерио Малатесты, голос надтреснутый и сипловатый. Вы спросите меня, быть может, какого дьявола стоял я как вкопанный, а не кинулся со всех ног прочь, словно бы от этого самого дьявола удирая? Объясню. По двум причинам: во-первых, появление итальянца пригвоздило меня к земле, а во-вторых, он перекрывал мне путь к отступлению. Короче говоря, я остался на месте, держа перед собою кинжал, а итальянец оглядывал меня с таким невозмутимым спокойствием, будто в запасе у него была вечность.
– Вот мы и снова встретились, – – повторил он.
Он медленно, нехотя, через силу слез с парапета и сделал шаг ко мне. Один-единственный шаг. Я видел, что шпага его остается в ножнах, и чуть шевельнул кинжалом – лунный свет мягко скользнул по клинку.
– Дай-ка мне эту штучку, – сказал итальянец.
Я стиснул зубы и не отвечал, чтобы дрогнувшим голосом не выдать своего страха. Распростертый на земле дон Луис простонал в последний раз и предсмертный хрип его смолк. Малатеста, не обращая внимания на выставленный кинжал, сделал еще два шага вперед и склонился над мертвым, внимательно разглядывая его:
– Меньше работы палачу.
И пнул труп ногой. Потом снова повернулся ко мне, и даже в темноте я заметил – он удивлен тем, что кинжал все еще у меня в руке.
– Не дури, – пробормотал итальянец как бы между делом. – Сказано же: отдай.
Вокруг нас уже собрались люди, а подходили все новые и новые, держа пистолеты наготове и шпаги наголо. Луч фонаря скользнул по стене, взвился над нашими головами и тотчас двинулся вниз по склону, однако в его неверном свете я успел заметить, как черная тень итальянца нависла над Луисом де ла Крус. Тот был недвижим и, если бы не широко раскрытые, уставившиеся в никуда глаза, можно было бы подумать, что он спит, только почему-то – растянувшись в огромной красной луже.
Свет фонаря приближался, и тень Малатесты теперь закрыла меня. Силуэт его четко выделялся на фоне поблескивающих кирас и клинков. Кинжал я не выпустил из рук. Фонарь сбоку осветил итальянца – худое лицо, оспинами и шрамами схожее с лунным диском, черные, тонко выстриженные усики, черные глаза, взиравшие на меня с веселым любопытством.
– Святейшей инквизицией ты взят под стражу, паренек, – сказал он, и оттого, что губы его кривились угрожающей усмешкой, зловещая формула прозвучала как глумливая шутка.
Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить или хотя бы шевельнуться – и потому оставался нем и неподвижен, по-прежнему не опуская занесенный кинжал. Со стороны, вероятно, это выглядело попыткой оказать сопротивление, которая так забавляла итальянца. Несколько окружавших нас сыщиков двинулись ко мне, но Малатеста остановил их, а потом очень медленно, словно давая мне время одуматься, обнажил шпагу. Шпагу небывалой длины – целую вечность, показалось мне, выползала она из ножен – с широченной чашкой и массивной поперечиной. Итальянец секунду с задумчивым видом разглядывал блестевший в лунном свете клинок, а потом все так же неторопливо повел его ко мне. По сравнению с ним кинжал выглядел так жалко, так убого! Но это был мой кинжал. И, хотя правая рука онемела и как будто налилась свинцом, я не опустил оружие, неотрывно глядя в завораживающие, как у змеи, глаза Малатесты.
– Да ты, я вижу, отчаянный малый. Послышались смешки. Итальянец продолжал плавно вытягивать вперед руку со шпагой, покуда ее острие с еле слышным звоном не дотронулось до кончика кинжала. От этого соприкосновения, будто замкнувшего, как теперь бы сказали, гальваническую цепь, волосы у меня на затылке встали дыбом.
– Брось, кому сказано!
Снова раздался чей-то смех, и кровь моя вскипела. Я резко отбил в сторону шпагу Малатесты, и раздавшийся лязг был равносилен вызову на поединок. Но тут же – не знаю, как это вышло! – у самого лица я увидел острие шпаги. Она была неподвижна и словно бы раздумывала, вонзиться в меня или еще рано. Я снова сделал выпад, но шпага исчезла как по волшебству, и удар попал в пустоту.
И снова – смех, от которого меня обуяла такая бесконечная жалость к себе, накатила такая смертельная тоска, что хоть плачь. Но я задавил слезы где-то в глотке – или в сердце? – прогнал их, так сказать, долой с глаз моих, оставшихся сухими. И понял: есть такое, чего мужчина сносить не должен, даже если речь идет о жизни его, ибо на свете есть кое-что поважнее жизни. В ту роковую минуту мне припомнились горы и зеленые поля в том краю, где прошло мое детство, запах дыма из печных труб, медленно расходящегося во влажном утреннем воздухе, жесткие крепкие ладони отца, колючее прикосновение его солдатских усов в тот день, когда он в последний раз поцеловал меня, прежде чем отправиться навстречу своей судьбе и пуле, прилетевшей к нему с бастиона Юлих. Я вновь ощутил жар очага, увидел мать, склонившуюся над шитьем или стряпней; услышал смех сестричек, играющих на полу; почувствовал тепло постели, где так славно было нежиться зимним утром. Потом перед глазами возникло небо – синее, как глаза Анхелики де Алькесар, и я пожалел, что встречаю смерть во мраке, с которым бессилен справиться угрюмый тусклый свет фонаря. Да тут жалей, не жалей – никто не волен выбрать себе час своей смерти. Ну а мой, без сомнения, пробил.
Пришла пора умирать, сказал я себе. И со всем пылом своих тринадцати лет, с безнадежно отчетливым сознанием того, сколько всякого замечательного никогда уже не удастся мне испытать и изведать, я устремил взор на острие вражеского клинка и, вверяя душу свою Господу, торопливо пробормотал краткую и наивную молитву, которой в ту пору, когда я произносил первые слова на родном баскском языке, научила меня мать. А потом, ни минуты не сомневаясь, что отец ждет меня, раскинув руки для объятья и с улыбкой гордости на устах, – крепче стиснул кинжал, зажмурился и кинулся вперед, прямо на шпагу Гвальтерио Малатесты.
Но остался жив. Потом, всякий раз, как пытался я припомнить ту минуту, мне удавалось восстановить ее лишь в виде череды стремительно сменяющих друг друга ощущений: вот в последний раз блеснул перед глазами клинок итальянца; вот заныла и онемела рука, в которой держал я кинжал, вслепую тыча им во все стороны; вот, не напоровшись грудью на отточенную сталь, не почувствовав ожидаемой боли, не встретив преграды, оказался в пустоте. А потом наткнулся на нечто неподатливо-прочное и плотное, и чья-то сильная рука не столько придержала меня, сколько обняла, будто оберегая и заботясь, как бы я не ушибся. Помню, что молча барахтался в этом объятии, отчаянно пытаясь высвободиться и все же всадить куда-нибудь свой кинжал, и голос с легким итальянским выговором бормотал над ухом: «Тихо, мой мальчик, тихо» – едва ли не с нежностью, и рука продолжала удерживать меня, словно бы для того, чтобы я сам не поранился острым трехгранным лезвием. Помню еще, что, уткнувшись лицом в какую-то темную ткань, припахивающую потом, железом, ременной кожей, продолжал вырываться, и та самая рука, которая только что вроде бы обнимала меня и защищала, медленно, не причиняя мне чрезмерной боли, вывернула мое запястье, заставив выпустить из разжавшихся пальцев кинжал. И тогда, чувствуя, как вскипают в глазах долгожданные, желанные слезы, я изо всех сил, яростно, как взбесившаяся собачонка, готовая погибнуть на месте, впился в эту руку зубами. Впился и не отпускал, покуда она не сжалась в кулак – и ночь разлетелась на тысячу осколков, все исчезло, а я без крика, без стона полетел в черную бездонную пропасть, уповая, что предстану Господу Богу как подобает солдату.
Потом мне приснилось, что я не умер. И уверенность в том, что придется очнуться, угнетала меня даже во сне.
V. Во имя Божие
Я пришел в себя внезапно, как от болезненного толчка, и понял, что нахожусь в карете с зашторенными окнами. Почувствовал непривычную тяжесть в руках и, шевельнув ими, услышал металлический звон – я был в кандалах, цепью прикованных к полу кареты. Сквозь неплотно задернутые занавески просачивался свет – значит, уже наступило утро. Тем не менее я понятия не имел, как долго нахожусь под арестом. Карета катила, не ускоряя и не замедляя ход, иногда – вероятно, на подъемах – я слышал щелканье кнута и голос кучера, понукавшего мулов. Где-то рядом равномерно цокали копыта лошадей. Стало быть, меня вывезли из Мадрида, да не просто, а в цепях и под конвоем. Если верить словам Гвальтерио Малатесты, это сделала инквизиция. Не надо было изощрять воображение, чтобы придти к самоочевидному выводу: будущность моя представала в самом черном свете.
Я расплакался. И в погромыхивающей тьме кареты, где никто не мог меня видеть, ревел долго и безутешно, а потом, шмыгая носом, отполз на четвереньках в дальний угол и вне себя от страха затаился там. Как и все мои соотечественники той поры, я знал, что такое инквизиция – зловещая ее тень долгие десятилетия нависала над нашими жизнями, во многом определяя их – и потому вполне отчетливо представлял себе свою судьбу. Путь мой лежал в Толедо, в тайные застенки Священного Трибунала.
Вроде бы я уже прежде упоминал об инквизиции. Жилось нам, может, и не хуже, чем людям в других странах Европы, хотя голландцы, англичане, французы и лютеране, бывшие в ту пору нашими природными врагами, в самом существовании этого ведомства находили оправдание тому, как беспощадно грабили они и терзали дряхлеющую испанскую империю. Спору нет, инквизиция, созданная когда-то, чтобы следить за чистотой вероучения, у нас в Испании была суровей, нежели в Италии, в Португалии или, скажем, в Западных Индиях. Это так. Однако существовала она и в других странах, ну а если даже ее и не было, немцы, французы и англичане истребили больше иноверцев, колдунов и ведьм, чем было их сожжено в нашем отечестве, где благодаря скрупулезной и рачительной бюрократии, доставшейся нам от австрийских государей, каждое поджаривание – а было их немало, но и не так уж много – предварялось судебным разбирательством и обставлялось должным образом с соблюдением всех протокольных формальностей, с указанием имен и фамилий. Таким порядком делопроизводства не могли, хоть лопни, похвалиться ни лягушатники христианнейшего короля Франции, ни богопротивные еретики, обитавшие чуть северней, ни презренные торгаши и пираты, гнездившиеся на Британских островах – там уж если жгли на кострах, так жгли, рассуждая, вероятно: «Вали кулем, потом разберем», вроде бы кого попало и кто под руку подвернулся, да только как на грех подворачивались все больше такие, от которых могло кое-что перепасть этой ораве корыстолюбивых лицемеров. Не забудьте, что в ту пору светское правосудие могло по части свирепости дать фору церковному, да и людишки отличались чрезвычайной кровожадностью, ибо нравы были непросвещенными, а у простонародья имелась врожденная склонность наслаждаться зрелищем того, как колесуют или четвертуют ближнего. Так что, если правду сказать, была инквизиция орудием государственной власти, вверенной монархам – ну, вот хоть четвертому нашему Филиппу – которые поручили ей следить за иудеями и маврами, принявшими христианство и называвшимися соответственно марранами и морисками, преследовать чернокнижников, ведьм, двоеженцев, содомитов, цензуровать книги и даже пресекать контрабандную торговлю оружием и лошадьми, а также изводить под корень фальшивомонетчиков. Последнее объяснялось довольно просто и очень складно: те и другие, нанося ущерб казне, становились врагами державы, а враг державы, защитницы веры, – он, ясное дело, и вероотступник, кем же ему еще быть?
И хотя – вопреки злобным измышлениям чужеземных клеветников – далеко не каждый процесс завершался костром, и пусть имеется множество примеров того, что приговоры выносились милосердные и справедливые, инквизиция, как и всякая чрезмерная власть, сосредоточенная в руках человеческих, роль сыграла пагубную. И упадок, который мы, испанцы, переживаем в этом столетии – ох, как давно скрипит и как долго еще будет скрипеть у нас на зубах пыль, в которую превратилась не нами разведенная грязь, – упадок этот объясняется в первую голову тем, что инквизиция вытравляла вольномыслие, отгораживала нас от прочего мира, насаждала мракобесие, лелеяла недоверчивость и подозрительность. И столь велик был внушаемый ею ужас, что даже так называемые близкие, то есть миряне, служащие в этом ведомстве, куда, кстати, можно было поступить за определенную мзду, пользовались – и как еще пользовались! – полнейшей безнаказанностью. Сказать про человека близкий было равносильно тому, чтобы назвать его доносчиком или соглядатаем, и при католическом нашем Филиппе расплодилось таковых в Испании двадцать две тысячи. Оценив эту цифру вы, господа, легко поймете, что значила инквизиция в такой стране, как наша, где всё на свете, включая святое причастие, продавалось и покупалось, где у всех были счеты со всеми, ибо продолжаю пребывать в глубочайшем убеждении насчет того, что не сыскать двух испанцев, которые, не говоря уж о чем-то другом, хотя бы чашку шоколаду себе на завтрак заказывали на один манер, так ведь нет: этому вари черный и притом чтоб непременно был из Гуаксако, тому – пополам с молоком, третьему – подавай с бисквитами, а четвертому – в особой такой чашечке, именуемой хикарой, да еще с гренками, пропитанными вином либо молоком, облитыми яйцами, обмазанными медом или сахаром или еще каким сиропом. И при таком разнообразии мнений и вкусов количество камней за пазухой возрастает многократно, и уже не в том дело, взаправду ли ты добрый католик и старый христианин, а в том, насколько ты на них похож. А чтоб такого сходства добиться, нет средства лучше, нежели донести на тех, кто таковым не является или, по крайнему твоему разумению, подхлестнутому злобой ли, завистью, давними ли обидами, ревностью или еще чем, в этом отношении сомнителен. И потому, как и следовало ожидать, пышным цветом цвело доносительство: «Своими глазами видел, как он… Своими ушами слышал, как она… Знаю достоверно… Священным долгом считаю уведомить…» и прочая, и прочая. И когда неумолимый перст инквизиции указывал на какого-нибудь бедолагу, тот в одночасье оказывался покинут приятелями, друзьями и родней. И как же тут было сыну не обвинить отца, не свидетельствовать жене против мужа? И мог ли взятый под стражу, если желал он избежать пыток и казни, не выдать, верней – не измыслить соучастников?
Теперь представьте, каково было мне в тринадцать-то лет угодить в эти гибельные тенета, знать, что меня ожидает, и бояться даже помыслить об этом. К тому времени я понаслушался историй о людях, которые добровольно лишали себя жизни ради того, чтобы избегнуть узилища, куда должны были вот-вот ввергнуть и меня, и признаюсь вам, что в ту минуту, трясясь в темной карете, я этих людей понимал прекрасно. Насколько лучше было бы, наскочив на шпагу Гвальтерио Малатесты, принять смерть славную, быструю, легкую. Однако Божественное провидение решило провести меня и через этот искус. Скорчившись в углу кареты, я глубоко вздохнул и приготовился безропотно принять все, что пошлет мне судьба, и выдержать это испытание. Хотя, честное слово, не возражал бы, если бы провидение – уж не знаю, божественное или еще какое – избрало для этого личность более достойную.
Во все продолжение пути я размышлял о капитане Алатристе, всеми силами души желая, чтобы он оказался на свободе и хорошо бы – где-нибудь поблизости, и пришел ко мне на выручку. Впрочем, я сознавал, сколь призрачна эта надежда: даже в том случае, если ему удалось выбраться из – теперь в этом уже не было никакого сомнения – ловушки, тщательно и грамотно сработанной нашими врагами, действие происходило не в рыцарском романе, и при толчках кареты позвякивали на моих запястьях вполне всамделишные кандалы. Не выдумкой был и мой страх, не игрой воображения – томившие меня одиночество и неясное будущее. Насчет последнего, впрочем, – это как посмотреть: может, и чересчур ясное. Дело-то все в том, что впоследствии, с течением времени приключения военные и любовные заставили меня разувериться в очень многом. Но и тогда, в нежном тринадцатилетнем возрасте, в чудеса я уже не верил.
Карета остановилась. Я слышал, как перепрягают мулов, из чего заключил, что мы подъехали к почтовой станции, и старался понять, где она находится. Но тут распахнулась дверца, и от ударившего в лицо ослепительного света я на несколько мгновений ослеп. Протер глаза – и увидел перед собой Гвальтерио Малатесту, стоящего у подножки. Он был по своему обыкновению весь в черном – от кончиков перчаток до носков сапог – и с черным пером на шляпе. Тщательно выстриженные тонкие усики, подчеркивая худобу лица, покрытого оспинами и рубцами так, что оно походило на изрытое ядрами поле битвы, казались неуместно изысканными. За спиной итальянца на расстоянии примерно полулиги [[32]] лучи заходящего солнца позлащали древние стены Толедо и высившийся над ними купол императорского дворца.
– Что ж, мальчуган, здесь мы с тобой простимся, – сказал Малатеста.
Я глядел на него непонимающе и ошеломленно. Полагаю, вид у меня был довольно плачевный, ибо на лице и одежде засохло много крови, вытекшей из несчастного дона Луиса, да и пол в карете был нечист. Мне почудилось, что итальянец на мгновение сморщился, будто ему не понравилась моя наружность – или положение, в коем я оказался. Я же продолжал взирать на него растерянно.
– Теперь тобой займутся другие.
Я уже хорошо знал это медленное движение губ, обнажавшее белоснежные клыки в кривой волчьей ухмылке, от которой ощущение смертельной угрозы, исходящее от этого человека, делалось совсем нестерпимым. Но он тотчас согнал ее с лица. Может, счел, что для меня, и без того уже, как говорится, вконец измытаренного, это будет слишком сильно. Так или иначе, Гвальтерио Малатеста пребывал, можно сказать, в замешательстве. Еще минуту он глядел на меня, а потом взялся за подножку, чтобы убрать ее.
– Куда меня везут? – осведомился я и сам не узнал свой голос: так слабо и хрипло звучал он.
Итальянец с прежним спокойствием устремил на меня черные, как сама смерть, немигающие глаза, словно лишенные век.
– Туда.
И снизу вверх дернул головой, указывая на город за спиной. Я смотрел на его руку, державшую подножку, как будто это была рука палача, а трехступенчатая складная лесенка – моей надгробной плитой.
– За что? Что я сделал? – допытывался я, подсознательно желая отсрочить расставание с солнечным светом, который, как я чувствовал, увидеть мне теперь доведется не скоро.
Он не ответил. И продолжал рассматривать меня. Я слышал, как звякает упряжь перепрягаемых мулов; вот карета чуть вздрогнула – свежая пара заняла свое место в постромках. За спиной итальянца я видел нескольких до зубов вооруженных людей, а среди них – черно-белые сутаны двух доминиканцев. Один из них окинул меня беглым и безразличным взглядом, каким озирают предмет неодушевленный, и от этого взгляда меня пронзил небывалый доселе страх.
– Мне жаль тебя, – произнес Малатеста.
Вероятно, он догадывался, какой ужас я испытываю, и разрази меня гром, если слова эти не были сказаны от чистого сердца. Он и вправду пожалел меня – пусть хоть на минуту. Три слова и какая-то искра, мелькнувшая в черной глубине глаз. Но когда я попытался было раздуть эту искорку сочувствия, то вновь увидел передо собой бесстрастную маску наемного убийцы. Он уже убрал сложенную подножку внутрь кареты.
– Что с капитаном? – тоскливо спросил я, изо всех сил цепляясь за возможность лишнее мгновение видеть солнце, уходящее от меня, быть может, навсегда.
Итальянец не отвечал. На свету оставалась еще левая сторона его угрюмого лица. И я заметил – сомнений быть не могло! – как легчайшая, почти неуловимая тень бессильной ярости промелькнула по нему, промелькнула и исчезла, и бескровные тонкие губы скривились в привычной гримасе опасного хищника. Но до этого мне уже не было никакого дела, и, почувствовав толчок в сердце, я понял – мгновенно и безошибочно, – что Диего Алатристе из расставленных на него силков ушел.
Гвальтерио Малатеста с силой захлопнул дверцу, и я вновь оказался во мраке. Послышались какие-то командные выкрики, удаляющийся топот копыт на галопе, щелканье кнута. Мулы резво взяли с места, карета тронулась и покатила, увозя меня туда, где и сам Господь Бог бессилен был бы мне помочь.
Безнадежные ощущения человека, попавшего меж шестерен могучей машины, бесчувственной и уж тем более – безжалостной, я испытал сразу после того, как меня высадили из кареты в угрюмом тюремном дворе, при тусклом сумеречном свете казавшемся еще мрачнее. Меня освободили от наручников и в безмолвном сопровождении четырех стражников и двух доминиканцев – тех самых, кого я видел, когда перепрягали мулов – доставили в подвал. Избавлю вас, господа от скучных подробностей того, как был я раздет донага и доскональнейшим образом осмотрен, а затем подвергнут предварительному допросу, в продолжение коего некий делопроизводитель записал в протокол мои имя и фамилию, года, имена отца и матери, двух дедов и двух бабок, четырех прадедов и четырех прабабок, место рождения и место нынешнего проживания. После чего столь же формально удостоверился в том, что перед ним – добрый католик, попросив меня прочесть «Отче наш» и «Богородице», а затем спросил, скольких людей, имеющих касательство к тому положению, в котором пребываю, могу я назвать. Мой вопрос о том, а в каком же это положении я пребываю, чиновник оставил без внимания. Тогда я осведомилcя, за что меня арестовали, и снова ответа не дождался. Когда же он принялся настойчиво допытываться о моих знакомых, не ответил уже я, изобразив смятение и страх, для чего, скажу по правде, особенно притворяться не пришлось – достаточно было лишь чуточку дать волю чувствам, томившим мою душу. Чиновник продолжал выспрашивать – я ударился в слезы, и тогда он счел, вероятно, что на сегодня довольно, сунул перо в чернильницу, присыпал песком исписанный кругом лист, сложил его вдвое. И я решил использовать это верное средство всякий раз, как меня будут припирать к стенке, причем больших усилий для того, чтобы разреветься, мне явно не понадобится. Ибо предвидел я, что уж чего-чего, а причин пустить слезу здесь будет в избытке.
Ну а после этого обнаружилось – то, что счел я окончанием процедуры, было всего лишь вступлением или прологом, а первое действие еще даже и не начиналось. Я понял это в ту минуту, когда был препровожден в квадратную, освещенную большим многосвечным канделябром комнату без окон, всю обстановку которой составляли два стола – большой и маленький – да несколько скамеек За большим столом сидели два монаха, виденных мною на почтовой станции, и некто третий – важного вида бородатый человек в темном одеянии и с золотым крестом на груди: вероятно, судья. За маленьким, где стоял чернильный прибор и лежала стопка бумаги, пристроился чиновник, но не тот, который снимал с меня первоначальные показания, а другой – ну, вылитый ворон на суку – тщательно записывавший все, что говорилось, и, боюсь, не только это. Караулили меня два стражника – рослый здоровяк и рыжий задохлик. На стене висело огромное распятие, и похоже было, что раскинувший руки на перекладине креста прошел сначала через этот самый трибунал.
Вскоре узнал я: из всего, что выпадает на долю узника тайной тюрьмы, самый ужас – в том, что не тебе предъявляют обвинения, не приводят доказательства и свидетельства твоей вины. Инквизиторы всего лишь задают один вопрос за другим, писарь скребет пером, занося на бумагу каждое твое слово, а ты ломаешь голову, пытаясь понять, пойдут ли эти слова тебе на пользу или погубят окончательно. Проходят недели, месяцы, иногда и годы, а ты так и не знаешь, по какой причине томишься в узилище; если же ответы твои не удовлетворят вопрошающих, будешь подвергнут пытке, чтобы легче давал то, что на их языке называется «признательные показания». И вот тебя пытают, а ты отвечаешь бессмысленно и невпопад, не ведая, что же все-таки следует отвечать, и приходишь к полнейшему отчаянью, к поклепу – намеренному или невольному – на своих друзей и на себя самого, а порой – к сумасшествию и гибели. Это – в том случае, если не успели нацепить тебе на голову позорный колпак-коросу, не напялили размалеванный чертями и языками пламени балахон-сан-бенито, не стиснули шею удавкой гарроты да не поставили тебя на поленницу славных сухих дровишек, чтобы при восторженных рукоплесканиях соседей и добрых знакомых, охочих до такого зрелища, запалить под тобой костерок.
Я, по крайней мере, знал, за что попал в застенок – нечего сказать, большое утешение. И после первых же вопросов оказался в весьма затруднительном положении. Ибо младший из монахов – тот, который во время моей последней беседы с итальянцем вскользь окинул меня таким равнодушным взглядом – потребовал назвать имена моих сообщников.
– Каких сообщников, ваше преосвященство?
– Я не епископ, – хмуро набычась, отчего в свете канделябра блеснула тонзура, произнес он. – Назови тех, кто вместе с тобой свершал святотатственное деяние.
Роли у них были расписаны, как на театре. Покуда бородатый хранил молчание, изображая судью, который слушает и советуется сам с собой, прежде чем вынести приговор, младший доминиканец добросовестно представлял следователя неумолимого и безжалостного, а старший, человек тучный и рыхлый, – благожелательного и добросердечного. Однако я уже достаточно потерся в Мадриде, чтобы раскусить эту игру, и решил не бояться одного, не доверять другому, а на третьего, раз он все равно безмолвствует, вовсе не обращать внимания. Кроме всего прочего, я ведь не знал, что именно известно инквизиции, и что подразумевалось под определением «святотатственное деяние». А уж если сел играть с такими партнерами, знай, прикупая, что недобор ничем не лучше перебора. И ведь не скажешь им: «Себе!»
– Нет у меня никаких сообщников, святой отец, – обратился я к благодушному толстяку, не возлагая на него, впрочем, больших надежд. – И я не совершал никакого святотатства.
– Стало быть, ты отрицаешь, – сейчас же произнес младший, – что вкупе с другими пытался осквернить обитель бенедиктинок?
Это было уже нечто: по крайней мере, от умозрительных понятий мы перешли к делу, хотя при одной мысли о последствиях, которое оно может повлечь за собой, мурашки побежали у меня по коже. Разумеется, я отрицал все, уверяя, что не только не знал, но и никогда прежде в глаза не видел юного тяжело раненного дворянина, на которого, возвращаясь домой, буквально наткнулся у парапета на спуске Каньос-дель-Пераль. Отрицал, что оказывал сопротивление при аресте. Отрицал все, что только можно было, за исключением двух непреложных обстоятельств – я был взят с оружием в руках, и на одежде моей и сейчас еще имелись следы чужой крови. Глупо было бы вопреки всякой очевидности опровергать это, а потому я сначала пустился в весьма запутанные объяснения, больше напоминавшие увертки, а потом прибег к испытанному средству, которое приберегал на крайний случай, – пустил слезу. Однако трибунал этот слез повидал предостаточно, а потому оба монаха, бородач в темной одежде и писец стали просто-напросто дожидаться, когда поток моих иеремиад иссякнет. Времени свободного у допросчиков моих, как видно, было вдоволь, и это обстоятельство вкупе с полнейшим безразличием, выказанным ими, – они нимало не ожесточались, не досадовали, а только настойчиво повторяли одни и те же вопросы – тревожило меня сильнее всего. Как ни пытался я, утерев слезы, придать себе тот беспечный и непринужденный вид, который убедительней всего свидетельствовал бы в пользу моей невиновности, душа моя трепетала от того, сколь невозмутимо-терпеливы оказались эти люди. Ибо на исходе первого десятка «нет» и «не знаю» даже тучный монах бросил притворство, и стало очевидно, что ближайший кладезь милосердия и сострадания следует искать в нескольких милях отсюда.
Больше суток у меня во рту маковой росинки не было, так что я, хоть и сидел на скамье, чувствовал сильную дурноту. И, поскольку источник слез иссяк, я стал подумывать, не брякнуться ли мне в обморок, который с учетом пережитого и предстоящего тоже был бы не вполне притворным. И тут первый монах спросил такое, от чего я и в самом деле едва не лишился чувств:
– Что знаешь ты о Диего Алатристе-и-Тенорио, известном под кличкой «капитан»?
«Ну вот, Иньиго, мы и приплыли», – подумалось мне. Все кончено. Хватит отнекиваться и изворачиваться. С этой минуты все, что ты скажешь и чего не скажешь, может быть и будет использовано против капитана, благо на бумагу заносится решительно каждый твой вздох. Так что молчи. И несмотря на всю бедственность моего положения и на то, что голова моя кружилась все сильней, и необоримый ужас заполонял все мое естество, я, собрав остаток сил, принял твердое решение – ни эти монахи, ни застенки их тайной тюрьмы, ни Высший совет инквизиции, ни сам папа римский не вырвут у меня ни звука о капитане Алатристе.
– Отвечай! – приказал монах.
Я не внял. Опустив голову, я уставился в то место на полу, где каменную плиту пересекала трещина – извилистая, как гадючья моя судьба. И продолжал глядеть на нее, когда один из стражников, повинуясь едва заметному знаку, который одними глазами ему подал монах помоложе, сделал шаг вперед и огрел меня по затылку так, что звон пошел по всему телу. Судя по произведенному впечатлению, прикинул я, этот куваддоподобный кулачище принадлежит дюжему.
– Отвечай! – повторил монах.
Я продолжал изучать трещину, за что и был вознагражден новым, еще более крепким подзатыльником. Как я ни сдерживался, слезы, столь же непритворные, сколь истинной была испытанная мною боль, брызнули из глаз. Но я вытер их ладонью – вот как раз сейчас плакать было нельзя и стыдно.
– Отвечай!
Я закусил губу, чтобы ненароком не открыть рот, и тут трещина внезапно полетела мне навстречу, а барабанные перепонки чуть не лопнули. На этот раз удар швырнул меня на пол – и был он такой же холодный, как голос, который снова приказал:
– Отвечай!
Звуки доходили из какой-то дальней дали, как бывает в дурном сне. Чья-то рука перевернула меня на спину, и я увидел лицо рыжего тщедушного стражника, склонившегося надо мной. Признаюсь, что не удержался от стона, в котором рвались наружу чувства бесконечного одиночества и отчаянья: я знал, что превыше сил человеческих вызволить меня отсюда, а палачам моим торопиться некуда. Ну а моя дорога в преисподнюю только начиналась, и не было решительно никакого резона спешить, а потому как раз в тот миг, когда рыжий, ухватив меня за ворот, начал поднимать с полу, я превосходнейшим образом потерял сознание. И – призываю в свидетели Иисуса, смотревшего на меня со стены, – на этот раз тут не было ни грана притворства.
Не знаю, сколько времени провел я в сырой камере в обществе огромной крысы: выныривая иногда из выгребной ямы в углу, она подолгу глядела на меня, вероятно, коротая таким образом время. Я спал, мучимый кошмарами, со скуки давил клопов, трижды в день получал ломоть хлеба и миску отвратительного пойла от мрачного и безмолвного тюремщика, предварявшего свое появление оглушительным лязгом замков и засовов. Однажды мои раздумья о том, как бы мне эту самую крысу истребить, потому что засыпать в ее присутствии я боялся до ужаса, были прерваны: за мной пришли стражники: рыжий и здоровяк – пусть за все, что получил я от него, Господь воздаст ему сторицей. На этот раз, пройдя по угрюмым коридорам, я оказался в комнате, похожей на ту, где допрашивали меня в первый раз, но наделенной не слишком отрадными отличиями в части обстановки и обитателей. Помимо бородача в черном, вороноподобного писаря и двоих монахов, за столом на этот раз сидел еще один доминиканец, к которому все обращались чрезвычайно почтительно, чтобы не сказать – подобострастно. Самый вид его внушал страх. Полуседые волосы, коротко подрубленные над висками так, что они образовывали нечто вроде шапочки; впалые щеки, тощие бескровные руки, которые он то прятал в рукава сутаны, то выпрастывал из них, подобно тому, как выпускает и втягивает когти кот; глаза, полыхающие исступленным огнем. Человека с такой наружностью не хотелось бы иметь в числе своих врагов. Рядом с ним остальные выглядели благостными божьими коровками. Да, забыл прибавить, что в углу были приготовлены кое-какие орудия пытки. Сесть мне было не на что, так что ноги, которых я и так, что называется, под собой не чуял, скоро начали дрожать. Словом, как тут было не вспомнить поговорку: «Не слишком ли много пескарей для одного котика?»
И снова избавлю я вас, господа, от подробностей очередного дознания, коему подвергли меня мои старые друзья доминиканцы, в то время как бородач с крестом на груди и третий монах молчали и слушали, стражники безмолвно стояли у меня за спиной, а писец, тыча пером в чернильницу, заносил на бумагу все, что я отвечал и о чем умалчивал. На этот раз, благодаря вмешательству новоприбывшего, передавшего остальным какие-то бумаги, с которыми те, прежде чем обратиться ко мне с новыми вопросами, ознакомились очень внимательно, я получил хоть какое-то представление о том, во что влип. По крайней мере, пятикратно прозвучало грозное слово «иудействующий» – и всякий раз волосы у меня неизменно вставали дыбом. Подумать только, всего тринадцать букв – а сколько народу отправилось из-за них на костер.
– Известно ли тебе, что семейство де ла Крус не отличается чистотой крови?
Эти слова поразили меня как громом, ибо их зловещая подоплека была мне ясна. С тех пор как католические государи Фердинанд с Изабеллой изгнали из Испании иудеев, инквизиция подвергала жестоким гонениям последних приверженцев Моисеева закона, особо преследуя тех, кто принял христианство, но втайне исполнял религиозные обряды своих предков. В нашем лицемерном отечестве, где даже последний мужлан гордо причисляет себя к дворянству и «старым христианам», ненависть к евреям была всеобщей, а подлинные или за деньги добытые свидетельства о чистоте крови были совершенно необходимы всякому, кто претендовал на мало-мальски значительный пост, чин, сан. И покуда сильные мира сего приумножали свои богатства, проворачивая разного рода махинации и прикрываясь при этом фиговым листком показной набожности и благотворительности, мстительное и кровожадное простонародье утоляло духовный голод целованием реликвий, покупкой индульгенций и яростной травлей ведьм, еретиков, «иудействующих». И, как, если помните, высказался я уже однажды по отношению к сеньору Кеведо и другим, моровая язва ненависти и нетерпимости к инаковерующим заражала даже самых светлых разумом и чистых духом испанцев. Вспомним, что сам великий Лопе написал:
Сей сброд, что древле был рассеян Адрианом [[33]], Отчизны нашей города Заполонил. Сколь пагубы, ущерба и вреда Принес он добрым христианам! О, племя гнусное! В безудержном напоре Ты расплодилось здесь Испании на горе.А другой гранд нашего театра, дон Педро Кальде-рон де ла Барка вложил в уста одному из любимейших своих персонажей такие слова:
О, проклятые! Как много На кострах их погибало, Я же радовался, глядя, Как их пламя злое гложет, И твердил, сгребая угли: «Смерть еретикам-собакам! Инквизиция не дремлет».Не забудем и дона Франсиско де Кеведо, который в настоящее время еще находится в бегах или уже схвачен за то, что счел для себя делом чести помочь оказавшемуся в беде другу с весьма сомнительной родословной, и однако же – вот ведь странность, присущая нашему подлому, притягательному и противоречивому веку – метнул в иудеев немало отравленных стрел в стихах и в прозе. А в последние полвека, когда в нашем отечестве протестантов и морисков не стало – всех извели: кого сожгли, кого выслали – и в царствование славного и великого государя Филиппа Второго присоединили к державе нашей Португалию, так что тамошние скрытые и явные сыны Израилевы оказались у нас под рукой, инквизиция набросилась на них, как шакал на падаль. Это, кстати, была еще одна из причин того, почему не заладились у всесильного нашего министра отношения с Высшим советом. Ибо дон Гаспар де Гусман Оливарес, фаворит бывшего и нынешнего королей, тщась сохранить в неприкосновенности обширное наследие Священной Римской империи и отчаянно нуждаясь в деньгах, чтобы воевать во Фландрии и держать Арагон с Каталонией в узде, пресекая – а это, доложу вам, было дело непростое, – все их попытки отложиться, памятуя, что себялюбивая знать раскошеливается с большим скрипом, а податные сословия разорены до нитки, счел, что Испания не может долее оставаться заложницей генуэзских банкиров, и решил заменить их банкирами португальскими, которые, хоть и были весьма подозрительного происхождения, зато ссужали нас деньгами – отличными, наличными, самой что ни на есть христи… – виноват, кристальной – чистоты, ибо есть ли что на свете чище чистогана? Оттого и начались у графа Оливареса трения с Государственным советом, с инквизицией и даже с самим папским нунцием, тогда как наш обожаемый монарх, человек мягкотелый и недалекий, будучи не слишком сведущ в вопросах совести – как, впрочем, и во всех прочих, – пребывал в нерешительности, хотя все же в душе склонялся к тому, что лучше бы выжать из своих подданных все до последнего медного грошика, чем отдать на поругание святую веру. Дальше – больше. Известное время спустя, уже ближе к середине века, граф-герцог загремел в опалу, а инквизиция отыгралась за все и начала невиданную доселе травлю «новых христиан», что и загубило проект Оливареса бесповоротно, поскольку очень многие крупные банкиры и поставщики – как испанские, так и португальские – и сами подались, и капиталы свои вывезли за границу – в ту же, например, Голландию – к вящей выгоде наших заклятых врагов, которые с их помощью нас и доконали. Говорю «доконали», потому что стараниями здешних грандов и бешеных попов, равно как и тамошних еретиков – всех бы их, сволочей, и тех, и этих, в один мешок да в воду! – государство наше и так дышало на ладан. Не зря же говорится: «К шелудивой шавке все клещи липнут», – так что, может, нам, испанцам, никого и не надо было для нашей погибели, ибо всегда мы отличались редкостным умением так гадить сами себе, как и злейший враг не напакостит.
И вот в какие хитросплетенные тенета угодил я, безусый юнец, вот за что предстояло мне, судя по всему, расплатиться собственной тоненькой шейкой. Я вздохнул от безнадежности. Взглянул на спрашивавшего – это был все тот же монах помоложе. Писарь выжидал, занеся перо над бумагой и глядя на меня так, что ясно становилось – быть мне вскорости обугленной головешкой, есть к тому все основания.
– Я не знаком ни с кем из семейства де ла Крус, – ответил я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более убедительно. – И потому не способен судить о том, сколь чиста их кровь.
Писарь, кивнув себе самому: дескать, иного ответа и не ждал, – взялся за свое гнусное дело, заскреб перышком. Самый старший из монахов – тот, чья наружность так неприятно поразила меня, – не сводил с меня глаз.
– Известно ли тебе, – продолжал молодой, – что над Эльвирой де ла Крус тяготеет обвинение в том, что она, отправляя обряды иудейской веры, вовлекала в них других монахинь и послушниц?
Я сглотнул. То есть попытался, и у меня ничего не вышло, ибо – видит Бог – во рту у меня было сухо, как в печи. Ловушка захлопнулась, и надо сказать, что подстроили ее с дьявольской ловкостью. И снова ответил я отрицательно, все больше страшась того, что представало моему мысленному взору.
– Известно ли тебе, что ее отец и братья, вступив в сговор с иными иудействующими, предприняли попытку освободить Эльвиру, после того, как капеллан и настоятельница разоблачили ее и содержали под замком?
Ох, как явственно запахло жареным, и я даже знал, чье мясо скоро зашипит на огне. Но снова ответил «нет» – только на этот раз молча, ибо голос мне отказал. Что ж, насиловать его я не стал и потому беззвучно качнул головой. Однако неумолимый монах – не знаю, состоял ли он в должности фискала или еще кого, – не унимался:
– И ты отрицаешь, что вкупе со своими сообщниками участвовал в иудейском заговоре?
Тут, несмотря на то, что страх мой сделался еще сильней, я обрел возможность говорить. И сказал:
– Я – баск и принадлежу к древнему христианскому роду. Так же, как мой отец, который на поле брани отдал жизнь за короля.
Инквизитор пренебрежительно махнул рукой, будто говоря: эка невидаль, велика важность – погибнуть за короля. В этот миг тощий доминиканец, до сей поры хранивший молчание, склонился к нему и что-то прошептал на ухо. Молодой почтительно кивнул. Тощий повернулся и впервые обратился ко мне, и в его глуховатом голосе звучала такая угроза, что по сравнению с ним его предшественник показался мне живым воплощением сочувствия и понимания.
– Назови свое имя, – приказал этот иссохший старик.
– Иньиго.
Пронизывающий взгляд запавших, горячечно сверкающих глаз заставил меня запнуться.
– Иньиго… А дальше?
– Иньиго Бальбоа.
– Как фамилия твоей матери?
– Ее зовут Амайя Агирре, ваше преподобие. Все это я уже говорил прежде, все это имелось в бумагах, так что ухо следовало держать востро. Инквизитор поглядел на меня с каким-то свирепым удовлетворением.
– Бальбоа – это португальская фамилия. Земля качнулась у меня под ногами, ибо я понял, куда нацелена отравленная стрела этих слов. Мои предки и вправду происходили из Португалии, оттуда вышел мой дед, покинувший отчизну, чтобы воевать под знаменами испанского короля. В одно мгновение – я ведь говорил вам, господа, что смекалкой меня Бог не обидел – вся подоплека предстала передо мной с такой режущей отчетливостью, что будь поблизости открыта дверь, я вылетел бы из нее кубарем. Я искоса взглянул на стоявшую у стены деревянную кобылу, ожидавшую седока, вспомнил, что инквизиция никогда не использует пытку в качестве наказания – но лишь как средство установления истины, – и это воспоминание не осенило мою душу спокойствием. Оставалось уповать на то, что по уставу Священного Трибунала пыткам не могут быть подвергнуты люди, имеющие особые заслуги перед государством, королевские советники, беременные женщины, слуги, допрашиваемые с целью получения у них показаний на хозяев, и лица, не достигшие четырнадцати лет. Ну, то есть, я. Впрочем, мне до исполнения этого рокового срока оставалось всего ничего, и можно ли было сомневаться, что инквизиторы, способные отыскать в моей родословной предка-иудея, спасуют перед тем, чтобы ради святого дела прибавить мне умопостигаемым, так сказать, образом три недостающих месяца? Так что как бы не пришлось мне на этой кобыле поскакать.
– Мой отец не был португальцем! – возразил я с негодованием. – Он происходит из Леона, как и дед, который, вернувшись с войны, поселился в Оньяте и обзавелся там семьей… Он был солдат и христианин в двенадцатом колене.
– Все так говорят.
И тут раздался крик – чуть приглушенный расстоянием женский крик, исполненный ужаса и муки, и столь неистовый, что, пролетев по всем переходам и коридорам, через закрытую дверь ворвался в эту комнату. Инквизиторы, будто не слыша его, продолжали невозмутимо глядеть на меня. Я затрепетал от ужаса, когда сухопарый доминиканец чуть скосил свои лихорадочно горящие глаза на пыточный арсенал у стены, а потом вновь уставился мне в лицо.
– Сколько тебе лет? – спросил он. Женщина вновь закричала – и этот отчаянный крик хлестнул меня, как бичом. И снова мне показалось, что слышу его я один – все остальные даже бровью не повели. Глубоко посаженные глаза доминиканца пылали, словно два уготованных мне костра. Я затрясся, как в приступе малярии, и еле выговорил:
– Тринадцать.
Повисла гнетущая тишина, которую нарушало только скребущее о бумагу перо. «Хорошо бы, чтоб он и это записал», – мелькнуло у меня в голове. Тринадцать – и ни днем больше. В этот миг доминиканец обратился ко мне снова, и глаза его разгорелись еще ярче – по-новому и неожиданно заблестели ненавистью и презрением.
– Ну а теперь мы потолкуем о капитане Алатристе, – произнес он.
VI. Церковь Св. Хинеса
Игорный дом был полон народу, готового поставить на кон все что угодно, включая и собственную душу. Под оглушительный гомон и мельтешение завсегдатаев, новичков и попрошаек, ожидающих подачки с сорванного куша, Хуан Вигонь, бывший кавалерийский сержант, искалеченный под Ньипортом, с довольной улыбкой пробирался через комнату, стараясь не расплескать кувшин красного «Де Торо». За каждым из шести столов шла игра – мелькали карты, кости, монеты, менялись руки, звучали вздохи, проклятия, богохульства и божба, горели алчные взоры. В свете толстых сальных свечей блестело золото, сверкало серебро – дело шло так, что любо-дорого. Заведение Хуана помещалось в подвале некоего дома, расположенного совсем неподалеку от Пласа-Майор, и там можно было сыграть в любую игру, не запрещенную указами нашего короля, а равно и в те, которые закон не одобрял, – в последнем случае желательно было не привлекать к себе внимания. И неиссякаемое их разнообразие было под-стать неистощимому воображению игроков. Практиковались здесь ломбер, «сто», «свои козыри» – игры, так сказать, коммерческие, но также и «девятка», и «очко», в награду за ту быстроту, с коей мог человек, не успев перевести дух, продуться в пух, получившие почетное наименование «шпажных».
Коль близко к сердцу принимал их – Для драки поводы – рви шпагу из ножон! – А коль играть – играть лишь с тем резон, кто при деньгах – и при немалых.
Никого не смущало, что всего несколько месяцев назад вышел королевский указ, в соответствии с которым подлежали закрытию все игорные дома, поскольку четвертый наш Филипп, по молодости лет преисполненный наилучших, самых что ни на есть душеполезных, отменно благих намерений, помышлял, всячески к этому поощряемый своим благочестивым духовником, о таких славных вещах, как догмат непорочного зачатия, торжество католической веры во всей Европе и нравственное возрождение своих подданных в обоих полушариях, однако все это, равно как и попытки уничтожить дома терпимости – о торжестве католицизма в Европе я уж и не говорю – сгнивало, с позволения сказать, на корню, осыпалось, в рост пойти не успев. Ибо пробудить страсть в душе испанцев, управляемых отпрысками Габсбургского дома, могли, помимо театра, боя быков и еще одного – о нем будет сказано особо в надлежащем месте – только карты. В городках с населением в три тысячи жителей изводили за год пятьсот дюжин колод – игра шла и прямо на улицах, где истинные мастера своего дела передергивали и подтасовывали с искусством несравненным, а облапошив и обштопав простодушных и доверчивых прохожих, скрывались под шумок, и в игорных домах – легальных и подпольных, – и в тюрьмах, и в притонах, и в заведениях с девочками, и в тавернах, и в казармах. Большие города – вроде Мадрида или Севильи – кишмя кишели разными проходимцами и лоботрясами с тугой мошной, только и мечтавшими распечатать свеженькую колоду или взять в руку стаканчик с костями. Играли все: знать и простонародье, владетельные сеньоры и мошенники, мужчины и женщины – последние, хоть и не допускались в заведения, подобные тому, которое содержал Хуан Вигонь, но умудрялись до отказа заполнять другие, отличавшиеся большей свободой нравов, и уж там трефы с бубнами не путали. А поскольку мы, испанцы, были и остаемся людьми вспыльчивыми и щепетильными, привыкшими чуть что – хвататься за оружие, излишним считаю добавлять, что очень часто в лицо партнеру летели карты, а следом вылетали из ножен шпаги.
Прежде чем завершить свой обход, Вигонь бдительно покосился на нескольких известных ему «профессоров цыганского факультета», как называл он шулеров, всегда готовых в нужный момент вытянуть из рукава пятого туза и подменить колоду краплеными картами. Остановился он и для того, чтобы учтивейшим образом раскланяться с доном Раулем де ла Поса, идальго, происходящим из весьма состоятельной семьи: обстоятельство, которое не то что не мешало, а весьма помогало ему вести наибеспутнейший образ жизни. Дон Рауль, человек твердых правил, всегда появлялся в игорном доме непосредственно после визита в дом публичный, что на улице Франкос, где также был завсегдатаем и дорогим гостем, и играл ночь напролет, а в семь утра шел к заутрене в церковь Св. Хинеса. За его столом эскудо текли рекой, а вокруг всегда толклась орава прихлебателей, которые снимали нагар со свечей, подавали вино и даже – в тех случаях, когда дону Раулю везло, и он боялся отлучиться, чтоб не спугнуть удачу, – подносили урыльник. За это с каждого сорванного куша они получали законное вознаграждение – реал или два. Вигоня успокоило, что сегодня вечером дон Рауль был в компании маркиза де Абадеса и еще нескольких друзей, ибо едва ли не каждый день трое-четверо темных личностей поджидали его у выхода с тем, чтобы облегчить ему бремя выигрыша.
Диего Алатристе поблагодарил хозяина и одним духом опростал кувшин. Небритый, осунувшийся, скинув колет, но не сняв сапог, сидел он на топчане в особой комнатке, оборудованной Хуаном Вигонем, чтобы можно было отдохнуть и через жалюзи, оставаясь невидимым, наблюдать за тем, что происходит в игорной зале. Шпага на табурете в головах, заряженный пистолет поверх одеяла, кинжал под подушкой и тревожный взгляд, время от времени устремляемый сквозь деревянную решетку, свидетельствовали о том, что капитан готов к любым неожиданностям. Через маленькую, едва заметную дверку можно было попасть в коридор, а оттуда – прямо на площадь Пласа-Майор. Хуан заметил – Алатристе устроился так, чтобы в случае необходимости мгновенно собрать свою амуницию и начать стремительную ретираду. За последние двое суток капитан впервые прилег и забылся сном крепким, но чутким, ибо Вигонь, появившийся в этой комнатке с вопросом, не надо ли чего, прежде всего увидел уставленное себе в лоб дуло пистолета.
Алатристе ничего не спросил и, стало быть, ничем не показал, какое нетерпение его снедает. Вернул Вигоню пустой кувшин и выжидательно уставился на него зеленоватыми неподвижными глазами – от тусклого света масляной плошки, горевшей на столе, зрачки их были расширены.
– Будет ждать тебя через полчаса, – промолвил отставной сержант. – У церкви Святого Хинеса.
– Как он?
– Вполне. Эти два дня он провел в доме своего друга, герцога де Мединасели, и никто его не трогал. Глашатаи не объявили о том, что он разыскивается, ни полиция, ни инквизиция за ним не следят. И вообще вся эта история покуда не всплыла.
Капитан раздумчиво покивал. Что ж, ничего странного – все закономерно. Инквизиция – такое ведомство, что в колокола звонить не станет, покуда концы с концами не сойдутся намертво. А дело-то пока брошено на полдороге. И не есть ли полное отсутствие новостей частью хитроумного замысла?
– Ну а что говорят на паперти Сан-Фелипе?
– Передают друг другу слухи… – Вигонь пожал плечами. – Что, мол, у ворот бенедиктинской обители случилась драка и есть убитые… Но считают, что устроили это поклонники кого-то из монашек.
– Домой ко мне наведывались?
– Нет. Но Мартин Салданья наверняка что-то почуял, иначе не появился бы в таверне. По словам Непрухи выходит, что он ничего определенного не сказал, но кое-что дал понять. Намекнул, что служба коррехидора [[34]] не вмешивается, но дом взят под наблюдение. Кем – не пояснил, но можно понять, что он намекал на фискалов инквизиции. Ясней некуда: сам Салданья эту чакону плясать не будет, ну а ты спасай свою шкуру. Дело, по всей видимости, довольно тонкое, приглядывают за ним в три глаза, и никого постороннего, как видишь, близко не подпускают…
– Об Иньиго – ничего нового? Бесстрастный взгляд, невозмутимый тон. Ветеран Ньипорта осекся в смущении, стал вертеть единственной своей рукой кувшин.
– Ничего, – ответил наконец он, понизив голос. – Как сквозь землю провалился.
Алатристе еще мгновение сидел неподвижно и молча, рассматривая пол у себя под ногами. Затем поднялся:
– С преподобным Пересом говорил?
– Он старается, да пока толку мало. – Хуан смотрел, как Алатристе натягивает нагрудник из буйволовой кожи. – Сам знаешь, иезуиты с доминиканцами тайн друг другу не поверяют, и если мальчика взяли в трибунал, это выяснится не скоро. Перес, как только что-нибудь узнает, сейчас же тебя уведомит. И еще… Предлагает тебе спрятаться в церкви де ла Компаниа. Убежище надежное. Говорит, оттуда инквизиторы тебя не выцарапают, даже если ты зарезал папского нунция. – Через деревянные жалюзи он оглядел игорный зал и вновь повернулся к Алатристе. – И все же, Диего, от всей души надеюсь, что ты не зарезал папского нунция, хоть и не знаю, в чем там у тебя дело.
Капитан взял с табурета шпагу, задвинул ее в ножны. Туго затянул пояс, сунул за него кремневый пистолет, предварительно взведя курок и убедившись что заряд на месте.
– Расскажу как-нибудь, – сказал он.
Он собрался исчезнуть так же, как появился – не вдаваясь в объяснения, не рассыпаясь в благодарностях: в том мире, откуда происходил и он, и безрукий кавалерийский сержант, подобные церемонии были не приняты.
– Нет уж, благодарю покорно, – с грубым солдатским смехом отвечал Вигонь. – Я тебе друг, но пороком любопытства не страдаю. И потом… знаешь, намыленная пенька – это очень вредно для здоровья… Так что лучше ты мне ничего не рассказывай.
Была уже глубокая ночь, когда, завернувшись в плащ и низко надвинув шляпу, капитан вступил под аркады Пласа-Майор и прошел до самой улицы Нуэва. Никто из случайных прохожих не обращал на него внимания, кроме одной ночной феи, вывернувшейся ему навстречу и без особенного воодушевления предложившей за скромную мзду облегчить его тягости. Миновав площадь Гвадалахарских ворот, где возле закрытых на ночь ювелирных лавок дремали двое караульных, он, дабы избегнуть вполне возможной встречи с полицейским дозором, сразу же свернул и двинулся вниз по улице Илерас, а дойдя до набережной, вновь пошел вверх, покуда не оказался перед церковью Св. Хинеса, у которой в этот час дышали свежим воздухом невольные затворники.
Вам, наверно, известно, господа, что в ту эпоху церкви обладали правом убежища, куда не дотягивались щупальца светского правосудия. А потому тот, кто ограбил, ранил или убил ближнего своего, мог спрятаться в ближайшей церкви или монастыре, тамошние клирики же, ревниво оберегая свои привилегии, зубами и когтями защищали бы его от королевской власти. Обычай этот был столь распространен, что во многих знаменитых церквях набиралась чертова уйма людей, пользовавшихся неприкосновенностью Божьего храма. В тесноте да не в обиде обитали там отборнейшие отбросы общества, подонки всех видов и мастей, и, право, веревок бы не хватило воздать им всем по заслугам. Диего Алатристе и сам – по роду своей деятельности – вынужден бывал прибегать к праву убежища, да и дон Франсиско де Кеведо в молодости, говорят, оказывался в подобных местах, а то и кое-где похуже: выполняя волю герцога де Осуны, жил он в Венеции под видом нищего бродяги. Ну, так или иначе, «Апельсиновый двор» в Севильском кафедральном соборе и добрых полдесятка мадридских церквей – и среди них церковь Св. Хинеса – служили приютом – сомнительная честь! – цвету преступного сообщества, аристократии уголовного мира. И вся эта братия, которой, согласитесь, тоже ведь надо есть-пить, отправлять естественные надобности и решать дела, требующие их непременного участия и личного присутствия, ночью выползала наружу – не на свет Божий, так в чертову тьму – чтобы размяться, вспомнить профессиональные навыки, свести с кем нужно счеты. Здесь же назначали они встречи с дружками, возлюбленными, подельниками, а потому не только все прилегающие к церкви улицы и переулки, а и, можно сказать, весь приход делался по ночам одной огромной таверной или веселым домом или, говоря короче, – притоном, где бахвалились подвигами истинными и вымышленными, разбирались проступки, выносились смертные приговоры и где, высокопарно выражаясь, бился пульс Испании отчаянной и преступной, Испании дерзкой и мерзкой, Испании проходимцев и жулья, и пусть память об этих рыцарях ножа и отмычки на полотнах, украшающих стены дворцов, не запечатлена, зато увековечена в бессмертных стихах. Кое-какие из них – и, полагаю, не самые худшие – написаны все тем же доном Франсиско:
Как-то раз в веселом доме Мой клинок напился крови, Точно пьявка, и за это Был я брошен за решетку.А церковь Св. Хинеса была одним из любимейших мест этих изгоев, с наступлением темноты выползавших глотнуть свежего воздуха – и не только его, ибо в заполнявшей паперть и площадь многолюдной толпе мгновенно появлялись бродячие разносчики, причем толпа эта исчезала как по волшебству, стоило лишь в отдалении замаячить полицейскому наряду. Когда Диего Алатристе вступил на узенькую улочку, на ней уже толклось душ тридцать – убийцы, грабители, воры, громилы, содержательницы притонов, скупщики краденого, сводники – и все они горланили и галдели, перебивая друг друга, накачиваясь скверным винищем из бурдюков и больших оплетенных бутылей. Единственный слабый фонарик, раскачивавшийся на углу под аркой, света давал мало, и большая часть улочки тонула во мраке, а большая часть топтавшихся на ней прятала лица, так что царившее здесь оживление отнюдь не делало обстановку менее зловещей, но именно это наилучшим образом и отвечало намерениям капитана. Постороннему – будь то случайный прохожий, соглядатай или полицейский, не в добрый час рискнувший явиться сюда в одиночку и не обвешанным оружием с ног до головы – выпустили бы кишки в мгновение ока.
Вскоре Алатристе приметил стоявшего под фонарем Кеведо и, стараясь не привлекать внимания, приблизился к нему. Они отошли в сторонку, прикрывая лица полами плащей и нахлобучив шляпы до самых бровей – впрочем, не менее половины присутствующих вполне непринужденно разгуливало здесь точно в таком же виде.
– Мои друзья сумели кое-что разузнать, – заговорил поэт после первого обмена неутешительными новостями. – Не вызывает сомнений, что дона Висенте и его сыновей плотно пасла инквизиция. И я нутром чую – кто-то использовал нашу затею, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев…
И, понизив голос, замолкая, если кто-то подходил слишком близко, дон Франсиско поведал Алатристе некоторые подробности, предшествовавшие злосчастному предприятию. Священный Трибунал, проведав от своих шпионов о замысле валенсианцев, терпеливо выжидал, чтобы схватить их в самую последнюю минуту – взять на месте преступления с поличным. И вовсе не потому, что хотел стать на защиту падре Короадо – напротив: раз уж тот пребывал под покровительством Оливареса, с которым инквизиция была в глухой вражде, можно было надеяться, что скандал опорочит и саму обитель, и министра. А попутно и заодно собирались схватить семейство «новых христиан», обвинить их в тайном отправлении обрядов иудейской веры и сжечь на костре. Плохо ли? Вот за сколькими зайцами погнались ревнители истинной веры. Беда в том, что никого не поймали: дон Висенте и меньшой его сын дон Луис живыми не дались – оказали отчаянное сопротивление и были убиты. Старший же сын, дон Херонимо, тяжело раненный, сумел-таки уйти и теперь скрывался неведомо где.
– А мы? – спросил Алатристе.
Поэт мотнул головой – блеснули стеклышки его очков.
– Наши имена не всплыли. Было так темно, что нас не опознали. А те, кто подошел вплотную, уже ничего не расскажут.
– Тем не менее о нашем участии известно.
– Не исключено… – Дон Франсиско неопределенно пожал плечами. – Однако неоспоримых улик у них нет… А без прямых доказательств… Я теперь опять в фаворе у короля и Оливареса, так что меня голыми руками не возьмешь. – Он замолчал, и лицо его выразило озабоченность. – Что же касается вас, друг мой… С них станется вменить вам в вину что-нибудь. Полагаю, идет активный, хоть и негласный розыск.
Мимо, ведя живой, искрометный, оскорбляющий слух диалог, прошли двое громил и сводня. Капитан и Кеведо, пропуская их, придвинулись к стене вплотную.
– А что сталось с Эльвирой де ла Крус?
– Под стражей. Бедная девушка – ей придется хуже всех… Ее содержат в Толедо, в секретной тюрьме, так что, боюсь, оттуда ей дорога – прямо на костер.
– А Иньиго? – Голос Алатристе, приберегшего этот вопрос под конец, звучал ровно и холодно.
Ответ последовал не сразу. Дон Франсиско огляделся по сторонам. В полумраке бродили и галдели тени.
– Он тоже в Толедо, – и снова замолчал, а потом поник головой. – Его взяли у монастыря.
Алатристе не проронил ни звука и довольно долго стоял молча, разглядывая мельтешение толпы. С угла донесся гитарный перебор.
– Мал еще по тюрьмам сидеть, – произнес капитан наконец. – Надо его оттуда вытащить.
– Невозможно! – зашептал поэт. – Смотрите, Диего, как бы самому не оказаться с ним по соседству… Воображаю, как выколачивают из него показания на вас.
– Они не посмеют истязать мальчишку!
Дон Франсиско горько хмыкнул, прикрыв рот полой плаща:
– Инквизиция, дорогой капитан, посмеет и не такое.
– Тем более надо его выручать.
Алатристе произнес эти слова с ледяным и бесстрастным упорством, устремив глаза в дальний конец галереи, откуда слышалась гитара. Кеведо посмотрел туда же.
– Разумеется, надо, вот только – как?
– У вас есть друзья при дворе.
– Я давно уже поднял на ноги всех, кого можно. Разве я не помню, что втравил вас в это дело?
Капитан Алатристе чуть повел рукой, показывая этим легким движением, что надеется на дружеское содействие поэта, однако ни в чем его не винит и не упрекает. Он согласился выполнить некую работу, и ему за нее было заплачено: вызволять своего пажа – его, и только его дело. Произнеся этот безмолвный монолог, он замер в неподвижности – и так надолго, что дон Франсиско стал поглядывать на него с тревогой:
– Вы только не вздумайте сдаться им. Помочь никому не поможете, а себя погубите.
Капитан продолжал молчать. Трое-четверо личностей гнусного вида, остановясь неподалеку, вели беседу, щедро уснащая ее бранью и ежеминутно повторяя «Клянусь честью!», хотя не имели с ней ровно ничего общего. Обращались они друг к другу по именам, едва ли значащимся в святцах – «Гонибес» и «Руколом».
– Вы, – снова заговорил Алатристе, понизив голос, – упомянули, что инквизиция убивает нескольких зайцев… И кто же еще среди этой дичи?
– Вы, – так же негромко отвечал дон Франсиско. – Только вас пока загнать не удалось… Весь хитроумный замысел принадлежит, судя по всему, двум вашим старинным знакомцам – Луису де Алькесару и падре Эмилио Боканегра.
– Черт возьми.
Кеведо замолчал, думая, что капитан что-нибудь добавит к этому – но не дождался. Закутавшись в плащ, Алатристе продолжал оглядывать галерею, густая тень от опущенного поля шляпы скрывала его лицо.
– И, судя по всему, они вам не простили той истории с принцем Уэльским и Бекингэмом… А теперь им представился благословенный случай сквитаться: лучше не придумаешь – монастырский капеллан, которому покровительствует Оливарес, семейство обращенных и ваша милость. Всех в одну вязанку – и в костер!..
В этот миг один из бродяг отступил назад, чтобы, закинув голову, поднести к губам маленький бурдючок, и наткнулся на Кеведо. Загремев оружием, он тотчас обернулся и обратился к нему весьма неучтиво:
– Вконец ослеп, четырехглазый? Смотри, куда прешь!
Поэт поглядел на него насмешливо и, сделав шаг в сторону, процедил сквозь зубы:
Равен доблестью Бернардо, Схож отвагою с Роландом…Задира эти слова расслышал и почел себя оскорбленным.
– Клянусь телом Христовым! – воскликнул он. – Какой я тебе Бернардо? Какой еще Роланд [[35]]? Я ношу славное имя Антона Новильо де ла Гамелья! Я – дворянин, и у меня рука не дрогнет начисто отчекрыжить уши всякому, кто станет мне дерзить!
Он уже держался за рукоять шпаги, делая вид, что ему не терпится обнажить ее, однако прежде хотел понять, с каким противником придется иметь дело. Тут подоспели его сподвижники, не уступавшие ему буйным нравом и драчливостью, и, расставив ноги, бряцая оружием, крутя усы, взяли поэта с капитаном в полукольцо. Все они принадлежали к особям той породы, которые так тщеславятся своей отвагой, что готовы исповедаться, пожалуй, и в несовершённых грехах. Однако и дон Франсиско был не из пугливых. Алатристе видел, как он выпростал из-под плаща рукояти шпаги и кинжала и, не открывая полностью лицо, прикрыл полой живот. Капитан только собрался было последовать его примеру, ибо закоулки вокруг церкви были самим Богом созданы для смертоубийства, как вдруг один из этих молодцов – здоровенный малый в берете, с длиннющей шпагой на широкой перевязи поперек груди – произнес:
– Напрасно вас, сеньоры, санесло в наси края. У нас ведь тут с несваными – как с виноградом: сок пустим, скурку сплюнем…
Шрамов, рубцов и прочих отметин у него на физиономии было больше, чем бемолей и диезов в сборнике нот. Выговор выдавал в нем уроженца Кордовы, чей опасный нрав вошел в поговорку наравне с податливостью валенсианок. Он тоже высвободил шпагу, чтоб не запуталась в плаще, но доставать ее из ножен не спешил – дожидался, когда выдвинутся на подмогу еще сколько-нибудь дружков, ибо двукратный численный перевес казался ему, видно, недостаточным.
Тут, ко всеобщему удивлению, капитан Алатристе расхохотался.
– Полно, Типун, – сказал он с ласковой насмешкой. – Ты уж смилуйся над нами, пожалей, не режь сразу, дай еще подышать. Уважь – в память о былом.
Кордовец в замешательстве воззрился на него, силясь узнать, несмотря на полумрак и плащ, которым Алатристе по-прежнему прикрывал лицо. Потом поскреб затылок под беретом, сдвинув его на самые брови – сросшиеся так густо, что казались одной сплошной линией.
– Матерь Бозья, – пробормотал он. – Стоб я сдох бес покаяния, если это не капитан Алатристе!
– Он самый, – отвечал тот. – И в последний раз виделись мы с тобой в каталажке.
Именно так оно и было. Капитан, за долги посаженный в тюрьму, для знакомства приставил обвалочный нож к горлу этого малого – Бартоло Типуна, который вел себя в камере слишком уж по-хозяйски. Поступок этот подтвердил репутацию Алатристе как человека, на которого где сядешь, там и слезешь, и снискал ему уважение кордовца и других арестантов. И до высот заоблачных вознеслось оно когда стал капитан делиться со своими сокамерниками вином и кое-какой снедью, передаваемой с воли Каридад Непрухой и друзьями, которые хотели скрасить ему тяготы заключения.
– Что, милейший мой Типун, ты, я вижу, не образумился и с законом по-прежнему не в ладах, а?
Услышав такие речи, прочие громилы, не исключая и Антонио Новильо де ла Гамелья, переменили обращение и теперь взирали на происходящее с сочувственным любопытством и даже известным почтением, ибо последовали примеру своего вожака, чье мнение было в их глазах весомей папской энциклики. И сам Типун был немало польщен тем, что капитан узнал и вспомнил его.
– Истинная правда, сеньор капитан, – ответил он, и не верилось, что это он минуту назад толковал про сок и шкурку. – Ох, сидеть бы мне в цепях за веслом на королевской холере… тьфу, галере – впрочем, одно другого не лучше – если б не моя милка, Бласа Писорра: она переспала с писцом, а тот дал наводку к судье… Сунули и отмазали.
– А чего же в норке сидишь? Или, может быть, в гости зашел?
– Ох, не в гости, не в гости, – воскликнул, всем видом своим являя покорность судьбе, Типун. – Три дня назад мы с товарисчами вынули дусу из одного легавого, вот и попросились в церковь пересидеть, пока шуматоха не уляжется, власти не угомонятся. Ну, или пока моя сустрая бабенка не раздобудет сколько-то дукатов, сами ведь снаете: не змись – и не призат будешь.
– Я рад тебя видеть.
Бартоло осклабил пасть, огромную и темную, как пещера, в подобии дружеской улыбки:
– А уж я как рад, что вы в добром здравии. И, верьте слову, мозете располагать мною и всем этим добром. – Тут он похлопал по шпаге, отчего она со звонким лязгом ударилась о рукояти кинжала и нескольких ножей. – Я ваш со всеми потрохами, готов служить чем могу, особенно если понадобится вдруг кого спровадить в сарствие небесное. – Он примирительно взглянул на Кеведо и вновь обернулся к Алатристе. – Просения просим, что так вышло.
Мимо, подобрав юбки, пробежали две уличных красотки. Смолкла гитара на углу, и весь сброд, толпившийся на галерейке, встрепенулся в тревоге.
– Облава! Облава! – крикнул кто-то.
На углу уже появились блюстители порядка – и в немалом числе. Послышались крики: «Стоять, ни с места! Стоять, кому сказано!», а потом – пресловутое: «Именем короля!». Фонарь погас, а все «прихожане» рассеялись с быстротой молнии: одни юркнули в церковь, другие ринулись на Калье-Майор. И скорее, чем душа вылетает из тела, опустели окрестности церкви Святого Хинеса.
По дороге из игорного дома Хуана Вигоня капитан обогнул Пласа-Майор и задержался напротив таверны «У турка». Невидимый в темноте, он довольно долго стоял на противоположной стороне улицы, глядя на закрытое ставнями освещенное окно второго этажа, где обитала Каридад Непруха. Она то ли не спала, то ли не задула свечу, чтобы подать ему знак: «Я здесь, я жду тебя». Но Диего Алатристе не пересек улицу, а только ниже надвинул шляпу, плотнее прикрыл лицо полой плаща, теснее прижался спиной к стене, стараясь раствориться во мраке. Улица Толедо и угол улицы Аркебузы были пустынны, но кто мог бы поручиться, что из какого-нибудь укромного места не наблюдает за ним соглядатай. Капитан видел только безлюдную улицу и освещенное окно, за которым, как ему казалось, иногда мелькала тень. Быть может, это Каридад бродит по комнате, ждет его? Он вспомнил ее смуглые голые плечи, выступающие из выреза ночной сорочки, присобранной на груди нетугим узлом тесемки, ощутил аромат этой плоти, которая – сколько бы ни было битв покупной любви, в скольких бы схватках, оплаченных на время или на ночь, ни побывала она, сколько бы чужих рук и уст ни проползало по ней в свое время – так и не утратила упругой и жаркой первозданной красоты и по-прежнему умела вселять в него умиротворение, сравнимое лишь с забвением или сном.
Капитана одолевало желание перейти на другую сторону, избыть в этом радушном теле свою мучительную тревогу, но осторожность пересилила. Он дотронулся до рукояти бискайца, который носил на левом боку, рядом со шпагой – прикрытый плащом пистолет уравновешивал его справа, – и вновь принялся буравить глазами ночную темь: не выскользнет ли откуда-нибудь силуэт врага? О, как бы он хотел сейчас встретиться с ним! С той минуты, когда он узнал, что меня схватила инквизиция, а тем более – когда дон Франсиско открыл ему, кто же сплел эту интригу, Алатристе постоянно терзался жгучей ледяной ненавистью, перемешанной с отчаяньем, и никак не мог избавиться от этих чувств. Судьба дона Висенте, его сыновей, его дочери, сидящей под стражей, не слишком его заботила. По правилам той опасной игры, где нередко на кону стояла собственная шкура, в их гибели не было ничего особенного. Это как на войне – в каждом бою потери неизбежны, и капитан с самого начала принимал их со своей обычной невозмутимостью, которая иногда казалась безразличием, но была всего лишь умением старого солдата стоически переносить удары судьбы.
Но со мной дело обстояло иначе. Я – уж извините за столь высокопарное выражение – вызывал у капитана Алатристе, повидавшего виды и на фламандских полях сражений, и в нашей опасной Испании, чувство, которое можно было бы назвать угрызениями совести. И меня он не мог вот так просто, за здорово живешь, списать в расход, внести в перечень убитых при неудачном штурме или захлебнувшейся атаке. Хотелось того капитану или нет, он отвечал за меня. И точно так же, как не ты выбираешь себе друзей и женщин, а они – тебя, жизнь, мой покойный отец, причуды судьбы заставили наши с ним пути пересечься, и не надо закрывать глаза на непреложное и невеселое обстоятельство – эта встреча сделала капитана более уязвимым. Жизнь Диего Алатристе складывалась так, что был он ничем не лучше всякого другого, а проще говоря – изрядной сволочью, однако принадлежал к той их разновидности, которые никогда не нарушают ими самими установленные правила. Именно потому стоял он здесь молча и неподвижно: таков был его способ предаваться отчаянью – один из многих возможных. Именно потому шарил он взглядом по уходящей во тьму улице, мечтая встретить соглядатая, шпиона, фискала, любого врага, и с его помощью унять тоску, от которой сводило желудок и ломило намертво сцепленные челюсти. Как хотелось ему бесшумно выскользнуть навстречу из темноты, прижать к стене, глуша его вскрик полой плаща, молча, без единого слова, всадить ему в глотку клинок и держать, покуда не перестанет дергаться и не отправится прямо в ад. Ибо если соблюдать правила, то – свои собственные. А правила капитана Алатристе были именно таковы.
VII. Люди, читающие одну книгу
У Бога, как известно, всего много – и золы, и золота, и золотарей. И воронья, и галок. И в дознавателях у него недостатка нет. Так что мне пришлось солоно. Хотя, справедливости ради скажу, что настоящей пытке не подвергся. Инквизиция руководствовалась уставом и при всей своей жестокости и фанатизме исполняла его неукоснительно. Получил я немало оплеух и затрещин – что правда то правда. Секли меня и стегали – и это было, врать не хочу. Да и само сидение – тоже не сахар. И все же то обстоятельство, что не исполнилось мне этих роковых четырнадцати, упасло меня от близкого знакомства со зловещим деревянным сооружением, снабженным всякими гадостными устройствами для мучительства, и даже били меня не так сильно, не так часто, не так долго, как других. Другим, надо сказать, повезло меньше. Уж не знаю, проходили они через эту процедуру, когда человека вздергивают на дыбу, покуда руки-ноги не выскочат из сочленений, но женский крик, который слышал я на первом допросе, повторялся и впоследствии с завидной частотою, пока вдруг однажды не смолк. Это произошло в тот самый день, когда я увидел наконец несчастную Эльвиру де ла Крус.
Она оказалась низкорослой, плотной и не имела ничего общего с тем, что рисовалось моему воображению, распаленному чтением рыцарских романов. Впрочем, даже будь она от природы наделена самой что ни на есть небесной красотой, что бы осталось от нее после всех этих истязаний и терзаний? Кожа была безжалостно исхлестана, покрасневшие глаза запали от бессонницы и мучений, на запястьях и щиколотках виднелись глубокие борозды – память о кандалах. Эльвира сидела – вскоре я узнал, что стоять без посторонней помощи она не может, – и никогда прежде не доводилось мне видеть такой потухший, безжизненный, отсутствующий взгляд: была в нем и безмерная усталость, и страдание, и горечь, и всеведение человека, оказавшегося на самом дне невообразимо глубокой пропасти. Девице этой едва ли исполнилось девятнадцать лет, но выглядела она немощной старухой – малейшее движение давалось ей с неимоверным трудом и, видимо, вызывало боль, словно злой недуг или преждевременная дряхлость переломали Эльвире все кости, разъяли суставы. И, похоже, именно так оно и было.
А о себе скажу – не сочтите за хвастовство, ибо оно недостойно благородного человека – что от меня инквизиторы не услышали ни единого словечка, которое бы им могло пригодиться. Даже когда рыжий тщедушный палач охаживал меня плетью из бычьей кожи. И хоть спина вся была у меня сплошь во вздувшихся багровых рубцах, так что спать я мог только на животе – если только слово «спать» применимо к тому странному состоянию тревожной полудремы, в которую врывались какие-то порожденные воображением призраки – никому не удалось добиться, чтобы с губ моих, пересохших и запекшихся, слетело что-либо, кроме стонов и уверений в полнейшей моей невиновности. «В ту ночь я направлялся домой… Мой хозяин капитан Алатристе тут совершенно ни при чем… Я никогда не слышал о семье де ла Крус… Я происхожу из древнего христианского рода, а мой отец погиб за короля во Фландрии…» И все сначала: «В ту ночь я направлялся домой…».
Они не ведали жалости. В них не теплилось и малой искры сострадания или человечности, которая порой озаряет даже самые свирепые души. Монахи, судья, писарь и палачи вели себя с бесстрастным отчуждением, которое ужасало сильней, чем что-либо другое, пугало больше, чем страдания, ими причиняемые: в каждом их слове чувствовалась ледяная непреклонность людей, знающих, что законы Божеские и человеческие – на их стороне, и ни на минуту не испытывающих сомнений в справедливости творимого ими. Прошло немало лет, прежде чем я понял, что люди одинаково способны и на добрые, и на злые дела, но хуже всех – те, кто, причиняя зло, прикрываются своим подчиненным положением, оправдываются приказом, которому обязаны повиноваться, властью, которой должны покоряться. И если ужасны те, кто действует якобы от имени отчизны, монарха или еще каких господств и сил, то сущими чудовищами предстают те, кто считает, будто действия их освящены волей того или иного бога. И когда мне предоставлялось право выбора: с кем из творящих зло, если иного не дано, иметь дело, – неизменно я останавливался на тех, кто берет всю ответственность на себя и ни за чью спину не прячется. Ибо в толедских застенках выучил я накрепко – и дорого, едва ли не самой жизнью заплатил за эту науку: что из всех на свете злодеев самый презренный, гнусный и опасный – злодей, каждую ночь засыпающий с чистой совестью. Это очень, очень плохо. Особенно когда убежденность в своей правоте идет рука об руку с невежеством, с предрассудком, с глупостью да подкреплена могуществом, если же налицо все это – а так чаще всего и бывает – то вообще, как принято говорить, хуже некуда. Некуда? Да нет, есть куда – гораздо хуже, если злодей уверен, что он – носитель и провозвестник слова Божьего, на какие бы скрижали – в Талмуд, Евангелие, Коран или в писание еще не написанное – ни было оно занесено. Я не любитель давать советы, тем паче, что свой опыт в чужую башку не втемяшить, однако все-таки скажу и денег не возьму: берегитесь, господа, тех, для кого существует одна-единственная книга.
Не знаю, какую книгу читали все эти люди, но уверен, что они засыпали без угрызений совести – и уповаю лишь, что сейчас, в преисподней, где будут они гореть во веки веков, им не до сна. К этому времени я уже понял, кто такой этот иссохший костлявый доминиканец с певучим голосом и лихорадочно горящим взором – Падре Эмилио Боканегра, председатель совета Шести судей, самого страшного трибунала инквизиции. По рассказам капитана Алатристе и его друзей я знал, что он, помимо того, – заклятый враг моего хозяина. Постепенно монах взял допрос на себя – двое других и молчаливый судья ограничивались ролью слушателей, а писарь заносил на бумагу вопросы доминиканца и мои краткие ответы.
Однако в тот день, о котором я рассказываю, все было иначе – вопросы задавались не мне, а несчастной Эльвире де ла Крус. И я сразу понял, что события принимают для меня еще более дурной оборот, когда падре Эмилио указал на меня пальцем и спросил:
– Знаешь ли ты этого мальчика? Предчувствие не обмануло: послушница, даже не взглянув на меня, кивнула неровно остриженной головой. С тревогой видел я, как писец, выжидательно держа перо на весу, поглядывает то на Эльвиру, то на инквизитора.
– Подай голос! – приказал тот.
Бедная девушка еле слышно выговорила «да». Писец, обмакнув перо в чернила, занес ее ответ в протокол, я же снова почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног.
– Видела ли ты, как он исполнял обряды иудейской веры?
От второго «да» я издал вопль негодования и протеста, оборвавшийся от крепкой затрещины: ею приголубил меня рыжий стражник, которому в последнее время вверено было попечение о моей особе – вероятно, инквизиторы опасались, что его рослый и дюжий напарник ненароком пришибет малолетку. Падре Эмилио, не обращая внимания на меня, вновь обратился к Эльвире:
– Повторяешь ли ты перед священным трибуналом свое признание – подтверждаешь ли, что означенный Иньиго Бальбоа исповедует иудаизм и вместе с твоим отцом, братьями и иными заговорщиками вынашивал преступное намерение похитить тебя из обители?
Услышать третье «да» было выше моих сил. Рванувшись из рук рыжего, я крикнул, что все это – бессовестная ложь, а к иудеям и их вере я не имею никакого отношения. И тут, к моему вящему удивлению, падре Эмилио вместо того, чтобы вновь пропустить мои слова мимо ушей, обернулся ко мне с улыбкой. И была та улыбка исполнена такой ликующей ненависти, такой смертельной угрозы, что я оцепенел, онемел и едва не лишился чувств – всех, за вычетом ужаса. Затем, зримо наслаждаясь всем происходящим, доминиканец взял со стола медальончик на цепочке, подаренный мне Анхеликой де Алькесар в памятную встречу у источника, и показал талисман сначала мне, затем членам трибунала и наконец – несчастной послушнице.
– Видела ли ты раньше сию магическую печать, скрепляющую чудовищные обряды каббалы, у означенного Иньиго Бальбоа, который не успел пустить ее в ход, когда был задержан у монастыря, – печать, доказуюшую непреложно его причастность к этому иудейскому заговору?
Эльвира де ла Крус за все время ни разу не подняла на меня потупленных глаз. Не взглянула она и на медальон, который падре Эмилио держал перед нею, и ограничилась лишь очередным еле слышным «да». Ее отделали так основательно, что выбили даже способность испытывать стыд. Ничего, кроме глубочайшего изнеможения, не заметил я в ней – казалось, она хочет только скорее покончить со всем этим, забиться в какой-нибудь угол, забыться сном, которого лишали ее словно бы многие годы.
Что касается меня, то от ужаса я не мог даже протестовать. Ибо пытки меня теперь не беспокоили. Мне теперь позарез нужно было уяснить, позволяет ли закон жечь на костре лиц, не достигших четырнадцати лет.
– Да, это так. Подписано Алькесаром.
Альваро де ла Марка, граф де Гуадальмедина, был в зеленом, расшитым серебром кафтане тонкого сукна, в замшевых сапогах, в пелерине, щедро украшенной брюссельскими кружевами. Белокожий, с тонкими выхоленными руками красавец не терял своей молодцеватой стати – уверяли, что красотой телосложения он превосходит всех придворных кавалеров, – даже когда сидел, скорчась, на табурете в крошечной каморке Хуана Вигоня. За деревянными жалюзи была видна переполненная народом игорная зала. Граф поставил на кон несколько дукатов, проиграл – ему вообще не слишком везло в карты: он плохо соображал – и, не привлекая к себе внимания, под каким-то предлогом удалился в заднюю комнатку. Там его уже ждали капитан Алатристе и дон Франсиско де Кеведо, незадолго до этого вошедший с Пласа-Майор через потайную дверь.
– И рассуждаете вы совершенно правильно, – продолжал граф. – Все дело затеяно ради того, чтобы нанести удар по Оливаресу опорочив монастырь, которому он покровительствует. И попутно – свести счеты с Алатристе… Итак, они выдумали иудейский заговор и рассчитывают запалить большой костер.
– И мальчика – туда же? – спросил дон Франсиско.
Его черное одеяние, чью однотонную строгость оживлял только вышитый на груди алый крест Сантьяго, казалось особенно чопорным рядом с изысканностью графского костюма. Кеведо сидел рядом с капитаном, не отстегнув шпаги, повесив плащ на спинку стула, а шляпу положив на колени. Выслушав его вопрос, Альваро де ла Марка налил себе муската из кувшина, стоявшего на столе. Рядом лежали длинная глиняная трубка и кисет с крупно нарезанным табаком. Мускат был не какой попало, а из Малаги, и потому Кеведо, который по обыкновению находился в раздраженно-брюзгливом настроении, едва переступив порог и в отборных выражениях высказавшись о погоде, улице и жажде, взялся за кувшин весьма рьяно, и тот был уже наполовину пуст.
– Туда же, – подтвердил граф. – Да у них больше и нет никого – ваш Иньиго да эта валенсианская послушница. Ибо старшего ее брата, который сумел уйти из засады, сыскать пока не могут. – Он пожал плечами и значительно помолчал. – Насколько мне известно, готовится большое аутодафе.
– Сведения достоверные?
– Совершенно достоверные. И очень щедро оплаченные. Как сказал бы наш друг Алатристе, когда подводишь контрмину, пороха не жалей… За деньгами-то дело не станет, но по отношению к Священному трибуналу даже самые продажные вдруг делаются неподкупными.
Капитан промолчал. Расстегнув колет, он сидел на топчане и медленно водил точильным камнем по лезвию своего кинжала. Масляная плошка на столе горела слабо, и лицо его оставалось в темноте.
– Странно, что Алькесар так взбеленился, – заметил дон Франсиско, полой протирая стеклышки очков. – Неосмотрительно со стороны королевского секретаря так лезть на рожон. С Оливаресом шутки плохи.
Граф де Гуадальмедина сделал несколько глотков, прищелкнул языком, хотя лицо его было по-прежнему хмуро. Потом извлек из-за обшлага кружевной платочек, промокнул подстриженные усы.
– Ничего странного. За последние месяцы Алькесар вошел в большую силу. За ним стоит Совет Арагона, членам которого он оказал важные услуги, а недавно он подкупил и нескольких членов Совета Кастилии. Кроме того, благодаря падре Эмилио Бо-канегра он пользуется поддержкой самых оголтелых и неистовых инквизиторов. Делает вид, что во всем покорен воле Оливареса, однако ведет собственную игру. Крепнет день ото дня, а богатеет не по дням, а по часам.
– Откуда же у него деньги? – осведомился Кеведо.
Альваро де ла Марка вновь пожал плечами. Потом набил трубку и раскурил ее. Хуан Вигонь тоже иногда любил подымить, а вот капитан, несмотря на всем известные целебные свойства табака, горячо рекомендуемого аптекарем Фадрике, не пристрастился к этим духовитым листьям, которые галеонами доставляли из Индий. Дон Франсиско же предпочитал взять добрую понюшку.
– А черт его знает! – ответил граф, затягиваясь. – Может, он работает на кого-то еще. Но так или иначе, золото сыплет горстями и растлевает всех и каждого. Даже Оливарес, который несколько месяцев назад совсем было собрался отослать его обратно в Уэску, теперь явно опасается Алькесара. Поговаривают, будто он метит в протонотариусы [[36]]. Если он получит эту должность, станет недосягаем ни для кого.
Диего Алатристе, казалось, этот разговор не интересовал вовсе. Отложив точило, он попробовал лезвие на ногте большого пальца, потом дотянулся до ножен, вложил в них кинжал и лишь после этого поглядел на Гуадальмедину.
– Стало быть, помочь Иньиго нельзя? Окутавшись дымом, граф придал своему лицу скорбно-участливое выражение.
– Боюсь, что нет. Знаешь не хуже меня, что попасть в руки инквизиции – значит угодить меж шестеренок исправно действующей и беспощадной машины… – Он сморщил лоб, задумчиво пригладил бородку. – Странно, что тебя-то еще не взяли.
– Я скрываюсь.
– Да я не о том. Скрывайся, не скрывайся, захотели бы – нашли, а они даже за домом не установили наблюдение… Это значит, что у них нет доказательств против тебя.
– Нужны им доказательства, – вмешался дон Франсиско, пододвигая кувшин к себе. – Состряпают или купят.
Рука графа де Гуадальмедина, собиравшегося поднести трубку ко рту, замерла на полдороге.
– Виноват, сеньор Кеведо, вы не правы. Священный Трибунал – ведомство очень щепетильное. Сколько бы ни кипятился падре Эмилио, но пока нет доказательств или свидетельств того, что капитан участвовал в вашем предприятии, Высший Совет не разрешит никаких действий против него. Доказательств нет, и, значит, мальчик его не выдал.
– Это ненадолго, и не таких ломали. – Поэт сделал большой глоток, а следом – еще один. – Заговорит и Иньиго, тем более что он ведь почти ребенок.
– Однако же пока не заговорил. Молчит. Мне это дали понять те люди, с которыми я сегодня целый день вел беседы. Ей-богу, Алатристе, на те деньги, что я роздал сегодня, мост до луны можно построить… Да как видишь, не все можно купить.
И с этими словами Альваро Луис Гонсага де ла Марка-и-Альварес де Сидония, граф де Гуадальмедина, испанский гранд, приближенный нашего государя, предмет восхищения придворных дам и зависти многих знатнейших кавалеров, устремил на Диего Алатристе взгляд, полный дружеского участия, которому, казалось бы, неоткуда было взяться, ибо что общего между этим блестящим аристократом и безвестным солдатом, после Фландрии и Неаполя промышлявшим убийствами по заказу?
– Вы принесли то, что я просил? – спросил капитан.
Улыбка графа стала еще шире.
– Вот. – Гуадальмедина отложил трубку и, достав из кармана маленький сверток, протянул его Алатристе. – Держи.
Другой на месте Кеведо удивился бы подобной короткости, но только не дон Франсиско. Было известно, к примеру, что граф прибегал к помощи Алатристе в таких делах, которые требовали твердой руки и полной бессовестности – вот, например, когда надо было отправить к праотцам юного маркиза де Сото, да мало ли еще когда. Однако из этого вовсе не следовало, что наниматель несет перед нанимаемым какие-то обязательства, да и с какой стати испанскому гранду соваться в дела с инквизицией ради человека, который в полном смысле слова никто и звать его никак: тряхни мошной – и он твой. Но знал сеньор де Кеведо, что связывало капитана с грандом нечто большее, чем темные делишки, провернутые совместно. Почти десять лет назад, когда граф де Гуадальмедина был еще совсем юн и сопровождал вице-королей Сицилии и Неаполя, в злосчастном деле близ островов Керкенна он оказался на волосок от смерти, ибо мавры врасплох застали войска испанского нашего короля. Герцог де Носера, в свите которого состоял граф, получил тогда пять ужасающих ран, со всех сторон лезли нечестивые мусульмане с копьями и ятаганами, уши закладывало от грохота аркебуз. Вскоре испанцам пришлось совсем туго и дрались они теперь уже не во славу Испании, а во спасение своей шкуры, убивая, чтобы не быть убитым, и отступая по пояс в воде. Как рассказывал граф, ужинать явно предстояло либо в царствии небесном, либо в Константинополе. Свалив наседавшего на него мавра, он выронил шпагу и, покуда отыскивал кинжал, получил два удара ятаганом. Он уже считал себя покойником или пленным – первое было вероятней, – но тут несколько наших солдат, которые держались кучкой, подбадривая друг друга криками «Испания! Испания!» и прикрывая друг другу спину, услышали, как истекающий кровью Альваро де ла Марка взывает о помощи, и, чавкая сапогами по грязи, помощь эту ему оказали – очень вовремя перебили уже окруживших его арабов. Один из этих солдат – светлоглазый и пышноусый – ударом пики в лицо отбросив врага, подхватил графа и потащил его волоком по красному от крови мелководью к нашим лодкам и галерам. Тем дело не кончилось – пришлось еще отбиваться и отстреливаться от мавров, и много еще графской крови обагрило песок, прежде чем светлоглазый солдат, взвалив Гуадальмедину на спину, не донес его до последней шлюпки, доставившей их на галеру. А позади слышались отчаянные крики тех, кому не посчастливилось спастись и суждено было окончить свои дни на этом гибельном побережье или попасть в рабство.
И вот теперь, в каморке Хуана Вигоня, граф де Гуадальмедина вновь смотрел в эти светлые глаза. И вновь, как уже бывало – и не раз, – выяснилось, что за годы, прошедшие с того кровавого дня, он не позабыл, кому обязан жизнью. Признательность его возросла еще более, когда он узнал, что его спаситель, которого другие солдаты почтительно называли капитаном, сражался во Фландрии под началом старого графа – дона Фернандо де ла Марка. Но сам Алатристе вспоминал об этом лишь в самых крайних случаях – как, например, в недавнем происшествии с двумя англичанами или вот теперь, со мной.
– Вернемся к нашему Иньиго, – продолжал Альваро де ла Марка. – Если он так и не даст на тебя показаний, дело застопорится. Однако он – под стражей, и, судя по всему, против него выдвинуты серьезные обвинения. Иными словами, мальчуган будет осужден инквизицией.
– И что они сделают с ним?
– Все что угодно. Девицу де ла Крус сожгут – это-то ясно как божий день. Ну а Иньиго… Может, отделается сколькими-то годами тюрьмы, может, получит двести плетей… Ну или напялят на него санбенито и объявят «примирившимся»… Но совершенно не исключено, что отправят на костер.
– А что Оливарес? – спросил дон Франсиско. Гуадальмедина неопределенно развел руками.
Потом вновь раскурил трубку и, окутавшись дымом, сощурился:
– Он получил письмо и разберется в этом деле… Но сильно уповать на него не советую. Если найдет нужным что-нибудь сказать, он нас уведомит.
– Небогато, черт возьми! – вырвалось у дона Франсиско.
Альваро де ла Марка взглянул на него, чуть вздернув бровь:
– У первого министра есть дела и помимо этого, – проговорил он сухо.
Граф был поклонником дарования Кеведо, уважал его как друга Диего Алатристе, а кроме того, имелись у них и другие общие знакомцы, поскольку оба в одно время оказались в Неаполе, в свите герцога де Осуны. Но Альваро де ла Марка был еще и поэт – хоть Муза слетала к нему нечасто – и его бесило, что дон Франсиско пренебрежительно относится к его стихам. Тем паче что он-то посвятил Кеведо октаву – едва ли не лучшую из всего, что выходило из-под его пера, и начиналась она так:
Святому Роху следуя в смиренье…
Капитан не обращал внимания на поэтов – он разворачивал полученный от графа сверток. Альваро попыхивал трубкой, наблюдая за ним.
– Будь осторожен, Алатристе, – сказал он наконец.
Тот не ответил. На одеяле, покрывавшем топчан, лежали четвертушка бумаги и два ключа.
Прадо вскипала, как водоворот. Дело было к вечеру, заходящее солнце золотило напоследок мадридские крыши, и, прокатив от Гвадалахарских ворот по Калье-Майор, останавливались на аллеях и вблизи ручьев кареты. От угла улицы Алькала и до въезда на улицу Сан-Херонимо сплошным потоком двигались экипажи и открытые коляски; всадники держались у подножки, занимая дам приятной беседой; мелькали белые токи дуэний, плоеные чепчики горничных; сновали в густой толчее пажи и водоносы, зеленщицы, торговцы медовухой, сластями и разнообразными лакомствами.
Как испанский гранд, граф де Гуадальмедина пользовался наследственным правом находиться в присутствии короля в шляпе и ездить четверней – шестерку мулов запрягали исключительно в экипаж его величества, – но для нынешнего случая, требовавшего тайны, выбрал, дабы не привлекать к себе внимания, скромный экипаж без герба на дверце, двух неказистых, но крепких мулов, и велел кучеру снять ливрею. Впрочем, и эта карета была достаточно поместительна, чтобы он сам, дон Франсиско де Кеведо и капитан Алатристе могли рассесться в ней с большими удобствами и разъезжать по Прадо туда и обратно в ожидании условленного знака. И так вот, неузнанными, раскатывали они среди множества других карет в этот сумеречный час, когда «весь Мадрид» собирался в окрестностях монастыря Св. Иеронима, вокруг которого нагуливали себе аппетит перед ужином важные каноники, искали поживы нестеснительные, но сильно стесненные в средствах студенты-голодранцы, бродили торговцы и ремесленники, прицепившие шпагу и потому называвшие себя идальго; щедро и разнообразно представлено было неугомонное племя волокит – и множество дам под масками или с открытым лицом то отдергивали, то задергивали белыми ручками занавески окошек в каретах и, будто бы случайно приподняв подол баскиньи [[37]], показывали свесившуюся из кареты ножку чуть не до самой щиколотки. По мере того как угасал свет дня, заполняли Прадо тени; место порядочных дам занимали девицы легкого поведения, пользовавшиеся если не успехом, так спросом, выныривали всякого рода темные личности, искатели приключений, и тогда приходил черед поединкам, заранее условленным свиданиям и стремительным романам в глубине аллей. Но этот час еще не настал – покуда соблюдались приличия: из кареты в карету перелетали записочки, шел оживленный диалог взглядов и вееров, намеков и обещаний. И немало было дам и кавалеров из самого высшего общества, которые днем прикидывались незнакомыми, а с наступлением сумерек оказывались в сладостном tete-a-tete в карете, теснота коей столь способствует сближению, или удалялись в боковую аллею на лоне природы. И нередко выясняли здесь отношения приревновавшие друг друга соперники, любовники отвергнутые и счастливые, сии последние и мужья, обнаружившие, как гласит пословица, в своем жарком чужую приправу. О рогоносцах удачно написал покойный граф де Вильямедиана, незадолго до того, как был застрелен средь бела дня на Калье-Майор:
Не во сне, а наяву Вижу, как по Прадо Тех, кому б мычать в хлеву, Выступает стадо.Альваро де ла Марка, человек нестарый, холостой и богатый, был завсегдатаем и Прадо, и Калье-Майор, а стало быть, относился к тем, по чьей вине так изобиловал Мадрид рогоносцами, однако в описываемый мною вечер пребывал здесь в ином качестве. И надел он скромный колет серого сукна – в масть своим мулам и кучеру – и так старался не привлекать к себе внимания, что даже отшатывался в глубь кареты всякий раз, как мимо проезжала открытая коляска, доверху груженая рюшами, кружевными оборками, фестончатыми лифами, золотыми басонами и косыми бейками, содержавшими внутри себя дам, которых граф не желал приветствовать, хотя знаком с ними был, по всей видимости, довольно коротко. Из другого окошка, также полузадернутого шторкой, вел наблюдение дон Франсиско де Кеведо. Посередке, вытянув ноги в высоких кожаных сапогах, покачивался в такт мягкому ходу кареты, помалкивал по своему обыкновению капитан Алатристе. Все трое держали шпаги между колен и оставались в шляпах.
– Вот он, – произнес граф де Гуадальмедина.
Кеведо и Алатристе, слегка подавшись вперед, поглядели в его окошко. Черная карета, похожая на ту, в которой сидели они, без герба на дверце и с задернутыми занавесками миновала Торресильяс и покатила по аллее. Возница был в буроватом неприметном кафтане и в шляпе, украшенной двумя перьями – белым и зеленым.
Граф де Гуадальмедина, приоткрыв окошечко в передней части экипажа, отдал распоряжение своему кучеру, тот встряхнул поводьями, направив мулов вслед за черной каретой. Вскоре она остановилась в безлюдном уголке под ветвями старого каштана, рядом с которым из пасти каменного дельфина бил фонтан. Графская карета подъехала почти вплотную, Гуадальмедина открыл дверцу и вышел, Кеведо и капитан последовали за ним, оказавшись в узком пространстве между бортами двух экипажей. Все обнажили головы. Шторка отдернулась, и в окне мелькнул вышитый на груди алый крест ордена Ка-латравы, появилось полнокровное, твердо очерченное лицо с густейшими усами, торчащими, как пики. Крупная голова, темные умные глаза, могучие – еще бы: на них лежало бремя власти над обширнейшей на земле империей – плечи. Это был дон Гаспар де Гусман, граф Оливарес, фаворит и первый министр нашего государя Филиппа Четвертого, повелителя и владыки Испании.
– Вот не ожидал так скоро увидеться с вами, капитан. Я-то думал, вы уже маршируете во Фландрию.
– Собирался, ваша светлость. Вмешались непредвиденные обстоятельства.
– Понимаю… Вы, помнится, говорили, что обладаете редкостным умением осложнять себе жизнь.
Если принять во внимание, что одним из беседующих был всесильный правитель Испании и любимец короля, а другим – безвестный наемник, этот диалог нельзя было счесть банальным. Гуадальмедина и Кеведо внимали ему безмолвно. Оливарес церемонно раскланялся с обоими, но прежде всего обратился – причем с учтивостью, противоречившей его суровому, надменному и властному виду, – к Алатристе. Вежливость, столь непривычная для первого министра, была отмечена всеми.
– Удивительным умением, – повторил Оливарес.
Капитан, воздержавшись от комментария, неподвижно стоял со шляпой в руке у подножки кареты, умудряясь одновременно сохранять собственное достоинство и всем видом своим выражать почтительность. Министр, еще раз окинув его взглядом, повернулся к графу де Гуадальмедина:
– По поводу интересующего нас случая могу сообщить следующее: нет ни малейшей возможности сделать что-либо. Я благодарю вас за предоставленные сведения, но взамен предложить вам не могу ничего. В прерогативы Священного Трибунала не станет вмешиваться даже сам государь. – Он подчеркнул эти слова взмахом широченной ручищи, покрытой узловатыми венами. – Тем более что и я не решился бы по такому случаю обеспокоить его величество.
Альваро де ла Марка покосился на капитана, лицо которого оставалось совершенно бесстрастным, и вновь перевел взгляд на Оливареса:
– Неужели нет выхода?
– Нет. Ни выхода, ни щелки, ни лазейки. Мне жаль, что я не могу помочь вам. – В голосе министра появилась нотка снисходительного сочувствия. – Жаль еще и потому, что пуля, выпушенная в сеньора Алатристе, рикошетом должна задеть и меня. Однако делать нечего.
Граф де Гуадальмедина слегка поклонился: несмотря на дарованное испанским грандам право не снимать шляпу в присутствии самого короля, перед Оливаресом он стоял с непокрытой головой. Как человек светский и придворный, он отлично знал, что принцип «Рука руку моет, и обе – лицо» справедлив лишь до известной степени, ибо свой предел всему положен. Торжествуя в душе уже потому, что могущественнейший человек империи уделил ему хотя бы минуту, он все же решился спросить:
– Так что же, ваша светлость, мальчика сожгут? Оливарес расправил брюссельские кружева на обшлагах своего темно-зеленого колета, не украшенного вышивкой или драгоценными камнями, не расшитого золотом – в полном соответствии с эдиктом против роскоши, который сам же недавно подсунул на подпись королю, – и ответил невозмутимо:
– По всей видимости. И его, и эту девицу из Валенсии. И благодарите Бога, что заодно с ними инквизиторам больше некого отправить на костер.
– Сколько же времени нам отпущено?
– Да нисколько. По моим сведениям, трибунал подчищает последние огрехи, так что самое большее через две недели на Пласа-Майор состоится аутодафе. Можно считать, что Священный Трибунал сумел отыграть у меня очко. – Министр повернул свою крупную голову, сидевшую на толстой апоплексической шее, туго стянутой круглым накрахмаленным воротником-голильей. – Не простили мне инквизиторы генуэзских банкиров.
Меж остроконечной эспаньолкой и свирепыми усами мелькнула невеселая улыбка; поднялась и опустилась огромная рука – все это означало, что вопрос исчерпан, аудиенция окончена. И Гуадальмеди-на слегка склонил голову – ровно настолько, чтобы не выглядеть неучтивым, но и не нанести ущерба своей чести.
– Ваша светлость, мы бесконечно признательны вам за то, что вы так щедро уделили нам толику своего драгоценного времени… Мы перед вами в долгу.
– Я пришлю счет, дон Альваро. Моя светлость ничего не делает даром. – Оливарес повернулся к дону Франсиско, который все это время выступал в роли Каменного Гостя. – Что же касается вас, сеньор де Кеведо, надеюсь, это хоть отчасти улучшит наши с вами отношения. Мне бы совершенно не повредили два-три сонета, одобряющие мою политику во Фландрии, сонета, разумеется, анонимных, хотя никому и в голову не придет усомниться в том, кто их истинный автор… Да и стихотворение о том, что следует наполовину сократить номинальную стоимость вельона [[38]], было бы сейчас весьма кстати…
Дон Франсиско с беспокойством покосился на своих спутников. Только-только начав выкарабкиваться из долгой и мучительной опалы, он желал теперь вернуть себе утраченное положение при дворе и малость отдышаться от бесчисленных пинков и оплеух Фортуны. История с монастырем бенедиктинок произошла в самое неподходящее для поэта время, и тем больше ему чести, что, движимый чувством порядочности и давней дружбы, осмелился он рискнуть едва забрезжившей удачей. Кеведо ненавидели и боялись за необыкновенный поэтический дар и бритвенно-острый язык, и в последнее время дон Франсиско старался не дразнить гусей, то есть не злить сильных мира сего, а потому умудрялся как-то сочетать хвалы с привычной язвительной брюзгливостью, а надежды на лучшее – с обычной безнадежностью, столь свойственной его взгляду на мир. Попросту говоря, кому охота вновь оказаться в ссылке или в изгнании, и кто откажется от возможности хоть немного поправить расстроенные дела? И вот, дабы не потерять все окончательно, великий сатирик вынужден был приумолкнуть и угомониться. Вдобавок он, подобно многим другим, искренне верил, что Оливарес – именно тот лекарь, который суровыми, но действенными средствами возродит к жизни дряхлого и хворого испанского льва. Однако следует особо отметить – и опять же к чести Кеведо, – что именно в это относительно благополучное время сочинил он комедию «Как стать фаворитом», в которой будущему графу-герцогу досталось весьма крепко. И как ни старался Оливарес вкупе с другими сановниками привлечь поэта на свою сторону, шила в мешке не утаишь, а колется оно больно, и потому спустя несколько лет кончилась эта странная дружба: ходил слух, что якобы – из-за «мемориала под салфеткой», я же склоняюсь к тому мнению, что имелся иной, более основательный повод для смертельной вражды министра и поэта, для монаршего гнева и для заключения больного и старого дона Франсиско в монастырскую тюрьму Сан-Маркос-де-Леон [[39]]. Это произойдет позже, когда королевство наше окончательно превратится в чудище, ненасытно пожирающее подати, а взамен не дающее ничего, кроме политических провалов и военных катастроф; когда Каталония и Португалия взялись за оружие, а французы по своему обыкновению захотели урвать кусок пожирней; когда Испания погрузилась в пучину междоусобицы, позора и гибели. Но об этих смутных временах речь у нас будет впереди. Сейчас важно сообщить вам, что в тот вечер Кеведо ответил Оливаресу с суховатой, но безупречной учтивостью:
– Посоветуюсь с музами, ваша светлость. Будет сделано все возможное.
Министр, явно довольный – раньше времени он радовался, – кивнул.
– Не сомневаюсь, – сказал он, самим тоном своим показывая, что иной возможности и не допускал. – Что же касается вашего прошения об уплате причитающихся вам четырех тысяч восьмисот реалов, то вы ведь знаете, каким черепашьим шагом движутся подобные дела… Но унывать не следует.
Наведайтесь ко мне на днях. Мы все обсудим не торопясь. И не забудьте стихи, о которых я просил…
Кеведо поклонился, снова не без некоторого смущения покосившись на своих спутников. По крайней мере, от Гуадальмедины он ждал ехидной гримасы или насмешливого замечания, однако граф слишком хорошо знал, как легко у вспыльчивого и задиристого дона Франсиско вылетает шпага из ножен, и благоразумно сделал вид, будто ничего не слышит. Оливарес повернулся к Диего Алатристе.
– Я сожалею, сеньор капитан, что ничем не могу помочь вам, – произнес он по-прежнему любезно, но на этот раз обозначив тоном всю безмерность расстояния, отделявшего одного собеседника от другого. – Признаюсь, что по некоей причине, впрочем, и вам, и мне известной, я питаю к вам какую-то загадочную слабость… Вот потому, ну и, разумеется, по просьбе нашего дорогого дона Альваро, я согласился на эту встречу. Знайте только, что чем больше власти у тебя в руках, тем осмотрительней должно применять ее.
Алатристе, держа в одной руке шляпу, другую опустил на эфес.
– При всем моем уважении к вам, ваша светлость, я все же полагаю, что довольно было бы одного вашего слова, чтобы спасти мальчика.
– Правильно полагаете. По крайней мере, подписанного мною приказа было бы достаточно. Но это не так легко, как кажется, ибо потребовало бы от меня кое в чем уступить, кое от чего отказаться. А для людей моего ремесла это опасно. По сравнению со всем тем, что Господь Бог и его величество король рассудили за благо вверить в мои руки, жизнь вашего юного друга весит слишком мало. Так что мне остается только пожелать вам удачи.
Он произнес это и показал взглядом, что решение его – окончательно, и более вопрос обсуждению не подлежит. Однако Алатристе выдержал этот взгляд.
– Ваша светлость. У меня нет ничего, кроме послужного списка, годного разве что на раскурку, и шпаги, которой я добываю себе пропитание. – Капитан говорил очень медленно и, казалось, обращается не к властелину полумира, а просто рассуждает вслух. – Человек я, в сущности, необразованный, говорить не мастер. Но дело идет о том, что инквизиция намерена послать на костер ни в чем не повинного мальчика, а его отец был мне другом, воевал и сложил голову за короля и за вас, ваша светлость. Весьма вероятно, что и я, и покойный Лопе Бальбоа, и его сын не много потянем на весах, упомянутых вами так кстати. Однако никому не дано знать, как повернется жизнь, какой она фортель выкинет, и не случится ли в один прекрасный день так, что три фута хорошей стали перевесят все бумаги, все печати, всех королевских секретарей, сколько ни есть их на свете… Помогите сыну одного из тех солдат, кто пал за вас в бою, и я ручаюсь своим честным словом: если этот день настанет – рассчитывайте на меня.
Ни дон Франсиско, ни граф де Гуадальмедина и никто в целом мире никогда не слышал, чтобы Диего Алатристе произнес подряд столько слов. А министр слушал его с непроницаемым видом, не шевелясь, и только искорки, посверкивавшие все ярче в его темных глазах, показывали, что слушает он очень внимательно. Капитан говорил почтительно, печально и с твердостью, которая выглядела бы неуместно суровой, если бы не умерялась спокойным выражением глаз и не была бы лишена хоть капли бравады или вызова. Он словно бы излагал министру непреложно ясную суть дела.
– Вы сможете рассчитывать на меня, – повторил он настойчиво.
Наступило более чем продолжительное молчание. Оливарес, уже собиравшийся захлопнуть дверцу кареты и тем самым показать, что свидание окончено, медлил. Могущественнейший человек Европы, способный одним росчерком пера послать через океан груженые золотом и серебром галеоны и двинуть армии с одного конца земли на другой, пристально глядел на безвестного ветерана фламандских кампаний. В дремучих зарослях усов обозначилось подобие улыбки.
– Черт возьми, – сказал министр.
И вновь стал вглядываться в Алатристе. Казалось, длилось это целую вечность. Потом, очень медленно вырвав листок из переплетенной в сафьян записной книжки, свинцовым карандашом написал на нем четыре слова: «Алькесар. Уэска. Зеленая книга». Несколько раз перечел написанное, словно никак не мог отрешиться от сомнений в правильности своего поступка, и наконец протянул листок Диего Алатристе.
– Даже не подозреваете, капитан, до какой степени вы правы, – негромко и задумчиво проговорил он, окинув взглядом шпагу, на эфесе которой твердо лежала левая рука Алатристе. – В самом деле, никому ничего не дано знать наперед.
VIII. Ночной гость
На колокольне церкви Святого Иеронима пробило два в тот самый миг, когда Диего Алатристе медленно повернул ключ. И тревога сменилась облегчением – замок, заблаговременно смазанный маслом, с тихим щелчком открылся. Капитан толкнул дверь, и та бесшумно распахнулась во тьму. «Auro clausa patent», сказал бы преподобный Перес: «от запора золото избавит», скаламбурил бы дон Франсиско, давно постигший силу его и уверявший, что «дивной мощью наделен дон Дублон». И никому не было дела до того, что золото принадлежало графу де Гуадальмедина, а не ему, капитану Алатристе, никого не интересовало его название, происхождение и запах. Золото помогло сделать слепки ключей и получить план этого дома, благодаря золоту сегодня будет кое-кому преподнесен неприятный сюрприз.
С Кеведо они простились часа два назад: он проводил поэта до улицы Постас и посмотрел ему вслед, когда тот в дорожном платье, при шпаге, с пистолетами в седельных кобурах, с вьюком у задней луки, сунув за ленту шляпы клочок бумаги с четырьмя словами, нацарапанными давеча Оливаресом, с места бросил в галоп своего доброго коня. Граф де Гуадальмедина, одобривший предприятие Кеведо, к затее капитана отнесся совсем иначе, считая, что лучше было бы выждать. Но Алатристе ждать не мог и томиться в бездействии – тем более. Не мог и не стал. Он обнажил кинжал и, держа его в левой руке, пересек внутренний дворик, стараясь в темноте не наткнуться на что-нибудь и не перебудить слуг. Хотя по крайней мере один из них – тот, кто накануне вручил ключи и план дома доверенному лицу Альваро де ла Марка, – будет нем, глух и слеп, но прочая челядь насчитывает не менее полудюжины и может принять близко к сердцу внезапное пробуждение посреди ночи. Во избежание всяких неожиданностей капитан принял обычные для людей его ремесла предосторожности – оделся в темное, плащ и шляпу оставил дома, за пояс заткнул вычищенный, смазанный и заряженный пистолет и, помимо кинжала со шпагой, прихватил старый нагрудник из буйволовой кожи, верой и правдой много раз служивший ему в том Мадриде, который сам Алатристе часто считал городом вредным для здоровья. Что же касается сапог, то сапоги были оставлены в каморке Хуана Вигоня, а вместо них капитан по такому случаю извлек из старых запасов наследие еще более лихих времен – легкие башмаки на веревочной подошве, помогавшие с бесшумной стремительностью тени красться меж фашин и траншей и резать еретиков, засевших на голландских бастионах. Да уж, вдосталь поплясал он на этих балах, где пощады не проси и не давай.
Безмолвный дом был погружен во тьму. Капитан наткнулся на закраину колодца, ощупью обогнул его и наконец нашел заветную дверь. Второй ключ справился со своей задачей превосходно, и Алатристе оказался перед довольно широкой лестницей. Затаив дыхание, возблагодарив небеса за то, что ступени оказались каменными, а не деревянными, и не скрипели, двинулся вверх. Поднявшись, остановился под защитой громоздкого шкафа, чтобы сообразить, куда идти. Сделал еще несколько шагов, помедлив перед входом в коридор, отсчитал вторую дверь по правой стороне и вошел с кинжалом в руке, придерживая шпагу, чтоб не задела, не дай бог, о стул или стол. У окна, в полутьме, еле-еле озаряемой тусклым масляным ночником, он увидел Луиса де Алькесара – тот спал сном праведника и похрапывал. И Диего Алатристе не удержался и усмехнулся про себя – его могущественный враг, личный секретарь короля боялся спать без света.
Алькесар, еще не вполне проснувшись, решил, что ему снится кошмар, но когда хотел перевернуться на другой бок, болезненное прикосновение кинжала воспрепятствовало его намерению и объяснило ему, что это не сон, а не менее кошмарная явь. В ужасе он вскинулся на кровати, вытаращив глаза и разинув рот, чтобы крикнуть, однако железная рука Алатристе бесцеремонно этот рот зажала.
– Одно слово, – сказал капитан, – и вы покойник.
Алькесар в ужасе вращал глазами, топорщил усы. Совсем близко от себя в слабом свете ночника видел он орлиный профиль Алатристе и длинный остро отточенный клинок.
– У слуг есть оружие?
Секретарь мотнул головой. Дыхание его увлажняло ладонь капитана.
– Вы знаете, кто я?
Испуганно замигали глаза, и через мгновение последовал утвердительный кивок. Алатристе отнял ладонь, но Алькесар не издал ни звука. С широко открытым ртом, застывшим в судороге ужаса, он глядел на тень, нависающую над ним, как на призрака. Капитан вплотную подвел острие к его горлу и чуть нажал.
– Что вы намереваетесь сделать с мальчиком? Скошенные на кинжал глаза Алькесара готовы были вылезти из орбит. Ночной колпак свалился с головы, открывая взгляду жиденькие всклокоченные пряди седоватых волос, еще больше подчеркивавших заурядность его круглого лица с крупным носом и редкой, узкой, коротко подстриженной бородкой.
– Не понимаю, о чем вы, – хрипло и слабо выговорил он.
Лицо его было искажено яростью, оказавшейся даже сильнее страха. Алатристе кольнул посильнее, и секретарь застонал.
– В таком случае – молитесь. Сейчас я убью вас.
В ответ снова раздался стон боли и ужаса. Алькесар замер, опасаясь даже моргнуть. От его ночной сорочки и простыни исходил едкий запах пота, пробивающего человека в минуты лютой ненависти и смертельного страха.
– Это не в моей власти, – произнес он наконец. – Инквизиция…
– Не надо морочить мне голову инквизицией. Падре Эмилио Боканегра и вы – этого достаточно.
Алькесар очень медленно поднял руку, продолжая коситься на приставленный к горлу клинок.
– Хорошо… – прошептал он. – Я попытаюсь… Быть может, удастся что-нибудь придумать…
Да, он был сильно напуган и согласен на все. Но не вызывало сомнений, что при свете дня, когда острие кинжала уберут от его кадыка, королевский секретарь может повести себя совсем иначе. Может и поведет. Однако Алатристе выбирать не приходилось.
– Учтите, – сказал он, наклонясь к Алькесару почти вплотную. – Если с мальчиком что-нибудь случится, я приду опять – так же, как пришел сегодня. Приду – и убью вас, как собаку, зарежу во сне.
– Повторяю – инквизиция…
Затрещало масло в ночнике, и на мгновение слабый свет его отразился в капитановых глазах отблеском адского пламени.
– Во сне, – повторил он, и ощутил под рукой, которой придавливал Алькесара к кровати, дрожь его тела. – Богом клянусь.
Взгляд королевского секретаря показывал, что можно было бы обойтись и без клятвы – в том, что капитан сдержит свое обещание, сомневаться не приходилось. Однако он заметил мелькнувшее в глазах Алькесара облегчение при мысли о том, что хоть нынешнюю ночь удастся пережить. А в мире этого негодяя ночь была ночью, а день – днем. И днем можно будет все начать заново, разыграв очередную шахматную партию. Капитан вдруг с полной отчетливостью осознал всю бесполезность своих усилий – секретарь его величества вновь ощутит себя всемогущим, едва лишь кинжал будет убран от его горла. Уверенность в том, что все напрасно: хоть наизнанку вывернись, не миновать мне костра, – вселила в душу Алатристе холодную и неистовую ярость отчаяния. Он заколебался, и Алькесар со свойственной ему проницательностью в тревоге почуял, что стоит за этим колебанием. А капитан, в свою очередь, мгновенно прочел его мысли, словно они перетекли к нему по клинку бискайца, прижатого к пульсирующей на шее жилке.
– Если вы сейчас убьете меня, – медленно произнес Алькесар, – вашему Иньиго уже ничего не поможет.
«Истинная правда, – сообразил капитан. – И если оставлю в живых – тоже». Он чуть отстранился, позволив себе на кратчайший миг погрузиться в размышления о том, не прирезать ли Алькесара прямо сейчас, избавив мир хоть от одной ядовитой гадины. Но вспомнил обо мне – и придержал клинок. Оглянулся по сторонам, будто ища выход из создавшегося положения, и тут задел локтем стоявший на прикроватном столике кувшин с водой. Кувшин грянул об пол с грохотом ружейного выстрела, а когда Алатристе, так и не поборов до конца сомнений, стал вновь придвигать кинжал к горлу врага, в дверях появился свет. И, вскинув глаза, капитан увидел заспанную и изумленную Анхелику де Алькесар в ночной сорочке и с огарком свечи в руке.
С этого мгновения события развивались с чрезвычайной стремительностью. Девочка закричала, и не страх, а ненависть звенела в этом жутком, пронзительном, нескончаемо-долгом вопле, подобном тому, что издает соколиха, кружа над выпавшими из гнезда птенцами. От него мороз прошел по коже капитана. А когда Алатристе начал пятиться от кровати, по-прежнему держа в руке кинжал и решительно не представляя себе, что, дьявол бы всех их подрал, с ним теперь делать, Анхелика уже пулей влетела в спальню и преградила ему дорогу, как маленькая разъяренная фурия – если, конечно, фурии закручивают на ночь волосы в папильотки, – а белая шелковая ее рубашка казалась в полумраке саваном, в которых, говорят, любят являться к нам привидения. Полагаю, она была чудо как хороша, хотя капитану в ту минуту меньше всего дела было до ее красоты, ибо девочка бросилась на него, схватила за руку, державшую кинжал, и впилась в нее зубами – вцепилась, как свирепая охотничья собачка золотисто-пепельной масти, и, когда ошеломленный капитан, пытаясь высвободиться, поднял руку, повисла на ней в воздухе, все крепче стискивая челюсти. В этот миг и дядюшка, избавленный от непосредственной близости бискайца, с неожиданным проворством соскочил с кровати – босиком, разумеется, и в ночной сорочке – бросился к шкафу за короткой шпагой, оглашая воздух воплями: «Убивают! На помощь! Сюда, ко мне!» и прочая. И уже очень скоро спящий дом ожил, наполнился стуком, грохотом, громкими голосами. Сущий начался пандемониум.
Алатристе удалось наконец высвободиться, с такой силой рванув руку, что Анхелика отлетела и покатилась по полу. Сделано это было как нельзя более вовремя, поскольку Луис де Алькесар устремился на него со шпагой, так что будь секретарь самую малость посноровистей, а капитан – медлительней, тут бы его бурной жизни и пришел конец. Но он успел уклониться от еще нескольких выпадов, которыми Алькесар гонял его по всей комнате, и, обнажив оружие, заставил противника отступить. Алатристе двинулся было к дверям, и тут девочка с боевым, леденящим кровь кличем вновь кинулась на него, не обращая внимания на шпагу, – капитан не решался пустить ее в ход и в самый последний миг поднял острием вверх, а не то насадил бы на нее Анхелику, как цыпленка на вертел. Он глазом не успел моргнуть, как она зубами и ногтями вцепилась ему в руку, и опять капитан принялся мотать Анхелику по всей спальне, безуспешно силясь стряхнуть и одновременно парируя удары Алькесара, который, нимало не беспокоясь о том, как бы не задеть племянницу, атаковал его очень рьяно. Дело грозило затянуться до бесконечности, но вот Алатристе удалось отшвырнуть девочку подальше и отбить выпад секретаря так, что тот отлетел назад, со страшным грохотом обрушив на пол умывальную лохань, ночной горшок и еще какую-то утварь. Капитан выбрался в коридор – как раз, чтобы нос к носу столкнуться с тремя-четырьмя вооруженными слугами, гуськом поднимавшимися по лестнице. Вот какое дело вышло – скверное дело. До того скверное, что капитану пришлось достать пистолет и выстрелить в упор, отчего наступающие, сшибая друг друга, кубарем покатились по лестнице, образовав у подножия живописную группу, именуемую в просторечии «куча мала», где невозможно было понять, где чьи ноги, руки, шпаги, деревянные щиты и удавки. Прежде чем челядь успела перестроиться для новой атаки, Алатристе метнулся назад в комнату, задвинул засов и кинулся было к окну, уклонясь по дороге от двух яростных ударов Алькесара. Но тут – Бог троицу любит – снова, как пьявка, впилась ему в руку проклятая девчонка со свирепостью, в которой трудно было бы заподозрить двенадцатилетнее дитя. Волоча ее за собой, капитан все же добрался до окна, распахнул его одним толчком, взмахом шпаги распорол на Алькесаре сорочку, отчего тот неуклюже отлетел к кровати, – и, занося ногу над карнизом, встряхнул рукой, тщась избавиться от Анхелики. Синие глаза ее горели, мелкие белоснежные зубы – дон Луис де Гонгора, без сомнения и не спрашивая мнения дона Франсиско де Кеведо, уподобил бы их россыпи жемчужин меж рдеющих роз – сверкали нечеловеческой ненавистью, но тут Алатристе, уто-мясь от всего этого, ухватил девчонку за локоны, оторвал от своей несчастной руки и послал этот визжащий от ярости мяч через всю комнату прямо к дяде, так что оба они повалились на кровать, отчего у той подломились задние ножки.
Тогда капитан вылез в окно, спустился в патио, выскочил на улицу и припустил бегом, не останавливаясь, пока не уверился в том, что оставил весь этот кошмар далеко позади.
Прячась во тьме, выбирая самые малолюдные и плохо освещенные улицы – от Кава-Баха до Кава-Альта, через Посада-де-ла-Вилья и мимо закрытых ставнями окон аптекаря Фадрике-Кривого, а затем – на Пуэрта-Серрада, где в этот поздний час не было ни души – возвращался он в игорное заведение Хуана Вигоня.
Он старался ни о чем не думать, но мысли его одолевали. Капитан с полной уверенностью сознавал, что совершил глупость, усугубившую и без того плачевное положение дел. Ледяная ярость стучала в висках в такт ударам сердца, и он с наслаждением отхлестал бы самого себя по щекам, чтобы дать выход безнадежности и гневу. Капитан, обретая мало-помалу спокойствие, подумал, что именно желание хоть что-то сделать, а не сидеть сиднем в ожидании, пока за тебя все решат, выгнало его нынче ночью из каморки Хуана, где он метался из угла в угол, как волк в клетке, и, как волка, отправило охотиться неведомо на кого. Томиться взаперти было невыносимо: сколько бы ни было ему отпущено, а все же в том трудном мире, где каждый день рискуешь головой, куда проще жить, зная, что ни от кого ничего ждать не следует, что полагаться можно исключительно на самого себя и собственные силы, и что у тебя одно право и одна обязанность – сохранить жизнь и по возможности не дать попортить себе шкуру. Диего Алатрис-те-и-Тенорио, послужив и в пехоте, и на королевских галерах в Неаполе, за долгие годы научился избегать всяких чувств, от которых нельзя было бы избавиться с помощью шпаги. И вот вам, пожалуйста, – еще вчера, казалось бы, капитан даже не подозревал о существовании этого мальчугана, а теперь он в один миг переменил все это и заставил его почувствовать, что как бы ни был ты крут и стоек, и у тебя найдется своя ахиллесова пята, свое уязвимое место.
Кстати об уязвимых местах. Алатристе ощупал левое предплечье, все еще побаливавшее от укусов Анхелики, и не сумел сдержать восхищенно-недоуменной ухмылки. Иногда трагедии чем-то смахивают на фарс, подумал он. Этот палевый котеночек, о котором капитан ничего толком не слышал, ибо я никогда раньше не упоминал имени Анхелики, и наши с ней отношения оставались для него тайной, обещает вырасти в настоящую тигрицу – свирепая порода чувствуется уже сейчас. Короче говоря, племянница удалась в дядюшку.
Еще раз вспомнив испуганные глаза Луиса де Алькесара, исходящий от него кислый запах страха и злобы, капитан пожал плечами. Стоицизм старого солдата вернулся к нему. В конце концов, ничего не дано знать наперед, и последствия наших действий предугадать невозможно. Что ж, благодаря этому ночному переполоху выяснилось, что и королевский секретарь – такой же человек, как и все прочие. И к его шее можно, оказывается, приставить острие кинжала, а уж как там дальше будет, как карта ляжет – поглядим.
Предаваясь этим отрывочным размышлениям, Алатристе дошел до площади Графа де Барахаса, расположенной совсем рядом с Пласа-Майор, и только собрался свернуть за угол, как заметил свет и кучку людей. Время было не для прогулок, и потому он поспешил спрятаться за выступом стены. Кто бы ни были эти люди – припозднившиеся игроки, вывалившиеся из заведения Хуана Вигоня, искатели приключений, гуляки-полуночники или блюстители порядка, – неожиданные встречи нынче ночью в расчеты капитана Алатристе не входили.
В свете поставленного на землю фонаря он увидел, что они наклеили на стену дома какую-то бумагу и двинулись вниз по улице. Их было пятеро – все с оружием, один нес свернутые рулоном листы, другой – ведерко с клеем, и капитан пошел бы своей дорогой, не задумавшись особенно, чем заняты были эти люди, если бы не заметил в руке у переднего черный жезл, который инквизиция выдавала своим близким. И потому, едва лишь пятерка скрылась из виду, капитан приблизился к наклеенному листу, собираясь ознакомиться с его содержанием, да не смог – было слишком темно. Воспользовавшись тем, что клей еще не успел застыть, Алатристе содрал объявление, сложил его вчетверо и вступил под арку, ведущую на Пласа-Майор. Оказавшись там, юркнул в неприметную дверку игорного дом и, скрывшись в своем убежище, достал трут и огниво, высек огонь, зажег свечу – все это, сдерживая нетерпение, подобно человеку, который не спешит распечатывать письмо, предвидя, что найдет в нем дурные вести. Вести и в самом деле оказались из рук вон.
Священный Трибунал доводит до сведения всех жителей города Мадрида, в коем имеет местопребывание двор его королевского величества, что в ближайшее воскресенья, июня сего четвертого дня на Пласа-Майор состоится публичное аутодафе.
Капитан Алатристе, хоть и зарабатывал себе на жизнь тяжкими и опасными трудами, очень редко поминал имя Господа нашего всуе, однако на этот раз мадридские стены огласились таким забористым солдатским богохульством, что пламя свечи заметалось из стороны в сторону. До четвертого, мать его, июня оставалось меньше недели, а он, чтоб его разорвало, не мог сделать решительно ничего – только ждать и материться. Это – раз. А два – совершенно не исключено, что после его ночного гостевания у Алькесара стены завтра же запестрят новым объявлением, где от имени коррехидора за капитанову голову объявлена будет награда. Алатристе смял листок и долго стоял в неподвижности, прислонясь к стене, уставясь в никуда. Что ж, все заряды были истрачены – и притом без толку. Оставалось уповать только на дона Франсиско де Кеведо.
Я прошу извинения у вас, господа, за то, что вновь возвращаюсь к собственной персоне, пребывавшей в одном из казематов тюрьмы в Толедо и почти утратившей к этому времени способность отличать день от ночи, равно как и вообще понятие о времени. После еще нескольких допросов, сопровождаемых пинками и затрещинами рыжего стражника – слышал я, что той же масти был Иуда, и уповаю всей душой, что сужден моему палачу такой же конец – но так и не приведших ни к чему, достойному упоминания, оставили меня в покое. Показания Эльвиры де ла Крус и амулет Анхелики казались инквизиторам вполне достаточными основаниями для исполнения чудесного их замысла, хотя, впрочем, последний допрос, на котором, сказать по правде, пришлось мне особенно солоно, был долог: монотонно приговаривая «следствием установлено», «сознайся», «признайся» и прочее, инквизиторы допытывались о моих предполагаемых сообщниках, отмечая хлесткими ударами плети каждое умолчание – а ничего иного и не было. Скажу лишь, что оставался тверд и не назвал ни одного имени. Доведен же я был до столь бедственного состояния, что обмороки, которые первоначально были притворными – вы помните, верно, сколь слабое действие они произвели, – теперь проистекали по самым что ни на есть натуральным причинам, ибо забытье избавляло меня от битья. Теперь я склонен предполагать, что мои палачи унимали собственное рвение отчасти и потому, что опасались лишиться исполнителя блистательной роли, отведенной мне на празднестве, имеющем быть на Пласа-Майор, – но это теперь, а тогда едва ли я понимал это с должной отчетливостью, ибо пребывал в столь помраченном состоянии рассудка, что, оказываясь в сырой и темной камере, слыша, как постукивают по каменному полу коготки крысы, не вполне узнавал себя в том Иньиго, которого хлестали плетьми, а потом, приводя в чувство, трясли и расталкивали. Боялся я на самом деле одного – что буду гнить здесь, пока не стукнет мне четырнадцать, а уж тогда неминуемо сведу тесное знакомство с деревянным сооружением, снабженным хитроумными приспособлениями для вытягивания из человека жил и показаний: оно неизменно присутствовало в комнате для допросов, возвещая, что рано или поздно примет меня в свои объятия.
А между тем крысу я все же подстерег. Мне надоело каждую ночь бояться, что она меня укусит, и, посвятив много часов изучению ее повадок, привычек и свойств, я узнал их лучше, чем свои собственные, назубок выучил, чего опасается и на что отваживается эта матерая, поседелая в тюремных стенах грызунья, какими путями ходит, куда прячется, и даже темнота была не помеха моему пытливому уму. И вот однажды миг вожделенный настал: я притворился спящим, и когда крыса торной дорогой направилась в тот угол, где, как знала она, всегда приготовлены для нее кусочки хлеба, коими укрепляемы были ее привязанности – схватил кувшин с водой и обрушил его на проклятую тварь так удачно, что она, даже не пискнув, тотчас отдала Богу душу или что там есть у крысы.
И в ту ночь я смог наконец выспаться. А наутро почувствовал, что мне словно чего-то не хватает. Исчезновение неприятной соседки обратило мои мысли к иным предметам, предоставив время для размышлений, например, о предательстве Анхелики и о костре, в пламени которого, судя по всему, предстояло мне завершить свой краткий век Что касается вероятности обратиться в головешку, то скажу вам без утайки и похвальбы – это не слишком меня заботило. Я был так истерзан тюрьмой и побоями, что всякая перемена участи представлялась мне желанной, ибо сулила избавление от мук. Порою я прикидывал, долго ли придется умирать на костре, вспоминая, что «отрекшихся от пагубных заблуждений» милосердно удавливают гарротой, перед тем как поднести факел к вязанкам сухого хвороста, избавляющего от любой хворости, но и без этого, утешал я себя, никакое страдание не бывает вечным, и, сколько бы ни длилось оно, наступит ему конец, и ты, Иньиго, отдохнешь. Кроме того, во времена моего отрочества смерть считалась делом легким и даже обыденным, а я был уверен, что не столь уж много смертных грехов тяготило мою душу, чтобы они стать помехой к воссоединению ее – в положенном месте – с благородной солдатской душою Лопе Бальбоа. Вспомним, господа, что человек в мои нежные года склонен воспринимать жизнь в героическом свете, и то обстоятельство, что сидел я в ожидании казни потому, как ни крути, что отказался выдать инквизиции капитана Алатристе и его друзей, отчасти давало мне основания – вы уж меня простите – гордиться собой. Понятия не имею, был ли я наделен мужеством от рождения, но если первый шаг к благоприобретенному обладанию этим даром природы состоит в том, чтобы вести себя мужественно, то – Бог свидетель! – ваш покорный слуга этот шаг сделал. Да и не один.
Тем не менее я предавался безутешному отчаянью: казалось, что тщится заплакать само нутро, и эти невидимые слезы не имели ничего общего с теми, которые исторгали из меня плети палачей или изнеможение, тоже порой просившееся наружу соленой водицей из глаз. Да, это была тоска ледяная и безнадежная, и как-то она связывалась с воспоминаниями о матери и сестричках, о том, как Алатристе с молчаливым одобрением наблюдал за моими действиями, о пологих зеленеющих склонах родного Оньяте, о ребяческих забавах, делимых с соседскими детьми. Я чувствовал, что прощаюсь со всем этим навсегда, и остро ощущал: множество всякой чудесной всячины, ожидавшей меня в жизни, ни увидеть, ни отведать мне не суждено. И сильней всего горевал я по невозможности в последний раз взглянуть в глаза Анхелики де Алькесар.
Нет, клянусь вам, – я не возненавидел ее. Напротив, уверенность в том, что она внесла свою немалую лепту в мое бедственное положение, придавала моим воспоминаниям какой-то особый – одновременно и горький, и сладостный – привкус. Она была коварна – и со временем свойство это развилось до степеней немыслимых – но так прекрасна! И вот как раз это сочетание – не такое уж, как оказалось, редкостное – доводило меня до полного умопомрачения и заставляло наслаждаться тем, что терплю я и сношу ради нее. Ей-богу, она меня приворожила. Впрочем, потом, по прошествии многих лет, я слышал о мужчинах, которым лукавый демон сумел влезть в самую душу, и в каждой из этих историй без труда узнавал я свою собственную. Анхелика де Алькесар завладела моей душой и, пока жива была, не возвращала. А я, готовый без малейших колебаний тысячу раз отдать за нее жизнь и к ее ногам сложить жизни тысячи других, так никогда и не смог позабыть ее таинственную улыбку, холодную синеву ее глаз, матовую белизну кожи, чье нежное прикосновение и по сей день помнит моя кожа, иссеченная рубцами от давних, затянувшихся ран, одну из которых, черт возьми, она же мне и нанесла. И как никакими силами не соскоблить и не вытравить со спины длинный шрам от кинжала, так из памяти моей никогда не изгладится ночь, случившаяся много лет спустя, когда мы с Анхеликой были уже совсем не дети, когда я держал ее в объятиях, одновременно обожая и ненавидя, и мне было совершенно безразлично, живым или мертвым встречу я зарю. И она, близко глядя мне в глаза, едва шевеля обагренными моей кровью губами, ибо за миг до этого прильнула ими к бороздке, прочерченной острием, прошептала слова, которые я не забуду ни на этом свете, ни на том: «Как я рада, что еще не убила тебя».
Испугался ли Алькесар, решил ли выждать или затеял очередную каверзу – а может, то и другое и третье, – но на руках у него было достаточно козырей, чтоб навязать свою игру. Так или иначе, ночное происшествие достоянием гласности не стало; Диего Алатристе в розыск объявлен не был, и наступивший день, подобно нескольким предыдущим, провел он в каморке Хуана Вигоня, служившей ему укрытием. Однако к вечеру, под прикрытием темноты решил нанести еще один визит.
Лейтенант альгвасилов Мартин Салданья повстречал его на пороге собственного дома, что на улице Леон, когда в поздний час возвращался с последнего обхода. Если быть точным, то не самого Алатристе, а поблескивающий ствол наставленного пистолета. Но Салданья был человек закаленный, в долгой жизни своей навидавшийся предостаточно пистолетов, и мушкетов, и аркебуз, и прочего стреляющего добра, а потому от очередного ствола не было ему ни жарко, ни холодно. И, уперев руки в боки, воззрился он на капитана: тот был в плаще и шляпе, в правой руке держал пистолет, а левую предусмотрительно завел назад, взявшись за кинжал у пояса.
– Матерь Божья, Диего, как не надоест тебе валять дурака!
Алатристе, никак не отозвавшись на это замечание, чуть выступил из тени на свет, чтобы видеть лицо Салданьи, благо на углу улицы Уэртас тускло горел факел. Пистолет он поднял дулом вверх, как бы предъявляя его Альгвасилу:
– Понадобится?
Мартин несколько мгновений созерцал его молча, а потом ответил:
– Нет. Пока – нет.
Обстановка несколько разрядилась. Капитан спрятал пистолет за пояс и выпустил из пальцев рукоять кинжала.
– Тогда пойдем-ка прогуляемся, – сказал он.
– …Одного в толк взять не могу: почему меня не объявили в розыск?
Миновав площадь Антона Мартина, они спускались по улице Аточа, пустынной в этот глухой час. Ущербный диск луны сию минуту выплыл из-за крыши госпиталя Господней Любви, и мутноватый блеск заиграл на воде, вытекавшей из фонтана и струившейся по стокам вниз. Запах подгнивших овощей перемешивался с резким запахом лошадиного навоза.
– Не знаю и знать не хочу, – отвечал Салданья. – Но это в самом деле так: твое имя нигде не проходит.
Обходя очередную кучу, он все же вступил ногой во что не надо и выругался сквозь зубы. Короткая пелерина делала его широкоплечую фигуру еще массивней.
– Однако это еще ничего не значит, – продолжал он. – Гляди в оба. Оттого, что за тобой по пятам не ходят мои люди, не думай, будто никого не волнует твое здоровье… Насколько мне известно, инквизиция намерена взять тебя безо всякой огласки. Тихо.
– Почему?
Салданья покосился на капитана:
– Мне, понимаешь ли, не докладывали, а я не спрашивал. Вот что я знаю: личность женщины, задушенной в собственном портшезе, установлена. Это некая Мария Монтуэнга, служившая дуэньей у одной послушницы в бенедиктинском монастыре Поклонения… Тебе что-нибудь говорит это имя?
– Решительно ничего.
– Я так и думал. – Лейтенант тихо рассмеялся, не разжимая зубов. – Не говорит – и не надо, оно и к лучшему, потому что дело – скверное… Говорят, старуха была еще и сводней. А теперь этим очень заинтересовалась инквизиция… Тебя, разумеется, и это ни с какой стороны не касается, да?
– Ни в малейшей степени.
– Ну да, ну да… Еще поговаривают о скольких-то убитых, которых никто не видел, и о том, что неизвестные устроили в монастыре такой тарарам, какого старожилы не припомнят… – Он вновь покосился на Алатристе. – И кое-кто соотносит все это с предстоящим в воскресенье аутодафе.
– А ты?
– А я – нет. Я получаю приказы и выполняю их. А раз мне никто ничего не сообщает, чему я бесконечно рад, я всего лишь смотрю, слушаю и помалкиваю. При моей должности это очень благоразумно… Что же касается тебя, Диего, то мне бы ужасно хотелось, чтобы ты убрался отсюда – как можно скорей и как можно дальше. Какого рожна ты торчишь в Мадриде?
– Иньиго…
Салданья прервал его, крепко выругавшись:
– Можешь не продолжать! Знать ничего не знаю ни о твоем Иньиго, ни о прочих твоих проклятых делах! А насчет воскресенья я тебе так скажу: не суйся. Мне приказано вывести поголовно всех моих людей с оружием и передать их в распоряжение Священного Трибунала. Не то что ты – сама Пречистая Дева ничего не сможет сделать.
Дорогу им пересекла стремительная кошачья тень. Они были уже возле самого госпиталя Консепсьон, когда послышался женский голос: «Поберегись!» – и оба благоразумно послушались: содержимое ночного горшка выплеснулось из окошка на мостовую.
– И последнее, – произнес Салданья. – Есть один малый… Он, как и ты, сдает свою шпагу внаем. Остерегайся его… Судя по всему, его тоже решили привлечь к этому делу…
– К какому еще делу? – Алатристе насмешливо встопорщил невидимый в темноте ус. – Не ты ли минуту назад божился, что ничего не слышал и не знаешь?
– Поди-ка ты, капитан, знаешь, куда?
– Знаю, знаю. Тебе, верно, там понравилось, что других посылаешь?
– Ладно, хватит зубоскалить. – Салданья оправил пелерину, и от этого движения зловеще зазвенела спрятанная под нею сталь. – Малый, о котором я тебе толкую, выслеживает тебя по всему городу. Да не один, а с полудюжиной ухорезов, чтоб уж не сорвалось… Ахнуть не успеешь, как они тебя распотрошат. А зовут его…
– Малатеста. Гвальтерио Малатеста.
Снова послышался негромкий смешок лейтенанта:
– Он самый. Итальянец?
– Из Сицилии. Как-то, помнится, подрядились мы с ним на пару выполнить один заказец. Делали да не доделали, застряли на середине… А потом еще раза два пересекались наши дорожки.
– Клянусь кровью Христовой, он сохранил о тебе не самые светлые воспоминания. Сдается мне, ему не терпится до тебя добраться.
– А что еще ты о нем знаешь?
– Не много. Знаю, что у него весьма могущественные покровители, и он превосходно знает свое ремесло. В Генуе и Неаполе многих отправил на тот свет за чужой счет. Поговаривают, что он получает от этого удовольствие. Какое-то время жил в Севилье, около года назад объявился в Мадриде… Все. Если надо, могу собрать еще какие-нибудь сведения.
Алатристе не ответил. Они уже добрались до края Прадо-де-Аточа, и теперь перед ними простирались темные сады и поле, за которым брала начало дорога. Помолчали, слушая треск цикад. Первым заговорил Салданья – понизив голос, словно и здесь их могли подслушать:
– В воскресенье будь особенно осторожен. Сделай так, чтобы не пришлось заковывать тебя в кандалы. Или убивать.
Капитан продолжал молчать. Он стоял не шевелясь, завернувшись в плащ, и поле шляпы бросало тень на его лицо, и без того едва различимое в полутьме. Салданья хрипло вздохнул, затоптался на месте, словно собираясь уйти, снова вздохнул и смачно выругался.
– Вот что я скажу тебе, Диего, – промолвил он, тоже уставившись в темную пустошь. – Мы с тобой никогда особо не обманывались насчет мира, в котором нам выпало жить… Я устал. У меня – хорошая жена, и ремесло мое мне по вкусу, да притом еще и кормит. Это я все к тому, что когда у меня в руке жезл альгвасила, я родного отца не узнаю… Может быть, я – сволочь, не спорю, но уж какой есть. И мне хотелось бы, чтобы ты…
– Лишнее говоришь, Мартин.
Капитан произнес это мягко и почти небрежно. Салданья снял шляпу, провел короткопалой широкой ладонью по лысеющему темени.
– Верно. Я вообще говорю слишком много. Должно быть, старею. – Он в третий раз вздохнул, не отводя глаз от темного поля впереди, вслушиваясь в треск цикад. – Да и ты тоже. Оба мы стареем, капитан. И ты, и я.
Послышался отдаленный перезвон курантов. Алатристе был все так же неподвижен.
– Мало нас осталось, – произнес он.
– Мало… – Салданья надел шляпу, некоторое время о чем-то раздумывал, потом подошел вплотную к капитану, снова стал рядом. – Очень мало, черт побери. Очень мало тех, с кем можно постоять помолчать, вспомнить прошлое. Да и они – уж не те, какими были когда-то.
Он тихо засвистал старинную песню. В ней поминались полки, походы, приступы, добыча, победы. Когда-то, восемнадцать лет назад, он пел ее вместе с моим отцом и другими товарищами, когда грабили Остенде, когда генерал Амбросьо Спинола вел их берегом Рейна во Фрисландию, в Ольденшель и Линген.
– Впрочем, – добавил он. – может, и век наш недостоин таких, как мы. То есть таких, какими были мы.
Салданья взглянул на капитана. Тот медленно кивнул. Выщербленный лунный диск швырнул к его ногам бесформенную расплывающуюся тень.
– А может быть, – пробормотал Алатристе, – мы и сами теперь их недостойны.
IX. Аутодафе
В царствование четвертого Филиппа, равно как и его предшественников на троне, Испания наша без памяти любила жечь на кострах еретиков и ведьм, иудействующих и чернокнижников. Аутодафе собирали тысячные толпы зрителей, среди которых были и аристократы, и плебеи, а если действо происходило в Мадриде, то могли почтить его своим присутствием и коронованные особы, сидевшие на почетных местах. Даже наша королева Изабелла, по молодости лет и принадлежности к нации лягушатников испытывавшая определенного рода отвращение к подобным зрелищам, в конце концов прониклась к ним, как и все ее подданные, истинной страстью. Единственное, чего из всех наших местных прелестей так и не приняла душа дочери Генриха Наваррского, был замок Эскориал, где, казалось, еще бродит тень «Благоразумного Короля» – Филиппа Великого: Изабелла наотрез отказывалась там жить, говоря, что на ее вкус дворец чересчур мрачен, несоразмерно громоздок и там очень сыро. Тем не менее, когда время приспело, она все же переселилась туда: ни за что не хотела спать в его опочивальнях – пришлось опочить в его усыпальнице. И, видит Бог, даровано ей было не худшее на свете место – рядом с пышными склепами императора Карла и сына его, великого Филиппа, прадеда и деда нынешнего нашего государя. Благодаря монаршему их попечению и к вящей досаде турка, француза, голландца и англичанина, ни дна им всем ни покрышки, отечество наше целых полтора столетия крепко держало Европу… вот-вот, именно за то, что вы подумали.
Ну хорошо, вернемся к аутодафе. Так вот, пиршество, на котором, к несчастью, должен был появиться и я, но не званым гостем, а блюдом, начали готовить дня за два до назначенного срока: на Пласа-Майор поднялась большая строительная суета, и плотники под началом десятников стали возводить здоровенный, футов на пятьдесят, помост, окруженный ступенчатым амфитеатром, затянутым материей, завешанным коврами и драпировками. Даже ко дню бракосочетания их величеств не украшали площадь с таким размахом и рвением: все прилегающие к ней улицы перекрыли, чтобы кареты и всадники не создавали сутолоки; для королевской фамилии предусмотрели места под балдахином со стороны улицы Меркадерес, как самой тенистой. Поскольку длительная церемония грозила затянуться на весь день, устроители озаботились возведением навесов, под которыми горожане могли перекусить, освежиться и выпить прохладительного. Столь велики были ожидания, что на свете в тот день ничто не могло сравниться с вожделенным билетом, дававшим право смотреть на казнь из окна, и многие уплатили очень приличные деньги алькальду Дома и Двора за то, чтобы устроиться поудобней и там, откуда все как на ладони. Входили в число этих многих знатнейшие вельможи, придворные кавалеры, высшие сановники, послы, включая и папского легата: нунция его святейшества даже fumata bianca [[40]] не заставила бы отказаться от такого зрелища, как коррида, канъяс и, само собой разумеется, поджаривание грешников.
В тот день, долженствовавший войти в анналы, Священный Трибунал по своему обыкновению рассчитывал хлопнуть нескольких куропаток одним выстрелом. Преисполнившись решимости пресечь связи Оливареса с португальскими банкирами иудейского происхождения, самые оголтелые инквизиторы из Высшего Совета задумали устроить беспримерное по размаху аутодафе, чтобы вселить ужас в души людей с нечистой кровью. Имеющий уши да слышит: ни богатство, ни расположение всесильного министра не позволят им чувствовать себя в Испании вольготно. Инквизиция, призвав к себе на помощь его набожное величество, который в юности был так же безволен и мягкотел, как и в старости, и так же легко поддавался чужому влиянию, предпочла разорить страну, лишь бы не осквернить веру. Именно для того, чтобы уж наверняка и под самый корень подрубить замысел Оливареса, дело о монастыре бенедиктинок, равно как и прочие подобные дела, рассматривалось с такой неслыханной быстротой – просто-таки летело к справедливому воздаянию, призванному дать острастку всем. Недаром же справились за несколько недель, хотя обычно в подобных случаях требовались долгие месяцы, а порой и годы скрупулезного следствия.
Из-за спешки пришлось даже упростить мудреную процедуру. Обычно приговоры осужденным оглашались за день до аутодафе, после того, как пышная процессия зеленый крест вносила на площадь, а белый – устанавливала на месте казни. На сей раз приговор было решено прочесть перед самым началом церемонии прилюдно, когда огромная толпа до отказа заполнит Пласа-Майор. Доставив из тюрем Толедо заключенных общим числом двадцать человек, их – то есть нас – разместили в подвале на улице Премостенсес, в просторечии именуемой улицей Инквизиции, неподалеку от площади Сан-Доминго.
И стало быть, в субботу вечером, не дав ни с кем и словом перемолвиться, меня вывели из камеры, втолкнули в карету с зашторенными окнами и под надежной, хорошо вооруженной охраной доставили к месту назначения, озаренному светом смоляных факелов. В столичной тюрьме накормили довольно пристойным ужином, дали тюфяк и одеяло, под которым предстояло мне скоротать эту ночь, заполненную топотом ног, лязгом запоров, звуками голосов, беготней, суетой – все эти звуки доносились ко мне из коридора. Я всерьез опасался, что наступающий день не сулит мне ничего хорошего, и ломал себе голову, ожидая, когда же осенит ее, как это обычно случается с героями Лопе, блестящая мысль и отыщется выход. В те минуты я пребывал в полнейшей уверенности, что, какая бы вина ни тяготела надо мной, отправить меня на костер инквизиторы не имеют права – года мои не вышли. А вот засечь плетьми или сгноить за решеткой – с них станется, и я совершенно не знал, что из двух предпочтительней: то и другое мало мне улыбалось. Но тем не менее – поистине чудесна натура человеческая! – здоровые гуморы, столь свойственные младости, тяготы заключения и трудный путь сделали свое дело, и после того, как я промаялся довольно долго, снова и снова предаваясь размышлениям о своей печальной судьбе, благодетельный и целительный сон наконец сжалился надо мной, милосердно избавив от тревоги, томившей мой бодрствующий рассудок.
Две тысячи человек провели эту ночь на ногах, чтобы занять место, и потому в семь часов утра на Пласа-Майор яблоку негде было упасть. Затерявшись в густой толпе, надвинув шляпу на самые брови и закрывая пелериной нижнюю часть лица, Диего Алатристе пробирался на галерею де ла Карне. Аркады были забиты народом разнообразнейшего звания и состояния – дворяне, клирики, купцы, лакеи и горничные, школяры, проходимцы всех мастей, нищие и всякий сброд толкались и пихались, стремясь устроиться поудобней. В окнах виднелись золотые цепи, кружева по сотне эскудо за локоть, сутаны и прочие приметы людей из общества, тогда как внизу, расположившись целыми семьями с малыми детьми, простолюдины держали наготове корзины, содержимое которых призвано было утолить голод и жажду, и сновали в толпе разносчики медовухи, водоносы, торговцы сластями и лакомствами. Зычно расхваливал свой товар продавец освященных четок и литографий с изображениями Сердца Христова и Пречистой Девы, уверяя, что в такой день, как сегодня, покупатель обрящет благословение папы и полное отпущение грехов. Чуть поодаль от него жалостно канючил калека-ветеран фламандских кампаний, едва ли знающий, с какого конца заряжается аркебуза, и оспаривали у него место лже-паралитик и еще некто, с помощью рыбьей чешуи на бритой голове тщившийся – весьма, впрочем, неубедительно – представить экзему. Отвешивали замысловатые комплименты светские любезники; искало себе поживы ворье и жулье. Две девицы – красотка без покрывала и страхолюдина в мантилье – из тех, кто корчит из себя недотрог, обладать которыми достоин разве что испанский гранд или генуэзский банкир, убеждали какого-то мастерового, прицепившего шпагу и, стало быть, усвоившего замашки знатного сеньора, чтобы тряхнул мошной и угостил их глазированными фруктами и миндалем в сахаре. А бедняга-ремесленник, и без того уже спустивший чуть не все, что взял с собой, радовался втихомолку, что не взял больше. И невдомек ему было, убогому, что истинный кабальеро никогда ничего не дает и давать не собирается, именно в этом полагая свою гордость.
Денек выдался – как по заказу. Светлые глаза капитана щурились от ослепительного сияния, заливавшего площадь; локтями он прокладывал себе путь в толпе. Пахло потом, множеством скученных тел – словом, атмосфера была самая праздничная. Алатристе, чувствуя, как нарастает в нем глухое безутешное отчаяние, сознавал, что столкнулся с неодолимой, неумолимой силой. Словно наблюдал со стороны ход механизма, чьи безжалостные маховики и шестерни могут вселить в человека лишь ужас и стремление смириться перед неизбежным. Решительно ничего нельзя было сделать: более того – опасность грозила и самому капитану. Пригнув голову так, что левый ус лежал чуть не на плече, он шел, поспешно отворачиваясь и ускоряя шаги всякий раз, когда казалось, что кто-то поглядел на него внимательней, чем следовало бы. Да и шел-то лишь затем, чтобы шевелиться, а не стоять в оцепенении. Куда, к дьяволу, запропастился дон Франсиско де Кеведо? Его поездка была тем единственным, что давало хоть какую-то, пусть призрачную надежду, и капитан хватался за нее, как утопающий – за соломинку, которая переломилась в его пальцах, когда запели горны гвардейских трубачей, и все взоры обратились в сторону улицы Меркадерес, к балкону, задрапированному красным шелком. Под рукоплескания толпы заняли свои места их величества: важный Филипп Четвертый в черном бархате, с золотой цепью на груди и сам золотисто-рыжеватый, как галун, – сев в кресло, государь больше уже не двигал ни рукой, ни ногой, ни головой, – и королева Изабелла в желтом атласе, в перьях и самоцветных камнях, украшавших ее головку. Под их балконом в безупречном строю замерли внушительные гвардейцы с алебардами: слева – испанец, справа – немец, посредине – лучники. Прекрасное зрелище для всех, кому не грозит опасность быть сожженным. На помосте высился зеленый крест, с фасадов свисали, чередуясь, полотнища с гербами его величества и инквизиции – крест между оливковой ветвью и мечом. Все как положено, не придерешься. Можно начинать представление.
В половине седьмого вооруженные шпагами, пиками и аркебузами альгвасилы и близкие вывели нас из тюрьмы, и процессия наша двинулась через площадь Сан-Доминго, мимо церкви Св. Хинеса и дальше, по Калье-Майор, чтобы вступить на Пласа-Майор со стороны улицы Ботерос. Мы шли вереницей – каждого сопровождал стражник и облаченный в траур близкий со зловещим черным жезлом в руках. Клирики в стихарях заунывно тянули молитву, мрачно бухали барабаны, колыхались затянутые крепом распятия, пялились прохожие. Открывали шествие повинные в богохульстве, за ними следовали двоеженцы, за ними – уличенные во грехе мужеложства или содомиты, за ними – иудействующие и приверженцы секты Магомета, а последними – колдуны и ведьмы, и в каждом из этих разрядов несли сделанные из воска, картона и тряпья чучела тех, кто умер в тюрьме или скрывался от правосудия: таких приговаривали к казни и предавали огню заочно, в изображении – en effigie. Я шел в середине процессии, среди несовершеннолетних иудействующих, пребывая будто в каком-то мареве, и мне казалось, что если усилием воли вырвусь из него, все это кончится, как дурной сон. Каждого из нас стражники, перед тем как вывести наружу, обрядили в санбенито: на моем красовался лишь красный андреевский крест, зато все остальные были, помимо того, размалеваны языками адского пламени. Среди спутников моих были мужчины, были женщины и даже девочка примерно одного со мною возраста. Одни плакали, другие сохраняли спокойствие, как, например, молодой священник, на мессе вздумавший отрицать таинство евхаристии. Взвалив на спину мулам, везли двоих осужденных, которые сами идти не могли, – дряхлую старуху, взятую по доносу соседей, заподозривших ее в ведовстве, и мужчину, обезножевшего после пыток. Эльвиру де ла Крус поставили в последних рядах, обрядили в санбенито и колпак, дали – как и всем – свечу в руку. Когда мы двинулись, я потерял ее из виду, ибо оказался далеко впереди да и шел, низко опустив голову боялся, что среди зевак окажется кто-нибудь из моих знакомых – излишне говорить, что я был полумертв от стыда.
Когда шествие вступило на площадь, капитан стал искать меня взглядом. Однако нашел только после того, как нас по очереди возвели на ступени помоста и рассадили по местам: каждого – меж двух близких, и, надо сказать, нашел не без труда – я ведь головы не поднимал, помост же был, если помните, высок, так что наслаждались зрелищем лишь те, кто сидел в окнах, а прочим ничего толком не было видно. Приговоры еще не оглашались, но Алатристе вздохнул с облегчением, убедившись, что его паж стоит среди несовершеннолетних иудействующих и притом – без колпака: стало быть, по крайней мере, жив останется. Среди облаченных в траур близких мелькали черно-белые сутаны доминиканцев, игравших тут первую скрипку, тогда как монахи других орденов – за исключением францисканцев, которые отказались явиться на аутодафе, ибо сочли, что им невместно сидеть ниже августинцев – уже заняли места для почетных гостей рядом с алькальдом Дома и Двора, членами советов Кастилии, Арагона, Италии, Португалии, Фландрии и Индий. На скамье, отведенной Высшему Совету шести судей, сидел неподалеку от великого инквизитора падре Эмилио Боканегра, иссохший и зловещий. Это был час его торжества, и, надо полагать, он ликовал в душе, как и Луис де Алькесар, находившийся в ложе для самых высокопоставленных сановников неподалеку от нашего государя, который в этот самый миг клялся защитить святую нашу матерь католическую церковь и преследовать еретиков и вероотступников, посягающих на веру истинную. Был здесь, разумеется, и граф Оливарес: он сидел справа от августейшей четы в ложе, убранной не столь пышно, и вид имел довольно мрачный. Мало кто при дворе не знал, что все это представление затеяно в его честь.
Началось оглашение приговоров. Одного за другим осужденных ставили перед судьями, которые после дотошного перечисления всех преступлений и прегрешений, свершенных этими несчастными, сообщали, какой удел им уготован. Тех, кого приговаривали к отправке на галеры или бичеванию, уводили, тем, кому выносили смертный приговор, связывали руки. С этой минуты назывались они отпущенными, однако никуда их не отпускали, а – поскольку инквизиция, как ведомство духовное, не должна была пролить ни капли крови, – передавали светским властям, а уж тем предстояло привести этот самый приговор в исполнение, но опять же так, чтобы до конца соблюсти вышеуказанное условие не проливать кровь: иными словами – отправить осужденных на костер. Предоставляю вам самим, господа, оценить всю тонкость этой изуверской казуистики – у меня для этого приличных слов нет.
Ладно. Все шло как по писаному: читались обвинительные заключения, оглашались приговоры, одни осужденные стенали и плакали, другие узнавали о назначенной им каре со стоическим смирением, и чем суровей был вердикт, тем восторженней вопили зрители. Священника, отрицавшего присутствие Христа в священной гостии, осудили на смерть, что вызвало неистовые рукоплескания и одобрительные крики, и, в знак лишения сана мелом перечеркнув ему обе ладони, язык и тонзуру, повлекли его туда, где уже был сложен костер – на эспланаду с внешней стороны Пуэрта-де-Алькала. Старуха, уличенная в колдовстве, была приговорена к сотне плетей и, по исполнении этого наказания, – к пожизненному заключению: судьи не поскупились. Двоеженец получил двести плетей, шесть лет галер, а потом еще четыре года ссылки. Богохульники – ссылку и три года каторжных работ в Оране. Сапожнику с женой, как раскаявшимся и примирившимся с церковью еретикам, предстояло сесть в тюрьму до конца дней своих, а перед тем всенародно отречься от своих заблуждений – произнести формулу abjuratio de vehement [[41]]?. Десятилетнюю девочку, уличенную в иудействе, но примирившуюся, приговорили к ношению покаянного облачения и двум годам тюрьмы, а по отбытии этого срока – к передаче в христианскую семью на воспитание в духе истинной веры. Ее шестнадцатилетнюю сестру – к пожизненному заключения без права помилования. Обеих, не выдержав пыток, выдал отец-португалец, по роду занятий кожевник, осужденный на смерть и abjuratio de vehementi – это был тот самый человек, которого привезли на муле, ибо своими ногами идти он не мог. Его жену, успевшую скрыться, должны были сжечь en efflgie.
Помимо священника и кожевника, смерти на костре обрекли еще супругов-португальцев, уличенного в содомском грехе подмастерье ювелира и Эльвиру де ла Крус. Все они, за исключением клирика, отреклись, раскаялись в содеянном и потому перед сожжением подлежали милосердному удавлению гарротой. Изображения старого валенсианца Висенте де ла Круса и двух его сыновей, один из которых погиб в схватке, а другой сбежал, были вздеты на шесты, а его дочь, обряженную в санбенито и высокий остроконечный колпак, подвели к судьям, прочитавшим ей вердикт. Когда Эльвире предложили отречься от преступлений совершенных или вовремя пресеченных, как то: исполнение обрядов иудейской веры, заговор, святотатственное осквернение монашеской обители и прочее, – девица повиновалась с безразличием, потрясающим душу. Она стояла, бессильно уронив голову, – санбенито, как на вешалке, болталось на ее истерзанном теле – и, покорно произнеся формулу отречения, выслушала свой приговор, не выказав ни волнения, ни ужаса, ни скорби. Несмотря на обвинения, которые она выдвинула или позволила выдвинуть против меня, я испытывал жалость к этой несчастной, разом ставшей и жертвой и орудием в руках бессовестных, бесчестных негодяев, сколько бы ни распинались они о своей любви к Богу, как бы ни кичились твердостью своей веры. Но вот Эльвиру увели, и я понял, что скоро настанет мой черед. Вне себя от страха, от срама обводил я глазами площадь, в отчаянии пытаясь увидеть капитана Алатристе или еще чье-нибудь дружеское лицо – напрасно: ни участия, ни сочувствия, ничего, кроме ярости, злорадства, насмешки, ожидания, не мог я прочитать на лицах зрителей, сплошной стеной окружавших помост. То было лицо мерзкой черни, предвкушающей кровавое зрелище, да еще и задарма.
Но Алатристе меня все-таки видел. Прислонясь к колонне галереи, он сумел разглядеть тот ряд скамеек, где сидел я вместе с другими осужденными, причем по обе стороны от каждого из нас находились каменно безмолвные стражники. Передо мной выслушивать приговор должен был некий цирюльник, обвиненный в богохульстве и сделке с дьяволом, – невысокого росточка и жалкого вида человечек этот плакал, закрыв лицо руками, ибо никакая сила в мире не смогла бы спасти его от сотни ударов плетью, после чего ему предстояло еще несколько лет ворочать тяжеленным веслом на королевских галерах. Капитан протиснулся немного вперед, чтобы встретиться со мною взглядом, но слишком уж глубоко я был погружен в этот кошмарный сон наяву, чтобы глядеть, а стало быть, видеть. Сосед Алатристе, принарядившийся для праздника скот, беспрестанно балагурил и весело переговаривался со своими спутниками, издеваясь над осужденными. Тыча в меня пальцем, он прошелся и на мой счет. И капитан не совладал с бессильной яростью, душившей его все последние дни: покоряясь ей и не успев даже сообразить, что делает, полуобернулся к шутнику и будто бы по случайности, однако очень больно заехал ему локтем под ребро, прямо в печень. Тот охнул, выругался, вскинулся было, но, прочитав смертельную угрозу в льдисто-светлых глазах Диего Алатристе, прикусил язык и стал кроток и тих.
Капитан отодвинулся, и теперь ему открылся вид на сидевшего в ложе Луиса де Алькесара. Королевский секретарь выделялся среди прочих сановников алым крестом ордена Калатравы, вышитым на груди его черного одеяния. Круглая голова с жидкими, бесцветными волосами, лежавшая на белом круглом крахмальном воротнике, как на блюде, была величаво неподвижна, словно у статуи, но, подмечая каждую мелочь, шныряли из стороны в сторону живые зоркие глаза. И когда порой они встречались с глазами падре Эмилио Боканегра, горевшими огнем исступленного фанатизма, становилось ясно: чтобы превосходно понимать друг друга, этим двоим слова не нужны. Здесь и сейчас воочию показывали они, что истинная власть принадлежит им – растленным чиновникам и остервенелым попам, а сверх}' невозмутимо и равнодушно взирает на них четвертый наш Филипп, габсбургский выкормыш, который бровью не поведет, когда его верноподданных жгут на костре, и лишь время от времени, прикрывая рот перчаткой или рукой – белой, с голубыми прожилками – объясняет венценосной супруге подробности предстоящего действа. Учтивый, любезный, рыцарственный – и слабый духом, – он сделался игрушкой этих сил при дворе; он не способен был видеть землю и потому всегда задирал голову к небесам, и ему ли было удержать на своих царственных плечах великое наследие пращуров? Ему ли было предотвратить неуклонное скольжение нашей отчизны в пропасть?
Моя судьба была предрешена, но если бы на площади в Таком множестве не кишели полицейские, альгвасилы, стражники, близкие и королевские гвардейцы, быть может, Диего Алатристе и совершил бы какое-нибудь отчаянное и героическое безумство. По крайней мере, мне хочется думать, что совершил бы, будь для того хоть малейшая возможность. Но все равно ничего бы не добился, тем более что и время, как принято теперь выражаться, было против нас. Предположим даже, что дон Франсиско де Кеведо поспеет к сроку – неведомо, впрочем, что привезет он из Уэски, – но с той минуты, как стража возведет меня на помост, где оглашали приговоры, никто на свете – ни его величество, ни сам папа римский – не смогут уже переменить мою участь. Капитан продолжал терзаться этими мыслями, как вдруг заметил, что Луис де Алькесар смотрит на него. На самом деле это было едва ли возможно, ибо Алатристе стоял в самой гуще толпы и закрывал лицо плащом. И тем не менее – он чувствовал устремленный на него взгляд секретаря, а потом тот взглянул на доминиканца, и вот уже падре Эмилио, будто получив безмолвный сигнал, принялся буравить глазами людскую толщу. Тогда Алькесар медленно поднял левую руку и положил ее на грудь: он словно бы различил в толпе еще кого-то, ибо уставился в одну точку где-то слева от капитана – потом все так же медленно поднял и опустил руку еще дважды и вновь взглянул прямо на Алатристе. Тот обернулся и увидел две или три широкополых шляпы, плывущие в людском море прямо к нему.
Солдатское чутье сработало раньше, нежели разум успел принять нужное решение. В такой толкотне шпаги бесполезны, и капитан высвободил из-под пелерины кинжал, который носил слева и сзади. Потом стал отступать, ввинчиваясь в толпу. Как всегда в минуты опасности, он соображал особенно стремительно, действовал молча и четко, не делая ни одного лишнего движения. Он заметил, что шляпы остановились, будто в недоумении, там, откуда он только что ушел, и, бросив взгляд в ложу, увидел, что Луис де Алькесар явно теряет терпение, а предписанная этикетом неподвижность не может скрыть его досады. Алатристе прошел еще немного по направлению к противоположной оконечности площади и с новой точки взглянул на помост. Меня он теперь видеть не мог, зато профиль Алькесара различал ясно и горько пожалел, что нет с собой пистолета – особый эдикт воспрещал ношение огнестрельного оружия, и было бы полнейшим безрассудством брать его с собой в столь людное место. С каким бы наслаждением капитан вскочил на помост и выстрелом в упор вышиб секретарю мозги! «Ладно, ладно, – бормотал он про себя. – Твое от тебя не уйдет. Получишь все, что причитается, а до тех пор никогда уже больше спокойно не заснешь, и каждую ночь будешь вспоминать мой приход…».
Цирюльника, обвиняемого в богохульстве, возвели на помост, и началось чтение пространного перечня его преступлений, а за ним и приговора. Алатристе знал, что следующая очередь – моя, и начал проталкиваться еще ближе, чтобы попытаться меня увидеть. И тут не столько заметил, сколько нутром снова почуял опасность. Преследовали его, бесспорно, люди умелые и упорные. Один, правда, отстал, где-то замешкавшись, но две других шляпы – черная и светло-коричневая с большим пером – рассекая толпу, приближались неумолимо и стремительно. Надо было прятаться, и капитану пришлось забыть обо мне и отступить за каменные столбы аркады. Подальше от толпы, среди людей – опасно; стоит лишь преследователям крикнуть: «Именем святейшей инквизиции задержите этого человека!» – и зеваки всей оравой кинутся на него. Лазейка к спасению оказалась всего в нескольких шагах – узенькая, извилистая улочка, примыкающая к площади Провинсиа: в дни, подобные сегодняшнему, толпящиеся на Пласа-Майор люди использовали ее как отхожее место, не обращая внимания на кресты и изображения святых, расставленные на каждом углу, дабы воспрепятствовать подобным бесчинствам. Туда и устремился капитан Алатристе. Но перед тем как скользнуть в тесный проем, где двоим встречным было не разойтись, он обернулся через плечо и убедился, что его преследователи тоже выбрались из толпы и скоро настигнут его.
Капитан даже не стал всматриваться. Быстро расстегнув пряжку, он обмотал пелерину вокруг левой руки для защиты от рубящих ударов, а правой обнажил кинжал – к неописуемому испугу какого-то бедняги, который справлял нужду за углом и, не докончив своего дела, кинулся прочь, застегивая штаны. Невольный виновник этого недоразумения прислонился плечом к стене, пропахшей мочой, как и мостовая. Славное место для кровопускания, думал он, покручивая кинжалом. Славное место, и славно будет в приятном обществе отправиться отсюда прямо в ад.
Первый из преследователей вынырнул из-за угла, и в узком – всего в несколько локтей – пространстве Алатристе успел заметить мелькнувший в его глазах ужас при виде бискайца. Еще он заметил длинные усы и бакенбарды, прежде чем, метнувшись навстречу, с быстротой молнии всадил ему в горло клинок. Противник, не успев даже ахнуть, зашатался и стал падать, перегораживая собой проулок Из перерезанной глотки хлестнули красные ручьи, вымывая из него жизнь.
Вторым – как жаль, что он чуть приотстал! – оказался Гвальтерио Малатеста. Капитан сразу узнал его, едва лишь из-за поворота вывернулась черная тонкая фигура. В пылу преследования и от того, что не ждал встречи так скоро, итальянец держал оружие в ножнах. Однако сумел отпрянуть, и кинжал капитана всего на какой-то дюйм не дотянулся до него. Малатеста, тоже смекнув, что от шпаги в таких обстоятельствах толку мало, прикрылся своим спутником, который все еще держался на ногах, выхватил кинжал и, последовав примеру Алатристе, обмотал плащ вокруг левой руки и бросился на противника. Лезвия клинков со свистом разрезали ткань, звенели, наталкиваясь на каменные стены. Капитан и Малатеста дрались ожесточенно и молча: слышалось только их тяжелое дыхание. В глазах итальянца еще заметно было изумление, на этот раз ему было не до тирури-та-та – слишком серьезный оборот принимало дело. Они стояли так близко друг к другу, что капитан ощущал на лице горячее дыхание итальянца, который вдруг плюнул ему прямо в глаза. На миг ослепленный, Алатристе невольно отпрянул, заморгал, и итальянец, воспользовавшись этим, полоснул его кинжалом по ребрам и ниже – до самого бедра. Спасла ременная портупея – она смягчила удар, но клинок, разрезав материю и кожу, глубоко вошел в тело, и капитан ощутил жгучий холод, тотчас сменившийся острейшей болью. Боясь потерять сознание, он с размаху ткнул навершием рукояти в лицо Малатесты: кровь, обильно хлынувшая из рассеченной брови, заполнила оспины и шрамы на щеках и подбородке, залила стрелки выхоленных усиков. Теперь в неподвижных, как у змеи, глазах итальянца мелькнул страх. Алатристе отвел локоть назад и осыпал противника градом ударов, попадавших то в воздух, то в стену, то в плащ, то в колет: но все же раза два удалось задеть и самого Малатесту – по крайней мере, тот сдавленно зарычал от боли и ярости. Струящаяся у него по лицу кровь заливала глаза, и потому наносил он удары вслепую, наугад, что не делало их менее опасными, но лишь менее предсказуемыми.
Схватке этой, казалось, не будет конца. Оба уже обессилели, но шансы капитана, хоть он и страдал от боли в боку, были все же предпочтительней. А впрочем, Малатеста, у которого, вероятно, от ненависти помутился рассудок, если и намеревался погибнуть, то – вместе с врагом. Ему и в голову не приходило просить о пощаде, тем более что никто бы и не пощадил его. Шел поединок двух мастеров своего дела, знавших, на что идут, не тративших времени на оскорбления или пустые угрозы, работавших тщательно, выкладывавшихся до конца. На совесть.
Тут появился и третий – того же поля ягодка: бородатый, весь обвешанный оружием верзила завернул за угол и остолбенел от зрелища, открывшегося его вытаращенным глазам. Один валяется мертвым, двое сцепились в смертельной рукопашной, и проулок весь залит кровью, перемешанной с мочой. Выйдя из столбняка, он с замысловатой бранью схватился за кинжал, однако не мог ни кинуться на выручку вконец ослабевшему итальянцу, который стоять-то мог, только привалившись к стене, ни добраться до капитана – убитый перегораживал проход. А капитан, тоже едва держась на ногах, сумел высвободиться из цепких рук противника, продолжавшего тыкать кинжалом куда попало, и нанести ему удар. Услышав, как Малатеста выругался на родном языке, с удовлетворением понял, что удар этот достиг цели. Потом, швырнув пелерину на его кинжал и на миг сковав движения итальянца, бросился бежать вверх – к площади Провинсиа, хотя сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди и легкие лопнут.
И вот смрадный двухколенный проулок остался позади. Алатристе потерял в драке шляпу и был весь перемазан чужой кровью, да и своя подкапывала из-под колета весьма обильно, так что на всякий случай он направился к церкви Санта-Крус, расположенной невдалеке. Чтобы перевести дух, присел на ступеньку паперти, готовый при первом же признаке опасности юркнуть в дверь. Бок болел. Капитан достал носовой платок, двумя пальцами ощупал рану и, убедившись, что она не слишком велика, перевязал ее. Никто не выскочил за ним следом, да и никому вокруг не было до него дела. Мадрид любовался представлением.
Приближался мой черед – мой и тех несчастных, которым предстояло выслушать свой приговор после меня. Цирюльнику-богохульнику отжалели сотню плетей и четыре года галер: несчастный извивался в руках стражников, с плачем указывая на жену и четырех ребятишек и взывая о снисхождении, в этих обстоятельствах решительно невозможном. В любом случае он еще легко отделался – куда легче, нежели те, кого в колпаках-коросах повезли на мулах к Пуэрта-де-Алькала, чтобы еще до наступления темноты обратить в пепел и прах.
Я был следующим: отчаянье и стыд были столь велики, что я боялся – ноги мне откажут. Все плыло перед глазами – площадь, заполненные людьми балконы, драпировки, караулившие меня стражники. Мне хотелось бы умереть прямо здесь, на месте, чтобы уж покончить все разом. Но к этому времени я знал, что не умру, что меня осудят на долгое тюремное заключение, а когда стукнет мне сколько-то там лет – отправят на галеры. И участь моя представлялась мне горше смерти, и едва ли не с завистью вспоминал я строптивого священника, который остался непреклонным и пошел на костер, так и не отрекшись и не моля о пощаде. В ту минуту мне много легче было бы умереть, нежели оставаться в живых.
Цирюльника увели; я увидел, как один из важных инквизиторов сверился со своими бумагами и посмотрел на меня. Пробил мой час; я устремил прощальный взгляд на королевскую ложу, где наш государь, наклонясь к уху своей венценосной супруги, что-то объяснял ей, а она слегка улыбалась. Дьявол их знает, о чем говорили они, покуда внизу монахи шустро и споро делали свое дело, – о тонкостях соколиной охоты, или еще о чем-нибудь, или просто ворковали. Толпа рукоплескала оглашенному приговору и зубоскалила в предвкушении нового. Инквизитор вновь перелистал бумаги, вновь поднял на меня глаза и вновь углубился в чтение. Солнце в зените нещадно жгло помост, и плечи мои под шерстяным санбенито горели. Инквизитор собрал листки и неторопливо, самодовольно, наслаждаясь тем, какое напряженное ожидание объяло всю площадь, направился к кафедре. Я взглянул на падре Эмилио, застывшего на скамье в своем зловещем черно-белом одеянии, – он торжествовал победу. Взглянул и на Луиса де Алькесара – тот сидел в ложе, и опороченный крест Калатравы горел у него на груди. Что ж, сказал я себе – и видит Бог, это было мое единственное утешение – по крайней мере вам не удалось посадить со мною рядом капитана Алатристе.
Инквизитор медленно и торжественно занял место на амвоне, приготовясь выкликнуть меня. И в этот миг в ложу королевских секретарей ворвался человек в черном. На нем было дорожное, насквозь пропыленное платье, высокие, перепачканные грязью сапоги со шпорами, а вид такой, словно он скакал галопом много часов кряду, торопливо менял лошадей на почтовых станциях и вновь вскакивал в седло. Я видел: держа в руке тонкую книжицу в кожаном переплете, человек этот прямо направился к Алькесару что-то сказал ему, тот нетерпеливо взял книжицу, раскрыл, заглянул в нее, а потом устремил взгляд на меня, потом на падре Эмилио и вновь на меня. Тут и человек в черном обернулся ко мне, и я наконец узнал его. Это был дон Франсиско де Кеведо.
X. Незакрытый счет
Костры пылали всю ночь. Зрители оставались на Пуэрта-де-Алькала допоздна и не расходились даже после того, как от казненных остались только пепел, зола да обугленные кости. Пламя уходило в небеса, подбавляя в черноту дыма красновато-серые блики, а порой, когда ветер менял направление, до зрителей доносился густой смрад горелого мяса и жженой древесины.
Весь Мадрид – от почтенных супружеских пар, родовитых дворян и прочих приличных людей до самого последнего отребья – был здесь и толпился вокруг оцепленного альгвасилами пустыря, ища местечко поудобней. Хватало здесь и бродячих торговцев, и нищих, вышедших на промысел. И все искренне считали – ну, или считали нужным делать вид, – что присутствуют при зрелище поучительном, душеполезном, духоподъемном. Еще раз подтвердилось, как верна самой себе наша несчастная отчизна, всегда готовая позабыть за блеском и шумом праздника, жаром молитвы или огнем костра любые неприятности, будь то дурное правление, гибель флота, не доплывшего к нам из Индий, или очередное поражение в Европе.
– Гнусно все это, – промолвил дон Франсиско де Кеведо.
Я уже докладывал вам, господа, что великий наш сатирик был в соответствии с духом времени и нравами страны рьяным католиком, однако религиозный пыл умерялся присущей ему человечностью и образованностью. В ту ночь Кеведо был неподвижен и хмур. Разумеется, его утомила многочасовая бешеная скачка – это чувствовалось и в том, как поэт выглядел, и в том, как говорил, однако порой казалось, будто усталость эта копилась целыми столетиями.
– Бедная Испания, – добавил он еле слышно.
Пламя одного из костров вдруг прилегло, метнулось в сторону, взметнув тучу искр, и высветило стоявшего рядом с поэтом капитана. Зеваки стали рукоплескать. В красноватом зареве обнаружились стены августинского монастыря и каменный крест, отмечавший точку схождения дорог Викальваро и Алькала, – неподалеку от него, чуть поодаль от толпы и находились двое друзей. С самого начала казни стояли они здесь, ведя тихую беседу. Прервалась она лишь в тот миг, когда палач тремя витками веревки сдавил шею Эльвиры де ла Крус, и под ногами задушенной послушницы затрещали, разгораясь, поленья и хворост. Из всех приговоренных сожжен заживо был один только священник, который сохранял стойкость и выдержку едва ли не до самого конца, отвечая отказом на все предложения раскаяться в своих пагубных заблуждениях и с невозмутимым спокойствием созерцая, как занялся хворост. Жаль, конечно, что когда пламя дошло ему до колен – чтобы дать еретику время примириться, его милосердно сжигали на медленном огне – он проявил слабость и, испуская душераздирающие стоны, стал умолять о снисхождении. Но и то сказать – кто бы на его месте не дрогнул? Разве что Святой Лаврентий.
Алатристе и дон Франсиско говорили, главным образом, обо мне, а я в это время, измученный и наконец освобожденный, по-матерински обихоженный Каридад Непрухой, спал в нашей каморке на улице Аркебузы, спал так крепко, словно нуждался – ну а разве, позвольте спросить, не нуждался? – в том, чтобы ввести все мытарства последних дней в границы одного кошмарного сна. И покуда на костре горели еретики, поэт в подробностях рассказывал капитану о своей стремительной и опасной поездке в Арагон.
Да, поистине бесценной оказалась бумажка Оливареса. Четырех слов, начертанных доном Гаспаром де Гусманом тогда, в Прадо – «Алькесар, Уэска, зеленая книга» – хватило, чтобы спасти мне жизнь и стреножить королевского секретаря. Алькесар, изволите ли видеть, – не только фамилия нашего врага, но и название маленького арагонского городка, где он родился и куда, загоняя коней – один и вправду пал не доезжая Мединасели, – помчался дон Франсиско, обуреваемый безумной мечтой выиграть эти скачки, на которых главным его соперником было время. Что же до переплетенной в зеленую телячью кожу книги, то оказалась она приходской, содержала записи о венчаниях и крещениях и служила доказательством чистоты происхождения. Дон Франсиско де Кеведо, прискакав сломя голову в Алькесар, сумел с помощью своего громкого имени и денег, полученных от графа де Гуадальмедины, проникнуть в тамошнюю церковь. И к несказанному своему изумлению, облегчению и злорадному ликованию – убедиться в том, что граф Оливарес через своих шпионов знал и раньше. Луис де Алькесар сам был нечистокровный. На генеалогическом его древе имелась иудейская ветвь – ничего, впрочем, удивительного: пол-Испании могло бы похвастаться тем же, – принявшая христианство в 1534 году, о чем имелась соответствующая запись. Иудейские же предки очень сильно пятнали дворянское звание дона Луиса, однако в ту пору, когда даже самое благородное происхождение можно было купить – и не разориться, – все почему-то чрезвычайно вовремя позабыли произвести необходимые штудии и изыскания, без коих он никак не мог бы претендовать на высокую должность личного секретаря его величества. А поскольку Алькесар, помимо всего прочего, кичился принадлежностью к ордену Калатравы, а в рыцарское достоинство возводили только тех, кто доказал, что является «древним христианином» и что предки его не запятнали себя физическим трудом, то, господа, налицо – подделка документов и подлог. И если бы такое недостойное поведение сделалось достоянием гласности – а для этого хватило бы одного сонета дона Франсиско, который подкрепил бы свои слова зеленой книжицей, позаимствованной у приходского священника в обмен на толику – и отнюдь не малую – серебряных эскудо, королевский секретарь был бы обесчещен, опозорен, потерял бы свою придворную должность и крест Калатравы, равно как и большую часть благ и льгот, причитающихся идальго и кабальеро. Можно не сомневаться, что не один Оливарес ведал об этом жульничестве – знали о нем в Священном Трибунале, знал и падре Эмилио Боканегра, однако в нашем растленном мире, в мире лицемерия и мнимостей, власть имущие, стервятники, падалью живущие, завистники, трусы и прочая мразь умеют покрывать друг друга и стоят друг за друга горой. Сотворил их всех Господь Бог, вот и слетелись они уже давным-давно терзать нашу бедную Испанию.
– Такая жалость, капитан, что вы не видели его лицо в тот миг, когда я протянул ему зеленую книжицу. – Голос поэта звучал устало; он еще не снял с себя насквозь пропыленного дорожного платья, не отстегнул окровавленные шпоры. – Луис де Алькесар стал белее бумаг, которые держал в руках, а потом побагровел так, что я даже испугался: не хватит ли его сейчас ненароком удар… Но дело было не в нем, а в Иньиго, и потому я придвинулся почти вплотную и сказал нетерпеливо: «Времени у нас с вами нет, медлить не приходится. Если не спасете мальчика, вы – человек конченный»… И он не стал спорить. Этот негодяй увидел свою будущность так же ясно, как мы представляем себе неизбежность встречи со Всевышним.
Все так и было, добавлю я от себя. Прежде чем монах успел произнести мое имя, Алькесар вылетел из ложи скорей, чем пуля из мушкетного ствола – подобное проворство объясняет его успехи на поприще секретарства, – подскочил к ошеломленному падре Эмилио и вполголоса обменялся с ним несколькими словами. На лице доминиканца появилось изумление, потом ярость, потом горчайшая досада; горящие мстительным огнем глаза готовы были, казалось, испепелить дона Франсиско, но тому, утомленному дорогой, снедаемому беспокойством за мою судьбу – ведь опасность совсем еще не миновала, – исполненному решимости идти до конца, в эту минуту было в высокой степени наплевать, кто и как на него смотрит. И вот, вытерши платком холодную испарину со лба, снова побледнев так, что казалось: добросовестный цирюльник только что отворил ему кровь, – Алькесар медленно вернулся туда, где поджидал его поэт. Из-за его плеча видел Кеведо, как, привстав со скамьи, отведенной инквизиторам, падре Эмилио, которого от ярости и разочарования трясло хуже, чем в лихорадке, подозвал к себе монаха и отдал ему краткое, почтительно выслушанное приказание. Тот взял бумагу с приговором и, вместо того, чтобы прочесть, отложил в сторонку, намереваясь, вероятно, засунуть ее в самый долгий ящик мадридской инквизиции.
Еще один костер прогорел и с треском осел, взметнув в черное небо сноп искр, осветивших на миг фигуры поэта и капитана. Диего Алатристе был неподвижен и не сводил глаз с пламени. На осунувшемся лице – день выдался трудный, да и бок побаливал, хоть рана оказалась несерьезной – особенно дерзко торчали густые усы и орлиный нос.
– Как жаль, – пробормотал дон Франсиско, – что я прискакал поздно: можно было бы спасти и Эльвиру…
Он указывал на ближайший костер, и было видно, что горестная судьба валенсианской послушницы томит его стыдом. Нет, не за себя, не за капитана, а за все то, что погубило несчастную девушку, ее отца и братьев. Он стыдился, быть может, за страну, в которой ему довелось жить, – беспощадно-жестокую по отношению к ближнему, сияющую ослепительным блеском бесплодного величия, вялую и никчемную в повседневье и обыденности; и ни его стоицизм, ни порядочность, ни искреннее религиозное чувство не могли помочь ему и утешить его. Так уж повелось от сотворения мира – если у тебя светлый ум, а ты при этом – испанец, суждены тебе великая горечь и малая надежда.
– Впрочем, на все воля Божья, – прибавил поэт.
Диего Алатристе на сей счет предпочел не высказываться. Божья воля или дьявольская, он продолжал хранить молчание, всматриваясь в костры и темневшие на зловещем фоне зарева силуэты стражников и зевак. Он до сих пор не собрался проведать меня, сколько бы ни твердили ему Кеведо, а потом и Мартин Салданья, что теперь опасаться нечего. Все было обтяпано так быстро и отчетливо, что пока не обнаружили даже наемника, убитого при входе в вонючий проулок. Не было сведений и о судьбе подколотого Гвальтерио Малатесты. И капитан, перевязав в аптеке Фадрике-Кривого свою рану, отправился в сопровождении Кеведо к месту казни, и оставался там до тех пор, пока Эльвира не превратилась в кучку обугленных костей и золы. Алатристе показалось на миг, что в толпе мелькнул ее старший брат – единственный из всей уничтоженной семьи, кто сумел уцелеть, – однако было так темно и многолюдно, что закутанная в плащ фигура Висенте де ла Круса, если, конечно, это был он, а не его призрак, тотчас скрылась из виду.
– Нет, – неожиданно произнес Алатристе.
Он так долго молчал, что дон Франсиско даже не понял, что это – ответ на его слова, и с недоумением воззрился на друга, пытаясь понять, к чему же относится это «нет». Но капитан невозмутимо глядел на костры и, лишь выдержав еще одну бесконечную паузу, медленно обернулся к поэту:
– Бог не имеет к этому ни малейшего отношения.
В стеклах очков Кеведо метались отблески пламени, а светлые глаза капитана казались двумя озерцами, затянутыми льдом. Тени и красноватые сполохи догорающих костров играли на его мрачном лице, остром, как лезвие заточенного клинка.
Я делал вид, что сплю. Каридад накормила меня ужином, искупала в глиняном тазу и теперь сидела у изголовья моей постели, оберегала мой сон, штопая при свече капитанову рубашку. Я лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплом и уютом и пребывал в блаженной дремоте, помогавшей не отвечать ни на какие вопросы и не думать о том, что мне пришлось пережить, ибо при воспоминании о перенесенных мною мытарствах – чего стоит одно только санбенито! – меня начинало буквально корчить от стыда. Тепло простынь, близость добросердечной Каридад, сознание того, что я – опять у друзей, и, самое главное – возможность лежать вот так, с закрытыми глазами, покуда мир вертится, напрочь позабыв обо мне, – погружало меня в блаженное забытье, которое сменялось тихим ликованием при мысли, что инквизиторы так и не сумели ни выбить, ни вытянуть из меня ни единого слова против капитана Алатристе.
И, заслышав на лестнице его шаги, я не открыл глаза, и веки мои были по-прежнему сомкнуты, когда Каридад, выронив из рук шитье, бросилась ему на шею. Я слышал их приглушенные голоса, звуки сочных поцелуев, слабые возражения капитана, а потом – негромкий стук притворенной двери и скрип ступеней, по которым спускались мой хозяин и трактирщица. Довольно долго я оставался один, но вот вновь заскрипели половицы под сапогами Алатристе – он подошел и стал у кровати.
Я совсем собрался было открыть глаза, но почему-то медлил. Я знал, что капитан видел меня на площади среди осужденных и догадывался о позоре, терзавшем меня. Не забыл он, вероятно, и что я нарушил его строгий приказ и, будто перепелка – в силок, угодил в ловушку, подстроенную нам у монастыря бенедиктинок. Короче говоря, не находил я в себе довольно сил, чтобы ответить на его вопросы или упреки, или хотя бы просто выдержать его безмолвный взгляд. И потому лежал неподвижно, дышал ровно и глубоко, притворялся спящим.
Молчание было безмерно долгим, и ни единый звук не нарушал его. Несомненно, Алатристе рассматривал меня при свете оставленного Каридад огарка. В тот миг, когда я, обманутый этой полнейшей тишиной, засомневался, здесь ли еще капитан, я вдруг почувствовал прикосновение его руки: загрубелая ладонь с неожиданной, непривычной лаской коснулась моего лба. Дотронулась, замерла на мгновение – и вдруг резко отдернулась. Зазвучали удаляющиеся шаги, заскрипела дверца поставца, звякнуло о край стакана горлышко бутылки, проехались по полу ножки стула.
Я чуть приоткрыл глаза. В неверном и скудном свете мне предстал капитан – сняв колет, отстегнув шпагу, он сидел у стола и пил. Раз и другой булькнуло вино, выливаясь из бутылки в стакан, и Алатристе медленно, сосредоточенно, так, будто все прочие дела в этом мире были уже переделаны, осушил его. Желтоватый свет воскового огарка озарял его белую сорочку, коротко остриженную голову, торчащие солдатские усы. Капитан не произносил ни звука и не делал ни единого лишнего движения – лишь методично наполнял и подносил ко рту стакан. Окно было открыто, и в сумраке угадывались очертания крыш и печных труб, а над ними висела единственная звезда – холодная, безмолвная, недвижная. Алатристе упорно созерцал тьму, или пустоту, или проплывавшие в ней призраки, порожденные его собственным воображением. Мне хорошо был знаком тот ледяной отсутствующий взгляд, который появлялся у капитана всякий раз, как вино оказывало свое действие. На боку у него очень медленно набухала кровью повязка, расползалось по белой сорочке влажное красное пятно. Капитан Диего Алатристе казался таким же отчужденно-одиноким, как эта мерцавшая на темном небосводе звезда.
Прошло двое суток На улице Толедо вовсю светило солнце, мир вновь сделался бескрайним и полным надежд, и свойственная отрочеству бодрость вновь заиграла в моих жилах. Сидя неподалеку от дверей таверны «У Турка», я упражнялся в чистописании и взирал на жизнь с той лучезарной готовностью отринуть да позабыть всякую неудачу и злосчастье, которую дают лишь превосходное здоровье и малолетство. Время от времени поднимая голову, я смотрел на кумушек-зеленщиц, расположившихся со своим товаром на другой стороне улицы, разглядывал кур, копошившихся в отбросах, уличных мальчишек, которые сновали среди карет и всадников, гоняясь друг за другом по мостовой, или прислушивался к разговорам, доносившимся из таверны. И чувствовал себя счастливейшим из смертных. И даже стихи, которые я переписывал, казались мне прекраснейшими на свете:
Последний мрак, прозренья знаменуя, Под веками сомкнется смертной мглою; Пробьет мой час и, встреченный хвалою, Отпустит душу, пленницу земную.Они принадлежали перу дона Франсиско де Кеведо и, прозвучав из его уст, смоченных красным «сан-мартин-де-вальдеиглесиас», до такой степени пришлись мне по душе и по вкусу, что без колебаний я испросил у поэта разрешения скопировать их самым лучшим своим почерком Сам поэт сидел за столом в обществе капитана и прочих своих приятелей – лиценциата Кальсонеса, преподобного Переса, Хуана Вигоня и кривого аптекаря Фадрике – отмечая при посредстве изрядного количества вышепомянутого вина, копченой зайчатины и колбасы благополучное завершение провалившейся затеи, о которой никто не упоминал прямо и вслух, но все имели полное представление. Все упомянутые особы, перешагивая через порог таверны, ласково ерошили мне волосы или давали легкий дружеский подзатыльник. Дон Франсиско принес том Плутарха, чтобы со временем я смог попрактиковаться в чтении, преподобный иезуит подарил посеребренные четки, однорукий кавалерист – бронзовую пряжку, некогда вывезенную из Фландрии, кривой аптекарь, человек весьма прижимистый, – унцию некоего снадобья, весьма, по его словам, способствующего сгущению крови, а стало быть, – способного вернуть мне утраченный после стольких и столь недавних передряг румянец. И, повторяю, не было ни в Старом, ни в Новом Свете человека, щедрее взысканного судьбой, нежели тот, кто, обмакнув в чернильницу одно из лучших гусиных перьев лиценциата Кальсонеса, выводил:
Но и черту последнюю минуя, Здесь отпылав, туда возьму былое, И прежний жар, не тронутый золою, Преодолеет реку ледянуюКак раз на этом месте я вдруг поднял голову – рука моя замерла в воздухе, и черной слезой канула на бумагу клякса. Вверх по улице Толедо пара мулов влекла черную, столь хорошо мне знакомую карету без герба на дверце и с важным кучером на козлах. Замедленным, как во сне, движением я отодвинул в сторону бумагу, перо, пузырек с чернилами и песочницу и поднялся на ноги так плавно, словно карета была призраком, готовым сгинуть от малейшей моей неосторожности. Экипаж поравнялся со мной, и я увидел в открытом и не задернутом занавесками окошке руку совершенной формы и удивительной белизны, а потом – и пепельно-золотистые локоны, и глаза, цветом своим напоминавшие небо на полотнах Диего Веласкеса. Все это принадлежало девочке, по чьей милости я чуть не погиб. И, покуда карета катила мимо таверны, не сводила с меня Анхелика де Алькесар пристального взгляда, от которого, вот вам крест святой, холод прополз у меня по всему хребту сверху донизу, и замерло в груди бешено колотившееся сердце. И, повинуясь, как говорится, безотчетному порыву, я положил руку на грудь, искренне сокрушаясь о том, что потерял талисман на золотой цепочке – подарочек, едва не обернувшийся для меня смертным приговором. И если бы не сорвали этот медальон в подвалах Священного Трибунала, продолжал бы носить его с любовью и гордостью.
Смысл моего движения был внятен Анхелике. Сужу по тому, что дьявольская, столь обожаемая мной улыбка тронула ее уста. И тотчас она поднесла к ним кончики пальцев, шевельнув губами в легчайшем подобии поцелуя. Улица Толедо, Мадрид и целая вселенная вмиг исполнились пленительной гармонии, а меня охватила ликующая радость бытия.
Карета давно уже скрылась из виду, а я все еще стоял в оцепенении. Потом выбрал новое перо, поправил его об рукав и дописал сонет дона Франсиско:
И та душа, что Бог обрек неволе, Та кровь, что полыхала в каждой вене, Тот разум, что железом жег каленым, Утратят жизнь, но не утратят боли, Покинут мир, но не найдут забвенья, И прахом стану – прахом, но влюбленным [[42]].Смеркалось, однако было еще достаточно светло. Постоялый двор «У Ландскнехта» стоял на грязной и вонючей улице, будто в насмешку названной Прима-вера, то есть Весна, неподалеку от фонтана Лавапьес, в квартале, где размещались самые дешевые, низкопробные кабаки и бордели последнего разбора. На протянутых поперек улицы веревках сохло белье, из открытых окон доносился детский плач, слышалась перебранка. Алатристе, старательно обходя кучи конского навоза, вошел во двор, служивший, по всей видимости, и конюшней, и коровником, где в углу стояла сломанная телега без колес. Быстро сообразив, куда идти, капитан начал и ступенек через тридцать окончил восхождение по лестнице, причем из-под ног у него шмыгнуло в разные стороны штук пять котов. Больше никто ему не встретился. Поднявшись, он оглядел выходившие на галерею двери. Если сведения Мартина Салданьи достоверны, нужная ему была последней по правую руку, у самого угла коридора. Стараясь не шуметь, капитан направился к ней, по дороге распахивая плащ, под которым обнаружились нагрудник из буйволовой кожи и пистолет за поясом. В этой части дома стояла тишина – только ворковали голуби в застрехе. Снизу просачивался запах тушеного мяса, слышно было, как где-то вдалеке напевает кухарка. Алатристе помедлил, прикидывая возможный путь к отступлению, убедился, что кинжал и шпага – там, где им и полагается быть, вытащил пистолет и большим пальцем взвел курок. Настало время платить по счету. Пригладил двумя пальцами усы, отстегнул пряжку плаща и открыл дверь.
Жалкого вида обиталище предстало его глазам. Пахло затхлостью и запустением. Не дожидаясь темноты, по столу с объедками, как мародеры по полю сражения, сновали тараканы. Две пустые бутылки, кувшин с водой, выщербленные стаканы. На стуле – куча грязной одежды, на полу – урыльник, на вбитых в стену гвоздях – колет, черный плащ, шляпа. Шпага в головах кровати, а на кровати – Гвальтерио Малатеста.
Разумеется, если бы итальянец хоть как-то обозначил удивление или обнаружил недоброе намерение, капитан застрелил бы его, не утруждая себя околичностями вроде «Защищайтесь, сударь!», благо пистолет был наготове. Однако тот смотрел на вошедшего так, словно силился понять, кто это, а правая его рука ни на пядь не придвинулась к пистолету, предусмотрительно положенному поверх одеяла. Выглядел Малатеста ужасно: его разбойничье лицо от перенесенных страданий и трехдневной щетины выглядело еще более изможденным. Рассеченный лоб воспален, под левой щекой – грязная примочка, лицо и руки – восковые. До пояса гол, обмотан тряпьем с засохшей кровью, и по бурым пятнам, проступавшим насквозь, Алатристе определил, что итальянец получил никак не меньше трех ран. Бросалось в глаза, что в схватке он пострадал сильней.
По-прежнему держа его под прицелом, капитан притворил за собой дверь и подошел к кровати. Похоже, Малатеста наконец узнал его – взгляд лихорадочно блестящих глаз сделался жестче, слабая рука потянулась к оружию. Алатристе приставил дуло своего пистолета почти вплотную к голове итальянца, однако тот не в силах был сопротивляться. Он, несомненно, потерял много крови. Осознав, что деваться некуда, Малатеста ограничился тем, что слегка приподнял голову, глубоко ушедшую в полушку, и под его некогда выхоленными, а теперь запущенными усиками мелькнула белоснежная полоска – капитану ли, на своей шкуре познавшему, какую угрозу таит эта улыбка, было не помнить ее. Да, в ней сквозило изнеможение. Да, она больше напоминала болезненную гримасу. И все же это была та самая улыбка, с которой итальянский наемник Гвальтерио Малатеста жил, а теперь намеревался умирать.
– Смотрите, кто пришел, – произнес он. – Сам капитан Алатристе.
Голос его звучал тускло и почти без интонаций, однако слова он выговаривал твердо.
– Решил, я вижу, исполнить долг христианского милосердия? Навещаешь страждущих?
Он засмеялся сквозь зубы. Капитан, окинув его взглядом, отвел дуло пистолета в сторону, и, по-прежнему держа палец на спусковом крючке, ответил в тон:
– Я – добрый католик.
Малатеста издал короткий смешок, похожий на треск ломающегося дерева, и тотчас закашлялся.
– Да уж наслышаны… – сказал он, отдышавшись. – Куда как наслышаны о вашей набожности… Хотя в последние дни что-то стал я в этом сомневаться.
Выдержав взгляд капитана, он слабым движением руки, которая не удержала бы пистолет, указал на кувшин.
– Не затруднит ли тебя подать мне воды? Сможешь, помимо прочего, гордиться тем, что поил жаждущих.
Мгновение поколебавшись, Алатристе, не выпуская итальянца из поля зрения, медленно подошел к столу и вернулся к кровати. Малатеста, поглядывая на него поверх края кувшина, сделал два жадных глотка.
– Сразу убьешь или хочешь вытянуть кое-какие подробности о последнем деле?
Он отставил кувшин и с заметным усилием вытер тыльной стороной ладони губы, на которых продолжала играть его прежняя улыбка: так улыбалась бы, кабы умела, прижатая к земле змея. Покуда она еще дышит – берегись.
– Да какие там подробности, – пожал плечами Алатристе. – Все и так ясно. Засада в монастыре, Луис де Алькесар, инквизиция… Все.
– Черт возьми. Стало быть, пришел отправить меня на тот свет без долгих сборов?
– Вот именно.
Малатеста оценил свое положение и, кажется, нашел его не слишком обнадеживающим.
– Выходит, тем, что не припас истории подлиннее, я укоротил себе жизнь?
– Выходит, что так. – Теперь уже капитан улыбнулся жестко и недобро. – Но, к чести твоей, должен заметить – ты не из породы краснобаев.
Малатеста неглубоко вздохнул, чуть пошевелился и сморщился от боли, ощупывая свои перевязки.
– Очень любезно с твоей стороны. И все-таки мне очень жаль, что я сплоховал и не могу… – тут он показал глазами на висевшую в изголовье шпагу, – ..достойно ответить на твою учтивость, избавив тебя от необходимости прикончить меня, как собаку.
Он снова слегка заворочался, стараясь устроиться поудобней. В эту минуту казалось, что Малатеста не питает к Алатристе злобных чувств, принимая близкую смерть как неизбежное в его ремесле неудобство. Однако черные горящие глаза следили за каждым движением капитана.
– Я слышал, что мальчуган сумел выпутаться… Это так?
– Так.
Улыбка итальянца стала шире.
– Бог свидетель, я рад! Молодчина. Ты бы видел его той ночью у монастыря, когда он кинулся на меня с кинжалом… Пусть меня повесят, если я получил удовольствие, когда вез его в Толедо, да притом зная, что ему предстоит… Но наше дело – такое… Сам знаешь: кто платит, тот и заказывает музыку.
Теперь Малатеста улыбался не без лукавства, но время от времени косился на свой пистолет, и капитан не сомневался, что он воспользовался бы им, будь к этому хоть малейшая возможность.
– Сволочь ты. Сукин сын, – сказал Алатристе. Итальянец воззрился на него с непритворным недоумением:
– Черт возьми, капитан! Услышал бы тебя кто-нибудь – принял бы за монашку ордена Святой Клариссы. Сам-то – неужели лучше?
Наступило молчание. По-прежнему держа пистолет наготове, Алатристе обвел комнату долгим взглядом. Обиталище Гвальтерио Малатесты удивительно напоминало его собственное логово: хозяевам того и другого было совершенно все равно, где жить. Что ж, в чем-то итальянец был прав. Недалеко они ушли друг от друга.
– Ты и в самом деле не встаешь с постели?
– В самом, в самом, куда уж самей… – Малатеста поглядел на него с интересом. – А что такое? Хочешь сказать, что лежачего не бьют? – Снова мелькнула белозубая, жестокая улыбка. – Если тебе это поможет, могу перечислить всех, кого отправил в рай без пересадки, не дав даже перекреститься… Убивал лежачих и стоячих, спящих и бодрствующих, убивал в спину и лицом к лицу. Последних, по совести сказать, было меньше всех. Так что чистоплюйством своим передо мной не тряси. – Он рассмеялся скрипуче и зло. – Занятие у нас с тобой такое.
Алатристе разглядывал висевшую в изголовье шпагу – на чашке и крестовине царапин и вмятин было не меньше, чем на эфесе его собственного оружия. «Дело случая, – подумал он. – Как карта ляжет».
– Я был бы тебе очень благодарен, – сказал он вслух, – если бы ты дотянулся до своего пистолета или до шпаги.
Малатеста посмотрел на него испытующе, а потом медленно качнул головой.
– И не думай. Мы в подачках не нуждаемся. Не тяни, делай то, зачем пришел, – жми на курок, и покончим с этим… Повезет – поспею на тот свет как раз к ужину.
– Я в палачи не нанимался.
– Тогда проваливай. У меня нет сил с тобой спорить.
Он снова уронил голову в подушку, закрыл глаза, засвистал свое тирури-та-та и, казалось, потерял интерес к происходящему. Алатристе стоял у кровати с пистолетом в руке. Из окна послышался отдаленный перезвон курантов. Малатеста оборвал руладу. Провел ладонью по надбровью, рассеченному и распухшему, потом по щекам, покрытым шрамами и оспинами, и снова взглянул на капитана.
– Ну что? Решился?
Алатристе не отвечал. Это уж не комедия, а черт знает что. Сам Лопе не осмелился бы показать такое на сцене – мушкетеры Табарки его бы освистали. Он еще ближе подступил к кровати, рассматривая раны своего врага: вид у них был скверный, а запах еще хуже.
– Не надейся, – будто читая его мысли, проговорил Малатеста. – Своей смертью не помру. У нас в Палермо народ живучий… Так что – давай, не томи.
Капитан хотел убить его. Вне всяких сомнений. Диего Алатристе хотел покончить с этим опаснейшим негодяем, который столько раз угрожал жизни его собственной и его друзей. Пощадить итальянца было бы таким же самоубийственным безрассудством, как оставить ядовитую змею у себя под кроватью. Диего Алатристе хочет убить его, должен убить его, и убьет, но не такого, каков он теперь, немощный и безоружный, а когда в руке у итальянца тоже будет шпага, когда они сойдутся лицом к лицу, и капитан услышит, как тяжело дышит противник, отбивая его удары, и предсмертно хрипит, пронзенный неотразимым выпадом. В этот миг он подумал, что торопиться, в сущности, некуда, дело не к спеху. И что бы там ни говорил, как бы ни язвил Малатеста, не так уж велико сходство между ними. Похожи, спору нет, но – в глазах Бога, дьявола, людей, а по сути, по нутру, по тому, что называется душой и совестью, сильно разнятся. Да, похожи, похожи во всем – да только разные узоры видятся им на ковре, именуемом жизнью. Похожи-то похожи, но, случись им поменяться местами, Малатеста давно бы уже прикончил Алатристе, а он вот стоит, не доставая шпагу из ножен, и палец его в нерешительности замер на спусковом крючке.
В этот миг отворилась дверь, и на пороге появилась женщина – молодая, в блузе и ветхой серой баскинье, с корзиной свежего белья и оплетенной бутылью вина в руках. Увидев незнакомца, она вскрикнула от испуга и неожиданности, выронила бутыль, тотчас разбившуюся вдребезги, и замерла, не произнося ни слова. С первого взгляда Алатристе определил, что боялась она не за себя, а за человека, распростертого на кровати. «Что ж, – насмешливо подумал капитан, – в конце концов, и змеи ищут себе компанию. И спариваются».
Он спокойно рассматривал вошедшую – она была тощенькая, вида простонародного. Молода, но уже заморена жизнью, ибо только житейские тяготы кладут вокруг глаз печать такой усталости. Черт возьми, она чем-то неуловимо напоминала Каридад Непруху. Капитан поглядел на вино, кровяной лужей растекшееся сквозь ивовую оплетку по плиткам пола. Потом склонил голову, осторожно спустил взведенный курок и сунул пистолет за пояс – все это очень медленно, словно боясь что-то позабыть или думая о чем-то постороннем. И сразу же, не произнеся ни слова, не оглядываясь, мягко отстранил женщину и пошел прочь из этой конуры, пропахшей одиночеством и несчастьем, поразительно похожей и на теперешнее его обиталище, и на все предыдущие, которых набралось за жизнь немало.
Он начал хохотать, выйдя на галерею, и продолжал, спускаясь по ступенькам на улицу, набрасывая на плечи плащ и застегивая пряжку. В точности так хохотал Гвальтерио Малатеста, когда завершилась история с двумя англичанами и он, распрощавшись со мною, уходил под дождем от королевского дворца. Капитан давно уже скрылся из виду, а смех его еще долго звучал на улице.
Эпилог
«Похоже, что боевые действия во Фландрии возобновляются, и многие солдаты и офицеры, до сей поры остававшиеся в Мадриде, приняли решение отправиться в действующую армию, поскольку здесь они не столько пребывали, сколько прозябали, а война сулит трофеи и иные выгоды. Четыре дня назад с барабанным боем и развернутыми знаменами выступил Картахенский полк, который, как, должно быть, известно нашим читателям, был пополнен и переформирован после того, как два года назад, в сражении при Флёрюсе понес ужасающие потери. Ныне он почти целиком состоит из ветеранов, и мятежные провинции вскоре должны почувствовать на себе их руку.
Вчера, в понедельник, при загадочных обстоятельствах погиб капеллан монастыря бенедиктинок падре Хуан Короадо. Сей клирик, происходящий из знатного португальского рода, отличался приятной внешностью и славился своим искусством проповеди. Судя по всему, когда он стоял в дверях своей церкви, к нему приблизился неизвестный молодой человек и, не говоря ни слова, пронзил его насквозь длинной шпагой, употребляемой обычно на бое быков. Убийство, по всей видимости, было совершено из мести. Убийца скрылся».
(Из «Сообщений» Хосе Пельисера)
Приложение
Извлечения из «Перлов поэзии, сотворенных несколькими генями того времени»
Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
Сонет, посвященный лиценциатом Сальвадором Кортесом-и-кампоамор капитану Алатристе
Лишь вещий дар незрячего аэда Тебя восславить мог бы на века: Разящий блеск не твоего ль клинка Досель слепит надменного соседа? Остенде, Маастрихт, Антверпен, Бреда – Ристалища твои. Не ты ль быка Свирепый натиск сдерживал, пока Отпор врагу не увенчал победой? Не у тебя ли еретик-смутьян В бою пощады запросил впервые? Не ты ли турок гнал и лютеран, Порядки их сминая боевые? Не ты ль сумел уверить англичан, Что сохранит главу склоненье выи?Десима графа де Гуадальмедина, посвященная некоему клирику, пользовавшемуся большим успехом при дворе
Проникновенно проповедь читая, Прельщаешь прихожанок благочестьем, Под юбки-то зачем, однако, лезть им? Какое место столь усердно крестим, Что тверже стали стала плоть литая? Таким исполнен, отче, лютым пылом, Что брать в расчет не хочешь кривотолки: Во всей округе не осталось щелки, Куда бы ты, раздув свое кадило, Не впарил благодати богомолке.Десима Руиса де Вильясеки, порочащая лейтенанта алывасилов Мартина Сальданью
Когда бы наш король вас попросил Моток распутать спутанной кудели, То вы, как лейтенант и альгвасил, Вполне бы преуспели в этом деле, И размотали все за две недели, – Недаром же на вас – высокий чин. Воловий труд вам, милый друг, привычен По целой совокупности причин: Вол схож с быком рогами, а отличен – Тем, в сущности, чем евнух – от мужчин.Приписываемый дону Франсиско де Кеведо сонет, в котором автор призывает молодость к благоразумию
Блажен юнец, что, над землею взмыв, Объят отваги дерзновенным жаром, Риск соразмерит с доблестью. Недаром Он, побеждая, остается жив. Иной, самонадеянно-ретив, Стремится новоявленным Икаром Достигнуть солнца в безрассудстве яром – Он жизнью платится за свой порыв. Вам внятен смысл сей важной аллегорьи? Паря в необозримой вышине, Дух благородный изнеможет вскоре И пыл остудит в гибельной волне: Знай: хладнокровье – храбрости подспорье, Смельчак благоразумный – смел вдвойне.III. Испанская ярость
Оборванной, корявою оравой,
Мы шли за капитаном и – за славой,
И каждый воин был наперечет.
Отряд сражался в долах италийских,
В чащобах Мексики, на кручах гор альпийских..
Куда теперь судьба его влечет?
К.С. дель Рио. «Сфера»[43]I. Вылазка
Черт возьми, знали бы вы, как промозгло и сыро на берегу голландского канала ранним осенним утром.
Солнце, еле-еле пробиваясь сквозь завесу тумана над плотиной, льет слабый свет на тех, кто шагает по дороге к городским воротам, которые скоро откроются и впустят торговцев, приехавших на рынок. Только слава, что солнце – невидимое, негреющее, недостойное своего имени; впрочем, так им, еретикам, и надо. И в его мутном, сером свете, бессильном справиться с хмарью и моросью, чуть виднеются запряженные в телегу волы, крестьяне с корзинами, женщины в белых чепцах, с кругами сыра и кувшинами молока.
Стиснув зубы, чтоб не клацали от стужи, перекинув через плечо связанные вместе котомки, медленно шел по дороге и я. Земляную насыпь у дамбы туман окутывал так плотно, что очертания деревьев, кустов, тростника едва угадывались. Да, почудилось на миг, будто там тускло блеснул металл шлема, или кирасы, или обнаженного клинка, но говорю же – только на миг, а потом влажные испарения, клубившиеся над водой, снова все скрыли. Девушка, шагавшая рядом, должно быть, тоже что-то заметила, ибо из-под сборок накрахмаленного чепца метнула тревожный взгляд сперва на меня, а потом туда, где, серые на сером, темнели фигуры в касках и с алебардами – голландские часовые, охранявшие подъемный мост.
Небольшой городок, именовавшийся Аудкерком, стоял в точке соединения канала Остер, реки Мерк и дельты Мааса. Городок был мал да удал, и значение имел чисто военное, поскольку закрывал доступ к этому окаянному каналу, по которому мятежные еретики переправляли подкрепления своим соотечественникам, сидевшим в осажденной крепости Бреда в трех лигах отсюда. Гарнизон Аудкерка состоял из горожан-ополченцев и двух рот регулярной пехоты, причем одна была укомплектована англичанами. Укреплен был городок весьма прочно, главные ворота защищены бастионом и рвом, через который переброшен был подъемный мост, так что с налету не возьмешь. Именно по этой причине я в столь ранний час и находился здесь.
Полагаю, вы меня если не узнали, так вспомнили.
Звался я – и сейчас зовусь – Иньиго Бальбоа, в ту пору исполнилось мне четырнадцать лет, и скажу, не хвалясь, что, несмотря на юные годы, я уже повидал кое-какие виды. После весьма опасных приключений в Мадриде, откуда правил нами государь наш Филипп Четвертый; после того, как пришлось мне орудовать и клинком, и пистолетом; после того, как я чудом не попал на костер – так вот, после всего этого я уже год находился в действующей армии, состоя при капитане Алатристе: наш Картахенский полк, морем переброшенный в Геную, двинут был через Милан по так называемому Испанскому тракту воевать с мятежными голландцами. Минула без возврата эпоха великих полководцев, грандиозных битв и не менее грандиозных грабежей – ныне война превратилась в некое подобие скучной и долгой шахматной партии: крепости и плацдармы по несколько раз переходили из рук в руки, а доблесть зачастую значила меньше, нежели терпение.
И рядом с девицей в чепце, наполовину скрывавшем лицо, шел я в тумане к городским воротам и голландским часовым, а вокруг мычали волы, гоготали гуси, скрипели телеги, шагали крестьяне. И один из этих крестьян, примечательный тем лишь разве, что был, пожалуй, смугловат для здешних мест, где народ, как на подбор, белобрысый и светлоглазый, поравнялся со мной и, сквозь зубы бормотнув нечто похожее на «Аве-марию», прибавил шагу, догоняя четверых своих товарищей – тоже что-то больно сухопарых да чернявых.
И, стало быть, почти одновременно все мы, то есть четверо передовых, один замыкающий, девица в чепце и я, грешный, оказались перед часовыми на подъемном мосту. Было их двое – толстый багроворожий капрал в черном плаще и второй, с пышными светлыми усами, – я его запомнил очень хорошо: он что-то сказал по-голландски крестьяночке – надо думать, комплимент отвесил – и сам же первый захохотал. Однако смех его в тот же миг и оборвался, ибо тощий крестьянин – тот самый, что приветствовал меня «авемарией» – невесть откуда взявшимся кинжалом полоснул солдата по горлу, и толстая струя крови забрызгала мои котомки: я только что развязал их, чтобы четверо остальных смогли расхватать лежавшие там пистолеты. Красномордый открыл было рот крикнуть: «Тревога!» – открыть-то открыл, да не крикнул, а не крикнул потому, что не успел: кинжал, вонзившийся чуть повыше латного нашейника, взрезал капралу глотку от уха до уха. А когда он повалился наземь, я бросил ненужные более котомки и с кинжалом в зубах очень проворно устремился к мосту, тогда как вышепомянутая девица в чепце – тут прямо надо сказать, что и чепец свой она уже сбросила, да и к девицам ровно никакого отношения не имела, будучи пареньком моего примерно возраста и отзываясь на имя Хайме Корреас, – рванулась туда же с другой стороны. Намеревались мы какими-нибудь деревяшками застопорить шкивы и блоки, обрубить тросы и в намерении своем преуспели.
И за всю свою историю не видал и не ведал еще Аудкерк такого пробуждения – четверо с пистолетами и один с «авемарией», как стая демонов, понеслись по бастиону, огнем и железом сметая оттуда все живое. А к тому времени, когда мы с моим напарником привели в негодность механизм подъемного устройства и соскользнули по цепям вниз, от дамбы уже доносился глухой гул: это полтораста испанцев, которые ночь провели по пояс в воде, теперь выскочили на сушу с криками «Сантьяго! Сантьяго! Испания и Сантьяго!», твердо намеренные согреться кровью и огнем, полезли на земляной вал, ринулись по перемычке к подъемному мосту и крепостным воротам, вскочили на бастион и, наводя ужас на голландцев, метавшихся из стороны в сторону, как ополоумевшие гуси, ворвались в городок, круша все на своем пути.
Теперь в исторических трудах взятие Аудкерка называют не иначе как резней, уподобляя пресловутой furia espanola – испанской ярости[44], явленной в Антверпене, и утверждают, будто в то утро Картахенский полк действовал с беспримерной жестокостью. Что ж… Мне ли о этом не знать: я там был и все видел своими глазами. Да, поначалу было смертоубийство или, если угодно, резня, и пощады не давали никому. А не скажете ли, как еще полутора сотням атакующим взять укрепленный голландский город с гарнизоном в семьсот человек? Только ужас внезапного и беспощадного штурма может сразу и навсегда сломить сопротивление еретиков – и наши применили эту методу со всей тщательностью, присущей истинным и закаленным в боях мастерам своего дела. И вот, дабы вселить панику в ряды обороняющихся и вынудить их к сдаче, наш полковой командир дон Педро де ла Амба приказал покрошить с первых мгновений штурма как можно больше народу и не сметь грабить город, пока не одержана победа полная и несомненная. Так что подробности позвольте опустить. Скажу лишь, что в этом кромешном аду закладывало уши от грохота выстрелов, от криков, от лязга стали, и ни один голландец старше пятнадцати лет, попавшийся нам под руку при начале дела, сопротивлялся ли он, сдавался или спасался бегством, живым не ушел и, стало быть, об этом не расскажет.
И дон Педро рассчитал верно. Паника, обуявшая защитников города, стала нашим главным союзником, отчего и потеряли мы всего человек десять-двенадцать убитыми и ранеными. Согласитесь, черт возьми, – это сущие пустяки по сравнению с двумя сотнями лютеран, которых похоронили на следующий день, так что Аудкерк достался нам, можно сказать, почти даром. Выражаясь военным языком, основной очаг сопротивления обнаружился в ратуше, где человек двадцать англичан успели занять оборону. Кто их, спрашивается, звал сюда, англичан этих, ставших на сторону мятежников после того, как его величество отказался выдать свою сестру, инфанту Марию, за принца Уэльского? Зачем было встревать им не в свое дело? И какая была печаль чужих быков случать? Так что когда первые испанцы с окровавленными клинками ворвались на площадь, а надменные островитяне встретили их с балкона ратуши мушкетным залпом, наши почли это горчайшей обидой. И, натащив пакли, пороха и смолы, подожгли здание муниципалитета вместе с засевшими там англичанами, а те, кто успевал – если успевал – выскочить наружу, попадал из огня если не в полымя, так под огонь.
Потом, как водится, начался грабеж. По стародавнему военному обычаю, город, не принявший условий сдачи и взятый с бою, пускался на поток и разорение, а в алчности и жажде наживы каждый наш солдат стоил десятерых, тогда как в бахвальстве – сотни. Ну вот, и поскольку Аудкерк не капитулировал – губернатора в первые же минуты застрелили, а бургомистра вздернули на дверях собственного дома, – хоть и достался нам, можно сказать, малой кровью, то и не потребовалось особых церемоний для того, чтобы испанцы, выбрав дома поприглядней – а других в городе и не было, – принялись тащить оттуда все, что под руку подвернулось. Это иной раз приводило к прискорбным происшествиям, ибо аудкеркские обыватели, как поступили бы на их месте и всякие другие, противились подобному бесчинству, добром со своим добром расставаться не желали, а потому, чтоб отдавали свои вещички, увещевать многих пришлось шпагой. И вскоре заполнились улицы солдатами, которые в дыму и пламени пожаров сновали взад-вперед, нагруженные разнообразнейшим скарбом. Зрелище не радовало глаз – содранные занавески, в щепки разнесенная мебель, раздетые, разутые трупы, и нога оскальзывается в темных лужах крови на мостовой, и собаки эту кровь лакают. Сами понимаете.
Что касается безобразий по женской части, то их не было, ну, или, по крайней мере, они не поощрялись. Более того – возбранялись. Равно как и стремление напиться допьяна, поскольку оба порока действуют разлагающе на самое дисциплинированное воинство. Наш главнокомандующий дон Амбросьо Спинола, не собираясь настраивать против себя гражданское население, которое мало того, что обдерут и зарежут, так еще и на законных основаниях изнасилуют, поставил вопрос остро – уж куда острей: гляди, не обрежься – и отдал соответствующий приказ. И накануне штурма, для вящей доходчивости, для пущей наглядности, в назидание и для острастки повесил двоих-троих солдат, уличенных в том, что позволили себе по отношению к женщинам лишнее. Видать, осведомлен был генерал о несовершенстве человеческой природы – ведь даже в команде Господа нашего Иисуса Христа, даром что он сам же ее и набирал, один его предал, другой от него отрекся, а третий ему не поверил. И в данном случае примерное наказание, завинтивно превентив – тьфу, наоборот! – превентивно завинтив гайки, произвело должное впечатление на личный состав и действие возымело: за исключением одного-единственного случая насилия – неизбежного, согласимся, когда солдатня распалена легкой победой и богатой добычей, – за которое виновный вздернут был ad boc[45] добродетель фламандских женщин, какова бы она ни была, осталась нетронутой и урону не понесла. До поры до времени.
Ратуша до самого флюгера была объята пламенем.
Мы шли с Хайме Корреасом, радуясь, во-первых, тому, что уцелели, а во-вторых – что на радость всем и каждому, кроме, разумеется, голландцев, с честью выполнили возложенное на нас поручение. В котомки мои, подобранные после боя и до сих пор липкие от крови светлоусого часового, сложили мы кой-какие трофеи – столовое серебро, несколько золотых монет, цепь, снятую с шеи убитого горожанина, и два превосходных, совсем новеньких металлических кувшина. Спутник мой щеголял в очень красивом шлеме с перьями, защищавшем прежде голову какого-то англичанина, которому теперь не на что было его надевать, а в брошенном доме, где мы с Хайме пошарили в свое удовольствие, я разжился роскошным колетом из красного бархата, расшитого серебром.
Вместе с напарником моим, тоже состоявшим в пажах – только я у Диего Алатристе, а он у прапорщика Кото, – мы испытали столько лишений и передряг, что с полным правом считали друг друга добрыми товарищами. Богатые трофеи вкупе с наградой, которую обещал ему наш капитан дон Кармело Брагадо, если трюк с переодеванием сойдет гладко и удастся провести часовых у подъемного моста, несколько примиряли Корреаса с тем, что пришлось оскоромиться девчоночьим обличьем – ничего не поделаешь, мы бросили жребий, и напялить юбку пришлось ему. Ну а я, к тому времени уже твердо решивший в положенный законом срок пойти в солдаты, пребывал в полнейшем упоении, столь свойственном юности, и голова моя блаженно кружилась от запаха пороха, возвещавшего славу, приключения и прочие восторги. Вот, черт возьми, как воспринимает войну человек, когда лет ему ровно столько, сколько строчек в сонете, и по милости божественной Фортуны сам он становится не жертвой, ибо Фландрия со всеми своими фламандцами была для меня чужбиной, – но свидетелем. А порой – и скороспелым палачом. Впрочем, я, кажется, прежде уже говорил вам, господа, пусть и по другому случаю, что такие тогда были времена: жизнь человеческая, да хоть бы и своя собственная, стоила дешевле куска закаленной стали, призванного эту самую жизнь оборвать.
Лихие были времена. Трудные, тяжкие, жестокие.
Ну, стало быть, добрались мы до муниципальной площади и остановились поглазеть на пылающую ратушу и трупы англичан – много было среди них белокурых, рыжеватых и веснушчатых, – раздетых донага и сваленных кучей у дверей. Мимо сновали, таща добычу, испанцы, и, по овечьи сбившись в кучу под бдительным приглядом наших до зубов вооруженных однополчан, стояли перепуганные горожане. Большей частью – женщины, старики и дети, взрослых мужчин было мало. Помню какого-то паренька наших с Хайме лет, взиравшего на нас с угрюмым любопытством. Помню бледных женщин – под белыми чепцами прятались светлые волосы, широко открытые светлые глаза с ужасом следили за испанцами: эти вымазанные кровью, грязью, илом, пропахшие пороховым дымом смуглые чужаки, хоть ростом и уступали фламандцам, были густоусы, крепконоги, одеты в железо и кожу. Мушкет на плече, шпага в руке.
Никогда не забуду, с какой ненавистью и страхом тогда и потом, здесь и повсюду люди глядели на пропыленных ощетиненных сталью оборванцев, которые входили в их города, маршировали мимо их домов и, когда молчали, то казались еще опасней, чем когда горланили, и нищета не помехой была их гордыне, ибо, как писал Бартоломе Торрес Наарро:
Мы одолеем злого ворога, Запомни крепко: на войне Солдата руки стоят дорого, А деньги – вовсе не в цене.Мы были козырной картой его католического величества – доблестной королевской пехотой. Все пошли на войну добровольно, кто за славой, кто за деньгами; были среди нас люди порядочные, были – и в немалом количестве – отъявленный сброд, отребье, подонки, жаждавшие грабежа и добычи и соблюдавшие железную дисциплину исключительно в бою, под огнем неприятеля. Бестрепетные и грозные даже в час поражения, испанцы два столетия кряду поставляли лучших в Европе солдат, являя собой могучую и безотказную военную машину, не знавшую себе равных на полях сражений. Впрочем, к тому времени, о котором я толкую: когда завершилась эпоха великих сражений, когда все шире стала распространяться артиллерия, когда боевые действия во Фландрии свелись, главным образом, к долгим осадам, к подведению мин и сидению в траншеях, – пехота наша уже отчасти утратила свойства того великолепного воинства, которое явно имел в виду – и держал в уме – Филипп Второй, сочиняя свое знаменитое письмо послу испанского двора при Святом Престоле:
Я не желаю быть и не буду властелином еретиков. И если вопреки моему желанию не удастся уладить дело миром, то я преисполнен решимости взяться за оружие и не остановлюсь ни перед опасностью, грозящей мне, ни перед разорением держав, враждебных Испании, равно как и союзных им, ибо нет таких препон, которые не одолел бы, проходя свое поприще, христианский и богобоязненный государь.
В полымя да из огня Рвусь не за медали: Были б деньги – здесь меня Только б и видали.Или такие вот старинные и красноречивые стихи:
Коль денег нет, седлай – и в стремена! Дерись и в ус не дуй, как говорится. Раздвинутся Кастилии границы Пред грудью боевого скакуна.Ладно. Стало быть, мы раздвигали – и, к слову сказать, долго еще будем раздвигать – границы Кастилии своими клинками и вот сегодня с Божьей ли помощью или по дьявольскому наущению вернули короне отложившийся было Аудкерк. Над балконом одного из домов на площади реяло знамя нашей роты; товарищ мой Хайме Корреас отправился искать своих. Я же зашагал дальше, стараясь держаться подальше от нестерпимого жара, и, обогнув полыхающую ратушу, увидел двоих: они торопливо вытаскивали связки книг и бумаг и складывали их на улице.
Это было похоже не столько на грабеж – кто ж польстится на книги? – сколько на спасательные работы. Так или иначе, я подошел поближе. Помнится, я уже говорил вам, что в бытность мою столичным жителем познакомился с печатным словом, благодаря дружеским отношениям с доном Франсиско де Кеведо – он подарил мне Плутарха, – занятиям латынью и грамматикой с преподобным Пересом, любовью к произведениям Лопе де Беги и страстью к чтению, которую питал мой хозяин, капитан Алатристе.
Одним из тех, кто вытаскивал книги, был голландец средних лет с длинными седыми волосами, одетый во все черное, как пастор, хотя он не был похож на местных священнослужителей, если, конечно, позволительно отнести это слово к тем, кто смущает уши и прельщает души ересью Кальвина, гореть ему, подлецу, в геенне огненной вовеки веков. Я решил, что это какой-то муниципальный чиновник, и прошел бы своей дорогой, если бы мое внимание не привлек второй: когда он появился в дверях с охапкой книг, я увидел на нем форменную красную перевязь, принятую в нашей пехоте. Он был молод, с непокрытой головой, а мокрое от пота, черное от копоти лицо свидетельствовало, что ему уже не раз приходилось нырять в зев жаровни, которую являло собою здание ратуши. Шпага на перевязи, высокие сапоги перепачканы грязью и сажей, рукав колета дымится, а ему вроде бы и дела до того нет. Но вот наконец заметил, составил стопку книг на землю и, похлопав небрежно, загасил тлеющую ткань. Тут я смог разглядеть его: худой, остролицый, он носил негустые каштановые усики и маленькую бородку под нижней губой. На вид я дал бы ему лет двадцать – двадцать пять.
– Что стоишь как монумент? – проворчал он, признав во мне своего по выцветшему косому кресту, который я успел нашить на грудь нового колета. – Помог бы лучше.
Потом огляделся по сторонам, заметил женщин и детей, которые издали наблюдали за происходящим, и прожженным рукавом утер пот со лба.
– Черт, до смерти пить охота.
И с этими словами снова нырнул в двери вслед за голландцем. Поразмыслив, я решил сбегать к ближайшему дому, где в проеме сорванной с петель и в щепки разбитой двери испуганно жалось голландское семейство.
– Drinken, – сказал я, протягивая свои кувшины, а другой рукой берясь за кинжал.
Вероятно, голландцы поняли меня правильно, потому что сейчас же наполнили кувшины водой, и я отнес их к дверям ратуши, откуда с очередными стопками книг появились эти двое. Оба, с жадностью припав к воде, единым духом осушили кувшины, и, прежде чем снова скрыться в дыму, испанец обернулся ко мне и сдержанно произнес:
– Спасибо.
Поставив кувшины на землю, я снял свой бархатный колет и последовал за этим молодым человеком – поверьте, не потому, что, поблагодарив, он улыбнулся, не потому, что меня растрогали прожженная одежда или покрасневшие от дыма глаза; нет, благодаря этому безвестному солдату мне вдруг стало ясно: есть на свете нечто поважнее добычи.
Хотя, если повезет, за день можешь получить больше, чем от казны – за год. И вот, набрав полные легкие воздуха, закрыв рот и нос платком, пригнувшись, чтобы уберечь глаза от летевших со всех сторон искр, я снова и снова нырял в густой дым и снимал книги с горящих полок, пока раскаленный воздух не начал обжигать мне нутро при каждом вздохе, жар не сделался совсем уж нестерпимым, а большая часть книг не превратилась в пепел и прах – не влюбленный прах, воспетый в прелестном сонете дона Франсиско[46], а тот, в котором бесследно исчезли столько часов упорного и усердного труда, столько любви, столько мудрости, столько жизней, способных просветить и вразумить своим примером неисчислимое множество других жизней.
После очередной ходки горящая кровля со страшным грохотом обрушилась у нас за спиной, и мы остались снаружи, распяленными ртами жадно хватая свежий воздух, одурело оглядывая друг друга, плача от дыма, утирая липкий пот рукавами. У наших ног высилась груда спасенных от гибели книг и рукописей – примерно десятая часть, прикинул я, того, что сгорело. В изнеможении опустившись на колени рядом с этой кучей, кашлял и лил слезы голландец в черном. А солдат, немного отдышавшись, улыбнулся мне так же, как в ту минуту, когда благодарил за принесенную воду.
– Как тебя зовут, мальчуган?
Я выпрямился, перебарывая последний приступ кашля.
– Иньиго Бальбоа. Роты капитана Кармело Брагадо.
Это не вполне соответствовало действительности. Под началом вышеназванного капитана служил мой хозяин Диего Алатристе, я же числился там постольку-поскольку, ибо паж есть нечто среднее между слугой и вьючным мулом, но уж никак не солдат.
Однако незнакомец не обратил внимания на неточность моего высказывания.
– Спасибо тебе, Иньиго Бальбоа, – промолвил он.
Широкая улыбка осветила его черное от сажи и лоснящееся от пота лицо.
– Когда-нибудь, – прибавил он, – ты вспомнишь о том, что сделал сегодня.
Забавно, не правда ли? Не мог он этого знать наперед, однако же, беру вас в свидетели, господа, – слова его сбылись: я и вправду вспоминаю его и тот день. А солдат левую руку положил мне на плечо, а правую протянул для рукопожатия – крепкого и горячего. Не обменявшись ни единым словом с голландцем, который раскладывал книги на стопки столь бережно, словно разбирал бесценные сокровища – теперь-то я знаю: так оно и есть, – он пошел прочь.
Минуло немало лет, прежде чем судьба вновь свела меня с тем безвестным солдатом, которому я в промозглый осенний день взятия Аудкерка помог спасти хранившиеся в ратуше книги. Лишь много позже, когда я был уже спелым и зрелым человеком, в Мадриде и при обстоятельствах, которые увели бы нас слишком далеко от нашего повествования, посчастливилось мне встретиться с ним. Хоть и давно была первая наша встреча, он запомнил меня, а я лишь тогда смог наконец узнать его имя – Педро Кальдерон, дон Педро Кальдерон де ла Барка.
Но вернемся в Аудкерк. После того как солдат удалился, я отправился на поиски Диего Алатристе и вскоре нашел – целый и невредимый сидел он со всеми прочими у маленького костерка, разложенного в саду на задах дома неподалеку от набережной. Капитану и его товарищам поручено было захватить эту часть города, сжечь лодки и баркасы, тем самым отрезав голландцам путь к отступлению через задние ворота крепости. К этому времени обугленные посудины дотлевали у причала, а все вокруг носило следы совсем еще недавнего боя.
– Иньиго, – подозвал меня капитан.
Он улыбался устало и глядел несколько отчужденно, как свойственно солдатам, уцелевшим в тяжелом бою. С течением времени, проведенного во Фландрии, я научился безошибочно отличать этот взгляд от всех прочих, что бы ни выражали они – изнеможение, покорность судьбе, страх, готовность встрепенуться при первом звуке трубы. Такой взгляд не в пример иным надолго застревает в глазах, и вот им-то встретил меня сейчас хозяин. Расслабленно облокотясь о стол и вытянув вперед левую ногу, словно она у него болела, сидел капитан Алатристе на скамье. Высокие сапоги его были до самых голенищ облеплены глиной, а из-под наброшенной на плечи вылинявшей грязной ропильи[47] выглядывал старый нагрудник из буйволовой кожи. Шляпу капитан положил на стол, рядом с пистолетом – разряженным, как я успел заметить, – и поясом, к которому были пристегнуты шпага и кинжал.
– Садись, погрейся.
Я повиновался с удовольствием, между тем разглядывая тела троих голландцев – один валялся на досках мола, второй – под столом, третий лежал вниз лицом в дверях домика, сжимая в руках древко алебарды, которая не пригодилась ему ни для защиты, ни для чего иного. Еще я заметил, что карманы у него вывернуты, что на нем нет ни кирасы, ни сапог и что на левой руке не хватает двух пальцев – тот, кто стягивал с них перстни или кольца, явно очень спешил. Красновато-бурый ручеек крови, огибая весь сад, подтекал к самым ногам капитана.
– Да уже не так холодно, – сказал кто-то из солдат.
По сильному баскскому выговору я и не оборачиваясь понял, что слова эти произнес Мендьета, мой соплеменник, крепкий, бровастый бискаец с усами, густотой и пышностью не уступавшими усам капитана Алатристе. Рядом выскребали свои котелки смуглый, как мавр, Курро Гарроте, уроженец Малаги, Хосе Льоп с Майорки и арагонец Себастьян Копонс, старый сослуживец моего хозяина – крепенький жилистый коротыш, чье лицо, казалось, было высечено резцом по меди. Здесь же, неподалеку, бродили братья Оливаресы и галисиец Ривас.
Все знали, какое трудное задание получил я перед атакой, а потому обрадовались, увидав меня живым-здоровым, однако обошлись без душевных излияний: во-первых, мне уже случилось понюхать пороха во Фландрии, во-вторых, каждому хватало собственных забот, а в-третьих, у солдат вообще не принято чрезмерно ликовать из-за того, что кто-то не подкачал, выполняя свои обязанности, за которые, кстати сказать, ему от казны идет жалованье.
Впрочем, мы – речь, конечно, не обо мне, ибо нестроевые пажи-мочилеро денежного содержания не получали – давно уже забыли, как выглядит и на что похожа монетка в восемь реалов.
Диего Алатристе тоже приветствовал меня всего лишь рассеянной улыбкой. Заметив, однако, что я вьюсь вокруг него, как щенок в ожидании хозяйской ласки, одобрил мой бархатный трофей и предложил мне ломоть хлеба и пару колбасок, поджаренных на том же костре, у которого грелись его товарищи, пытаясь просушить одежду, все еще влажную после ночи, проведенной по пояс в воде. Лица у них были сальные, грязные, волосы растрепаны, вид изможденный, однако все пребывали в наилучшем расположении духа – остались живы, одержали победу, вернули мятежный Аудкерк в лоно католической церкви и под державную руку нашего государя, а добыча – в углу были свалены мешки и узлы – оказалась вполне приличной.
– Три месяца жалованья в глаза не видели, – заметил Курро Гарроте, счищая с перстней запекшуюся кровь. – Теперь, глядишь, и продержимся.
С противоположной стороны городка донеслись звуки труб и барабанная дробь. Понемногу развиднелось, и взорам нашим предстала шеренга солдат, поднимавшихся на Остерскую плотину. В последних клочьях тумана колыхались, точно камыши, длинные пики; скрытое за тучами солнце выслало, словно в передовой дозор, слабый луч – и заиграли, отражаясь в тихой воде канала, стальные наконечники, шлемы, кирасы. Впереди двигались несколько всадников, несли знамена со старым добрым андреевским – иначе его еще называют бургундским – крестом, издавна осенявшим испанские легионы.
– Пожаловал… – сказал Гарроте. – Петлеплёт злозыбучий.
Тут надо пояснить, что именно такая кличка накрепко прилипла к нашему полковнику – к дону Педро де ла Амба. Второе слово, впрочем, звучало несколько иначе, и в приличном обществе я произнести его не решусь, но примите в расчет, что мы были солдаты, а не монашки. Первая же часть прозвища объяснялась тем, что полковник, будучи рьяным поборником дисциплины, обожал вешать своих солдат за дело и без дела. Это я к тому клоню, что злозыбучий Петлеплёт, он же Педро де ла Амба в сопровождении резервной роты под началом капитана дона Эрнана Торральбы взъезжал на плотину, чтобы вступить, так сказать, на стогны покоренного Аудкерка.
– Продрал наконец глаза… Выспался на славу…
Как всегда, подоспел к шапочному разбору, – мрачно пробормотал Мендьета.
Диего Алатристе медленно поднялся: было заметно, что движение это далось ему с трудом – он приволакивал левую ногу. Я знал, что сказывается давняя рана, полученная год назад в одном из закоулков возле Пласа Майор при очередной встрече с давним его врагом Гвальтерио Малатестой. Голландская сырость и ночь, проведенная в воде Остерского канала, – не лучшие способы лечения, вот рана и разнылась.
– Пойдем-ка глянем.
Он пригладил усы, туго затянул пояс, уравновесив пистолетом висевшие слева шпагу и кинжал, надел свою широкополую шляпу с неизменным, а потому сильно потрепанным красным пером. Потом медленно обернулся к Мендьете.
– Чего ж начальникам не выспаться на славу, раз подчиненные, встав пораньше, им ее добудут, – сказал Алатристе, и по выражению его прозрачно-зеленоватых глаз невозможно было определить, серьезно он говорит или шутит.
II. Голландская зима
Шли недели, складываясь в месяцы, прикатила к нам зима, и, хотя генерал Амбросьо Спинола расчехвостил, образно выражаясь, мятежные провинции, окончательное покорение Фландрии все откладывалось да откладывалось, покуда наконец не отложился бесповоротно сам этот край. А не давалась победа нам в руки потому, что, как вы, должно быть, и сами догадались, некогда могучая армия испанского короля с каждым днем ослабляла хватку, которой удерживала эти далекие земли, откуда почта в Мадрид шла целых три недели – это если гнать лошадей во весь опор. На севере Генеральные Штаты при поддержке и содействии Англии, Франции, Венеции и прочих наших врагов укрепились в своих мятежных намерениях и окончательно закоснели в мерзостном кальвинизме, ибо ересь эта пришлась по нраву тамошним купцам и торговцам больше, нежели истинная вера, старомодно не дающая человеку потачки и мало применимая к делу, отчего деловые люди и предпочли завести себе такого Бога, который не взыскивал бы с них за получение дохода, не корил бы за барыши, – а заодно вознамерились и стряхнуть с себя ярмо кастильской монархии, находящейся где-то у черта на рогах, дохнуть им не дававшей без спросу, то есть – отдаленной, самодержавной и донельзя централизованной. Южным же провинциям, покуда еще сохранявшим верность Риму и Мадриду, до смерти опротивела война со всеми ее издержками и проторями, тем паче что длилась она ни много ни мало восемьдесят лет, и надоело терпеть ущерб, причиняемый нашей армией, с каждым часом все сильней напоминавшей армию захватчиков. Все это весьма накаляло обстановку. Не забудьте и о том, что само наше отечество пребывало в упадке, ибо преисполненный благих намерений да неспособный их осуществить король, умный да непомерно честолюбивый первый министр, бесплодная, как все равно смоковница какая, аристократия, растленное чиновничество и духовенство, столь же фанатичное, сколь безмозглое, вели нас прямиком к нищете и катастрофе. Дивиться ли, что Каталония и Португалия спали и видели, как бы с нами распрощаться, и последней это удалось, причем – навсегда. И мы, испанцы, которых за руки и за ноги держали короли, гранды и клир, мы, опутанные множеством предрассудков религиозных и мирских, стыдившиеся добывать хлеб насущный трудами рук своих и в поте лица своего, предпочитали искать счастья на фламандских полях сражений или покорять Америку, уповая, что внезапная удача позволит нам зажить припеваючи, озолотит в одночасье и налогов не вычтет. Вот почему захирели у нас торговля и ремесла, позакрывались цеха и мануфактуры, вот почему обезлюдела и обеднела наша Испания, а мы выродились сначала в искателей приключений, потом в нищих благородного звания, а потом и вовсе – в ничтожных и жалких потомков Санчо Пансы. Мудрено ли в свете всего вышесказанного, что необозримое наследие пращуров – империя, над которой никогда не заходит солнце, – продолжало существовать только благодаря золоту, бесконечным потоком лившемуся из Индий, и пикам своих испытанных солдат, которые скоро обессмертит на полотне Диего Веласкес[48]. И потому, невзирая на весь упадок, мы еще внушали страх и не позволяли глядеть на себя свысока. Так что вовремя и уместно, в пику – извините за каламбур – всем прочим народам и государствам прозвучали бы такие стихи:
А кто нам вздумал угрожать войной? Кто прошлое посмел забыть? Не ты ли? Иль при упоминании Кастильи Не содрогнется в страхе шар земной?Вы, господа, вправе будете посетовать на нескромность, с коей поместил я свою персону на сие грандиозное историческое полотно, а я вам отвечу, что к тому времени Иньиго Бальбоа, знакомый вам по приключению с двумя англичанами и нападению на монастырь, был уже не совсем молокосос.
Зима пятьсот двадцать четвертого года, которую провели мы, стоя гарнизоном в Аудкерке, застала меня в начале моей бурной возмужалости. Я ведь вам уже докладывал, что успел понюхать пороху и хоть по возрасту не орудовал в боях ни пикой, ни шпагой, ни аркебузой, однако в качестве мочилеро был приписан к той роте, где служил капитан Алатристе, а потому имел все основания почитать себя ветераном, ибо в совершенстве превзошел солдатскую премудрость – за пол-лиги мог унюхать, что затлели фитили аркебуз, умел по звуку определить с точностью до фунта и унции, какие калибры вводят неприятельские пушкари, а также развил в себе особое дарование, без которого мочилеро – никуда: рыскал по окрестностям в поисках хвороста и пропитания для солдат нашей роты и для себя самого, то есть стал фуражиром. Дело нелегкое, особенно если вся округа опустошена войной, припасы истощились и начальство доверило снабжение армии ей самой. Нелегкое да и опасное – вот под Амьеном французы с англичанами убили восьмерых наших мочилеро, мальчишек лет по двенадцати, промышлявших у городских стен. Даже по меркам войны это было просто иродовым деяньем, и потому испанцы отомстили жестоко, переколов и зарубив не менее двухсот белобрысых сынов Альбиона. Потому что как вы с нами, так и мы с вами. И если подданные разных британских величеств доставляли нам немало хлопот, невредно будет вспомнить, что мы в долгу не оставались и спуску не давали и хоть не так чисто были бриты, как гордые бритты, и потемнее мастью, и не галдели так за кружкой пива, но по части высокомерия нисколько им не уступали. И потом, если англичанин всегда сражается в сознании своего национального превосходства, то мы идем в бой, движимые не менее национальным отчаяньем, а это, извините, тоже не баран начихал. Так что мы дорого заставили их заплатить за тех мальчишек, во всей красе проявив свой неукротимый нрав:
Подранили в сражении немного: Ядром шальным оторвало мне ногу. Чего о ней жалеть? Такая малость! Врага разить рука при мне осталась.Ну ладно. Это я все к тому, что тянулась зима с ее унылым и робким светом, туманами и серыми дождями, а мы, одолевая мандраж, добывали фураж и осуществляли грабёж – какие там есть еще французские слова? – на фламандской земле, не в пример выжженной солнцем Кастилии – нам и тут не повезло, – зеленой и плодородной: не будь она столь плоской и так изрезанной бесчисленными реками и каналами, нипочем бы не отличить ее от полей родимого моего Оньяте. Занимаясь сим родом деятельности, овладел я едва ли не в совершенстве множеством полезных навыков – воровал кур, выкапывал из земли съедобные клубни, приставал с ножом к горлу – вот уж точно! – к местным крестьянам, отнимая у них – голодавших не меньше нашего – скудные запасы провизии. Словом, совершал и в ту пору, и в дальнейшем очень много такого, что вспоминать не хочется и чем гордиться не стоит, но все же пережил сам и помог пережить зиму своим товарищам и стал мужчиной в самом полном значении этого слова:
Так рано я познал сражения и битвы, Что шпагою владею лучше бритвы.Эти слова великого Лопе вполне применимы и ко мне. Я потерял невинность. Совершилось, выражаясь слогом преподобного Переса, мое падение.
Ибо в ту пору, в тех краях и в моем двусмысленном положении – не то солдат, не то мальчик на побегушках – невинность оставалась едва ли не единственным моим достоянием. Но, впрочем, дело это – личное, частное, интимное, и у меня нет ни малейшего намерения о нем распространяться.
Взвод, в котором служил Диего Алатристе, был лучшим в роте капитана Кармело Брагадо, потому что люди там служили отборные – крепкие телом, сильные духом, не склонные к умствованьям, но охочие до драки, выносливые и храбрые и к тому же еще и опытные, ибо у каждого за плечами была Пфальцская кампания или годы службы в Средиземноморье, в Неаполе и на Сицилии, как у Куро Гарроте, а Хосе Льоп и бискаец Мендьета воевали в той же Фландрии еще до Двенадцатилетнего перемирия; а кое-кто – вот, например, арагонец Копонс или мой хозяин, чьи послужные списки выцвели от времени, – успел даже застать последние годы царствования славного нашего государя Филиппа Второго, упокой, Господи, его душу. И как тут опять не помянуть Лопе, у которого будто про них писано:
Стал сей птенчик желторотый Украшеньем нашей роты.По списочному составу числилось во взводе от десяти до пятнадцати человек: кое-кто выбывал из строя, кое-кем строй пополняли, – и предназначение его состояло в том, чтобы шевелиться пошустрей и поспевать на помощь остальным взводам, для чего имелось у него полдюжины аркебуз и сколько-то там мушкетов. Особенностью же его можно было счесть отсутствие командира в капральском чине: мы подчинялись напрямую капитану Кармело Брагадо, а уж тот решал, как нами распорядиться потолковей – отправить ли в поиск, двинуть ли на вылазку, поручить ли рекогносцировку или заткнуть дыру на фланге. Я уже сказал и еще повторю, что подобрались там люди весьма бывалые, ушлые и дошлые, превосходно знавшие свое смертоубийственное ремесло, и потому, вероятно, по негласному уговору вверили они власть над собой Диего Алатристе и повиновались ему, молчаливо признав его первенство. Что же касается трех эскудо жалованья, коими взводный в капральском звании отличался от рядового, то Кармело Брагадо брал их себе в дополнение к тем сорока, что причитались ему за командование ротой. Ибо капитан – человек хорошего рода и разумный, хоть и большой ревнитель дисциплины, – относясь к тому сорту людей, которые мимо рта не пронесут и своего – да и чужого тоже – не упустят, умудрялся наваривать даже на убитых и дезертиров, ибо не торопился снимать их с довольствия и получал за них денежки, если, конечно, было что получать. Впрочем, подобное практиковалось весьма широко, и в оправдание капитану Брагадо можно сказать, что, во-первых, он всегда был в случае крайности готов помочь своим солдатам, а во-вторых, дважды предлагал Диего Алатристе капральский чин, но мой хозяин от повышения неизменно отказывался. А о дарованиях Алатристе ротный знал не понаслышке: четыре года назад, при Белой Горе, когда первый приступ был отбит и Букуа с полковником Гильерме Вердуго повели испанцев на второй, капитан Брагадо плечом к плечу с Алатристе и с моим отцом, в ту пору еще, ясное дело, не убитым, лезли вверх по склону, с боем брали каждую пядь этой каменистой земли, заваленной трупами, а еще через год на равнине Флёрюса дон Гонсало де Кордоба выиграл битву, в которой Картахенский полк, отразив одну за другой несколько кавалерийских атак, полег едва ли не целиком, и Алатристе оказался в числе тех, кто, не дрогнув, сомкнул поредевшие ряды вокруг знамени, а поскольку прапорщик, равно как и все прочие офицеры, был убит, держал древко сам капитан Брагадо. В те времена и среди тех людей это кое-что да значило.
А во Фландрии лили дожди, черт бы их драл, лили без передышки всю эту треклятую осень и не менее проклятую зиму, и земля, которую будто сам сатана изрезал вдоль и поперек каналами и реками, раскисла, превратилась в топкую трясину. Лило день за днем, неделю за неделей, лило месяцами подряд, и тучи висели совсем низко над этой чужой страной, где люди, говорившие на незнакомом наречии, ненавидели нас и боялись, где зима и война дочиста вымели поля и где нечем было защититься от холода, ветра и воды. Здесь и не слыхали о персиках, например, или об инжире, о сливе, о перце, о шафране, оливках, апельсинах, розмарине, отродясь не видали сосен, лавров, кипарисов. Здесь, собственно говоря, и солнца-то не было – так, медленно катился в серых тучах какой-то негреющий и тусклый кругляш.
Далеко-далеко, на самом краю света остался отчий край в железо и кожу одетых испанцев, топтавших чужую землю, втихомолку вздыхавших по яркой синеве родного поднебесья. И эта заскорузлая грубая солдатня, нагрянувшая сюда на север с ответным, так сказать, визитом – ибо много веков назад, когда пала Римская империя, посетили наш полуостров предки здешних жителей, – знала, что своих тут мало и что все тут чуждо и противно. А флорентиец Николо Макиавелли уже успел к этому времени написать, что пехоте нашей ничего не остается, как быть доблестной, и признал скрепя сердце – ибо терпеть не мог испанцев – что «сражаясь вдали от родины, будучи поставлены перед выбором – победить или умереть, ибо отступать им некуда – выказывают они величайшее мужество и стойкость». В отношении Фландрии были эти слова совершенно справедливы, ибо численность наших войск никогда не превышала двадцати тысяч, из коих больше восьми стянуть в одно место никогда не удавалось, но и с этими утлыми силами полтора столетия мы повелевали Европой и знали: только победы помогут нам уцелеть среди враждебных народов, и в случае поражения бегство нас не спасет.
И потому дрались мы до конца, яростно, жестоко и дерзко, проявляя отвагу тех, кому нечего терять и ничего ни от кого ждать не приходится, с истинно религиозным исступлением – об этом лучше всех сказал один из наших военачальников – дон Диего де Акунья – в своей знаменитой пламенной и свирепой здравице:
Ну, за Испанью! Жизнь отдать мы рады За честь ее. А трус – не жди пощады! Смердящим псом издохнешь на гноище, Не обретешь покоя на кладбище – Не жди могилы и креста от нас. Ловить проклятья будешь в каждом звуке, Не жди, что сына любящие руки Глаза тебе закроют в смертный час!Ну, стало быть, многажды мною уже помянутый дождь лил как из ведра и в то утро, когда капитан Брагадо решил наведаться в расположение своей роты. Капитан, уроженец леонского города Бьерсо, отличался исполинским ростом и редкостной телесной крепостью, а потому раздобыл себе где-то здоровущего голландского тяжеловоза – истинное страшилище себе под стать. Диего Алатристе, который, опершись о подоконник, смотрел, как хлещут струи по толстым оконным стеклам, увидел: вдалеке на плотине появился всадник в шляпе с обвисшими от дождевой воды полями, в непромокаемом плаще на плечах.
– Согрейка немного вина, – не оборачиваясь, сказал Алатристе по-фламандски – на это его познаний хватило – стоявшей за его спиной женщине.
Та взбодрила слабенькое пламя в очаге и поставила на него оловянный кувшин, ранее соседствовавший на столе с несколькими ломтями черствого хлеба и котелком, не до конца опорожненным Копонсом, Мендьетой и прочими. Стены и потолок в этой комнатенке, грязной и неприбранной, были густо закопчены, воздух же, насыщенный душными испарениями немытых тел, пропитанный сыростью, которая сочилась сквозь щели, – такой спертый, что хоть ножом его режь; ножом или любой из шпаг, разбросанных по полу вместе с аркебузами, кинжалами, кожаными колетами, частями доспехов и заношенной одеждой. Пахло казармой, зимой, разором. Пахло солдатами и Фландрией.
Сероватый свет из окна отчетливей выделял рубцы и шрамы на небритом густоусом лице, подбавлял льдистой неподвижности зеленовато-прозрачным глазам Алатристе. Колет он набросил на плечи поверх сорочки, отвороты сильно поношенных кожаных сапог были перехвачены под коленями аркебузными фитилями и подвязаны к поясу. Меж тем капитан Брагадо спешился, толкнул дверь и вошел, стряхивая воду со шляпы и плаща, недобрым словом поминая дождь, грязь и всю вообще Фландрию, чтоб ей пусто было.
– Вольно, господа, продолжайте, – сказал он. – Раз уж нашлось чем заморить червячка.
Солдаты, при появлении начальства обозначившие намерение подняться, вновь взялись за ложки, а Брагадо – от мокрого платья его повалил пар – не церемонясь принял из рук Мендьеты ломоть хлеба и миску, где плавало несколько разваренных капустных листьев. Потом задержался взглядом на хозяйке, протянувшей ему кувшин: погрев о него пальцы, он принялся короткими глотками прихлебывать горячее вино.
– Черт возьми, капитан Алатристе, – обратился он к человеку, по-прежнему стоявшему у окна. – Я смотрю, вы тут недурно устроились.
Не часто случалось, чтобы капитан истинный так непринужденно называл капитаном того, кто не состоял в этом чине, и это лишний раз доказывает, что Алатристе знали и уважали все, включая вышестоящих. Кармело Брагадо, произнося эти слова, показывал глазами на хозяйку – белокурую, как почти все ее соотечественники, тридцатилетнюю фламандку. Ее никак нельзя было назвать красавицей – красные, огрубевшие от работы руки, неполный комплект зубов – однако сияла белизной кожа, под передником ходили крутые бедра, а на изобильной груди чуть не лопалась шнуровка корсажа. Одним словом, таких вот женщин любил изображать на своих полотнах Петер Пауль Рубенс. Этакая крепенькая, цветущая, что называется – ядреная бабеночка. И стоило лишь заметить, как они с Диего Алатристе стараются не смотреть друг на друга, чтобы все – от капитана до последнего новобранца – смекнули, что Господь сотворил ее такой аппетитной на беду мужу – зажиточному крестьянину лет пятидесяти, – который с кислым видом ходил взад-вперед, изо всех сил стараясь угодить этим грозным и мрачным чужеземцам: он ненавидел их всеми силами души, да что ж поделаешь, если злосчастной судьбой определены они были к нему на постой? И ему оставалось лишь смирять свою бессильную ярость, еженощно слыша задавленные, едва сдерживаемые стоны страсти, доносившиеся с набитого кукурузными листьями тюфяка, на котором спал Алатристе. Впрочем, хозяин извлекал из этого двусмысленного положения и кое-какую выгоду, ибо в целости сохранил дом, имущество, и собственную шею, а так происходило далеко не везде, где квартировали испанцы. Кроме того, жена, хоть и наделила его рогами, все же принадлежала лишь одному из вояк, да притом – старшему, а не всему взводу, и брали ее по доброй воле, а не силком. В конце концов, во Фландрии, как всегда и везде на войне, надо уметь примиряться с неизбежным: каждый ведь – ну, скажем, почти каждый – хочет прежде всего выжить. А этот муж, по крайней мере, был живой муж.
– Слушай приказ, – сказал капитан. – Пойдете по дороге на Хеертруд Берген. Кровопусканьями особо не увлекайтесь, в стычки не ввязывайтесь.
Языка надо будет взять. А лучше – двоих-троих. Генерал Спинола полагает, что голландцы, поскольку из-за дождей вода поднялась, готовятся отправить подкрепление в Бреду. «Так что лигу придется прошагать… Постарайтесь обделать дело скрытно, без шума».
Без шума или под литавры, но переть целую лигу под дождем, по раскисшей глинистой дороге – удовольствие ниже среднего, однако никто не выказал неудовольствия, потому что всякому было ясно: этот же самый дождь не даст голландцам носу высунуть из укрытий, и они будут безмятежно дрыхнуть, покуда кучка испанцев проскользнет мимо.
Диего Алатристе провел двумя пальцами по усам:
– Когда выходить?
– Немедленно.
– Скольких отрядить?
– Всех.
Из-за стола донеслось приглушенное проклятие, но когда капитан, засверкав очами, обернулся, все сидели, потупясь. Алатристе, который по голосу узнал Курро Гарроте, устремил на него пристальный взор.
– Может быть, – очень медленно процедил Брагадо, – кто-нибудь из вас, достопочтенные господа, желает поделиться своими соображениями по этому поводу?
Он отодвинул недопитый кувшин, упер ладонь в навершие эфеса и очень неприятно ощерился, показав крепкие желтоватые зубы. Капитан стал похож на цепного пса, готового укусить.
– Нет, – отвечал Алатристе. – Никто не желает.
– Тем лучше.
Гарроте вскинул голову – он был явно уязвлен.
Этот уроженец Малаги был поджарым и смуглым, носил реденькую, вьющуюся бородку – вроде как у турок, с которыми он воевал на галерах в Неаполе и на Сицилии, – длинные, сальные волосы и в левом ухе – золотую серьгу. А в правом – никакой не носил, потому что турецкий ятаган отсек ему пол уха в морском бою у острова Кипр. Так, по крайней мере, уверял сам Курро. Иные, впрочем, утверждали, что уха он лишился в пьяной драке, имевшей место в Рагузе, в каком-то бардаке.
– Отчего же никто? – сказал он. – Я желаю.
Мне есть что сказать господину капитану… Сыну моей мамаши глубочайшим образом на.. ль на дождь, на две лиги пути по колено в грязи, на голландцев, турок или еще каких сукиных детей… Это во-первых.
Курро говорил твердо, уверенно, со скрытым вызовом, а товарищи смотрели на него выжидательно, иные – с явным одобрением. Все они прослужили в армии по много лет, и хотя дисциплина и чинопочитание въелись им в плоть и кровь, не утратили известного рода нагловатости, ибо на военное поприще вступали только дворяне и, значит, все тут были равны. Что же касается дисциплины – станового хребта испанских легионов – то ей отдавал должное даже англичанин Гаскойн[49], который в своем донесении о взятии и разграблении Антверпена писал: «В этом отношении валлоны и немцы столь же возмутительны, сколь восхитительны испанцы».
Ему видней. А насчет прочих свойств, то нелишним будет послушать мнение дона Франсиско де Вальдеса, прошедшего все ступени служебной лестницы, а потому знающего предмет не понаслышке. Так вот, он писал: «Неукоснительное соблюдение дисциплины особенно трудно дается испанской пехоте, ибо нация эта, будучи темперамента холерического, обделена даром терпеливости». Не в пример фламандцам, медлительным, малоречивым и невозмутимым, не склонным ко вспышкам ярости, никогда не терявшим рыбьего бесстрастия – умолчим, поскольку не о том речь, о нечеловеческой их скаредности, – истинно железная дисциплина, которая вкупе с доблестью и отвагой издревле отличала воинственных испанцев на поле боя, испарялась неведомо куда в мирной, так сказать, жизни, и начальникам приходилось держать ухо востро, обращаясь с ними тактично и политично, чтобы, не дай бог, не обидеть: нередки бывали случаи, когда рядовой солдат, сочтя себя задетым грубым словом, несправедливым взысканием или еще каким истинным или мнимым унижением и пренебрегая неизбежным в сем случае повешеньем, выхватывал шпагу по адресу своего командира, будь то сержант или капитан.
Брагадо, превосходно об этом осведомленный, с безмолвным вопросом обернулся к Диего Алатристе, но тот принадлежал к числу людей, считающих, что каждый сам должен отвечать за слова свои и поступки, а потому сохранял полнейшую невозмутимость.
– Вы изволили сказать: «во-первых», – вновь повертываясь к возмутителю спокойствия, с грозным хладнокровием произнес капитан. – Что же во-вторых?
– А то, что обносились вконец! Оборванцами ходим! – нимало не смешавшись и с ответом не замешкавшись, воскликнул Гарроте. – Провианта не подвозят! А местных приказано не трогать… Что же нам – лапу сосать?.. Местная сволота все попрятала, а если чего и достает из закромов, так дерет за это втридорога. – Он с горькой укоризной показал на хозяина, выглядывавшего из другой комнаты. – Вот побожусь, что если б дали пощекотать эту свинью ножичком меж ребер, она вмиг накормила бы нас до отвала! И, глядишь, откопала бы на огороде кубышечку с такими славненькими кругленькими флоринами.
Капитан Брагадо слушал его терпеливо, однако пальцы с эфеса не снимал.
– Ну а в-третьих?
Гарроте малость повысил голос – ровно настолько, чтобы не подумали, будто он идет на попятный, но и не слишком зарываясь. Он-то знал, что Брагадо не потерпит резкого слова ни от самых своих заслуженных солдат, ниже от Папы Римского.
Разве что от короля, ну так на то он и король.
– А в-третьих и в главных, достопочтенные господа, как вы совершенно справедливо и уместно изволили нас назвать, пять месяцев жалованья не видали!
Вот теперь из-за стола явственно донесся дружный ропот одобрения. Промолчал один только арагонец Копонс, продолжавший крошить в свою миску ломоть хлеба. Брагадо обернулся к Алатристе, по-прежнему стоявшему у окна. Тот выдержал его взгляд, не размыкая губ.
– Почему не отвечаете? – буркнул ему капитан.
Алатристе, не изменившись в лице, пожал плечами:
– Я привык отвечать за свои слова, господин капитан. Иногда – и за поступки моих людей… Ну а сейчас я не произнес ни слова, а они ничего не сделали.
– Однако этот солдат удостоил нас своим мнением.
– У каждого есть на это право.
– И поэтому вы молчите и так смотрите на меня?
– И поэтому я молчу и смотрю на вас, господин капитан, а как именно – это уж вам судить.
Брагадо окинул его медленным взглядом и так же медленно кивнул. Капитан был достаточно умен и слишком хорошо знал Алатристе, чтобы отличить твердость от дерзости. Только теперь он выпустил рукоять и в раздумье взялся за подбородок. Но потом оглядел сидевших за столом и опять стиснул навершие эфеса.
– Никому не платят, – наконец выговорил он, обращаясь к Алатристе, словно именно он, а не Гарроте, заговоривший о деньгах, был достоин ответа. – Ни вам, господа, ни мне. Ни дону Педро, ни самому генералу Спиноле!.. Хоть и происходит наш дон Амбросьо из семьи генуэзских банкиров.
Алатристе промолчал и на этот раз, не сводя светлых глаз с капитана. В отличие от Брагадо, он-то успел послужить во Фландрии перед Двенадцатилетним перемирием. И мятежи еще были тогда в порядке вещей. Все знали, что в нескольких он был не то чтобы замешан, а так – поблизости случился, когда войска, которым месяцами и годами не выплачивали содержание, отказывались идти в бой. Дело дошло до того, что из-за плачевного положения испанских финансов мятеж стал единственным и чуть ли не узаконенным способом получить с казны недоимку. Либо мятеж, либо грабеж – такой, как в Риме или в Антверпене:
Давно уже мы голодом сидели, А как в стене пробили ядра брешь, Послали нас на приступ цитадели: «Мол, как возьмешь, так досыта поешь».Однако в этой кампании – если только речь не шла о городах, взятых штурмом и большой кровью, – генерал Спинола, чтобы вконец не настроить против себя и без того не слишком дружелюбное население, бесчинства по отношению к мирным жителям пресекал беспощадно. Так что если Бреда когда-нибудь и падет, то на разграбление ее не отдадут, и, стало быть, все жертвы и лишения осаждавших вознаграждены не будут. Солдаты, предвидя, что поживиться не удастся, ходили хмурые и перешептывались в сторонке. Лишь самый последний олух не заметил бы, что налицо все приметы близкого возмущения.
– И потом, насколько я знаю, нам, испанцам, не пристало требовать платы перед боем, – добавил Брагадо.
И это была чистая правда. Денег не было, зато имелось доброе имя: все знали, что испанские полки, очень ревностно оберегавшие свою честь, никогда не бунтовали до сражения, чтобы, не дай бог, не сказали, что они, мол, просто испугались. Случалось им даже приостанавливать уже вовсю полыхавший мятеж и идти в атаку – так бывало и под Ньюпортом, и в Алсте. Этим наша нация отличается от швейцарцев, итальянцев, немцев и англичан: если те заявляют: «Пока с долгами не разочтешься, драться не пойдем», то испанцы бунтуют исключительно после победы.
– Я-то думал, что поставлен командовать испанцами, а не чужеземным сбродом.
Эти слова произвели должное действие – солдаты беспокойно заерзали на скамейке, а Гарроте еле слышно выругался. В зеленовато-прозрачных глазах Диего Алатристе мелькнула усмешка, ибо фортель Брагадо оказался поистине чудотворным – ропот за столом стих, и капитан понимающе переглянулся с Алатристе: знай, мол, наших. Еще бы не знать.
– Выходить прямо сейчас, – совсем другим тоном бросил капитан.
Алатристе провел двумя пальцами по усам и оглядел своих товарищей:
– Все слышали?
Солдаты стали собираться: Гарроте – со скрежетом зубовным, прочие – смирясь с необходимостью. Себастьян Копонс, низкорослый, худой, узловатый и твердый, как корневище виноградной лозы, поднялся первым и, не дожидаясь приказа, уже прилаживал на себе боевую сбрую, всем видом своим показывая: заплатят ли жалованье в срок или запоздают, волнует его не больше, чем сокровища шаха персидского. Все, что ни пошлет судьба, он принимал покорно и безропотно, будто переняв этот фатализм у тех самых мавров, с которыми несколько столетий назад рубились его предки. Алатристе видел, как Себастьян надел шляпу и плащ и вышел оповестить товарищей, расквартированных в соседнем доме. Они давно, еще со времен Остенде, служили вместе, были во многих кампаниях, теперь вот попали под Бреду, и за все эти годы Копонс произнес дай бог слов тридцать.
– Ах да, чуть не позабыл! – воскликнул капитан.
Снова взяв со стола кувшин с вином, он поднес его к жаждущим устам, не спуская глаз с хозяйки, которая меж тем принялась убирать со стола. Потом, продолжая пить, свободной рукой извлек из-за пазухи своего колета конверт и протянул его Диего Алатристе:
– Неделю назад пришло.
Письмо было запечатано красным сургучом; буквы на конверте расплылись от дождя. Алатристе прочел на обратной стороне: «От дона Франсиско де Кеведо, постоялый двор Бардисы, Мадрид».
Хозяйка, проходя мимо, будто случайно и не глядя, задела его упругой пышной грудью. Блестели клинки, вдвигаясь в ножны, лоснилась насаленная кожа портупей. Алатристе надел свой нагрудник, медленно затянул ремешки и пряжки, приладил перевязь со шпагой и кинжалом. Слышно было, как щелкают по стеклам дождевые капли.
– Двоих взять, самое малое, – напомнил Брагадо.
Взвод был готов к выходу. Лиц почти не видно – между низко надвинутыми шляпами и залатанными непромокаемыми плащами только усы торчат. Оружие – соответственно обстоятельствам и полученному заданию, то есть никаких тебе пик или мушкетов на сошках, а только простые и добрые изделия Толедских, миланских, бискайских оружейников: шпаги и кинжалы. Ну, еще оттопыривались под плащами заткнутые за пояс пистолеты, проку от которых немного – порох отсырел, что и немудрено, если день и ночь льет-поливает. Прихватили по краюхе хлеба и ремни, чтоб вязать голландцев. Пустые, ко всему безразличные глаза, какие бывают у старых солдат перед тем, как в очередной раз попытать судьбу, пока не пришел час возвратиться, в рубцах и шрамах, в отчий край, но не думай, что там ждет тебя койка, чтоб приклонить голову, вино, чтоб согреть кровь, очаг, чтоб испечь хлеба. Это – если вернешься, а не раздобудешь себе семь футов фламандской земельки, где и уснешь ты вечным сном, не переставая тосковать по Испании.
Брагадо отставил порожний кувшин, Диего Алатристе проводил капитана до порога: обошлось без напутствий и прощаний. Капитан взгромоздился на своего тяжеловоза и потрусил вдоль плотины, разминувшись с Копонсом, который как раз шел обратно.
Алатристе чувствовал, что хозяйка неотрывно смотрит на него, однако не обернулся. Не говоря, надолго ли и не навсегда ли уходит, толкнул дверь, вышел наружу, под дождь, и тотчас прохудившиеся подошвы впустили воду, и от пронизавшей до самых костей сырости заныли давние раны. Он вздохнул и зашагал вперед, слыша за спиной, как чавкают по грязи сапоги товарищей. Они двигались к молу, где под ливнем неподвижно, как маленькое и неколебимое каменное изваяние, ждал их Себастьян Копонс.
– Вот жизнь дерьмовая… – вздохнул кто-то.
И без лишних слов испанцы, втянув головы в плечи, завернувшись в отяжелевшие от дождевой воды плащи, растаяли в серой пелене.
От дона Франсиско де Кеведо
дону Диего Алатристе и Тенорио,
Картахенский полк. Действующая армия. Фландрия
От всей души уповаю, любезнейший капитан, что письмо сие застанет Вас целым, невредимым и в добром здравии. Я же пишу Вам, едва оправясь от недомогания, вызванного скверным состоянием гуморов моих, которое привело к жару и лихорадке, трепавшей меня на протяжении нескольких суток. Впрочем, теперь, благодарение Богу, мне лучше, и я могу послать Вам свой дружеский привет.
Полагаю, что Вы обретаетесь где-то в окрестностях Бреды: название сей голландской крепости у всех на устах, ибо здесь считают, что от успеха дела зависит судьба нашей монархии и католической веры, и в один голос твердят, что подобных сил не вводили в действие со времен Юлия Цезаря и его Галльских войн. При дворе считают, что крепость обречена и свалится нам в руки как спелый плод, однако немало и тех, кто обвиняет дона Амбросьо Спинолу в непростительной медлительности, прибавляя, что спелый плод, не будучи съеден вовремя, имеет неприятное свойство сгнивать. Так или иначе, памятуя о столь присущей Вам отваге, желаю, чтобы во всех поисках, штурмах, вылазках и прочих самим сатаной измышленных затеях, коими столь обильно беспокойное Ваше ремесло, Вам неизменно сопутствовала удача.
Припоминая, что Вы как-то раз обмолвились, будто война – это чистое дело, я постоянно возвращаюсь мысленно к этому Вашему высказыванию и все больше признаю его правоту. Здесь, в Мадриде, а особенно – при дворе, враг носит не кирасу и шлем, а сутану, мантию или же шелковый колет, и никогда не нападает в лоб, но исключительно – из-за угла. В этом отношении у нас, любезный друг, все обстоит по-прежнему, только хуже. Я все еще надеюсь на добрую волю графа-герцога, однако боюсь, что ее одной недостаточно, ибо у нас, испанцев, скорей иссякнут слезы, нежели поводы их проливать, и даже самые рьяные труды не даруют незрячим – Божий свет, глухим – слово, несмысленным скотам – разумение, а властителям – толику порядочности. В нашей колоде некий белокурый и наделенный могуществом рыцарь остается валетом и никак не станет тем, кем призван стать по праву рождения, тогда как двойки и тройки метят в козырные тузы. Что же касается моих личных дел, то я продолжаю столь же бесконечную, сколь и безнадежную тяжбу по поводу поместья Торреде Хуан Абад, все глубже увязая в затяжных боях с продажным правосудием и ублюдочными его служителями, которых не иначе как за грехи наши послал нам Господь, сочтя, видно, что бесов в аду и без них переизбыток. Честью Вас уверяю, любезнейший капитан, что сроду не видывал сволочей в таком количестве и разнообразии, как теперь, когда я постоянно принужден посещать известное ведомство на площади Провиденсиа. По сему поводу позвольте преподнести Вам сонет, вдохновленный последними и недавними неурядицами:
В твоем суде иного нет резона, Чем выгода, – паскудная картина. По морю кляуз ты плывешь, скотина, За золотым руном резвей Язона. Нет ни людского для тебя закона, Ни божьего – ты всё попрал бесчинно. В исходе тяжбы – веская причина: К дающему Фемида благосклонна. Ты правого объявишь виноватым, Но неподсуден, кто не поскупится. Чем жировать, глумясь над нашим братом, Прими совет истца и очевидца: Умой-ка руки с Понтием Пилатом Да поспеши с Иудой удавиться[50]!Первая строка еще не до конца отделана, однако льщу себя надеждой, что сонет Вам придется по вкусу. Прочие же мои дела, не считая стихов и земного правосудия, недурны. Грех жаловаться – звезда Вашего друга Кеведо разгорается все ярче: я снова – желанный гость при дворе и в доме графа-герцога Оливареса, оттого, вероятно, что в последнее время стараюсь держать язык за зубами, а шпагу – в ножнах, перебарывая природное стремление дать волю первому и второй. Однако, согласитесь, надо жить, и зазорно ли мне, в избытке познавшему ссылки, опалы, суды и мрак узилища, заключить с переменчивой Фортуной краткое перемирие? И потому я намерен запомнить каждый день, за который должен поблагодарить сильных мира сего, даже если благодарить будет не за что, и никогда не жаловаться, даже если повод найдется.
Впрочем, уверяя вас, будто шпага моя пребывает в ножнах, я невольно погрешил против истины: не далее как несколько дней назад мне пришлось пустить ее в ход, дабы наказать ударами плашмя – как и подобает поступать с проворовавшимися лакеями и негодяями низкого звания – одного убогого виршеплета, посмевшего опорочить в мерзких стишках нашего великого Сервантеса – да почиет он в вечной славе! – и уверявшего, что «Дон Кихот» – не более чем скверно написанная книга-однодневка, ее идеи неосновательны, литературные достоинства сомнительны, а успех, который она себе стяжала, есть успех случайный, скоропреходящий и лишний раз свидетельствует о невзыскательности и безвкусии читающей публики. Вышепомянутый виршеплет кормится от щедрот негодяя Гонгоры, и этим все сказано. Так вот, однажды вечером, когда я был весьма расположен предаться не столько невинным, сколько винным утехам, и произошла моя встреча с этим его приспешником. Дело было в дверях таверны Лонхиноса, сем гнезде культеранистов, прибежище суетности, средоточии пустословия, кладезе несусветных красивостей; именно там столкнулся я с пасквилянтом и двумя его не менее гнусными спутниками – лиценциатами Эчеваррией и Эрнесто Аялой, этими гадостными гнидами, которые, исходя желчью, твердят на всех углах, что истинная поэзия рождается лишь под пером их кумира Гонгоры, а прелести ее внятны лишь немногим избранным, то бишь – им самим, и поносят на все корки и на всех углах написанное нами, хотя сами неспособны смастерить пустяшный сонет. Я был в ту пору не один, а в обществе герцога де Мединасели и еще нескольких молодых людей хорошего рода – спутники мои, впрочем, скрывали свои лица, – принадлежащих к братству ценителей и почитателей белого «Сан Мартинде Вильяиглесиао», и мы, выражаясь поэтически, дали гонгористам знатную взбучку, сами не понеся ни малейшего урону. А по прибытии блюстителей порядка – беспрепятственно ушли. И ничего нам за это не было.
Коль скоро я завел речь о мерзавцах, упомяну и о столь милом Вашему сердцу Луисе де Алькесаре, который по-прежнему ходит в королевских любимцах, занимается государственными делами и набивает себе мошну с быстротой сверхъестественной. Племянница его, Вам также, вероятно, памятная, превратилась в очаровательную барышню и пожалована во фрейлины ее величества. Ныне Вы для дядюшки, по счастью, недосягаемы, но по возвращении из Фландрии – держите ухо востро: никто не знает, куда долетит отравленный плевок этой гадины.
Кстати, о гадах. Должен рассказать вам, дражайший мой Диего, что несколько недель назад имел счастие повстречать итальянца, с которым у Вас счеты еще не окончены. Это произошло в квартале Кавабаха, неподалеку от постоялого двора Лусио, и, если это действительно был Гвальтерио Малатеста, мне показалось, что он находится в добром здравии, из чего я заключаю, что за время, протекшее после беседы с Вами, он вполне оправился. Мгновение итальянец глядел на меня, а затем пошел своей дорогой Пренеприятнейший субъект, замечу мимоходом: весь в черном с головы до пят, словно в глубочайшем трауре, физиономия побита оспой, а у пояса – неимоверной длины шпага. Из надежных источников мне по секрету сообщили, будто он верховодит в небольшой шайке головорезов, состоящей на жалованье у Алькесара для разного рода темных дел. Предвижу, что дела эти рано или поздно приведут ко встрече с Вами, друг мой, ибо великодушие безнаказанным не останется, и не зря же сказано: «Кто щадит оскорбленного, навлекает на себя его месть».
Я по-прежнему числюсь в завсегдатаях таверны «У Турка», все посетители коей шлют Вам через мое посредство наилучшие пожелания, а хозяйка, Каридад Непруха, – нежный привет: ходят слухи, никем покуда не опровергнутые, будто место Ваше в ее сердце, равно как и квартирка на улице Аркебузы, остаются за Вами Каридад все так же хороша, а это немало. Мартин Салданья, получивший рану при задержании нескольких проходимцев, стремившихся укрыться в церкви Святого Хинеса, выздоравливает. Как передают, он уложил троих.
Не буду более злоупотреблять Вашим терпением.
Прошу лишь засвидетельствовать мое глубокое почтение и нежную приязнь юному Иньиго, который, надо думать, возмужал, деля с Вами Марсовы потехи.
Не сочтите за труд напомнить ему мой сонет, где я призываю молодость к благоразумию.
Впрочем, все, что я мог бы сказать по этому поводу, любезный капитан, Вам известно лучше, нежели кому-либо другому.
Храни Вас Бог, друг мой.
Ваш – Франсиско де Кеведо Вильегас.P.S. Без Вас пусты для меня ступени Сан-Фелипе и театральные залы. Да! Совсем забыл рассказать, что получил письмо от одного молодого человека, которого
Вы, должно быть, еще не позабыли: того самого, что один уцелел из всей своей злосчастной семьи. Он сообщает, что, покончив на свой манер с делами в Мадриде, сумел под чужим именем беспрепятственно отплыть в Индии. Думаю, Вас эта новость обрадует.
III. Мятеж
Потом, когда все схлынуло и сгинуло, много рассуждали и толковали о том, можно ли было предотвратить случившееся, однако никто и пальцем для этого не пошевелил. И дело было не в зиме: зима как зима, тем паче что в том году выдалась она не слишком суровой, и снег не выпал, и каналы не замерзли, хотя, конечно, от беспрестанных дождей на божий свет смотреть не хотелось. Прибавьте отсутствие провианта, опустевшие деревни и осадные работы вокруг обложенной Бреды. Однако все это было, так сказать, в порядке вещей, а испанская пехота привыкла стойко и терпеливо сносить все тяготы и трудности солдатского своего ремесла: на то и война. А вот в отношении жалованья дело обстояло иначе: многие наши ветераны, которых во время Двенадцатилетнего перемирия уволили в запас или отставку, нищенствовали по-настоящему и на своей шкуре познали: его величество любит, чтобы за него отдавали жизнь, но если жив останешься – на прожитье подкинет сущие гроши. Так что солдаты, отломавшие десятки кампаний, искалеченные в боях, вынуждены были побираться по городам и весям нашей скаредной отчизны, где блага неизменно достаются одним и тем же – и вовсе не тем, кто не щадя ни крови своей, ни жизни, отстаивает истинную веру купно с достоинством и достоянием своего государя, а потом с быстротой необыкновенной оказывается благополучнейшим образом позабыт, как в землю зарыт. И воинство наше, чуть не столетие кряду сражавшееся с целым миром, теперь и само толком не знало, во имя чего идет в бой – то ли для защиты индульгенций, то ли для того, чтоб мадридский двор, отплясывая на балах, объедаясь на пирах, по-прежнему чувствовал себя властелином всего света. И солдаты не могли даже утешаться тем, что, мол, они – наемники и воюют за деньги, ибо денег им не платили. Они жили впроголодь, а ведь известно, что голод самым пагубным образом воздействует на дисциплину и боевой дух. Снабжение во Фландрию осуществлялось из рук вон скверно, но если прочие полки, включая и набранные из чужестранцев, все же получали какие-то крохи, то наш Картахенский давно позабыл, как они, деньги-то, и выглядят. Не ведаю, отчего так случилось: но ходили упорные разговоры, что наш командир дон Педро де ла Амба чересчур вольно обращается с ассигнованными суммами, и происходят с деньгами темные какие-то истории – то ли еще не дошли, то ли уже все' вышли, то ли еще что. Ну, так или иначе, но пятнадцати испанским, валлонским, бургундским, немецким, итальянским полкам, стянутым к Бреде и отданным под начало дона Амбросьо Спинолы, было ради чего стараться, а вот картахенцы, стоявшие мелкими отрядами на дальних подступах, держали в смысле денежного содержания строжайший пост и решительно никакого резона воевать не видели. Соответствующим было и настроение, ибо как написал Лопе в своей «Осаде Маастрихта»:
Солдаты злее натощак? Но сколько ж мне еще без пищи Шагать в грязи или в пылище, Простреленный вздымая стяг? Долой пиковый интерес! Хоть пикою владею – ну? так! Но драться на пустой желудок Отказываюсь наотрез!К этому следует присовокупить, что мы занимали оборону по берегам Остерского канала, то есть на самом острие возможной атаки: известно было, что голландский генерал Мориц Оранский ведет войско на выручку осажденной Бреде, где сидел другой Нассау, Юстин, с сорока шестью ротами голландцев, англичан и французов – сии последние, как вы, вероятно, знаете, никогда не упускали случая нагадить нам, где можно. Армия его католического величества находилась в двенадцати часах марша от ближайших городов, сохранивших верность Филиппу Четвертому, тогда как голландцы – всего в трех-четырех от своих. И Картахенскому полку приказано было принять этот более чем вероятный удар на себя, не дав еретикам зайти в тыл к нашим, сидевшим в траншеях вокруг Бреды. Случись такое, испанцам пришлось бы с позором отступить или принять неравный бой. Ну вот, и дабы не застали их врасплох, сколько-то там взводов – и наш в том числе – выдвинули на это опасное направление, в полевые караулы: при появлении неприятеля им надлежало поднять тревогу, а шансы выжить у них были очень невелики, отчего их так и называли – «пропалые ребята». Выбрали для сего благородного, но погибельного дела роту капитана Брагадо, где люди подобрались тертые, обстрелянные, привычные к превратностям военного счастия и – самое главное – умеющие, зубами и когтями вцепясь в какой-нибудь клочок земли, держаться до последнего, даже оставшись без командиров. Вышло, однако, иначе: чересчур уж доверились наши начальники долготерпению испанских солдат. Впрочем, добавлю справедливости ради, что полковник наш, дон Педро де ла Амба, известный под кличкой «Петлеплёт», сам подлил масла в разгорающийся огонь мятежа, ибо людям его чина и происхождения так себя вести не пристало.
Как сейчас помню: в тот прискорбный день выглянуло ненадолго солнышко, и, хоть грело оно по-голландски, я наслаждался теплом, пристроясь на лавке у дверей и читая с большой для себя пользой и удовольствием книгу, которую дал мне капитан Алатристе, чтобы я в походе не позабыл грамоту. Этот ветхий, покоробившийся от сырости том – первое издание первой части «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», увидевшее свет в типографии Хуана де ла Куэсты в пятом году нового века, то есть всего за шесть лет до того, как подобное же отрадное событие случилось со мной, – чудесное творение славного дона Мигеля де Сервантеса, который и дарованием своим, и злосчастьями был истый испанец: родись он англичанином или французом, иначе сложилась бы его судьба, и слава нашла бы его при жизни, а не за гробом, однако принадлежал этот однорукий гений к окаянной нации, умеющей воздавать лучшим своим сынам лишь посмертные почести – и это еще в лучшем случае. Итак, я упивался приключениями и возвышенным безумием последнего из странствующих рыцарей, и душу мне грело сокровенное знание, коим поделился со мной Диего Алатристе: в тот день, каких немного выпадает в череде столетий, – когда испанские галеры сцепились в проливе Лепанто с громадным турецким флотом, – среди тех, кто сражался с оружием в руках за Испанию, Бога и короля, был и дон Мигель, простой и верный присяге солдат – такой, как Диего Алатристе и мой отец; такой, каким твердо намерен был стать я сам.
А покуда я грелся на солнце и читал «Дон Кихота», время от времени останавливаясь, чтобы прочувствовать и уразуметь мудрые мысли, коими изобилует бессмертный роман. Вы, господа, наверно, помните, что и у меня была собственная Дульсинея, однако любовные мои горести проистекали не от того, что избранница моя мною пренебрегла, а от того, что оказалась коварна: повествуя о прошлых моих приключениях, я уже упоминал об этом. И хотя, попав в сей сладостный капкан, чудом не потерял я честь и самую жизнь, – воспоминание о некоем проклятом талисмане жгло меня огнем, – не сумел я позабыть ни золотистые локоны, ни синие, как мадридские небеса, глаза, ни улыбку, схожую, надо думать, с той, что играла на устах у сатаны, когда при Евином посредстве угощал он Адама пресловутым яблочком. Предмету моей страсти было, вероятно, теперь лет тринадцать-четырнадцать, и, воображая Анхелику при дворе, в окружении пажей и юных расфранченных кавалеров, впервые ощутил я, как вонзается мне в душу черная шпора ревности. Ничто на свете – ни все сильнее бурлящая в жилах младая кровь, ни каждодневные опасности, ни следовавшие за войском маркитантки, ни местные красотки, которым, поверьте, испанцы не были столь ненавистны и противны, как их мужьям, братьям и отцам, – не могло вытравить из моей памяти образ Анхелики де Алькесар.
В этот миг шум и суета отвлекли меня от чтения. Мимо шли солдаты, торопясь к месту сбора – на гласис[51] у Аудкерка, недавно взятого нами. В этом городке, расположенном к северо-западу от Бреды, стоял наш гарнизон. Подхватив аркебузы Алатристе и Мендьеты, туго набитый ранец из телячьей кожи и еще несколько пороховниц, я поравнялся с Хайме Корреасом, нагруженным, как вьючный мул, двумя короткими пиками, медным шлемом, весившим, наверно, фунтов двадцать, да еще мушкетом, и по дороге – до Аудкерка было не менее мили – узнал предысторию от товарища своего, служившего во взводе прапорщика Кото. Оказалось, что накануне вечером начальство, крайне раздосадованное сквернейшим состоянием дисциплины, назначило на сегодня строевой смотр и вот по какому поводу.
Возникла надобность укрепить Аудкерк, и сие ответственное фортификационное поручение попытались возложить на солдат, посулив им за это денег, которые ввиду чудовищной дороговизны съестных припасов и задержки жалованья пришлись бы очень кстати. И кое-кто из наших согласился на такой приработок, однако многие возмутились и вполне резонно заявили: если деньги есть, пусть начальство сперва выдаст что положено, разочтется с долгами, а уж потом прельщает дополнительной оплатой, и вообще почему это надо – в буквальном смысле – землю рыть, чтобы получить причитающееся солдату по закону и справедливости, и почему за свои кровные он еще должен махать лопатой да таскать фашины, приводя в божеский вид всяческие люнеты и апроши?! Нет уж, лучше потуже затянуть ремешок, нежели кормиться таким недостойным манером, когда, можно сказать, лбами сталкиваются голод и честь, ибо истый дворянин – а других в солдаты не брали – лучше подохнет, не уронив достоинства, чем сохранит жизнь посредством кирки и лопаты. Тут возникла перепалка, произошел обмен резкими словами, и в пылу спора какой-то сержант нанес оскорбление действием аркебузиру из роты капитана Торральбы; аркебузир же не унялся, а совсем наоборот – вдвоем еще с одним солдатом накинулся на сержанта, хоть у того в руках была алебарда как знак его звания, и пырнул его несколько раз шпагой, лишь по счастливой случайности не отправив в царствие небесное. Теперь виновных ожидало примерное наказание, и полковник приказал, чтобы все, свободные от караулов, при сем присутствовали.
Покуда шли мы к месту сбора, в нашем взводе возникли разногласия относительно происходящего и завязалась оживленная пря: сильнее всех кипятился Курро Гарроте, полнейшее безразличие по своему обыкновению выказывал Себастьян Копонс.
Я же время от времени с тревогой поглядывал на моего хозяина, тщась по виду определить, он то что думает о происходящем, однако капитан хранил молчание и словно ничего не слышал, а если к нему обращались – отвечал односложно. Мерно покачивалась в такт шагам свисавшая из-под пелерины шпага, лицо под сенью широкополой шляпы было угрюмо.
– Повесить их! – сказал дон Педро.
Голос его звучал отрывисто и сурово в мертвой тишине, повисшей над эспланадой: слышно было бы, как муха пролетит, если бы, ясное дело, зимой летали мухи. Тысяча двести солдат выстроились по-полуротно, образуя замкнутый с трех сторон прямоугольник: в центре – латники, на флангах – аркебузиры и копейщики. В иных обстоятельствах подобное зрелище радовало бы глаз: хотя солдаты, замершие в шеренгах, одеты были скверно: у многих латаная-перелатаная одежонка превратилась в сущие лохмотья, – а обуты еще хуже, однако амуниция была в порядке и в полном соответствии с уставом насалена и навощена, тогда как шлемы, кирасы, наконечники пик, стволы аркебуз – вычищены на совесть и надраены до зеркального блеска. Mucrone corusco[52], заметил бы падре Салануэва, наш полковой капеллан, случись ему в тот день остаться трезвым.
Чтобы в горячке боя различать своих, все носили вылинявшие красные перевязи или – в крайнем случае – вышитый на колете красный крест Св. Андрея. На четвертой, открытой стороне этого каре, под знаменем полка, в окружении свиты и шести немецких алебардщиков личной охраны высился на коне дон Педро де ла Амба: непокрытая голова горделиво вскинута; кружевной воротник венчает украшенную чеканкой кирасу из доброй миланской стали; у пояса – шпага с золотыми насечками; левая рука, затянутая в замшевую перчатку, уперта в бедро, правая держит поводья.
– На сухом дереве!
Дернув за узду так, что лошадь заплясала, полковник обвел взглядом все свои двенадцать рот – не осмелится ли кто оспорить приказ, обрекающий приговоренных не просто на казнь, а на смерть позорную, в петле, да еще и на голом, не украшенном зеленой листвой суку. Вместе с прочими пажами я держался чуть в стороне, не смешиваясь, однако, с местными жительницами, которые в испуге, пересиленном любопытством, взирали на это зрелище.
Взвод Диего Алатристе стоял в нескольких шагах, и до меня долетал приглушенный ропот, поднявшийся в последней шеренге. Что же касается моего хозяина, то он сохранял полнейшее бесстрастие и не сводил глаз с Петлеплёта.
В ту пору дону Педро де ла Амбе было, верно, лет пятьдесят. Сей быстроглазый уроженец Вальядолида был тщедушен, чтобы не сказать «мозгляв», скор на решения, весьма опытен в военном искусстве, однако не пользовался уважением в войсках. Ходили слухи, будто он подвержен запорам, проистекающим от неправильного обращения гуморов в организме, и, как следствие, постоянно пребывает в крайне раздраженном расположении духа. Наш главнокомандующий дон Спинола к нему благоволил, в Мадриде имелись у него могущественные покровители; отличился он еще в пфальцскую кампанию, а после того как в битве при Флёрюсе дону Энрике Монсону оторвало ногу, принял Картахенский полк. Прозвище Петлеплёт не с ветру было взято: дон Педро, насаждая дисциплину уже не палочную, но веревочную, мог бы повторить вслед за императором Тиберием: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Остается добавить, что в сражениях он выказывал бесстрашие, опасность презирал не меньше, чем собственных солдат – я уже упоминал, что личная охрана у него была из немцев-алебардщиков – и разбирался в военном деле. Кроме того, был он алчен до денег, скуп на милости, зато наказания отвешивал полной мерой.
Оба злоумышленника выслушали приговор спокойно – видно, ожидали подобного развития событий и сами знали, что за продырявленного сержанта не помилуют. Со скрученными за спиной руками, с непокрытыми головами стояли они перед строем в окружении конвойных. Один – как раз тот, кто первым полез на сержанта, – седой, пышноусый, изборожденный шрамами ветеран, держался на удивление достойно и смотрел все время куда-то вверх, словно происходящее никак его не касалось.
Второй – помоложе, худощавый, с подстриженной бородкой – постоянно вертел головой, то оборачиваясь к товарищам, то потупляя взгляд, то устремляя его куда-то под копыта коня дона Педро, но, впрочем, тоже не терял присутствия духа.
По знаку профоса ударили барабаны, а личный горнист полковника протрубил сигнал.
– Хотите что-нибудь сказать напоследок?
Вдоль строя прошумело некое дуновение, и густой частокол копий склонился вперед, будто колосья под ветром: солдаты навострили уши. Все мы увидели, как профос, подойдя к осужденным, выслушал старшего, вопросительно взглянул на дона Педро, и тот в знак согласия кивнул – но это была не снисходительность, а соблюдение церемониала. Тогда в тишине седоголовый сказал, что он – старый солдат и что, как и товарищ его, до сего дня служил честно, исполнял свой долг и смерти не боится, однако загнуться от пеньковой хворобы считает для себя незаслуженным оскорблением и порухой чести своей, а потому, раз уж пришла пора отчаливать, просит не вешать их с товарищем, как сельских конокрадов, на сухом суку, на зеленой ветви или еще где, но расщедриться на две аркебузные пули, причитающиеся им по праву испанцев и воинов. А в видах сбережения огневого припаса, коего всегда нехватка, пусть господин полковник воспользуется их собственными зарядами – пулями, отлитыми из наилучшего, в Эскомбрерасе добытого свинца, и порохом, благо того и другого в их патронных сумках еще в избытке, а там, куда они с товарищем отправляются, едва ли в чем подобном возникнет нужда.
Зато не жалко зажиленного за полгода жалованья, ибо на том свете, каким бы манером ни переселяешься туда, здешние деньги не ходят.
Произнеся все это, ветеран пожал плечами, как бы показывая, что покоряется своей участи, и бестрепетно сплюнул себе под ноги. Второй сделал то же самое, и более никто не произнес ни слова. Последовало довольно продолжительное молчание, прерванное доном Педро, которого, как видно, не убедили приведенные доводы. «Вешать!» – непреклонно раздалось с высоты седла. Но тут в шеренгах все громче зазвучал возмущенный ропот, многие солдаты, сломав строй, выбежали из рядов, и усилия капитанов и сержантов навести порядок желаемого действия не произвели. Я же, взиравший на эту сумятицу с разинутым ртом, обернулся к своему хозяину, чтобы понять – он-то за кого? И обнаружил, что Алатристе медленно и едва заметно потряхивает головой, словно пытаясь избавиться от наваждения – все это уже было, и не однажды.
Да, мятежи во Фландрии порождались скверной дисциплиной, а та, в свою очередь, – безобразным управлением, и зловредная эта болячка, вспухая то в отложившихся провинциях, то в тех, которые еще сохраняли верность короне, сильно подрывала престиж испанской монархии, терпевшей от них ущерб больший, нежели от военных поражений. В ту пору, когда я начал службу, мятежи стали единственным способом получить жалованье, и положение еще усугублялось тем, что испанский солдат дезертировать не мог, ибо вокруг него было враждебное население; враждебным же оно становилось потому, что обращался он с ним как с врагом. И вот, чтобы вернуть себе то, что задолжала им казна, восставшие брали штурмом какой-нибудь город и, заняв оборону, пускали его на поток и разорение.
Справедливости ради отмечу все же, что не мы одни, остервенясь от собственных страданий, предавали города огню и мечу: тем же самым занимались валлонские, итальянские, немецкие полки, которые еще и бессовестно продавали противнику занятые ими форты, чего никогда не позволяли себе испанцы, удерживаемые от сей гнусности стыдом и заботой о пресловутом добром имени. Потому что одно дело – резня и грабеж, возмещающий недоплаченное жалованье, и совсем другое – я, черт возьми, не берусь судить, лучше оно или хуже, а просто говорю: «другое» – низкое вероломство. Доходило до смешного:, когда под Камбрэ стало совсем туго, граф де Фуэнтес умильно и уважительно обратился к мятежникам с покорнейшей просьбой помочь, и взбунтовавшееся войско, вмиг став послушным начальству и грозным для врага, в безупречном порядке выступило и городом овладело. А дело при Ньюпорте, когда опять же мятежники вынесли на себе основную тяжесть сражения, в которое ввязались потому лишь, что не смогли отказать даме – инфанте Кларе-Евгении – позвавшей их на выручку? А как тут не вспомнить дело при Алсте, что на востоке Фландрии, когда бунтовщики отказались принять условия, предложенные им лично графом Мансфельдом[53], и пропустить без боя бесчисленные голландские полки, в сем случае наголову разгромившие бы войска нашего государя? Да, это были те самые испанцы, которые, добившись наконец жалованья да обнаружив, что им сильно недодано, заявили, что не возьмут ни единого мараведи и воевать не пойдут, пропади она пропадом, Фландрия эта вместе со всей Европой, – и тут вдруг узнали: в Антверпене шесть тысяч голландских солдат и четырнадцать тысяч вооруженных горожан вот-вот выпустят кишки ста тридцати подданным нашего короля, засевшим в замке, – тотчас подхватились, к трем утра добрались до берега Шельды, форсировали ее вплавь и на чем пришлось, украсили свои шляпы и шлемы зелеными ветвями, знаменовавшими грядущую победу, и поклялись, что либо отобедают в царствии небесном, либо ужинать будут в Антверпене. Ну, преклонили колени на контрэскарпе, прапорщик Хуан де Наваррете взмахнул знаменем, и, гаркнув единой глоткой «Испания и Сантьяго!», они ворвались на голландские укрепления, перекололи и перестреляли всех, кто попался им под руку, и клятву свою сдержали – вышеупомянутый прапорщик и с ним еще четырнадцать человек попали на вечерю к Господу нашему, ну, или где там угощают павших смертью храбрых, прочие же и в самом деле отужинали в захваченном Антверпене. Истинно, истинно вам говорю, господа: ничего нет в нашей бедной Испании – ни правосудия, ни разумного правления, ни честных государственных мужей, ни венценосцев, достойных своих венцов, ничего нет и не было, кроме верноподданных, всегда готовых позабыть, что живут в нищете, забросе и несправедливости, стиснуть зубы, обнажить шпагу и – ну, ничего не попишешь! – драться за честь страны. Ведь в конце концов, разве честь эта зависит не от чести каждого ее подданного?
Но вернемся в Аудкерк. То был первый мятеж из многих, которые пришлось мне наблюдать за двадцать лет службы, приведшей меня в конце концов под Рокруа, когда солнце Испании закатилось во Фландрии. А в ту эпоху, о которой я веду рассказ, возмущение давно уже – со времен великого императора Карла – стало обычным делом и превратилось во всем известный и неукоснительно исполняемый ритуал. Вот и сейчас – раздались, как полагается, крики «Жалованье! Жалованье!» и «Мятеж! Мятеж!», и первыми в заварушку встряли солдаты из роты капитана Торральбы, где служили приговоренные. Отметить следует, что поскольку ни предварительного сговора, ни вожаков не было и в помине и все происходило, так сказать, стихийно, то одни склонны были все же соблюдать дисциплину, другие же призывали к открытому неповиновению. Полковника нашего подвел мерзкий нрав. Будь он человеком более гибким, помазал бы, как говорится, сладеньким и, глядишь, утихомирил бы солдат, произнеся те слова, каких от него ждали, хотя, ей-богу, не знаю, можно ли словами заполнить пустой карман, а все же, наверно, попытаться стоит. Ну, сказал бы там: «Земляки! Господа солдаты! Дети мои!» – или что-то в этом роде. Находил же такие слова герцог Альба, или дон Луис де Рекесенс[54], или Алессандро Фарнезе, а ведь сии военачальники твердокаменностью не уступали дону Педро и солдат своих презирали ничуть не меньше. А Петлеплёт лишний раз доказал, что заслуживает своей клички и плевать ему на все. Профосу и немцам-телохранителям он велел вздернуть приговоренных на ближайшем дереве – все равно, сухом или зеленом: тут уж не до того, – а самой надежной роте аркебузиров, командиром коей по традиции был, – запалить фитили, забить пулю в ствол и выдвинуться на середину. И эти сто с лишним человек, которые тоже давно не получали жалованья, зато пользовались разного рода поблажками и льготами, повиновались беспрекословно, отчего обстановка накалилась еще больше.
На самом деле бунтовать хотела едва ли четвертая часть картахенцев, однако в каждом взводе нашлись горячие головы, зазвучали призывы к неповиновению, и многие впали в нерешительность. В нашем, к примеру, взводе закоперщиком был, ясное дело, Курро Гарроте, личным примером увлекший за собой товарищей, и потому, несмотря на все усилия капитана Брагадо, строй был сломан. Мы, пажи, – как можно было пропустить такое? – тотчас замешались в толпу солдат, дравших глотку на всех наречиях Пиренейского полуострова. Кое-где уже мелькали обнаженные клинки. Как всегда бывает, дала себя знать давняя рознь, и валенсианцы тотчас схлестнулись с андалузцами, леонцы – с кастильцами, тогда как галисийцы, каталонцы, баски и арагонцы остались сами за себя и против всех, а немногочисленные португальцы сбились в кучку в сторонке. Так что не нашлось хотя бы двух королевств или провинций, которые оказались бы заодно, и, окидывая мысленным взором нашу историю, я могу объяснить успех Реконкисты[55] тем лишь, что и мавры, наверно, тоже были испанцами. А капитан Брагадо с пистолетом в одной руке, с кинжалом в другой рьяно да тщетно пытался навести порядок при посредстве прапорщика Кото и подпрапорщика Минайи, державшего в руках ротное знамя. Тут от одной роты к другой начал перепархивать старинный клич:
«Офицеров – вон!», весьма красноречиво подчеркивавший особенность всех подобных возмущений: дело в том, что солдаты, чрезвычайно тщеславившиеся этим своим званием, неотъемлемым от дворянского достоинства, неизменно давали понять, чтоде бунтуют против своих начальников, а власть нашего католического величества признают безоговорочно. И вот, дабы власть эта не потерпела ущерба, а мятежники в случае успеха не запятнали свою честь, по негласному соглашению между рядовыми и офицерами сии последние вместе со знаменами и с теми, кто не желал примкнуть к основной массе, выходили из рядов. Таким образом, офицеры и знамена сохраняли свое достоинство, взбунтовавшаяся часть – пресловутое доброе имя, а мятежники, добившись исполнения своих требований, могли дисциплинированно вернуться под эгиду власти, которую они, говоря строго, и не собирались ниспровергать. Никому не хотелось повторения истории с Лейванским полком, когда после мятежа вышел приказ расформировать его, и прапорщики со слезами на глазах ломали древки знамен, а полотнища сжигали, чтоб не отдавать на поругание, и старые, покрытые шрамами солдаты в отчаянии рвали мундиры на груди, и капитаны швыряли наземь свои эспонтоны[56] – и все это множество заматерелых грозных вояк ревмя ревело от стыда и бесчестья.
И вот с большой неохотой покинули строй капитан Брагадо, знаменщики и сержанты, а за ними потянулся кое-кто из капралов и рядовых. Мой приятель Хайме Корреас, пребывая в полнейшем упоении от всего происходящего, носился повсюду и даже вопил это самое насчет того, что офицеров – вон. Увлеченный его примером, я стал вторить ему, однако осекся, увидав, что офицеры и в самом деле выходят из строя. Ну а Диего Алатристе, опираясь на ствол аркебузы, с очень значительным и хмурым видом стоял совсем неподалеку от меня. Никто из взвода не трогался с места и не произносил ни слова – надрывался лишь Гарроте, успевший стакнуться с единомышленниками. Наконец, после того, как офицеры вышли из строя, мой хозяин обернулся к Мендьете, Ривасу и Льопу: те пожали плечами и без дальнейших раздумий примкнули к мятежникам. Копонс же, никого не уговаривая, последовал за офицерами.
Алатристе вздохнул, вскинул аркебузу на плечо и собрался уж было сделать то же самое, но тут, заметив, что я в восторге от того, что действую заодно с настоящими солдатами и явно не собираюсь никуда уходить, довольно крепко дал мне по шее и повел за собой.
– Куда конь с копытом, туда и рак с клешней, – сказал он.
И с этими словами неторопливо зашагал прочь, а мятежники расступались, давая ему дорогу, и никто не осмелился задержать его или упрекнуть. Так вместе со мной оказался он среди покинувших строй – было их человек десять-двенадцать во главе с капитаном Брагадо – но, подобно тихому и безмолвному Себастьяну Копонсу, которому словно бы вообще ни до чего не было дела, не примкнул к ним, умудрился и здесь держаться наособицу, остановясь на полдороге между ними и остальной ротой. Он снова упер приклад аркебузы в землю, взялся обеими руками за ствол и устремил на происходящее бесстрастный взгляд голубовато-льдистых глаз из-под шляпы.
Петлеплёт же на попятный не пошел. Его немцы все ж повесили приговоренных, невзирая на то, что пламя мятежа разгоралось не на шутку. Из двенадцати рот Картахенского полка примерно треть отказалась повиноваться дону Педро, и мятежники с криками и угрозами стали сбиваться в кучу. Грянул неизвестно кем произведенный и никого не задевший выстрел. Раздались командные выкрики, рассыпалась барабанная дробь, запели горны, Петлеплёт, отдавая распоряжения, проскакал по эспланаде из конца в конец, и я в очередной раз мог убедиться, что подлость смелости не помеха, ибо он представлял собой превосходную мишень: любой из мятежников выстрелом из аркебузы преспокойно мог его ссадить. Ну, стало быть, с нескрываемой неохотой, через пень, как говорится, колоду «верные» выдвинулись и выстроились напротив мятежников. Снова затрещали барабаны. Я терся возле Алатристе и Копонса, а те держались чуть поодаль от остальных: услышав приказ и убедившись, что полк, взяв ружье под курок и запалив фитили, двинулся на мятежников, оба ветерана разом положили наземь свои аркебузы, сняли перевязи – поскольку висели на них ровно двенадцать пороховниц, их у нас называли «апостолы» – и наступать вслед за своей ротой пошли безоружными.
Сроду не видал ничего подобного. Когда «верные» развернулись в боевой порядок, мятежники – всего их набралось около четырех рот – тоже стали торопливо строиться: копейщики – посередке, аркебузиры – на флангах, причем за отсутствием офицеров распоряжались там капралы, а то и рядовые.
Опыт и выучка внятно говорили мятежникам, что разброд обернется для них гибелью, а спасти – вот ведь парадоксы военного искусства! – может только дисциплина. И потому они безо всякого замешательства и очень споро выполняли все эволюции, и каждый занимал положенное ему в бою место, так что вскоре и мы почуяли запах тлеющих аркебузных фитилей, увидели, как утвердились на земле сошки готовых к стрельбе мушкетов.
Полковник жаждал крови и покорности. Приговоренные уже висели на суку, и, сделав свое дело, немцы из личной охраны – белесые, здоровенные и бесчувственные, как говяжьи оковалки, – воздев алебарды, окружили дона Педро. А тот отдал новый приказ, и опять зазвучали трубы, ударили барабаны и запели флейты. Петлеплёт, все так же упирая правую руку в бедро, наблюдал, как верные ему роты двинулись на мятежников.
– Пооолк! Смиирно!
И все замерло. Мятежники и «верные» стояли шагах примерно в тридцати друг от друга, выставив пики и взяв аркебузы «на руку». Знамена, спасенные от бесчестья, собрали в центре каре, и среди солдат, их охранявших, находился и ваш покорный слуга. Я держался поблизости от Алатристе, а тот стоял между Себастьяном Копонсом, подпрапорщиком Минайей и всеми прочими, не решившимися примкнуть к бунтовщикам, и ничто не указывало, что он намерен сойтись в смертельной схватке со своими однополчанами. Аркебузы нет, шпага в ножнах, руки заложены за ременный пояс – капитан казался сторонним наблюдателем.
– Пооолк! Заряжай!
По рядам прошел металлический стук, поплыл сероватый дымок – аркебузиры насыпали на полку порох и запалили фитили. Из-под шляп и шлемов глядели на меня нахмуренные, небритые, обветренные, покрытые рубцами и шрамами лица тех, кто готовился противостоять нам. На мгновение они вскинули аркебузы, а латники в первой шеренге выставили копья, но тотчас же послышались крики негодования и протеста – «Благоразумие, сеньоры, благоразумие!» – и мятежники вновь опустили оружие, давая понять, что не направят его против своих.
Все взоры обратились к полковнику, и голос его разнесся над эспланадой:
– Сеньор Идьякес! Приведите этих людей к повиновению королю!
Все это было чистейшей воды проформой, а сам Идьякес в былые времена принимал участие не в одном мятеже, которые случались и прежде, а особенно часто – в 98-м году минувшего столетия, когда половину Фландрии потеряли мы из-за того, что солдатам не платили жалованья, и солдаты бунтовали. И потому, кратко и сухо передав мятежникам требования полковника, он не стал дожидаться ответа, а вернулся к нам. А мятежники придали этому не больше значения, чем Идьякес, хором закричав: «Жалованье! Жалованье!» После чего надменно высившийся на коне дон Педро, у которого сердце было потверже его чеканной кирасы, взмахнул рукой:
– На изготовку!
Аркебузиры – щека к прикладу, палец на спусковом крючке – дунули на тлеющие фитили. Тяжелые мушкеты на сошках уставились дулами в сторону мятежников, а те беспокойно заметались, не решаясь, однако, на ответные враждебные действия.
– Целься!
Все слышали эту команду; и, хотя кое-кто из мятежников попятился, должен отметить – большинство не дрогнуло под наведенными дулами. Я смотрел на Алатристе – хозяин мой, как, впрочем, и те, кто целился в мятежников, и те, кто ждал залпа, не сводил глаз с Идьякеса, Идьякес же – с господина полковника. А вот он не смотрел ни на кого, и вид у него был такой, словно он занимается неким смертельно опротивевшим делом. Вскинутая рука Петлеплёта уже готова была опуститься, как все мы увидели – ну, или нам это померещилось: Идьякес едва заметно мотнул головой, чуть-чуть, говорю, качнул ею из стороны в стороны, так что это и движением-то не назовешь, и потому, когда взялись допрашивать очевидцев, никто не поручился бы, что все это было на самом деле. И по этому знаку в тот самый миг, когда дон Педро крикнул: «Пли!», восемь рот разом побросали свои копья, аркебузы и мушкеты – у кого что было – на землю.
IV. Ветераны
Чтобы прекратить мятеж, потребовались трехдневные переговоры, выплата жалованья за три месяца и приезд главнокомандующего дона Амбросьо Спинолы. И все эти три дня картахенцы демонстрировали поистине железную дисциплину: все знамена и все офицеры были собраны в самом Аудкерке, а взбунтовавшийся полк занял оборону за городскими воротами. Говорю же – никогда в испанской армии не бывает порядка образцовей, чем во время бунта. Усилены были передовые дозоры, с тем чтобы голландцы, воспользовавшись смутой, не нагрянули врасплох. Солдаты несли службу исправно, подчинялись приказам новоизбранных командиров беспрекословно и не стали возражать, даже когда тяга к дисциплине взлетела до таких высот, как скорый и правый суд над пятерыми картахенцами, без спросу решившими малость пошерстить окрестные дома. Местные принесли жалобу, и высшая инстанция – однополчане этих же злоумышленников – поставила всех пятерых к стенке, а вернее, к каменной ограде сельского кладбища, где и обрели они вечный покой. На самом-то деле осужденных сначала было четверо: пятым оказался солдат, которому с товарищем вдвоем за не столь тяжкие преступления должны были отрезать уши, но он в самых отборных выражениях позволил себе опротестовать сравнительно мягкий приговор, утверждая, что природному идальго и старому христианину лучше смерть, чем такой позор. И суд, в отличие от нашего полковника оказавшийся не чужд понятиям о чести, оценил такую щепетильность, внял доводам обвиняемого, уши оставил, а жизнь забрал: и ох, не пожалел ли о неравноценном этом обмене наш взыскательный дворянин, когда его – при обоих ушах – повели расстреливать?
Тогда-то я и увидал впервые дона Амбросьо Спинолу и Гримальди, маркиза Бальбасского, испанского гранда и нашего главнокомандующего, и был он точно таков – высокие замшевые сапоги, вороненые с золотой насечкой доспехи, брабантские кружева, обрамляющие латный нашейник, красная лента на груди, – каким запечатлела его чудотворная кисть Диего Веласкеса на бессмертном полотне, где полководец, держа в левой руке жезл, правой ободряюще треплет по плечу склоняющегося пред ним противника; о картине этой, впрочем, будет в свое время рассказано – мною, разумеется, ибо не кто иной как ваш, господа, покорный слуга несколько лет спустя предоставил живописцу все подробности, необходимые, чтобы сделать это событие достоянием Истории, ничем не погрешив против Истины. Но это все будет потом, а покуда шел дону Амбросьо пятьдесят пятый или пятьдесят шестой год, был он сухощав и тонок в кости, лицо имел худое и бледное, голова и борода уже сильно серебрились. В душе сего уроженца Генуи, покинувшего отчий край ради службы государям Испании по душевной склонности, твердость причудливо сочеталась с изворотливостью. Воин терпеливый и удачливый, он не обладал, как теперь принято говорить, харизмой железного герцога Альбы, не был столь ярок и причудлив, как иные из его предшественников, а недоброжелатели при дворе, число коих увеличивалось с каждой новой его победой – в нашей отчизне по-другому быть не может, – считали Спинолу чужаком-честолюбцем. Как бы то ни было, именно под его водительством одержала испанская армия наиглавнейшие свои победы в Пфальце и во Фландрии, ибо дон Амбросьо, ради достижения этой цели не жалея собственного немалого состояния, закладывал родовые имения, чтобы выплачивать солдатам жалованье. Замечу в скобках, что родной его брат Федерико погиб в морском сражении с голландскими мятежниками. В те годы полководческая слава дона Амбросьо гремела по всему миру, так что даже главнокомандующий неприятельской армией Мориц Оранский, будучи спрошен, кто сейчас, по его мнению, лучший военачальник, принужден был ответить: «Спинола – второй». Помимо всего прочего, наш дон Амбросьо обладал непоказной отвагой, еще до Двенадцатилетнего перемирия снискавшей ему уважение в войсках. Засвидетельствовать ее мог бы и Диего Алатристе, своими глазами видевший генерала в деле – и под Экло, и при осаде Остенде, когда дон Амбросьо так рьяно лез в самую гущу рукопашной схватки, что солдаты отказались наступать, пока он не уйдет из-под огня.
И вот в тот день, личным вмешательством положив конец мятежу, вышел Спинола из шатра, где проводил переговоры. За ним следовала его свита и понуро шагал наш полковник, кусая усы с досады, что ему не дали повесить, как он предлагал, каждого десятого картахенца. Но дон Амбросьо благодаря своему хитроумию и благожелательности уладил дело – и объявил его конченным. Полк получил назад знамена и офицеров, а перед столиками с казначеями начали выстраиваться длинные очереди солдат, алчущих жалованья, которое выплачивалось им из личных средств генерала, тогда как вокруг лагеря уже роились маркитанты, проститутки, торговцы всякой всячиной и прочие паразиты, твердо намеренные урвать и свою долю.
Диего Алатристе был в числе тех, кто нес караул вокруг шатра. И потому, когда трубач подал сигнал и дон Амбросьо, выйдя наружу, на миг остановился, чтобы глаза привыкли к свету, мой хозяин оказался в непосредственной близости от генерала. По обыкновению старых солдат, он, как и многие товарищи его, вычистил свою штопаную одежонку, оружие и даже шляпу – отчего, впрочем, не сделалась она менее дырявой, – показав тем самым, что мятеж мятежом, а испанская пехота должна себя соблюдать при любых обстоятельствах, и, судя по всему, Амбросьо Спинола оценил это, когда, блистая орденом Золотого Руна на груди, вышел из шатра в сопровождении отборных аркебузиров-телохранителей, свиты, штабных, дона Педро, Идьякеса, капитанов и двинулся медленным шагом сквозь густую толпу солдат, которые давали ему дорогу и кричали «ура», одушевленные его присутствием, а главное, – тем, что им наконец заплатят. Ну и чтобы показать, как по-разному относятся они к нему и к дону Педро, который шел следом за главнокомандующим, предаваясь горестным раздумьям: как же это так он никого не вздернул? И, вероятно, переживая вдобавок жестокий разнос, учиненный ему Спинолой с глазу на глаз, но ставший известным всем: главнокомандующий пообещал снять его с должности, если не будет беречь своих солдат как зеницу ока. Так, по крайней мере, уверяла молва, но лично я сомневаюсь насчет истинности этих слов, и, раз уж зашла у нас речь об органах зрения, так скажу: начальник начальнику глаз не выклюет, и каждому известно, что все они, каковы бы ни были – добродушны или жестокосердны, хитроумны или тупоголовы – одним миром мазаны, ломаного гроша не стоит для них солдатская жизнь, и нужны мы им исключительно для того, чтобы нашей кровью добывать себе новые лавры. Однако в тот день картахенцы, радуясь благополучному исходу, готовы были взять на веру даже самый несуразный слух.
И шел дон Амбросьо, отечески улыбаясь направо и налево, приговаривая «молодцы, ребята» и «вольно, вольно, господа», взмахом жезла отвечая на приветствия, а иногда, увидев знакомого офицера или солдата из старослужащих, даже вступал с ними в приятную беседу. Короче говоря, делал то, что положено делать в таких случаях. И, видит бог, получалось у него это превосходно.
Заметил он и капитана Алатристе с товарищами, которые держались чуть поодаль, наблюдая за этим шествием. Не заметить их было трудно, а не восхититься – просто невозможно: я же говорил, что весь взвод моего хозяина состоял из заматерелых вояк – все вот с такими усищами, лица в рубцах да шрамах выдублены ветром, зноем, стужей, все при полной амуниции: на груди перекрещиваются патронташ, увешанный «двенадцатью апостолами», и перевязь-портупея со шпагой и кинжалом, в руке – мушкет или аркебуза, и такой у них был боевой вид, что всякие сомнения пропадали – когда под раскаты барабанной дроби они примутся за свое смертоубийственное дело, ни голландец, ни турок, ни сам черт с рогами не совладает с ними. Да, так о чем я? Ну, и вот Спинола, говорю, увидел их, пришел в восхищение и, улыбнувшись им, собрался уж было проследовать дальше, но тут узнал моего хозяина и, приостановясь, молвил ему со своим мягким итальянским выговором:
– Ба! Капитан Алатристе, это вы? Я-то думал, вы остались под Флёрюсом.
Алатристе обнажил голову, слегка растрепав при этом волосы, и вытянулся перед генералом – в левой руке шляпа, правая покоится на раструбе аркебузного дула.
– К тому шло, ваше превосходительство. Но, должно быть, еще не пробил мой час.
Дон Амбросьо внимательно глядел в его обветренное, покрытое шрамами лицо. Первая их беседа состоялась лет двадцать назад, когда испанцы пытались выручить своих, застрявших под Экло, и генерал, застигнутый кавалерийской атакой противника, оказался в сомкнутых шеренгах отступающего отряда. Плечом к плечу с Алатристе и другими солдатами прославленный генуэзец, невзирая на свой чин, принужден был целый день драться врукопашную, отбиваясь от наседающих голландцев. Ни он, ни мой хозяин не забыли этот день.
– Вижу. Дон Гонсало де Кордоба говорил мне, что дело под Флёрюсом было жаркое и что вы все держались молодцами.
– Чистую правду сказал вам дон Гонсало. Почти никто из моих товарищей оттуда не ушел.
Словно припомнив что-то, Спинола погладил эспаньолку:
– Позвольте, разве я не произвел вас в сержанты?
Алатристе медленно кивнул:
– Еще в шестьсот восемнадцатом году, ваше превосходительство.
– Так почему же вы опять рядовой?
– Год спустя меня разжаловали. Поединок.
– Да? И что же?
– С прапорщиком.
– Вы его убили?
– Не без того.
Дон Амбросьо, переглянувшись с офицерами своей свиты, немного призадумался над этим ответом, потом нахмурился и уже сделал шаг вперед, собираясь идти дальше.
– Странно, черт возьми, что вас не повесили.
– Тут как раз начался мятеж в Маастрихте, – невозмутимо произнес Алатристе.
Генерал остановился.
– А-а, помню, помню! – Складка меж бровей разгладилась; он опять улыбался. – Немцы взбунтовались… Вы тогда спасли полковника… Вам, кажется, назначили за это восемь эскудо пенсиона?
Алатристе качнул головой:
– Восемь эскудо назначили мне за дело при Белой Горе, ваше превосходительство. Мы тогда с капитаном Брагадо, здесь присутствующим, и с сеньором де Букуа зашли с тыла и взяли малый форт… Что же до пенсиона, то он похудел вдвое.
Упоминание о деньгах будто смыло улыбку с лица Спинолы. Он рассеянно оглянулся по сторонам:
– Ну ладно… Так или иначе, рад был видеть вас целым и невредимым… Просьбы, жалобы есть?
Алатристе улыбнулся, как он это умел – не двинув ни единым мускулом: только в сощуренных, окруженных мелкими морщинками глазах сверкнула какая-то искорка.
– Вроде бы нет, ваше превосходительство. Просить нечего, жаловаться – грех. Мне сегодня заплатили за три месяца.
– Приятно слышать. И приятно было встретиться со старым боевым товарищем… – Он уже собирался дружески потрепать капитана по плечу, но, наткнувшись на его прямой и насмешливый взгляд, отдернул руку. – Я говорю про вас и про себя.
– Разумеется, ваше превосходительство.
– Ведь мы с… кхм!.. вами – солдаты, не так ли?
– Так, ваше превосходительство.
Дон Амбросьо снова кашлянул, в последний раз улыбнулся и, глядя на другую кучку солдат, произнес, явно думая уже о другом:
– Желаю удачи, капитан Алатристе.
– Желаю удачи, ваше превосходительство.
И маркиз Бальбасский, капитан-генерал дон Амбросьо Спинола, главнокомандующий испанскими силами во Фландрии, пошел своей дорогой. И на дороге той вдоволь будет славы прижизненной и посмертной, которую дарует ему гений нашего Веласкеса, о чем наш генерал, впрочем, и не подозревал но и – так уж нас, испанцев, сотворил Господь, что неизменно мы вместо орла выбираем решку – вдосталь клеветы, несправедливости со стороны нашей отчизны, не оценившей беззаветную преданность приемного своего сына. Ибо покуда Спинола добывал победы для своего короля, неблагодарного, как все короли во все века, придворные завистники вдали от полей сражений пытались – и весьма успешно – уязвить дона Амбросьо ядовитым стрекалом зависти, опорочить его в глазах этого государя, томного и вялого, мягкотелого и слабодушного, неизменно державшегося подальше от тех мест, где слава добывается кровью, латам воина предпочитавшего бальный наряд. Так что по прошествии всего лишь пяти лет со дня взятия Бреды человек, свершивший сие преславное деяние, человек, наделенный и умом, и сердцем, и дарованием, искуснейший военачальник, любивший Испанию до самопожертвования, тот, о ком дон Франсиско де Кеведо напишет впоследствии:
В мятежном Пфальце ты стоял над бездной, Но твердо положил к подножью трона Оплот еретиков рукой железной. Тобою Бреду обрела корона. В Италии обрел ты рай небесный. О, боль невосполнимого урона[57]!– умрет, получив за свои заслуги и бранные труды не должное воздаяние, а зависть, бесчестие, забвение – все то, чем в низости своей и убожестве окаянная наша отчизна, неблагодарная Испания, всегда бывшая детям своим не матерью, но злой мачехой, привыкла испокон века платить людям, которые любят ее и верно ей служат. И по злобной иронии судьбы для вящего ее сарказма суждено будет бедному дону Амбросьо обрести утешение у врага – у Джулио Мазарини[58], итальянца, как и он, по рождению, ставшего кардиналом и первым министром Франции, единственного, кто окажется у его одра и кому наш генерал в старческом бреду признается: «Умираю обесчещенным и опороченным… Всего лишили меня – и доброго имени, и состояния… Я всегда был порядочным человеком, и вот как оценили сорокалетнюю мою беспорочную службу».
Когда утихли страсти, выпало и на мою долю происшествие из ряда вон. Случилось оно в тот самый день, как нам заплатили жалованье и отпустили в увольнение, после чего полку предстояло вернуться на берега Остерского канала. Весь Аудкерк кутил напропалую с истинно испанским размахом, и под воздействием золотого дождя, пролившегося на город, угрюмые фламандцы, которых мы резали еще несколько месяцев назад, сделались милы и приветливы. Едва лишь в карманах у солдат зазвенело, появилась, как по волшебству, разнообразная снедь. которой раньше днем с огнем было не сыскать, рекой потекли вино и пиво, не слишком ценимое испанцами, вслед за великим Лопе обзывавшими его «ослиной мочой», и даже тусклое солнце решило озарить и согреть веселящееся воинство. Было, было чем поживиться хозяевам тех домов, над входом в которые красовались изображения лебедя или тыквы, – у нас на родине бордели и таверны обозначаются лавровой или же сосновой ветвью. Заиграли приветливые улыбки на устах белокурых белокожих фламандок, и немало горожан мужеска пола в тот день более или менее успешно отводили взгляд, покуда мы – душу, тешась с их женами, сестрами и дочерьми, ибо самые твердокаменные нравственные устои едва ли устоят пред сладостным звоном золота, известного честегубителя и волесломителя.
Раз уж зашла речь о воле, скажу, что жительницы Фландрии, вольностью речей и поведения выгодно отличаясь от чопорно-лицемерных испанок, позволяли и за ручку себя прилюдно взять, и в щечку поцеловать, а уж оттуда недалекий путь лежал нам и к более тесной дружбе с теми из них, кто исповедовал католическую веру и увязывался за солдатами, возвращавшимися в Италию или Испанию, хоть и не досягали сии красавицы до Флоры, героини пьесы «Осада Бреды», каковую Флору, без сомнения, преувеличив малость, наделил Педро Кальдерон де ла Барка чисто кастильским чувством чести и любовью к испанцам: я, сказать по совести, таких добродетелей ни разу ни в одной фламандке не замечал, да побожусь, что и сам автор – тоже.
Ну ладно. Это я все к тому, что обычные спутники войска, отправляющегося в поход, – солдатские жены, маркитантки, гулящие девки, торговцы и прочая публика того же сорта – проворно воздвигли у городских ворот всяческие палатки и лотки, куда охотно наведывались наши вояки в рассуждении украсить и расцветить свои отрепья разнообразными роскошествами вроде новых перьев на шляпу или еще чего в этом роде, и тут подтверждалось исконное свойство денег – легко дались, легко и уйдут, – причем в ходе торговли этой, бесперебойной и бойкой, безжалостно попирались все десять заповедей, да и прочие добродетели, ведомые богословам, целыми не оставались. Одним словом, творилось то, что голландцы именуют «kermes», а правильней было бы назвать вакханалией. По мнению старослужащих – «прямо как в Италии».
Я же со всем пылом буйной младости принимал в этом живейшее участие. Вместе с товарищем моим Хайме Корреасом слонялся взад-вперед, стараясь ничего не пропустить, и, хоть не слишком любил вино, пил наравне со всеми, ибо пьянство и игра – суть первейшие солдатские доблести, тем паче что угощали меня беспрерывно. Что же до игры, то играть мне было не на что – пажам жалованье не полагалось – зато я смотрел во все глаза, как, присев вокруг ротных барабанов, режутся в карты и в кости наши солдаты. И будь в молитвеннике вместо букв тузы да тройки с шестерками, любой из наших шлемоблещущих вояк, смутно помнящих Господни заповеди и еле-еле разбирающих по печатному, прочел бы его с завидной беглостью.
Стучали о барабанную кожу кости, хлестко ложились бубны да трефы, солдаты проворно тасовали, снимали да сдавали, будто дело происходило в каком-нибудь севильском или кордовском игорном доме, громом артиллерийской канонады разносилась над лагерем божба и брань, недобрым словом поминали Пречистую Деву и всех святых, их виня в своем невезении, много неприятного сулили не ко времени запропастившемуся тузу и некстати под вернувшейся даме, ее саму и мать ее не скажу, что и куда, и сильней всего, как водится, ярились те, кто к бою – кротче ярочки, кто в сражении не выказывает ни куража, ни ража, кто сверкает не клинком, а пятками, и кому пиковый валет куда привычней пики. Иные, охваченные поистине гибельным азартом, умудрялись в один день спустить полугодовое жалованье, ради которого пришлось поднять мятеж.
Насчет гибельности это я – не для красного словца, потому что время от времени распускался цветочек крапленой карты, выскальзывал из рукава пятый туз или обнаруживалась ртуть в кости, и уж тогда раздавалась матерщина, и следовала в ответ на затрещину оплеуха, а вслед за нею били шпагой плашмя или полосовали кинжалом и ставили стальную пиявку в целую пядь длиной, и кровь отворяли без помощи цирюльников или эскулапов.
Божба, бахвальство, брань, бравада, брыжи, брага… Сколь вольны их слова, сколь их дела черны! Да что ж это за сброд? Разбойничья ватага? – Нет, слуги короля, Испании сыны.Я, кажется, уже упоминал, что во Фландрии, помимо прочего, распрощался и с невинностью. И потому в конце дня оказался в сопровождении неразлучного Хайме Корреаса у некой колымаги с парусиновым верхом, милосердный владелец которой с помощью трех-четырех своих питомиц облегчал мужские тягости. Одной из этих девиц – нарядной, ладной, складной и пригожей, а притом еще довольно молодой – в свое время перешла изрядная часть тех трофеев, что добыли мы с Хайме Корреасом при взятии Аудкерка. И хоть в тот день, о котором я вам толкую, мы были не при деньгах, девица, назвавшаяся Кларой де Мендоса – замечу, кстати, что не встречалось мне в жизни ни единой потаскушки, которая, даже числя в своих предках исключительно свинопасов, не носила бы какой-нибудь из самых громких и звонких кастильских фамилий, – отнеслась к нам весьма приветливо, что можно объяснить только нашим нежным возрастом, ибо у гулящих девиц бытовало старинное поверье: обслужишь молоденького клиента бесплатно – будет к тебе ходить всю жизнь. Так вот, вышеупомянутая Клара, хоть и была занята приуготовлением к профессиональным своим обязанностям, умудрилась и к нам обратить ласковые слова и лучезарную улыбку, выявлявшую, впрочем, некоторый непорядок во рту и сильно портившую небесную ее красоту. Оказанный нам радушный прием не понравился одному из посетителей – здоровенному валенсианцу с усищами, гнедой масти коих предательски противоречил цвет бороды. Будучи нетерпелив нравом и очень крепок телом, он попросил нас убраться подальше, для вящей убедительности нанеся нам оскорбление действием – Хайме пнул ногой, а меня огрел по загривку, так что на обоих пришлось примерно поровну. Честь, однако, оказалась затронута сильней, нежели плоть, и вскипевшая младая кровь – а тут надо сказать, что полусолдатское мое бытие последнего времени весьма способствовало безрассудным поступкам, ибо когда кругом резня, как-то не до резонов: коли да режь да прыгай в брешь, – заставила меня разом потерять разум, так что правая рука сама собой схватилась за мой добрый Толедский кинжал, висевший на поясе сзади. Клинок я обнажить не успел, но недвусмысленное движение было вполне в духе уроженца Оньяте.
– Скажите спасибо, что мы с вами – в столь неравном положении, – промолвил я, уже малость охолонув.
Имелось в виду, что я – желторотый мочилеро, а он – настоящий солдат, вояка на все сто. Обидчик мой, однако, истолковал мои слова превратно и в оскорбительном для себя смысле, тем паче что вся сцена происходила на людях, а он, судя по тому, как несло от него и разило, в довершение бед успел, как говорится, сильно нагрузиться, а иначе говоря, доверху наполнить природный свой бурдюк несколькими куартильо[59] хорошего вина. И едва лишь я закрыл рот, как валенсианец извлек на свет божий свою шпагу и быком попер на меня. Люди сторонились, давали дорогу, даже не пытаясь его остановить, полагая, вероятно, что я уже достаточно большой мальчик, чтобы отвечать за свои слова делами, и, надеюсь, будет с них в свое время спрошено за то, что оставили меня в сем положении, но, впрочем, такова уж природа человека, в чаянии увлекательного зрелища жалости не знающего. Короче говоря, никто из зевак не счел себя достойным роли миротворца и избавителя. Ну а мне, раз уж не сумел держать язык за зубами, не держать же было в ножнах кинжал – следовало хоть немного уравнять шансы, чтобы, по крайней мере, не окончить свои дни цыпленком на вертеле. Жизнь рядом с капитаном Алатристе да и Фландрия кое-чему успели меня научить, благо я был юноша не трусливый и не хилый, да опять же и Клара смотрит… И я попятился от острия шпаги, которой валенсианец делал выпад за выпадом – из тех, что убить не убьют, но память оставят долгую и добрую. Бежать я не мог, боясь сраму, толком защищаться – тоже: разное у нас было оружие.
Положение мое было незавидным, но при этом я сохранял хладнокровие, зная, что если проморгаю удар – зажмурюсь навеки. Верзила продолжал наседать на меня, я благоразумно отступал, отчетливо сознавая, что противник превосходит меня ростом и силой, а от длинной Толедской шпаги кинжалом не отобьешься, будь ты хоть кто угодно, и отвага моя мне тут ничем не поможет. Были у меня веские основания полагать, что единственным трофеем сей достославной кампании станет моя бедная голова.
– Куда ж ты пятишься, малютка? Иди сюда.
Покуда он произносил эти слова, выпитое вино попросилось наружу, и валенсианца чуть мотнуло в сторону, а я, не заставляя просить себя дважды, и в самом деле пошел на зов. И, благодаря юношеской гибкости всех моих членов, с похвальным проворством поднырнул под нацеленный мне в лицо клинок, справа налево и снизу вверх нанеся удар, который, придись он самую малость повыше, лишил бы королевскую пехоту одного из ее солдат, Валенсию же – достойнейшего из ее сынов. А так мой кинжал угодил ему в пах, но сильного ущерба не причинил – только разрезал шнурок на штанах да исторг из уст валенсианца возмущенный вопль, которому зрители ответствовали смехом и рукоплесканьями. Что ж, за неимением лучшего приходилось утешаться тем, что публика – на моей стороне.
Так или иначе, контратака моя была ошибкой, ибо все увидели, что беззащитный малолетка-бедолажка может за себя постоять, и теперь уж вмешиваться в этот, с позволения сказать, поединок и выручать меня не собирался никто, не исключая товарища моего, Хайме Корреаса, который лишь подбадривал меня одобрительными и восхищенными возгласами. Скверно было и то, что в голове у валенсианца прояснело, и теперь на ногах он держался твердо, а еще тверже преисполнен был намерения заколоть меня во что бы то ни стало. И я, ужаснувшись близкой смерти без покаяния и не располагая никакими иными средствами отсрочить переезд на тот свет, решил во второй – и, без сомнения, последний раз – подобраться вплотную к валенсианскому брюху и тыкать в него своим кинжалом, покуда кто-нибудь из нас двоих не отправится, как говорится, в гости к богу, причем я, поскольку не причастился святых тайн, уже придумывал уместные объяснения и уважительные причины. И вот что забавно: когда по прошествии многих лет вычитал я где-то фразочку насчет того, что, мол, «испанец, принявший решение, – испанец вдвойне», мне подумалось, что никто лучше не объяснил тогдашних моих действий. Так что я вздохнул поглубже, стиснул зубы, дождался, когда клинок валенсианца, завершив очередной финт, придет в точку наибольшего удаления – и собрался предпринять вторую атаку. И предпринял бы, будьте покойны, если бы в этот миг кто-то не удержал меня, ухватив одной рукой за шиворот, а другой – за локоть. А сам этот «кто-то» оказался между мной и моим противником. Вскинув голову, я с изумлением взглянул в прозрачные, цвета морской воды, глаза капитана Алатристе.
– Такому храбрецу, как ты, не пристало связываться с мальчишкой.
К той минуте, когда прозвучали эти слова, место действия сменилось, причем публики значительно поубавилось: Диего Алатристе и валенсианец отошли шагов на пятьдесят, так что высокая насыпь дамбы скрывала их от посторонних глаз. А товарищи моего хозяина, забравшись наверх – высота же была локтей восемьдесят, – удерживали на почтительном расстоянии зевак, образовав нечто вроде живого барьера, пройти за который не удавалось никому. Здесь были Льоп, Ривас, Мендьета и кое-кто еще, включая Себастьяна Копонса, чьи железные руки изъяли меня, так сказать, из обращения. Теперь я стоял рядом с ним и смотрел, какие события разворачиваются на берегу канала. Солдаты с напускной, однако убедительной суровостью поглядывали по сторонам, решительным выражением лиц, грозным покручиванием усов и бряцанием шпаг пресекая попытки любопытствующих хоть одним глазком взглянуть на происходящее внизу. Для того чтобы придать делу, как сказал поэт, законный вид и толк, позвали двух приятелей валенсианца – на тот случай, если потребуются свидетели, которые расскажут о поединке во всех подробностях.
– Ты же не захочешь прослыть Иродом, – добавил Алатристе.
При этих словах, произнесенных с ледяной насмешкой, валенсианец выругался так громко, что даже наверху было слышно. Винные пары рассеялись бесследно; левой рукой он беспрестанно ерошил свои и без того не больно-то ухоженные усы и бородку, в правой по-прежнему сжимал шпагу, которую так и не спрятал в ножны. Однако несмотря на его угрожающий вид и обнаженный клинок, и внятно произнесенную брань, можно было понять, что драться ему вовсе не хочется, – в противном случае он давно бы уж бросился на капитана, исходя из старинного правила, что нападение всегда предпочтительней обороны. Гонор, конечно, гонором, да и репутацию надо было поддержать после неудачной стычки с таким щенком, как я, и все же взгляды, которые мой обидчик время от времени бросал на плотину, свидетельствовали – он ждет что кто-нибудь вмешается и остановит дело, покуда оно не зашло слишком далеко. Впрочем, чаще поглядывал он на Диего Алатристе, который так неторопливо и обстоятельно, словно в запасе у него была вечность, снимал шляпу, стаскивал через голову патронташ с двенадцатью пороховницами «апостолами», раскладывал все это на земле рядом с аркебузой, а проделавши это, все с той же медлительностью принялся расстегивать крючки колета.
– Такой храбрец, как ты… – повторил он, не сводя пристального взгляда с валенсианца.
Услышав это «ты», произнесенное трижды да еще с такой холодной насмешливостью, тот яростно засопел, сделал шаг вперед и другой – в сторону, справа налево прочертив воздух клинком. Надо сказать, что «ты», обращенное не к родственникам, близким друзьям или к людям, занимающим совсем иное, несравненно более низкое положение, звучит очень неучтиво, и болезненно щепетильными испанцами воспринимается едва ли не как намеренное оскорбление. Вспомните, к примеру, случай в Неаполе, когда граф Лемос и дон Хуан де Суньига, а равно и вся их свита, не исключая и слуг, обнажили клинки – общим числом полтораста – потому только, что один назвал другого «сиятельством», а не «светлостью», а тот его – не «ваша милость», а просто «сударь». Всякий понимал, что валенсианец не стерпит подобного поношения и, преодолев колебания – он, ясное дело, узнал человека, стоявшего перед ним, и наверняка был о нем наслышан, – драться будет непременно, ибо, трижды услышав «ты» от равного по званию, вложить в ножны шпагу, которой махал с геройским видом, значило бы нанести своей репутации ущерб непоправимый. А на испанском языке слово «репутация» означает многое. Даром, что ли, мы полтора столетия корячимся по всей Европе, разоряя собственную державу ради защиты истинной веры и пресловутой репутации, в то время как лютеране, кальвинисты, англикане и другие навеки проклятые еретики, ссылаясь при всяком случае на Священное Писание, затверженное едва ли не наизусть, и объявив свободу совести, дали своим купцам возможность загребать деньгу, какая нам не снилась – и плевать они хотели на всякую репутацию, если она не приносит барыша да выгоды. Ну да что там говорить – спокон века практическая польза значила для нас несравненно меньше, чем религиозный пыл и страх молвы: что, дескать, подумают, что скажут. Нам Европа не указ: у них – так, а у нас – эдак.
– Тебя забыли спросить, – неприветливо буркнул валенсианец. – Чего лезешь?
– Вот именно, забыли, – согласился Алатристе. – А мне думается, что такому бравому молодцу, как ты, нужен более достойный противник. За неимением лучшего и я сгожусь. А?
Он уже снял колет: ни во многих местах заштопанная рубаха, ни штаны в заплатах, ни старые сапоги, перехваченные под коленями аркебузными фитилями, не делали вид его менее внушительным. В воде канала отразился блеск обнаженной шпаги.
– Назовись, сделай милость.
Валенсианец, который расстегивал свой колет – столь же изношенный и потрепанный, как и одежда его противника, – мотнул головой, не сводя глаз с капитановой шпаги.
– Меня зовут Гарсия де Кандау.
– Очень приятно – Мой хозяин завел левую руку за спину, и на солнце вспыхнул клинок бискайца – А я…
– Да знаю я, кто ты! – прервал его валенсианец. – Самозванный капитан Диего Алатристе.
Солдаты, стоявшие наверху, переглянулись. Вино явно придало валенсианцу отваги больше, чем требовалось. Зная, с кем придется скрестить оружие, и имея возможность легко отделаться – эко дело: проваляться сколько-то недель в лазарете, – он все-таки лез на рожон, нарывался и играл с огнем. И все мы замерли в ожидании, боясь пропустить хоть самомалейшую подробность предстоящего поединка.
Тут я увидел, как Диего Алатристе улыбнулся.
Слава богу, достаточно было прожито бок о бок с ним, чтобы не узнать эту слегка топорщившую усы гримасу – недобрый знак, оскал усталого волка, которому вновь приходится убивать. Не для пропитания, не по злобе. А просто – такая уж его волчья планида.
Тело валенсианца, по пояс погрузившееся в красную от крови, тихую воду канала, вытащили на берег. Что ж, все прошло в соответствии с правилами дуэлей и приличий – противники наносили и парировали удары, обманывали друг друга финтами и ложными замахами, пока, наконец, клинок капитана Алатристе не попал туда, куда был направлен. И когда начнется дознание по поводу гибели валенсианца – а это, между прочим, был четвертый смертельный случай за день: я ж говорил, картёж без поножовщины не обходится, – то все свидетели, как солдаты нашего государя и люди чести, подтвердят: тот, напившись до беспамятства, поранился своим же оружием и свалился в канал, – а профос сочтет случай ясным и расследованию не подлежащим. Помимо всего прочего, в ту же ночь голландцы предпримут вылазку. Так что и профосу, и полковнику, и солдатам, и капитану Алатристе, и мне самому будет – ох, и как еще будет! – не до того.
V. Верная пехота
Неприятель атаковал глубокой ночью, беззвучно, ножами, сняв передовое охранение. Мориц Оранский решил, фигурально выражаясь, половить рыбку в мутной, взбаламученной воде мятежа и ударил на Аудкерк с севера, надеясь перебросить под Бреду подкрепление – своих голландцев да англичан, прорву пехоты и кавалерии, которая и смяла наши заслоны. Картахенскому полку вкупе с валлонами, оказавшимися в окрестностях, приказано было заступить путь противнику и сдерживать его натиск, пока генерал Спинола не организует контрнаступление. Так что в самую ночь-полночь проснулись мы от барабанной дроби, визга флейт и криков «В ружье!». Тому, кто сам не испытал подобного, нечего и описывать эту суматоху – все равно не поймет, как сворачивается лагерь: в свете факелов мечутся, спотыкаясь и друг на друга натыкаясь, люди; вразнобой звучат команды капитанов и сержантов, торопливо строящих своих солдат, еще не проснувшихся толком, полуодетых, торопливо прилаживающих на себе боевую сбрую; оглушительно гремят барабаны; ржут и бьют копытами кони, охваченные лихорадочным ожиданием неминуемого и близкого боя. Взблескивает сталь, сверкают наконечники копий, шлемы и кирасы. В пляшущем красноватом свете факелов и фонарей мелькают на доставаемых из чехлов знаменах то андреевский крест, то желтые на красном фоне полосы арагонского герба, то геральдические зубчатые башни, львы и цепи.
Рота капитана Брагадо, выступив в числе первых, оставила за спиной огни города и лагеря и двинулась во тьму вдоль плотины по торфяникам и низким, заливаемым приливом берегам. Разнесся слух, будто идем к мельнице Руйтер – голландцы, направляясь к Бреде, никак не могли миновать ее, ибо в ином месте перейти реку вброд было нельзя. Я шел вместе с другими мочилеро, таща на горбу запас пороха и пуль, аркебузы своего хозяина и Себастьяна Копонса, равно как и часть их скарба, то есть исполнял по обыкновению должность вьючного мула, и благодаря сей сомнительной чести мышцы мои крепли день ото дня, так что можно было приговаривать, что нет худа без добра, и, как нам, испанцам, свойственно, этим утешаться. Впрочем, справедливо и обратное.
Ох, сеньоры, вот вещица, Вот какая штука, братцы: Чтобы к славе приобщиться, Надо сильно постараться.Идти в темноте было нелегко – луна на ущербе из-за туч выныривала лишь изредка – и солдаты то и дело оступались, спотыкались, налетали друг на друга, так что по-над плотиной слышалась непрестанная, хоть и приглушенная брань. Мой хозяин хранил по своему обыкновению безмолвие, и тенью тени я следовал за ним, обуреваемый разнообразными чувствами: с одной стороны, близость боя и приключений грела мою юную душу, с другой – томил ее, усугубленный этим мраком, страх неведомого, и смущала скорая встреча на бранном поле с многочисленным врагом. Невольно вспоминалось, как еще в Аудкерке, когда выстроившийся в свете факелов полк был готов к выходу, даже те, кто, казалось бы, не верил ни в бога, ни в черта, преклонили колени и обнажили голову, а капеллан Салануэва обходил шеренги, скопом и чохом отпуская грехи.
Нужды нет, что был сей пастырь груб, глуп и вечно полупьян, – другого более-менее святого у нас под рукой не оказалось, и наши солдаты в преддверии опасности неизменно предпочитали услышать «ego te absolvo»[60] из грешных уст, нежели отправляться в самую что ни на есть дальнюю даль без такого напутствия.
Еще одно обстоятельство тревожило меня, да – если судить по разговорам наших ветеранов – и не меня одного. Вступив на ближайший к дамбе мост, мы тотчас увидели команду саперов с фонарями, кирками и ломами, которая намеревалась мост этот обрушить, едва лишь рота окажется на другом берегу, для того, разумеется, чтобы остановить голландцев. Однако это означало, что и нам, во-первых, не стоит ждать никакого подкрепления, а во-вторых, что в случае чего можно не кричать: «Спасайся, кто может!» – спасаться будет некому и некуда.
Короче говоря, с мостом за спиной или без моста, к рассвету добрались мы до мельницы. Оттуда уже ясно слышалась отдаленная трескотня – это остатки наших аванпостов вели перестрелку с голландцами. При свете большого костра я увидел мельника с женой и четырьмя малолетними детьми – все были в исподнем и с беспомощным испугом глядели, как солдаты, выгнавшие их вон из дому, крушат двери и окна, укрепляют второй этаж и грудой наваливают обломки мебели, возводя из них подобие бруствера.
Пламя играло на кирасах и касках, дети рыдали от ужаса перед этими закованными в сталь чужеземцами, а мельник в буквальном смысле хватался за голову при виде того, как уничтожается все его достояние, и никого это не трогает, ибо на войне любая трагедия очень скоро превращается в зауряднейшее дело, а сердце солдата, очерствев, столь же мало отзывается на чужую беду, как и на свою собственную.
Мельница была выбрана доном Педро в качестве командного и наблюдательного пунктов, и наш полковник совещался с командиром валлонцев под сенью знамен и в окружении штабных. Время от времени оба поглядывали на отдаленное зарево – примерно в полулиге от нас горела деревня, где, судя по всему, накапливался для атаки неприятель.
Нас выдвинули еще немного вперед: роты во мраке двинулись под деревьями, шагая по высокой росистой траве, так что ноги у нас вымокли до колен. Приказ был – ждать и костров не жечь, стоять «вольно», но уж какая тут воля, когда человек в страхе и напряжении: время от времени, когда звуки боя приближались, в шеренгах начиналось шевеление, тревожные выкрики «стой, кто идет? » и тому подобное. Передовые запалили фитили аркебуз, и во мраке светлячками загорелись красные точки. Старослужащие все же опустились на влажную землю, используя каждую минутку затишья перед боем, а остальные не смогли или не захотели и зорко всматривались, чутко вслушивались в предрассветную темь, где-то и дело вспыхивала близкая стрельба.
Алатристе и прочие разлеглись возле изгороди, и я, на ощупь пробираясь к ним, в кровь расцарапал себе лицо и руки о какие-то колючки. Хозяин раза два окликал меня, чтобы убедиться – я рядом. Затем они с Себастьяном Копонсом взяли у меня свои аркебузы и велели запалить с обоих концов длинный фитиль на тот случай, если вдруг понадобится. Достав из мешка кресало и кремень, я под прикрытием изгороди добыл огня, хорошенько раздул его, запалил и осторожно опустил фитиль на какую-то деревяшку, с тем чтобы не промок, не погас и все бы могли им воспользоваться в случае необходимости. Потом присоединился к остальным, мечтая отдохнуть после перехода, а проще говоря – поспать. Мечте моей не суждено было исполниться. Холод страшенный, на мокрой траве, да и вообще в предрассветной сырости не больно-то поспишь. Пытаясь согреться, я, сам того не замечая, подполз к Диего Алатристе, который, скорчившись, сидел на земле с аркебузой на коленях, притулился к нему, почувствовал запах волглой грязной одежды, перемешанный с запахом кожи и металла – и капитан не отодвинулся, не оттолкнул меня, остался сидеть как сидел, и лишь потом, когда небо начало светлеть, а я – дрожать от озноба, повернулся ко мне и, не говоря ни слова, укрыл меня своей ветхой солдатской епанчой.
А едва рассвело, пожаловали голландцы. Их кавалерийские разъезды разметали наши полевые караулы, а через непродолжительное время двинулись сомкнутыми рядами и основные силы, явно намереваясь отбить мельницу, а стало быть, и дорогу, которая через Аудкерк вела на Бреду. Капитану Брагадо приказали поставить его роту рядом с другими на обширном лугу, окруженном деревьями и изгородями: с одной стороны – низкий берег канала, с другой – дорога, на обочине которой заняли позицию солдаты дона Карла ван Сойста; его полк целиком состоял из фламандцев, сохранивших католическую веру и верность нашему королю. Так что вместе мы покрывали пространство в четверть лиги по фронту, и разминуться с нами неприятель не мог никак. И, скажу вам по совести, зрелище было грандиозное – два замерших в строю полка, лес копий и развернутые знамена посреди, аркебузиры и мушкетеры на флангах, а по плавным всхолмлениям равнины движутся неприятельские колонны. В тот день на каждого из наших пришлось по пять голландцев, и, наверное, Морицу Оранскому, чтоб создать такой численный перевес, пришлось опустошить все свои мятежные провинции. Я слышал, как капитан Брагадо говорит:
– Клянусь жизнью нашего государя, жаркое будет дело, – а прапорщик Кото ему отвечает:
– Хорошо хоть, не подтянули артиллерию.
– Всему свой черед.
Из-под полей шляп, сощурясь, наметанным глазом глядели они, как все пространство перед фронтом Картахенского полка заполняется блеском кирас, наконечников копий, шлемов. Выдвинутый вперед взвод Диего Алатристе должен был прикрывать левое крыло полка огнем своих аркебуз и мушкетов: солдаты положили за щеку пули, обмотали вокруг левого запястья зажженные с обоих концов фитили.
За стрелками тесно – не далее локтя друг от друга – стояли копейщики и тяжеловооруженные, закованные в сталь от макушки до колен латники: первые держали оружие на плече, вторые покамест уперли в землю древки своих длиннющих – пядей двадцать пять будет – копий. Я расположился так, чтобы по первому зову хозяина подоспеть к нему и подать, что потребуется – пороха ли, свинцовых ли, весом в одну унцию, пуль или воды – и вертел головой, переводя взгляд с наступающих плотными рядами голландцев на бесстрастно-невозмутимые лица Алатристе и прочих: каждый стоял на своем месте, крутя усы, проводя языком по пересохшим губам, прикидывая, сколько шагов остается до противника, вполголоса бросая соседу ничего не значащее замечание или бормоча сквозь зубы молитву. Мне, взбудораженному ожиданием неминуемой схватки, ужасно хотелось быть полезным, и я подошел к Алатристе осведомиться, не надо ли чего, но он едва удостоил меня взглядом. Крепко уперев в землю приклад своей аркебузы, сложив на раструбе дула руки – вокруг левого запястья был обмотан фитиль, тлеющий с концов, – капитан внимательно всматривался в неприятельские колонны. Опущенные поля шляпы затеняли его лицо, поверх нагрудника из буйволовой кожи перекрещивались патронташ и красная, порядком вылинявшая и потускневшая перевязь со шпагой и бискайцем. Торчащие усы, орлиный профиль, обветренное загорелое лицо, которое от двухдневной щетины, покрывавшей впалые щеки, казалось еще более худым.
– Гляди налево! – предупредил капитан Брагадо, вскидывая на плечо свой эспонтон.
И в самом деле: слева между торфяниками и рощицей показались кавалерийские разъезды – высланная вперед разведка. Гарроте, Льоп и четверо-пятеро других без приказа шагнули вперед, приложились, прицелились и дали залп по еретикам, которые тотчас развернули коней и ускакали. По другую сторону дороги неприятель уже начал тревожить огнем наших соседей, а те весьма оживленно ему отвечали. Мне хорошо было видно, как многочисленный отряд голландских кирасир скачет в атаку – им навстречу, блеснув на солнце стальными наконечниками, склонились, будто спелая рожь под ветром, длинные пики валлонов.
– Идут, – сказал Брагадо.
Прапорщик Кото, весь закованный в сталь: латы нагрудные, наспинные, да еще и кольчужные рукава – когда несешь знамя, всякий норовит достать тебя пулей или клинком, – принял ясеневое древко из рук своего помощника и двинулся туда, где уже развевались прочие знамена Картахенского полка. Со стороны рощицы, четко выделяясь на фоне деревьев – горизонтальные лучи невысокого еще солнца светили им в спину, – появилась чертова уйма голландцев: вступая на луг, они заходили правым плечом вперед и подбадривали себя громкими криками, из чего я заключил, что среди них есть и англичане в немалом числе: те вечно горланят в бою и на пирушке. Таким вот манером, не прекращая движения, шагов за двести до нас перестроились они в боевой порядок, а кое-кто из аркебузиров, наступавших рассыпным строем, уже послал нам пулю, пока еще не достигшую цели. Я, помнится, говорил вам, что кое-какие виды во Фландрии повидал, но в большом сражении участие принимал впервые и впервые, стало быть, наблюдал, как неколебимо ожидает испанская пехота атаку противника. Более всего поразило меня, что ожидание это происходило в полнейшем безмолвии и совершеннейшей неподвижности – в преддверии встречи с неприятелем обросшие, обветренные пришельцы из самой недисциплинированной на свете страны не произносили ни звука, не производили ни единого движения, не значившихся в уставах и наставлениях.
Именно в этот день, в бою за Руйтерскую мельницу, понял я, почему не было и долго еще не будет в Европе силы более грозной, нежели наша пехота – безупречно отлаженная военная машина, в которой всякий знал свое место, в том находя для себя гордость и обретая силу. Возможность доблестно сражаться за католического государя и истинную веру одаривала всех этих безземельных дворян, искателей приключений, всякого рода проходимцев и прочую недостойную публику достоинством, которого нигде больше не было и быть не могло.
Не подлежит разделу майорат: Все старшему должно достаться сыну – Избыв досаду, безземельный брат Отправится сражаться на чужбину, –как удачно и вполне в тему высказался некий плодовитый толедский монах по имени Габриэль Тельес, более известный как Тирсо де Молина. Ибо в лучах славы, осенявшей непобедимые испанские легионы, мог погреться даже самый завалящий оборванец, получавший право и возможность зваться идальго:
Гордый род мой начат мной. Славно, гром меня срази, Первым в роде отличиться. Худо знатностью кичиться, Имя вываляв в грязи[61].Ну а голландцы плевать хотели на любые родословцы и на всю подобную чушь – в то утро они бодро и весело перли прямо на Бреду и явно были расположены сократить себе путь, устранив досадную помеху в нашем лице. Грянуло уже несколько мушкетных выстрелов, но пули, чуть-чуть не дотянув до неприятеля, бессильно упали в траву. Я увидел, как дон Педро де ла Амба, в своих миланских доспехах высившийся на коне под знаменами, одной рукой опустил забрало шлема, а другой вскинул свой жезл.
В ту же минуту зарокотал полковой барабан, а ротные стали вторить ему. От нескончаемой дроби кровь стыла в жилах, мертвая тишина воцарилась вокруг. Даже голландцы, подошедшие уже так близко, что мы могли различить их лица, одежду, оружие, как-то замялись, смущенные барабанным боем, доносившимся из неподвижных рядов тех, кто преграждал им путь. Но вот, подбадриваемые своими капралами и офицерами, вновь загорланили, двинулись вперед. Они были уже шагах этак в шестидесяти-семидесяти: аркебузиры взяли к прицелу, латники опустили копья. Видно было даже, как горят фитили.
И тогда над полком от шеренги к шеренге пронесся резкий, вызывающий крик и, подхваченный сотнями глоток, усилился, заглушил барабанные раскаты:
– Испания! Испания! Испания идет!
Это был старинный боевой клич, издавна означавший только одно: «Берегись! Сторонись! Дорогу Испании!» Я затаил дыхание, услышав его, взглянул на хозяина, однако так и не понял, кричит ли он со всеми вместе. Снова стали слышны барабаны, и вот первые шеренги испанцев пошли вперед, и Диего Алатристе, ясное дело, тоже: с аркебузой наперевес, локоть к локтю с товарищами – слева Себастьян Копонс, справа – Мендьета, чуть впереди – капитан Брагадо. Плотным, сомкнутым строем двигались они медленно и величаво, как на смотру в высочайшем присутствии. Те самые люди, что несколько дней назад бунтовали из-за жалованья, а теперь, стиснув зубы, выставив торчащие усы, выпятив небритые подбородки, шли в атаку, и лоснящаяся кожа амуниции вкупе со сверкающим оружием закрывала их лохмотья. Шли неустрашимо и грозно, оставляя за собой дым тлеющих фитилей. Я со всех ног поспевал за строем, и пули жужжали вокруг уже не на шутку, ибо совсем недалеко были от нас голландские латники и аркебузиры. Я запыхался, я оглох от грохочущей в ушах крови, которую гнало по жилам бешено колотящееся сердце, само стучавшее не хуже полкового барабана.
Первый неприятельский залп свалил кого-то из наших, заволок наш строй облаком густого черного дыма. Когда же он рассеялся, я увидел – капитан Брагадо воздел свой эспонтон, Алатристе же и прочие, остановясь, с полным спокойствием дуют на фитили, вскидывают аркебузы, приникают к прикладу щекой. Так, за тридцать шагов до голландцев, Картахенский полк вступил в дело.
– Сомкнись! Сомкнись!
Солнце висело в небе уже два часа, а бой начался на рассвете. Испанские аркебузиры держали фронт, нанося большой урон голландцам, покуда под градом пуль, под ударами пик, под натиском кавалерии не пришлось им в полном порядке отойти и присоединиться к основным силам, вместе с латниками выстроив неодолимую стену. После каждого залпа, после каждой атаки неприятельской кавалерии образовывались в ней бреши, мгновенно заполнявшиеся теми, кто уцелел, и уже дважды откатывались голландцы – наткнувшись на наши пики и огонь наших мушкетов.
– Опять лезут!
Это была уже третья атака. И откуда только берутся эти еретики? Не иначе как сам сатана изблевывает их из своей утробы. В густой дымке снова блестели острия пик. Наши офицеры сорвали себе голос, командуя, а на шпаге капитана Брагадо – он уже потерял где-то шляпу и почернел от пороховой копоти – не поспевала засыхать кровь голландцев.
Прозвучал приказ, и тесно, локоть к локтю, стоявшие латники первой шеренги, перекинув длинные копья с левой руки на правую, выставили их перед собой, готовясь скрестить с вражескими. Тем временем с обоих флангов серьезно докучали голландцам наши стрелки. Я терся неподалеку от взвода Алатристе, стараясь не мешать солдатам, которые заряжали, прикладывались, палили: аркебузиры свое оружие вскидывали к плечу, тяжелые мушкеты били с сошек. Я сновал между ними, одному поднося порох, другому – пули, третьему подавал висевшую у меня на перевязи фляжку с водой; обоняние мое и зрение жестоко страдали от дыма, порой я, как та Магдалина, ничего не видел из-за слез и, когда меня подзывали, двигался на ощупь.
Вот я протянул капитану Алатристе горсть пуль, поскольку его запас истощался – несколько штук он сунул в кошель на левом бедре, две – за щеку, а третью – в ствол, хорошенько забил ее шомполом, подсыпал пороху, дунул на свисавший с левого запястья дымящийся фитиль, поднес его к затравочному отверстию и вскинул аркебузу – все это не глядя, почти машинально, не переставая при этом выцеливать ближайшего голландца. Выстрелил, и я увидел, как у еретика – это был копейщик в огромном шлеме – посреди кирасы словно распустился диковинный цветок, а сам он повалился навзничь, и место его тотчас заступили другие.
Справа от нас уже вовсю кипела схватка, а сколько-то неприятельских латников – и в немалом числе – устремилось и в нашу сторону. Диего Алатристе поднес к губам нагревшийся ствол аркебузы, сплюнул в дуло пулей, неторопливо повторил весь артикул и выстрелил. От пороховой гари лицо его покрылось серым налетом, а усы словно бы поседели.
Покрасневшими, воспаленными от дыма глазами – от копоти морщинки вокруг них обозначились четче – он напряженно всматривался в наступающих голландцев и выбирал себе жертву, а определив новую цель, уже не отводил от нее взгляда, как будто свалить выстрелом следовало именно этого, а не какого-то иного еретика.
– Полезли! – гаркнул капитан Брагадо. – Держись, ребята! Держись!!!
Что ж, на то, чтобы держаться, и даны ему были Господом Богом и его величеством две руки, одна шпага и сотня испанцев под начало. Пришло время толково распорядиться всем этим, ибо длинные голландские пики были уже совсем близко. Перекрывая грохот пальбы, донеслась до меня замысловатая – только мы, баски, умеем облекать свои пламенные чувства в такую витиевато-чеканную форму – брань Мендьеты: у него сломался замок аркебузы. Потом совсем рядом со мной мелькнул украшенный перьями шлем, что-то брякнуло, звякнуло, лязгнуло – и голландец свалился едва ли не под ноги мне. Справа от нас колыхался целый лес копий, одним своим краем разворачиваясь в нашу сторону. Я увидел, как Мендьета за ствол ухватил аркебузу, намереваясь орудовать ею как палицей. Остальные торопливо выпускали последние заряды.
– Испания! Сантьяго! Испания!
За спиной у нас, за частоколом копий трепетали на ветру пробитые пулями полотнища с андреевскими крестами. Рослые, рыжие голландцы накатывали лавиной – ужас и остервенение в глазах… кровь на лицах… перекошенные в крике рты… кирасы, шлемы, блеск стальных наконечников, готовых вот-вот вонзиться и пропороть насквозь. Пора было браться за шпаги. Я видел, как Алатристе и Копонс, стоя плечом к плечу, бросили аркебузы наземь, вытянули из ножен клинки Толедского закала. Видел, как врезались голландские копья в наши ряды, калеча, увеча и пронзая, а Диего Алатристе колол и рубил, вертясь меж длинных ясеневых древков. За одно из них я ухватился, и дравшийся рядом со мной испанец дотянулся шпагой до горла еретика, державшего копье, так что струя крови хлынула мне на руки. На подмогу уже спешили наши, протягивая копья поверх наших голов и становясь в строй на место павших. В трескучем скрещении копий, как в лабиринте, шла резня.
Отталкивая однополчан, я пробивался к Алатристе и, когда какой-то голландец, сбитый наземь, ухватил его за ноги, силясь повалить, – вскрикнул, не слыша собственного голоса, выхватил кинжал и кинулся спасать хозяина пусть даже ценой собственной жизни. В исступлении я прижал голову голландца к земле, покуда Алатристе лягался, пытаясь высвободиться, и сверху вниз тыкал в него шпагой.
Голландец попался жилистый и упорный – не сдавался и на тот свет не торопился, хоть кровь хлестала у него из ноздрей и изо рта, будто у харамского быка: я помню, как липла она к моим пальцам и, перемешиваясь с пороховой копотью и землей, пятнала белокожее, в веснушках и рыжеватой щетине лицо врага. Он не хотел умирать – стало быть, следовало его уговорить. Левой рукой придерживая его голову, правой я выхватил кинжал, трижды пырнул изо всех сил, однако клинок не пробил кожаный нагрудник. Голландец чувствовал удары – по крайней мере, глаза его расширились, он выпустил наконец ноги Алатристе, чтобы защитить лицо, застонал. Я же, ослепленный и ужасом, и яростью, нащупал наконец незащищенное место – как сейчас помню, между шнурами его колета – и всей тяжестью тела налег на рукоять. Он что-то залопотал по-своему – наверное, молил о пощаде, – но тотчас стал давиться кровью, завел глаза и затих, как словно никогда и не жил.
– Испания!.. Испания!.. Отступают!!!
И в самом деле – поредевшие шеренги еретиков, топча своих убитых, телами которых завалено было все поле, откатывались. Несколько человек из новичков намеревались преследовать их, однако большинство не тронулось с места, ибо картахенцы были в основном старослужащие и презренным делом считали бегать по полю россыпью, рискуя попасть в засаду или под фланговый удар. Алатристе сгреб меня за шиворот, приподнял с земли и повернул, удостоверяясь, что я цел. Потом, не произнеся ни слова, мягко оттолкнул от дохлого голландца, вытер лезвие о колет убитого, вложил – как показалось мне, жестом безмерной усталости – шпагу в ножны. И лицо, и руки его, и одежда были в крови, но это была чужая кровь. Я огляделся. У Себастьяна Копонса, искавшего свою аркебузу под грудой тел, обильно кровоточила рана на виске, с которого молодецкий удар стесал здоровенный – пяди в две, не меньше – лоскут кожи с волосами, на ниточке, что называется, болтавшийся над ухом.
– Твою мать… – бормотал арагонец ошеломленно.
Почерневшими от крови и пороха пальцами – большим и указательным – он придерживал лоскут, не вполне представляя себе, что с ним делать. Алатристе достал из какого-то загашника чистую тряпицу, приладил, как умел, полуоторванную кожу на место и обвязал Копонсу голову.
– Гляди-ка, Диего, чуть башку не отхватили.
– Ничего, заживет.
Копонс пожал плечами:
– Будем надеяться.
Я выпрямился и заметил, что меня шатает. Солдаты оттаскивали в сторону трупы голландцев. Кое-кто шарил у них по карманам, освобождая покойников от ненужного им более имущества. Гарроте без малейшей заминки отсекал кинжалом пальцы, украшенные перстнями – не возиться же, в самом деле, стягивая их по одному? Мендьета отыскивал себе новую аркебузу.
– Становись! – грянул голос капитана Брагадо.
В ста шагах от нас строились голландцы – к ним подошло подкрепление, включая и кавалерию: я видел, как блестят кирасы. Наши тоже оставили добычу, стали в ряд, локоть к локтю, меж тем как раненые ползком и на четвереньках покидали боевые порядки. Нужно было собрать убитых, сомкнуть строй.
Полк не отступил ни на пядь.
В таких вот и подобных занятиях проволочили мы время до полудня – стойко отбивали атаки, крича «Испания и Сантьяго!», когда очень уж наваливались голландцы, оттаскивали убитых, перевязывали раненых, и продолжалось все это до тех пор, пока еретики, убедясь, что за целое утро не сумели поколебать нашу живую стену, не начали мало-помалу ослаблять напор и натиск. К этому времени истощились у меня запасы пороха и пуль, так что приходилось шарить в патронташах убитых и несколько раз, улучая моменты меж двумя атаками, когда голландцы откатывались, выбираться на ничейную землю, чтобы забрать огневое зелье у неприятельских стрелков, и потом мчаться назад, как зайцу, под свист мушкетных пуль. Опустела и моя фляга, которую подавал я Алатристе и его товарищам – война, как известно, глотку сушит, – и потому я совершал походы на берег канала, оставшегося у нас за спиной, и сохранил об этом неприятнейшие воспоминания, ибо путь туда был буквально завален нашими ранеными: в избытке насмотрелся я на развороченные животы, пропоротые груди, окровавленные обрубки рук и ног, вдосталь наслушался стонов, предсмертных хрипов, брани на всех испанских наречиях, просьб о помощи, равно как и латыни нашего капеллана Салануэвы, который без устали соборовал умирающих, за неимением елея используя собственную слюну. Пусть бы те скудоумцы, что толкуют о бранной славе, вспомнили слова маркиза Пескара: «Господи, пошли мне сто лет войны и ни одного дня сражения» – или прогулялись бы со мной в то утро по бережку: вот тогда, глядишь, открылась бы им война оборотной своей стороной, показала бы закулисье парадного своего действа, осененного знаменами, гремящего медью труб и выспренними речами удальцов и вояк, которые благоразумно держатся в тылу, чеканят свой профиль на монетах и ставят себе памятники на площадях, но ни разу в жизни не слышали, как свистят пули, не видели, как, умирают товарищи, не обагряли рук вражьей кровью, не подвергали себя опасности лишиться от лихого удара в пах лучшего достояния мужчины.
Бегая взад-вперед до канала и обратно, я всякий раз вглядывался, не идут ли подкрепления из Аудкерка, однако дорога неизменно оставалась пуста. Пробежки эти также позволили мне увидеть всю панораму сражения – противостояние голландцев и двух наших полков, испанского и валлонского, оседлавших, как принято говорить, дорогу и не пускавших врага дальше. Видел я густой лес копий, а в нем – блеск стали, вспышки выстрелов, клубы порохового дыма, колыхание знамен. Валлоны, надо сказать, честно выполняли свой долг, хотя пришлось им тяжелее, чем нам, и несли они большой урон от меткой стрельбы голландских аркебузиров и жестоких кавалерийских атак. И после каждой все меньше копий вздымалось над строем: было видно, что солдаты Карла ван Сойста, люди добросовестные и отважные, явно обессиливают. Острота положения была еще и в том, что голландцы, смяв их, сумели бы зайти во фланг Картахенскому полку, истребить его тоже, а уж тогда – конец и Руйтерской мельнице, и Аудкерку, и Бреде. Это соображение смущало и томило меня, когда я возвращался к своим, не решившись пройти мимо дона Педро, в окружении своей свиты и охраны сидевшего верхом в середине каре. Мушкетная пуля уже на излете ударила в его чеканную миланскую кирасу, оставив прелестную вмятину, но, если не считать этой неприятности, наш полковник остался цел и невредим, чего никак нельзя было сказать о его штаб-трубаче – попавшая в рот пуля свалила его под ноги лошадям, где он и лежал, и никому до него не было дела. Я видел, что полковник и его свита, нахмурясь, наблюдали, как редеют шеренги валлонов. Даже мне при всей моей юношеской беспечности ясно было: покончат с ними – нам без кавалерийского прикрытия ничего не останется, как отступать к мельнице, чтоб не попасть в окружение. Согласитесь, что одно дело – когда, внушая врагам уважение и страх, противостоит им неколебимая стена решительных воинов, и совсем другое – когда воины эти отступают, пусть даже медленно и в порядке, больше заботясь о своем здоровье, нежели о сопротивлении. Тем паче что мы, испанцы, гордимся своей свирепостью в бою не меньше, чем горделивым бесстрастием в смертный час – даже на картинке никто не видал нас со спины. И пресловутое доброе имя дорогого стоит.
Солнце близилось к зениту, когда вконец поредевший строй валлонов, на совесть послуживших нашему государю и святой вере, был прорван. Под натиском кавалерии, под напором латников они, несмотря на все усилия своих офицеров, бросились бежать: одна часть – врассыпную – к Руйтерской мельнице, а другая, сохраняя порядок, – к нам под крыло. С ними пришли Карл ван Сойст, выглядевший так, будто его сию минуту сняли с креста: шлем сбит, обе руки прострелены – и несколько его офицеров, пытавшихся спасти знамена. Мы сами едва не дрогнули, когда к нам устремилась эта толпа, тем более что – и это было самое скверное – голландцы наступали им буквально на пятки, намереваясь воспользоваться нашим замешательством. Счастье еще, что атаковали нас, как бы сказать, вяловато, ибо первоначальный жар истратили на валлонов, надеясь, что те внесут смуту в наши ряды, и начнется паника. Но я ведь уже говорил – картахенцы были люди дошлые, испытанные, а потому, пропустив сколько-то валлонов, шеренги на правом фланге вновь сомкнулись, как створки железных ворот, и аркебузы с мушкетами дали мощный залп, перебивший изрядное количество отступавших, а заодно – и голландцев, поспешавших следом.
Повинуясь прозвучавшей команде и сохраняя свое легендарное хладнокровие, латники неторопливо развернулись навстречу голландцам, уперли в землю концы копий, прижав их ногой и держа древки левой рукой, а правой – обнажив шпаги. Они были готовы встретить летевшую на них кавалерию.
– Сантьяго! Испания и Сантьяго!
И голландцы словно наскочили на стену. Копья скрестились; удар был так силен, что длинные ясеневые древки разлетелись на куски. Началась рукопашная.
Неприятель атаковал теперь и с фронта, снова пустив вперед кавалерию. Опытные наши аркебузиры исправно и безо всякого замешательства делали свое дело – заряжали, прикладывались, палили, не прося ни пороха, ни пуль, и среди них был Диего Алатристе, который методично, без суеты и спешки раздувал фитиль, целился и стрелял. Частая пальба свалила передовых, однако основные силы продолжали напирать, так что фланговым стрелкам – и мне заодно – пришлось отступить под прикрытие наших копий. Я потерял из виду своего хозяина, но заметил, как Себастьян Копонс с перевязанной головой – странно смотрелась эта чалма на арагонце – схватился за шпагу. Кое-кто из наших растерялся, бросился назад, подальше от голландцев, ибо не одних лишь львов рождает иберийская земля. Однако большинство держались стойко. Пули вокруг ложились густо и метко и не только сами ложились, а и людей укладывали – стоявший рядом копейщик забрызгал меня кровью и тяжело навалился мне на плечо, воззвав по-португальски к Божьей Матери. Я высвободился, отбросил в сторону его копье, путавшееся в ногах. Плотные шеренги, пропахшие потом, кровью, порохом, мотали меня взад-вперед, точно прилив и отлив.
– Держись, ребята!.. Испания!.. Испания!
За спиной у нас, в центре каре, там, где развевались знамена, невозмутимо рокотал полковой барабан. Пули сыпались все гуще, солдат падало все больше, но шеренги смыкались, и меня в спину и с боков толкали крепкотелые люди в железе и коже.
Они все мне заслоняли, и я поднимался на цыпочки, выглядывая из-за плеча впереди стоящего, но видел только потрепанные поля шляп, гребни шлемов, поблескивающие стволы аркебуз и мушкетов, стальное сверкание копий и алебард. От жары, от порохового дыма нечем было дышать, кругом шла голова, и, едва не теряя сознание, я завел руку назад, сорвал с пояса кинжал и со всей мочи завопил:
– Оньяте! Оньяте!
Мгновение спустя, в треске ломающихся копий, в ржании раненых коней, в лязге стали голландская кавалерия прорвала строй, и началась такая каша, что один лишь Господь Бог смог бы понять, где свои, а где чужие.
VI. Резня
Иногда я смотрю на картину и предаюсь воспоминаниям. Даже Диего Веласкесу, хоть я и рассказал ему все, что мог и как умел, не под силу оказалось изобразить на полотне ни ту долгую и смертельно опасную дорогу – она лишь угадывается за клубами порохового дыма, за серой дымкой, – которую пришлось нам одолеть, дабы стать участниками этой величественной сцены, ни копья всех тех, кто остался на обочинах, так и не узрев солнца Бреды. Прошли годы, и довелось мне увидеть, как кровавились острия наших копий в резне при Нордлингене или Рокруа: в первом случае блеснула прощальным блеском испанская звезда, во втором – навсегда закатилась она для армии, действующей во Фландрии. И в памяти моей эти битвы, как и сражение за Руйтерскую мельницу, остались прежде всего звуками – криками, воплями, скрежетом и лязгом стали о сталь, треском рвущейся одежды, хрустом ломающихся костей. Спустя много лет Анхелика де Алькесар игриво осведомилась, приходилось ли мне слышать звук более жуткий, чем тот, с которым мотыга рассекает картофельный клубень. Приходилось, отвечал я без колебаний, – когда черепная коробка от грамотного удара разлетается на куски. Анхелика улыбнулась, устремив на меня пристальный и задумчивый взгляд своих синих глаз, полученных в дар не иначе как от самого дьявола. Потом протянула руку, дотронулась до моих век, которые не смежал я и в самые страшные мгновенья, провела по моим губам, которые размыкались столько раз, исторгая крики ужаса или ярости, прикоснулась к моей руке, знавшей тяжесть клинка, не раз обагрявшейся кровью. Потом ее пухлые, теплые губы одарили меня поцелуем – они улыбались и пока длился он, и потом, когда она отстранилась. Давно уже нет больше на свете ни Анхелики, ни той Испании, о которой веду я рассказ, но до сих пор не изгладилась из моей памяти эта улыбка. Та самая, что играла на ее устах всякий раз, как Анхелика творила очередное зло, всякий раз, как подвергала мою жизнь смертельному риску, всякий раз, как целовала мои шрамы. Один из них, о чем я вам в свое время поведал, остался от удара, который она же мне и нанесла.
Помню, что испытывал я и гордость. Какие чувства обуревают человека в бою? Прежде всего, конечно, страх, задор, безумие. Потом – устало-покорное безразличие ко всему на свете. Но если посчастливится ему выжить и если он не пальцем деланый, а настоящий мужчина, то ощутит еще и толику гордости за то, что исполнил свой долг. Нет-нет, господа, сейчас речь не о присяге, принесенной Богу и королю, не о порядливости работника, брезгующего есть даровой хлеб, и даже не о тех обязательствах, какие имеются у каждого из нас перед друзьями-товарищами. Я о другом – о том, чему выучил меня капитан Алатристе: о долге сражаться, когда надо сражаться, сознавая, что за спиной у тебя – родина и рота, ибо по зрелом размышлении приходишь к выводу: ни та, ни другая не достаются тебе случайно. Я толкую о том, что надо покрепче сжать рукоять, потверже стать, где стоишь, и продать свою шкуру подороже, а не с безгласной покорностью овцы на бойне. Я разумею, что познал и на собственном опыте убедился: очень редко предоставляет нам жизнь возможность с достоинством и честью потерять ее.
Ну, короче говоря, я пустился на поиски своего хозяина. В этом кромешном аду, где сыпались удары, гремели выстрелы, метались, волоча за собой кишки, лошади со вспоротым брюхом, рыскал я с кинжалом в руке, зовя капитана Алатристе. Там и тут, повсюду и везде шло смертоубийство, но уже не во славу нашего государя, а только чтоб жизнь спустить не за бесценок. Плотно сцепясь в клубок, резались мы с голландцами, и только по красным или же оранжевым перевязям можно было отличить своих от чужих, понять, кому всаживать клинок в брюхо, на чье плечо опереться.
Я впервые был в настоящем бою – в отчаянной схватке со всем, что определялось понятием «враг».
Конечно, мне и раньше приходилось бывать в разных переделках – в Мадриде я застрелил человека и скрестил оружие с Гвальтерио Малатестой, а здесь, во Фландрии, штурмовал городские ворота в Аудкерке, да и в других местах пускал в ход пистолет или кинжал: кто посмеет сказать, что это – не боевой опыт? Да и сегодня разве я не добил кинжалом раненного капитаном еретика? Разве не был выпачкан вражьей кровью мой колет? Но никогда прежде, до этой атаки голландцев, не охватывало меня сущее безумие, не доходил я до той черты, где удача значит больше, нежели отвага или ловкость. Топчась на окровавленной траве, попирая раненых и убитых, сойдясь с врагом грудь в грудь, так что и от пик, и от аркебуз, да и от шпаг проку уже не было никакого – вся надежда на кинжал, – беседовали испанцы с голландцами, время от времени пистолетным выстрелом в упор ставя точку в этом диалоге. Право, затрудняюсь объяснить, как сумел я уцелеть в этой резне, знаю только, что по прошествии скольких-то мгновений или столетий – само время текло в этот день не так, как должно, – вынесло меня, оглушенного, изможденного, полного одновременно и ужаса, и боевого задора, прямехонько к тому месту, где стояли капитан Алатристе и его товарищи.
Богом клянусь, это были сущие волки! В хаосе рукопашной схватки островком выделялся взвод моего хозяина, в миниатюре повторявший боевой порядок полка – защищая друг другу спину, они действовали шпагами и кинжалами так же споро и стремительно, как орудует своими челюстями волк.
И не кричали для поднятия духа «Испания!» или «Сантьяго!», нет – бились, сжав зубы, чтоб не тратить сил, потребных для умерщвления еретиков, а уж это, поверьте, они делали на совесть. Мелькала окровавленная тряпка на голове Себастьяна Копонса, наполовину обрубив копья, сдерживали натиск голландцев Гарроте и Мендьета, по самую рукоять покрыты были кровью шпага и кинжал в руках капитана Алатристе. Здесь же дрались братья Оливаресы и галисиец Ривас. Что же касается Хосе Льопа, то он мертвый валялся на земле. Я не сразу признал уроженца Майорки, потому что аркебузная пуля снесла ему полчерепа.
Диего Алатристе – без шляпы, со взлохмаченными, влажными, давно не мытыми волосами, падавшими ему на лоб, закрывавшими уши, – стоял, широко расставив, будто вколотив, ноги в землю, и лишь воспаленные глаза, опасным огнем сверкавшие на черном от пороховой копоти лице, говорили что и ему не чужда ярость боя. Осмотрительно и скупо тратя силы, будто черпая их из какого-то тайного и несякнущего кладезя, капитан наносил удары расчетливо и точно, и оттого, вероятно, они всякий раз оказывались смертельными. Парировал выпады, останавливал летящий прямо в грудь наконечник копья и при малейшей возможности опускал руки, давая себе передышку, прежде чем снова вступить в бой. Я приблизился, но он ни знаком, ни словом не показал, что заметил меня; казалось, пребывает он вдали отсюда, в конце какого-то долгого пути, в преддверии ада и дерется, не оглядываясь назад, не оборачиваясь.
У меня так затекла рука, что в конце концов пальцы, сжимавшие кинжал, сами собой разжались, и я выронил его. Наклонился подобрать. А когда стал выпрямляться – увидел нескольких голландцев: вопя во все горло, они ринулись на нас. У самых ушей прожужжало несколько мушкетных пуль, застучали, ударяясь и сталкиваясь, копья. Вокруг падали люди, а я, пытаясь выпрямиться, понял, что пробил мой час.
Что-то стукнуло меня по голове, все поплыло, и замелькали перед глазами бесчисленные святящиеся мушки. Теряя сознание, я из последних сил стискивал в руке кинжал, не желая расставаться с ним: все мне стало безразлично, кроме одного – не хотелось, чтобы нашли меня безоружным. Потом вспомнил мать и непослушными губами забормотал молитву.
– Отче наш… Gure Aita… – тупо повторял я по-испански и на родном языке, не в силах вспомнить, как там дальше. В этот миг кто-то ухватил меня за ворот колета и поволок по траве, заваленной телами. Я раза два наугад слабо ткнул кинжалом, считая, что меня тащит голландец, но последовавшие один за другим подзатыльники заставили меня уняться. И вдруг я оказался внутри небольшого круга, очерченного ногами в заляпанных грязью сапогах, а над головой услышал дивный концерт для стали, с лязгом и звоном полосующей сталь, со свистом рассекающей ткань и плоть, с хрустом дробящей и мозжащей кости, для стали, говорю, и множества глоток, исторгающих сиплые крики ярости, боли, ужаса, а равно и предсмертные хрипы. Сзади, оттуда, где неколебимо стояли вокруг знамен основные наши силы, горделиво-невозмутимая барабанная дробь, как и прежде, приказывала держаться во славу старой бедной Испании.
– Отходят! Отходят! Вперед марш!
Теперь, когда стало понятно, что картахенцы выстояли, хотя в первых шеренгах живых уже не осталось – эти бойцы пали, с места не сойдя, – грянули трубы, а полковой барабан рассыпал дробь поживее, и рокот его подхватили барабаны полков, идущих к нам на выручку, над плотиной и вдоль дороги на Руйтерскую мельницу заколыхались их знамена, засверкали острия их копий. Появилось долгожданное подкрепление. Слева от нас выдвигался эскадрон итальянских кавалеристов, везших за седлом стрелков; всадники приветственно махали нам, прежде чем, переведя коней в галоп, ударить на голландцев, которые отступали, смело могу сказать, в полнейшем беспорядке, ища спасения в лесу.
Отряд мушкетеров и латников беглым шагом уже достиг противоположной стороны дороги, спустясь к тому месту, где еще совсем недавно противник крошил стойких валлонов.
– Вперед! Вперед! Испания и Сантьяго!
Испанский лагерь огласился криками торжества – солдаты, которые все утро хранили упорное молчание, теперь восторженными воплями славили Пречистую Деву и Святого Иакова, даровавших нам победу; измученные ветераны опускали оружие, целовали свои четки и ладанки. Барабан зарокотал, призывая начать безжалостное и беспощадное преследование обращенного вспять врага, захватить его обозы и прочую добычу, сполна расквитаться за изнурительный бой, длившийся столько часов кряду. Сломав строй, наши бросились вдогон за неприятелем, и первыми их жертвами стали раненые и отставшие, которым разбивали головы, отсекали руки-ноги, резали глотки, делали такие сквозные прорехи, что никакой иглой не заштопаешь, и никому не было ни пощады, ни жалости, ибо всякий знает: испанская пехота отличается стойкостью в обороне, напором в наступлении и лютой жестокостью – в час мести. Не остались в сторонке итальянцы с валлонами: сии последние были особенно ретивы, ибо стремились отплатить за кровь своих погибших товарищей из полка Карла ван Сойста. Так что красиво вписалась в пейзаж тысячезвенная цепь солдат, рубящих, колющих, потрошащих карманы раненых и убитых, раскиданных по всему полю, причем многие тела искромсаны были до такой степени, что разве что ухо оставалось целым.
Вместе с остальными предавались этому занятию капитан Алатристе и прочие солдаты его взвода, исполненные, сами понимаете, господа, и жара, и ража, вдогонку же за ними поспевал и ваш покорный слуга, совершенно одурелый и от боя, и от удара по башке, оставившего на ней шишку с куриное яйцо величиной, что не мешало мне, впрочем, весьма воинственно драть глотку. По пути вынул я из рук у первого же убитого голландца превосходную шпагу золингеновской стали, сунул в ножны кинжал и размахивал своим трофеем, разя всех, кто попадался под руку, с проворством прирожденного шпиговальщика. Все это было одновременно забавой, убийством и сумасшествием, и превратилось поле боя в бойню, где падали под нашими ударами британские бычки, голландские барашки. Иные даже не сопротивлялись. Помню, как, настигнув скольких-то голландцев, застрявших по пояс в торфянике, мь перебили их всех до единого, как бьют рыбу острогой на отмели, хоть они бросили оружие, подняли руки и молили о пощаде: кололи и рубили, покуда черноватая вода болотца не сделалась сплошь красной, покуда все они не закачались на поверхности, словно разделанные на куски тунцы.
Нечего сказать, разгулялись мы на просторе, так разгулялись, что уняться уже не могли. Гнали еретиков миль пять и до самого вечера, и присоединились к нашей травле и мои товарищи-мочилеро, и окрестные крестьяне, в алчности своей не делавшие различий между своими и чужими, и даже кое-кто из маркитанток, гулящих девок и прочих спутниц действующей армии, которые слетелись из Аудкерка, почуяв наживу или, если угодно, – на запах добычи. Там, где за нами по пятам, подбирая объедки, проходила эта шакалья стая, не оставалось уже ничего, кроме дочиста ободранных и догола раздетых трупов. Я же следовал в первых рядах, не чувствуя усталости, словно ярость и жажда мести придали мне силы гнать врага хоть до скончания века и на край света. Я – прости меня, Господи – сорвал себе голос и до ушей перемазался кровью этих несчастных. За лесом, над горящими мызами разливалась уже красноватая вечерняя заря, и не было ни дороги, ни тропинки, ни канала, не заваленных грудами убитых. И все же мы наконец притомились и остановились в крохотной – домиков пять-шесть – деревушке, обитатели коей, включая скотину и птицу, были вырезаны поголовно. Кучка отступавших еретиков попыталась было закрепиться тут и занять оборону, и, покуда мы возились с ними, день померк окончательно. И вот, освещенные заревом горящих домов, расположились мы на отдых, и, дыша как загнанные кони, свалили наземь трофеи, сами попадали, кто где стоял, ибо внезапно обуяла всех неимоверная усталость. Только полный олух может думать, будто победа веселит; приходя мало-помалу в себя, мы молчали, старались не смотреть друг на друга, будто стыдясь наших всклокоченных грязных волос, почерневших, искаженных лиц, воспаленных глаз, кровавой коросты, покрывавшей одежду и оружие.
Теперь слышно было лишь, как стропила и балки трещат в огне, а потом с грохотом рушатся. Впрочем, доносились из окрестной тьмы крики и выстрелы тех, кто еще не угомонился и продолжал преследование.
Совершенно измочаленный, я присел на корточки, привалился спиной к стене дома. Было так дымно, что я обливался слезами, дышал с трудом и умирал от жажды. В свете пожара я видел Курро Гарроте, увязывавшего в узелок добытые у врага перстни, цепочки и серебряные пуговицы, распростертого на земле Мендьету – если бы не его могучий храп, он казался бы не менее дохлым, чем раскиданные там и сям голландцы, – капитана Брагадо с подвязанной рукой, прочих испанцев, сидевших кучками или поодиночке. Не сразу, исподволь стал завязываться разговор вполголоса, пошли расспросы о судьбе того или иного товарища. Кто-то осведомился насчет Льопа, но ответа не дождался. К костеркам, на которых жарили мясо, вырезанное из туши убитой коровы, начали постепенно подтягиваться солдаты, усаживаться вокруг. Голоса зазвучали громче, и вот уже следом за чьим-то удачным замечанием или шуткой грянул хохот. Отлично помню, как поразил он меня – после такого дня казалось, что все мы смеяться разучились навсегда.
Повернув голову к Алатристе, я встретился с ним глазами. Он сидел у стены в нескольких шагах от меня, держа в руках будто приросшую к ним аркебузу.
Рядом, откинув к стене голову, примостился, со шпагой на коленях, Себастьян Копонс – все лицо покрыто бурой коркой запекшейся крови, а сдвинутый к затылку платок открывает рану на виске. Колеблющееся пламя, догладывая горевший невдалеке дом, через равные промежутки времени выхватывало из темноты их лица. Блестящими от огня глазами Диего Алатристе всматривался в меня так пристально, словно желал что-то прочесть в моей душе. А я испытывал одновременно смущение и гордость, глубочайшее изнеможение и прилив сил, ужасался, горевал, печалился и вместе с тем ликовал оттого, что остался жив – уверяю вас, господа, так оно все и было, все эти разноречивые чувства и ощущения вкупе со многими другими разом теснятся в душе человека, невредимым вышедшего из боя. Капитан молча продолжал рассматривать меня, и поскольку пытливость эта не была окрашена чем-либо еще, мне в конце концов даже стало неловко: я ведь ждал похвалы, душевной улыбки, слов одобрения – все же я вел себя как настоящий мужчина. И потому меня как-то обескуражил этот изучающий и по обыкновению невозмутимый взгляд, неизвестно что выражающий. Не удавалось мне угадать, какие именно чувства или полное их отсутствие таятся в нем. Не удавалось и никогда не удалось, хотя по прошествии многих лет, когда был уже более чем взрослым, обнаружил я – ну, или мне это показалось, – что и сам смотрю именно таким взглядом.
В беспокойстве я решил как-нибудь да нарушить нестерпимо тягостную тишину. И хоть все тело ныло, выпрямился, пристегнул к поясу трофейную шпагу и обратился к хозяину:
– Пойду, пожалуй, промыслю чего-нибудь?
Багровые сполохи играли на лице Алатристе.
Помедлив несколько мгновений, он ответил мне молча: кивнул – иди, мол. И долго смотрел вслед, когда я, предшествуемый своей тенью, двинулся прочь.
Проникавшие через окно отблески огня освещали стены красным. В комнате все было вверх дном – мебель переломана, шторы сорваны, ящики вывернуты. Осколки и черепки похрустывали под ногами, покуда я бродил по дому, отыскивая кладовую или чулан, до которых не добрались удалые наши ребята. Помню, какое уныние наводило это разграбленное, погруженное в полумрак жилище, лишившееся тех, кто одушевлял и согревал его; этот разоренный, опустошенный и запустелый дом, где прежде, без сомнения, раздавался смех ребенка, звучали нежные слова. И мало-помалу любопытство постороннего, без спросу вторгшегося в запретное пространство чужой жизни, уступило место скорби, нараставшей с каждой минутой. Мне вспомнился родной дом в Оньяте, представилось, что война и его разорила, а мать и сестер, чтобы хуже не было, заставила бежать. Представилось, как ходит по комнатам какой-нибудь юный чужеземец, созерцая разбросанные по полу обгорелые обломки – жалкие останки наших жизней, наших воспоминаний. Со столь свойственным солдатам себялюбием я порадовался, что нахожусь не в Испании, а во Фландрии. Ибо честью вас уверяю, господа: в таком деле, как война, неизменным утешением служит мысль о том, что страдают чужие, и завидной представляется участь тех, у кого никого нет в целом мире и кому, кроме собственной шкуры, ни жалеть, ни терять нечего.
Не найдя ничего, заслуживающего внимания, я справил малую нужду у стены и уже собрался выйти наружу, как вдруг непонятный звук приковал меня к месту. Я замер, прислушиваясь, и вот он повторился – еле уловимый стон, протяжный и жалобный, доносился из узкого прохода, заваленного всяким хламом и мусором. Я решил было, что там в щели, придавленная чем-нибудь, скулит собачонка, но потом понял – звуки эти производит человеческое существо, обнажил кинжал, ибо от шпаги в такой тесноте проку мало, и, держась вплотную к стене, ощупью двинулся вперед.
Зарево за окнами освещало не более половины комнаты, и красноватые тени плясали по стене, на которой висел исполосованный клинками ковер.
Под ним, в углу, образованном стеной и разбитым шкафом, я увидел человека и по тусклому блеску кирасы признал в нем солдата: длинные, светлые, спутанные волосы слиплись от крови и грязи, а всю правую сторону лица страшенный ожог превратил в разверстую рану. Он полусидел неподвижно, устремив потускнелый взор к свету, и с полуоткрытых губ вновь сорвался тихий, длительный, жалобный стон – но на этот раз в него вплетались невнятные слова на чужом языке.
С кинжалом наготове я медленно приблизился, не сводя настороженного взгляда с этого человека, внимательно следя за его руками на тот случай, если в них вдруг окажется оружие. Но нет – несчастный был уже в двух шагах от того берега, куда причаливает перевозчик по имени Харон. Я присел перед раненым на корточки и несколько мгновений с любопытством рассматривал его, но он словно не заметил меня, и даже когда я тронул его за руку, продолжал неотрывно глядеть в окно, протяжно стонать и лепетать что-то бессвязное и невнятное.
Настоящий двуликий Янус, подумал я тогда: одна половина лица почти не пострадала, зато другая сожжена и смята в лепешку, сочится крохотными капельками крови. Обуглены были и кисти рук. Заметив на задах дома в объятом пламенем хлеву трупы голландцев, я сообразил, что этот, вероятно, был ранен и в поисках убежища приполз сюда по горящим головням.
– Flamink? – спросил я.
В ответ прозвучал все тот же нескончаемый стон. Тут я разглядел, что раненый ненамного старше меня, а по одежде и кирасе заключил, что это – один из кирасир, атаковавших нас утром возле мельницы. Совершенно не исключено было, что мы дрались неподалеку друг от друга, когда голландцы и англичане пытались прорвать наш строй. «Какие странные фортели выкидывает жизнь, – глубокомысленно подумал я, – какие причудливые арабески сплетает». Но после пережитого сегодня ужаса, после преследования и резни я не испытывал к нему ни вражды, ни злорадного чувства. Много испанцев погибло в этот день, но врагов – еще больше. Чаши моих весов уравновесились – распростертый передо мной человек был беззащитен, а я пресытился кровью. И потому спрятал кинжал в ножны. Выбрался наружу, подошел к капитану Алатристе и прочим.
– Там – человек, – сказал я. – Солдат.
Алатристе не переменил позы при моем появлении, лишь поднял голову:
– Наш или голландец?
– Голландец, наверно. Или англичанин. Еле живой.
Капитан медленно покивал, словно соглашаясь с тем, что странно было бы в такой час наткнуться на еретика целого и невредимого. Потом пожал плечами – зачем, мол, я все это рассказываю?
– Думаю, надо бы помочь ему.
Тогда он наконец – и очень медленно – перевел взгляд на меня.
– Ты думаешь… – пробормотал он.
– Да.
Какое-то время он молча рассматривал меня.
Потом полуобернулся к Себастьяну Копонсу, который по-прежнему молча сидел рядом, откинув голову к стене и сдвинув свой платок к самому затылку.
Алатристе коротко переглянулся с арагонцем и вновь взглянул на меня. Стало слышно, как потрескивает пламя.
– Думаешь, значит… – повторил он рассеянно.
С трудом разминая затекшие ноги, капитан пошевелился, поднялся. Он был явно не в духе и очень утомлен. Я видел, что Копонс тоже встал.
– Где он?
– В доме.
Я провел их по комнатам и узкому коридорчику туда, где оставил раненого. Тот все также неподвижно полусидел в углу и еле слышно стонал. Алатристе остановился на пороге, оглядел голландца и лишь затем подошел вплотную. Склонился над ним и довольно долго всматривался.
– Голландец, – заключил он.
– Мы можем помочь ему? – спросил я.
Плясавшая на стене тень замерла.
– Конечно.
Захрустели под сапогами обломки плитки – это Себастьян Копонс прошел мимо, приблизился к раненому и, заведя руку за спину, достал бискаец.
– Идем отсюда, – сказал мне капитан.
Противясь давлению тяжелой его руки, которая влекла меня к выходу, я успел увидеть, как Копонс взмахом кинжала перерезал голландцу горло от уха до уха. Дрожа от ужаса, я вскинул голову, чтобы взглянуть в лицо Алатристе. Оно тонуло во мраке, но я знал, что глаза его устремлены на меня.
– Но ведь… – запинаясь, начал было я и тотчас осекся, мгновенно осознав, что слова бесполезны.
Повинуясь безотчетному порыву, дернул плечом, чтобы стряхнуть руку Алатристе. Не тут-то было – он держал меня крепко. Копонс выпрямился и с обычной своей невозмутимостью обтер лезвие с рукав убитого, сунул кинжал в ножны. Потом обо шел нас и по коридорчику двинулся наружу, не вы молвив ни слова.
Я резко крутанулся на месте и наконец высвободился. Шагнул к убитому. Все осталось по-прежнему – только стихли стоны, да по латному нагруднику поползла густая, темная, поблескивающая струя, и багрянец ее сливался с сочившимся сквозь стекло заревом. Юный голландец казался еще более одиноким, чем прежде, – до того одиноким, что сердце мое сжалось нестерпимой жалостью: показалось на миг, будто это я полусижу на полу, привалясь спиной к стене, устремив неподвижные широко раскрытые глаза во тьму за окном. И ведь кто-то ждет его возвращения, а он не вернется никогда. Мать ли, невеста, сестра, отец – кто-то ведь молится за него, просит бога поберечь его в бою, сделать так, чтоб не ранили, не убили, чтобы он пришел домой. Должно быть, там цела еще его младенческая колыбель, там стены, видевшие его маленьким, помнят, как он рос и мужал. И никто покуда не знает, что его больше нет.
Не помню, как долго стоял я в оцепенении, глядя на мертвого. Потом за спиной раздались шаги. Я и не поворачиваясь понял, что это капитан Алатристе: повеяло таким знакомым терпким запахом – смесью пота, кожи, металла. Затем послышался его голос:
– Каждый знает, когда приходит его час… Вот и он знал.
Я не ответил, продолжая смотреть на голландца.
Теперь под его вытянутыми ногами набралась уже целая лужа крови. Невероятно, подумалось мне, сколько же в нас крови – полведра, по крайней мере. И как легко и просто выпустить ее наружу.
– Вот и все, что мы могли для него сделать, – добавил капитан.
Я промолчал и на этот раз, по звукам угадывая, что происходит рядом со мной: вот Алатристе постоял минутку, словно раздумывая, надо ли все же вызвать меня на разговор, и между нами будто повисло безмерное множество невысказанных слов; не произнесешь их сейчас – они не произнесутся уже никогда. Но решил, видно, что не стоит, а потом я услышал его удаляющиеся шаги.
Тут меня будто прорвало. Никогда прежде не испытанная ярость – глухая, ледяная – накатила на меня. Ярость, перемешанная с таким же горчайшим отчаяньем, какое всегда чудилось мне в молчании Алатристе.
– Хотите сказать, капитан, что мы совершили благое дело? Удружили ему? А?
Никогда еще не позволял я себе разговаривать со своим хозяином таким тоном. Стук сапог замер, и прозвучал тусклый безжизненный голос.
– Моли бога, Иньиго, чтобы в твой смертный час кто-нибудь вот так же удружил бы тебе, – произнес Алатристе, и мне легко было представить в ту минуту, как незряче уставились в пустоту его светлые глаза.
Вот как было дело в ту ночь, когда Себастьян Копонс прирезал раненого голландца, а я стряхнул с плеча руку Диего Алатристе. В ту ночь, когда я, сам того не зная, пересек таинственную черту, которую рано или поздно приходится переступать всякому человеку с умом и сердцем. Стоя в одиночестве перед трупом голландца, я по иному стал смотреть на мир. И ужасная истина, лишь слабое предвестие которой угадывал я прежде в прозрачно-зеленоватых глазах капитана, ныне открылась мне: тот, кто убивает издали, понятия не имеет о том, что такое убийство Тот, кто убивает издали, не усваивает уроков жизни и смерти – он не рискует, не обагряет свои руки кровью, не слышит дыхания противника, не видит в его глазах ужас, или злобу, или безразличие. Тот, кто убивает издали, не подвергает испытанию крепость своей руки, силу духа и совесть, не творит призраков, которые потом всю жизнь будут являться к нему по ночам, тревожа его сон. Тот, кто убивает издали, – негодяй, который заставляет других делать за него грязную и кровавую работу. Тот, кто убивает издали, – наихудший из людей, ибо ему неведомы ярость, ненависть, жажда мести, равно как и жалость или раскаянье. И потому тот, кто убивает издали, не знает, чего лишен.
VII. Осада
От Иньиго Бальбоа – дону Франсиско де Кеведо Вильегасу.
В таверну «У Турка», на улице Толедо, подле Пуэрта-Серрада, в Мадриде.
Дорогой дон Франсиско:
Пишу к Вам во исполнение пожелания капитана Алатристе, который хотел показать Вам, каких успехов я достиг в каллиграфии. Извините, если встретятся ошибки. Я, как и прежде, при каждом удобном случае берусь за книгу и при первой возможности практикуюсь в письме В свободное время, хотя у солдата его немного, а у мочилеро – еще того меньше, я выучился у падре Салануэвы кое-каким латинским стихам. Падре Салануэва – это наш полковой капеллан, которому, по словам наших солдат, до мужа праведного – как до Луны, однако он чем-то весьма обязан моему хозяину и оказывает ему всякие услуги. Со мною он ласков и в свободное (от пьянства) время старается образовать меня с помощью «Записок о Галльской войне», сочиненных Юлием Цезарем, а также книг Ветхого и Нового Завета. Кстати о книгах – весьма благодарен Вам за присылку второго тома «Дон Кихота», который я читаю с таким же удовольствием и пользой для себя, как и первый.
Что же касается нашей жизни во Фландрии, то спешу уведомить вас, дон Франсиско, о некоторых изменениях, произошедших за последнее время. С окончанием зимы окончилась и наша гарнизонная жизнь по берегам Остерского канала. Наш Картахенский полк переброшен под стены Бреды и принимает участие в осаде крепости. Укреплена она славно, и приходится нам нелегко – без устали ковыряемся в земле, роем подкопы, подводим мины и контрмины, так что больше похожи на кротов, нежели на солдат. От такой жизни мы измучились, заросли грязью и обовшивели. К тому же голландцы не дают нам покоя, постоянно предпринимая вылазки и обстреливая со стен, стены же сложены не из кирпича, а из земли, так что наша артиллерия не причиняет им особого ущерба. Город прикрывают пятнадцать превосходно укрепленных бастионов и рвы с четырнадцатью равелинами, причем вся эта, как говорят наши инженеры, фортификационная система выстроена так продуманно и хитроумно, что все ее элементы взаимодействуют друг с другом, отчего всякая наша попытка приблизиться стоит нам неимоверных усилий и значительных потерь. Руководит обороной голландец Юстин Нассау, родственник и однофамилец небезызвестного Морица Оранского. Ходят слухи, будто гарнизон у него разноплеменный: французы и валлоны защищают Гиннекенские ворота, англичане – Больдукские, а фламандцы с шотландцами – Антверпенские. Все они весьма поднаторели в военном деле, и потому взять город приступом нам не удалось. Пришлось начать правильную осаду, каковую ценой многих жертв и изнурительных трудов ведет наш генерал дон Амбросьо Спинола, у которого под началом – пятнадцать полков, набранных из тех, кто исповедует святую католическую веру. Испанцы, хоть и оказались среди них в меньшинстве, выполняют самые опасные и трудные задания, требующие отличной боевой выучки и дисциплины.
Ах, если бы Вы, дон Франсиско, могли своими глазами увидеть, с какой изобретательностью и выдумкой ведутся осадные работы! Клянусь, это истинное чудо, какого не найти больше нигде в Европе, – все деревушки вокруг Бреды соединены между собой траншеями и редутами, призванными отбивать вылазки осажденных и воспрепятствовать тому, чтобы неприятель перебросил к ним подкрепления. Случается, что мы по целым неделям не рубим, а роем, не стреляем, а копаем, так что руки наши стали привычней к мотыге и кирке, нежели к пике и аркебузе.
Местность эта – низменная, равнинная, много лугов и рощ; вина здесь мало, а вода – скверная, край вконец разорен войной, и потому во всем у нас недостача. Мера пшеницы стоит восемь флоринов, да еще пойди найди ее.
Репа – и та на вес золота. Здешние крестьяне и торговцы если и решаются подвозить нам съестные припасы, то лишь украдкой. Кое-кто из испанцев, сочтя, что голод – не тетка, не брезгует и кониной, благо убитых и павших от бескормицы лошадей – в избытке. Жуткое дело. Мы, пажи-мочилеро, отправляемся на промысел с каждым днем все дальше, забредая иной раз даже в расположение неприятеля и рискуя повстречаться с кавалерийскими разъездами голландцев. В этом случае – пощады не жди: зарубят или возьмут в плен. Мне самому не раз случалось доверять свою шею проворству собственных ног. Как я уже сказал, и в самой Бреде, и в нашем лагере сильно ощущается нехватка провианта, но это отчасти играет нам на руку и служит торжеству истинной веры, ибо еретики из числа французов, англичан, шотландцев и фламандцев избалованы вольготной сытой жизнью и оттого переносят голод и всякие лишения хуже, нежели наш брат испанец, который, и живя на родине, и воюя на чужбине, привык, что, мол, запил черствую корку хлеба глотком воды или вина, да и ладно.
В остальном же все у нас хорошо, и мы, хвала Господу, не хвораем. Завтра исполняется мне пятнадцать лет, а с тех пор, как мы не виделись, я подрос на несколько дюймов. Капитан Алатристе – все такой же: мало мяса на костях, еще меньше слов на устах. Незаметно, чтобы мытарства наши хоть как-то на нем отразились. Потому, наверно, что он, как сам говорит (топорща усы движением губ, отчасти заменяющим ему улыбку), и так всю жизнь жил впроголодь, военный же человек вообще должен быть привычен ко всему, а наипаче – к скудости. Как Вы, дон Франсиско, помните, мой хозяин не охотник писать письма, но попросил меня поблагодарить Вас за те, которые Вы посылаете нам. А также передать, что он Вам низко кланяется и шлет самый сердечный привет завсегдатаям таверны «У Турка», равно как и ее хозяйке Каридад.
Теперь последнее. От капитана я узнал, что Вы в последнее время часто бываете во дворце. Если это так, вполне вероятно, что Вы повстречаете там некую юную особу по имени Анхелика де Алькесар, вам, без сомнения, известную. Она была и, надо думать, остается фрейлиной ее величества королевы. Дерзну обратиться к Вам с просьбой сугубо личного свойства – выбрав благоприятный момент, сообщите означенной Анхелике, что Иньиго Бальбоа, служа нашему государю и святой вере, пребывает сейчас во Фландрии, где сражается честно, как подобает настоящему солдату и истинному испанцу.
Если Вы, дон Франсиско, сделаете это для меня, то чувство дружеского расположения, которое я к Вам неизменно питаю, возрастет безмерно.
Храни Вас Бог, как, впрочем, и нас всех.
Иньиго Балъбоа Агирре(Дано сие под стенами Бреды, апреля первого дня в лето тысяча шестьсот двадцать пятое)
Из траншеи слышно было, как ведут подкоп голландцы. Диего Алатристе приложил ухо ко вбитой в дно жерди, предназначенной для поддерживания фашин и тур, и снова услыхал приглушенные звуки, доносившиеся из недр земли. Вот уже неделю осажденные работали денно и нощно, роя тоннель к траншее, откуда осаждающие с таким же усердием тянули подземный ход в сторону бастиона под названием «Кладбище». Так что пядь за пядью продвигались мы навстречу друг другу: одни намеревались подвести мину, а другие – контрмину; одни собирались взорвать несколько бочонков пороха под голландскими укреплениями, другие – преподнести в точности такой же славный гостинчик саперам его католического величества. Вопрос был в том, кто окажется трудолюбивей и успеет первым. Кто прибудет к месту назначения раньше, тот и запальные шнуры подожжет.
– Вот же ж проклятое животное, – сказал Гарроте.
Вытянув шею и прищурив левый глаз, он стоял, выставив мушкетный ствол в подобие бойницы, образованной крест-накрест приколоченными досками, которыми был обшит бруствер. Дымился фитиль. Гарроте брезгливо морщил нос. Под проклятым животным он разумел дохлого мула, третьи сутки лежавшего на солнцепеке в нескольких футах от нашей траншеи. Это был наш, испанский, мул – он удрал из расположения и безмятежно резвился на ничейной земле, покуда посланная со стены пуля не уложила его копытами вверх. Теперь разлагающаяся туша смердела и приваживала к себе жужжащие полчища мух.
– Упустил, не достанешь, – заметил Мендьета.
– А вот достану.
Мендьета, расположившись на дне траншеи, у ног Гарроте, с величайшей обстоятельностью, столь присущей нам, баскам, бил вшей, которые мало того что наслаждались жизнью в наших волосах и обтрепанной одежонке, так еще и невозмутимо выходили на гулянье. Бискаец, увлеченный своим занятием, поддразнивал Гарроте без особой охоты – так просто. Был он небрит невесть сколько времени, оборван и перемазан землей – как и все, не исключая и самого Алатристе.
– Засек?
Гарроте мотнул головой. Шляпу он снял, чтоб голландцам труднее было целиться. Сальные кудрявые волосы, заплетенные в косицу, лежали на заношенном воротнике колета.
– Сейчас не вижу… Да покажется, куда он денется…
Алатристе, стараясь не высовываться из-за бруствера, быстрым взглядом окинул место действия.
Голландец, о котором шла речь, был, скорее всего, один из саперов, рывших тоннель футах в двадцати отсюда. Тут как ни старайся, не спрячешься, покажешься – пусть хоть голову, а высунешь, а Гарроте больше и не надо. Он славился своей меткостью и теперь терпеливо подкарауливал жертву. Уроженцы Малаги – они ведь такие: весь свет обрыщут, добычу отыщут и за смердящего мула взыщут.
В зигзагообразной траншее, ближе других – ну, то есть совсем впритир – подходившей к голландским аванпостам, находилось десятка полтора солдат. Взвод Диего Алатристе проводил здесь две недели, а потом неделю отдыхал, тогда как остальные подчиненные капитана Брагадо размещались в ямах природных и рукотворных, занимая позиции между бастионом «Кладбище» и рекою Мерк, то есть подалее, но все же на дистанции, не превышавшей двух аркебузных выстрелов от крепостной стены и самого городишки Бреда.
– Вот он, нехристь… – пробормотал Гарроте.
Мендьета, только что уловивший вошку и разглядывавший ее, перед тем как казнить, с родственным любопытством, вскинул голову:
– Засек?
– Держу на мушке.
– Ну и пусть катится в геенну.
– Куда ж еще?
Гарроте провел языком по губам, раздул фитиль и теперь медленно наводил мушкет, щуря левый глаз и поваживая кончиком указательного пальца по спусковому крючку, словно это был сосок веселой девицы. Выглянув еще раз, Алатристе заметил мелькнувшую над голландской траншеей непокрытую голову.
– Еще один сдохнет без покаяния, – медленно проговорил Гарроте.
Следом раздался выстрел. Вспышка, облачко порохового дыма – и голова голландца исчезла. Послышались крики ярости, две-три пули взвихрил» землю перед бруствером испанской траншеи. Гарроте, уже успевший юркнуть вниз, смеялся сквозь зубы.
Грянули новые выстрелы, сопровождаемые злобной бранью по-фламандски.
– Да пошли бы вы… – сказал Мендьета, готовя к расправе очередное насекомое.
Себастьян Копонс открыл и тотчас вновь закрыл один глаз. Выстрел Гарроте прервал послеобеденную дрему, которой он предавался, присев у бруствера и уткнув голову в засаленный рукав. Братья Оливаресы тоже заинтересовались, подняли косматые – ну турки, сущие турки! – головы. Алатристе соскользнул вниз по земляной стенке, на военном языке именуемой «крутость», присел. Нашарил в сумке ломоть черствого черного хлеба, припасенный еще со вчерашнего дня. Поднес его ко рту и перед тем, как начать жевать, долго размачивал слюной. Тянуло тошнотворной вонью от туши мула, да и в самой траншее воздух не благоухал, так что изысканной трапезу назвать было нельзя, однако выбирать не приходилось – и этот-то ломоть был все равно что Валтасаров пир. До ночи провианта не подвезут – при свете дня к их траншее не подберешься: все простреливается.
Мендьета поймал очередную вошь и пустил ее гулять по ладони. Потом, наскучив игрой, прихлопнул. Гарроте прочищал шомполом еще горячий ствол аркебузы, напевая себе под нос что-то итальянское.
– Эх, кто в Неаполе не был… – проговорил он, осветив белозубой улыбкой по-мавритански темное лицо.
Весь взвод знал, что Курро Гарроте два года прослужил в Сицилийском полку и еще четыре – в Неаполе, а потом вынужден был сменить, так сказать, климат после череды не вполне ясных похождений: тут были и женщины, и поножовщина, и грабеж с подкопом и покушением на убийство, и срок в тюрьме Викариа, и добровольное заточение в церкви Ла Капела – словом, все, что полагается.
Добавить следует, что в промежутке между тем и этим нашел Гарроте время поплавать на галерах нашего государя вдоль берберийского побережья и у восточных островов, разоряя земли нечестивых язычников, грабя турецкие суда. По его словам, в те годы он скопил столько, что мог бы преспокойно выйти в отставку. И вышел бы, кабы не бабы, во множестве чрезвычайном попадавшиеся ему на жизненном пути, да не погибельное пристрастие к азартным играм, ибо относился наш Гарроте к тем, кто при виде стаканчика с костями или свежей колоды теряет разум и готов проиграть с себя все.
– Италия… – тихо произнес он, устремив взор в неведомую даль и позабыв убрать с лица плутоватую улыбку.
Название страны прозвучало как имя женщины, и капитан Алатристе знал, почему. Хоть плавания его по морю житейскому были не столь разнообразны, как у Гарроте, ему тоже нашлось бы что вспомнить об Италии, тем паче что во фламандской траншее воспоминания эти делались особенно сладостны. Как и все здешние ветераны, он тосковал по этой стране, а точней говоря – по своей юности, протекшей под благодатной синью Апеннинских небес. В двадцать семь лет выйдя из полка, отличившегося в Валенсии при подавлении восстания морисков, он добился перевода в Неаполь, чтобы драться с турками, берберами и венецианцами. Своими глазами видел, как горела на траверзе Колеты басурманская эскадра, высаживался с капитаном Контрерасом на острова Адриатики, участвовал в изнурительном и кровопролитном деле при Керкенесе, где с помощью однополчанина по имени Диего Дуке де Эстрада вынес на себе из боя тяжело раненного юношу – будущего графа де Гуадальмедину. И в те годы щедроты фортуны и прелести Италии неизменно чередовались с тяжкими мытарствами и великими опасностями, однако им не под силу было отравить сладостный вкус воспоминаний об увитых виноградом беседках на пологих склонах Везувия, о товарищах, о музыке, о вине, что подавали в таверне Чорильо, о прелести тамошних женщин. За вёдром – ненастье, за счастьем – несчастье, и в тринадцатом году его галера в Босфорском проливе нарвалась не в добрый час на турок: половину команды изрубили ятаганами, изрешетили стрелами, пустили чайкам на корм; сам Алатристе был тогда ранен в ногу, взят в плен, однако же повезло – корабль, в трюме которого везли его вместе с прочими, перехватили испанцы. По истечении еще двух лет, когда новому веку шел пятнадцатый год, Диего Алатристе, вступив в возраст Христа, оказался в числе полутора тысяч испанцев и итальянцев, которые, погрузившись на пять галеонов, четыре месяца кряду опустошали левантинское побережье, возвращаясь в Неаполь с богатейшей добычей. Но колесо Фортуны, крутанувшись в очередной раз, сбросило его во прах: большеглазая женщина, белокурая, но чернобровая, помесь испанки с итальянкой, из тех, что по виду мухи не обидят, а на деле совладают с полуротой аркебузиров, сначала попросила купить ей полфунтика генуэзских слив, потом – золотое ожерелье, потом – шелковых платьев, а потом, как водится, растрясла его до последнего грошика. Завершилось это приключение вполне в духе комедий Лопе: навестив свою красавицу в неурочное время, капитан застал ее в непозволительно тесном соседстве с неким незнакомцем, сохранившим на себе из одежды одну лишь сорочку. Хозяйка, нимало не смутясь, без заминки и запинки отрекомендовала его своим двоюродным братом, но кое-какие обстоятельства – да не кое-какие, а изрядные – лишали ее доводы должной убедительности и наводили на мысль о том, что приход Алатристе помешал излиянию родственных – или, может, двоюродственных? – чувств. Впрочем, в капитановы года подобной чуши уже не верят. Так что свистнувший наотмашь клинок одарил хозяйку отметиной поперек щеки, а гостю – он, кстати, так без штанов и вступил в схватку, что пагубно сказалось на его боевом духе и фехтовальном мастерстве, – вошел пяди на две между грудью и спиной; Алатристе же поспешил, пока не зацапали, убраться от греха подальше. В его случае это означало как можно скорей отплыть в Испанию, что ему сделать и удалось, благодаря давнему приятелю, помянутому уже Алонсо де Контрерасу, вместе с которым они, тринадцатилетние в ту пору, отправились во Фландрию сражаться под знаменами кардинала принца Альберта.
– Брагадо идет, – сказал Гарроте.
И в самом деле командир роты шел по траншее, пригнувшись и сняв шляпу, чтоб не отсвечивать перед голландскими стрелками, засевшими на стене равелина. Тем не менее укрыть от них свою шестифутовую стать леонцу не удалось – словно приветствуя его появление, ударили один за другим два мушкета, и пули вжикнули над бруствером.
– Чтоб их разорвало… – проворчал Брагадо, обрушившись на землю между Копонсом и Алатристе.
В правой руке у капитана была шляпа, которой он обмахивал взмокшее от пота лицо, левая – на ней после памятного боя у Руйтерской мельницы не хватало мизинца и безымянного – придерживала шпагу. Посидел минутку и в точности, как незадолго до этого – Диего Алатристе, приложил ухо к деревянной жерди, нахмурился.
– Торопятся, негодяи.
Откинулся назад, обирая с усов крупные капли пота, катившиеся с кончика носа.
– Принес вам скверные новости. Числом две.
Долгим взглядом окинул безрадостную картину – мерзость запустения, царившую в траншее, грязь, бедственный вид своих солдат. Сморщился от вони, испускаемой мулом.
– Хотя для нас, испанцев, если скверных новостей всего две, это уже добрые вести.
Сказавши это, снова помолчал, скривил лицо неприятной гримасой и почесал нос.
– Ночью убили Ульоа.
Кто-то негромко выругался, но остальные хранили молчание. Ульоа был старый солдат и хороший товарищ, их сослуживец, не так давно получивший под начало взвод, а с ним и капральские нашивки.
Брагадо коротко объяснил, как дело было – пошли в разведку вдвоем с сержантом-итальянцем, а вернулся тот один.
– Кто его душеприказчик? – поинтересовался
Гарроте.
– Я, – отвечал Брагадо. – И треть жалованья завещано на поминальные мессы.
Наступившее молчание послужило капралу эпитафией. Потом Копонс продолжил свою сиесту, а Мендьета – охоту на вшей. Гарроте, вычистив мушкет, решил привести в порядок ногти – такие же черные, как его душа: лишнее он обгрызал и выплевывал.
– Как там наша мина? – спросил Алатристе.
– Движется помаленьку. Земля чересчур рыхлая да еще просачивается вода с реки. Саперам приходится крепи ставить, а это большая возня… Боюсь, как бы еретики не поспели раньше. Вот славно-то будет – рванет да и оторвет, с чем останемся?
С дальнего, невидимого отсюда конца траншеи грянули и тут же смолки выстрелы. Алатристе глядел на капитана – тот никогда бы не пришел к ним затем лишь, чтобы размять ноги. Какую же вторую новость он принес?
– Вам, господа, назначено идти в штреки, – вымолвил наконец Брагадо.
– … мать их в душу через семь гробов, – заметил по этому поводу Гарроте.
А штреки, надобно вам знать, – это узкие подземные проходы, укрепленные деревянными подпорками, проложенные поверху попонами и одеялами.
Используют их, чтобы не дать противнику подвести мину, равно как и для того, чтобы продвинуться вперед, поближе к вражеским позициям, выйти на поверхность в траншеях голландцев и выкурить их оттуда, взрывая петарды, поджигая серу и мокрую солому. Жуткое дело, я вам доложу, – эти прогулки под землей на манер слепых кротов, в темноте и в такой тесноте, что двигаться можно только в затылок друг другу, да не просто, а ползком или на карачках, да еще задыхаясь от жары и от пыли и от серных испарений. Штреки, тянувшиеся к бастиону «Кладбище», петляли вокруг главной нашей галереи и в непосредственной, можно сказать, близости от галереи голландской, так что сплошь и рядом бывало, что, снеся земляную стенку взрывом петарды или же просто древками пик, нос к носу сталкивались наши с неприятельскими саперами, и тогда в ход шли пистолет и кинжал, а еще лучше – короткая лопата, кромка которой для такого случая оттачивается как бритва.
– Пора, – сказал Диего Алатристе.
Он со своими людьми находился у входа в галерею, а капитан Брагадо, наблюдая за ними, стоял на коленях в неглубоком окопчике. По соседству располагался еще десяток солдат, готовых в случае надобности прийти на помощь Алатристе. А тот решил взять с собой Мендьету, Копонса, Гарроте, галисийца Риваса и обоих братьев Оливаресов. Мануэль Ривас, голубоглазый и белокурый красавчик, был человеком очень надежным и очень отважным, а по-испански объяснялся скверно и с сильнейшим выговором уроженца Финистерры. Оливаресы походили друг на друга, как две капли воды, хоть близнецами и не были: оба – жгучие, как принято говорить, брюнеты с буйной волосней, из коей воинственно торчали изрядные носы с горбинкой, свидетельствовавшей непреложно, что еще прадеды братьев свинину кушать отказывались наотрез – впрочем, вопрос того, насколько чистая у Оливаресов кровь, нимало не занимал их однополчан, справедливо полагавших, что раз уж человек проливает за отчизну кровь, значит, она у него самая что ни на есть голубая и беспримесная. Братья всегда ходили вместе, держались рядом, спали спина к спине, делили пополам последнюю корку хлеба и прикрывали друг друга в бою.
– Ну, кто первый? – спросил Алатристе.
Гарроте чуть отступил назад, с необыкновенным интересом изучая лезвие своего кинжала. Бледно улыбнувшись, Ривас собрался уж было выступить вперед, но Копонс, как всегда скупясь на слова, подобрал с земли несколько соломинок и роздал их товарищам. Самая короткая досталась Мендьете. Он долго глядел на нее, а потом молча подтянул пояс с кинжалом, снял шляпу и шпагу, взял в одну руку маленький пистолет, протянутый ему Алатристе, а в другую – короткую лопатку и полез в тоннель. За ним последовали капитан и Копонс, тоже отстегнувшие шпаги, скинувшие шляпы, тщательно оправившие на себе кожаные нагрудники, а потом и остальные. Брагадо со своими людьми, оставшись снаружи, следил за ними в безмолвии.
Вход в штольню был тускло освещен смоляным факелом, так что можно было различить лоснящиеся от пота тела полуголых немецких саперов, которые прервали свою полезную деятельность и, опершись на кирки и лопаты, смотрели на проходящих мимо испанцев. Немцы копали не хуже, чем сражались, особенно если трезвые и жалованье получили; и женщины их были им под стать – будто вьючные мулы, сновали они взад-вперед, перетаскивая из лагеря припасы, туры, шанцевый инструмент. Рыжебородый капрал – ручищи как окорока из Альпухарры – повел Алатристе и его людей через лабиринт галерей, укрепленных деревянными распорками, жердями и турами и делавшихся по мере приближения к голландским позициям все уже и ниже. И наконец остановился перед лазом никак не больше трех футов. Прилепленный к стене огарок освещал запальный шнур, зловещей черной змеей уходивший во тьму.
– Еще одна вара[62], – сказал сапер и, разведя руки, показал толщину земляной стены, отделявшей подземный ход от штольни голландцев.
Алатристе кивнул, и все семеро один за другим стали протискиваться в лаз, предварительно замотав лица платками. Немец улыбнулся:
– Zum Teufel[63].
И поднес огонек свечи к запальному шнуру.
Кости. Штрек проходил под кладбищем, и потому теперь отовсюду сыпались вперемежку с землей кости – большие и маленькие, тазовые и берцовые, черепа и позвонки. Цельные скелеты, обернутые грязными истлевшими саванами, или облаченные в сглоданное временем платье. Висящая в воздухе пыль, сгнившие доски гробов, обломки памятников, плит и крестов, тошнотворный смрад – вот что заполняло штрек после взрыва, когда Алатристе вместе с другими на четвереньках, распугивая мышей, устремился к бреши. Сквозь небольшую скважину просачивалось немного света, немного воздуху, пропитанного запахом сгоревшего пороха. Испанцы прошли сквозь это световое пятно и снова оказались во тьме, двигаясь туда, откуда доносились стоны и выкрики на чужом языке. Алатристе чувствовал, что все тело под колетом покрывается испариной, а пересохший рот забит землей – платок не спасал.
Он продвигался ползком, отталкиваясь локтями, и что-то круглое катилось перед ним. Это был человеческий череп, а сам скелет, вместе с гробом разнесенный взрывом, упал на капитана, оцарапав ему ягодицы острыми обломками костей.
Мыслей не было. Не было и чувств. Он полз, одолевая пядь за пядью, стиснув зубы, зажмурясь, задыхаясь под платком, которым было обвязано лицо.
Нывшие от напряжения мышцы ведали только одну цель – вынести его живым из этого странствия по стране мертвых, вывести его снова на свет дня. Сознание Алатристе будто дремало, не отвлекаясь ни на что, кроме этих обдуманных, механических движений, диктуемых долгим солдатским навыком. Его вела вперед уверенность в том, что от судьбы не уйдешь, да еще то, что впереди был Мендьета, а позади – кто-то еще. Такое уж место на земле – или, вернее, под землей – уготовила ему судьба, и никакими мыслями и чувствами этого не изменить. А потому неразумно тратить время и усилия на что-либо еще, кроме главного, – главное же заключается в том, чтобы ползти с пистолетом и кинжалом, повторяя зловещий, веками отработанный ритуал: убивать других, чтобы выжить самому. Вот как славно и просто, и никаких тебе чувств. Король и отчизна – каковы бы ни были они – слишком далеко от этого подземелья, от этой непроглядной черноты, в которой все слышнее делаются стоны и брань голландских саперов, попавших под взрыв. Видно, Мендьета уже добрался до них, потому что до Алатристе донеслись глухие удары, треск рассекаемой плоти, хруст костей: судя по этим звукам, бискаец орудовал лопаткой в свое удовольствие.
Но вот обломки гробов, кости, пороховой дым остались позади – штрек, расширяясь, выходил в галерею, вырытую голландцами. И творился там сущий ад. Помаргивал в углу, грозя вот-вот погаснуть, масляный фонарь, и в его красноватом неверном свете видно было, как корчатся на земле и стонут люди. Алатристе привстал на колени, сунул пистолет за пояс и свободной рукой принялся шарить вокруг себя. Лопатка Мендьеты крушила без жалости – раздался жалобный вопль. Кто-то отлетел спиной вперед к самому входу в штрек, повалился на капитана, слышавшего, что товарищи подобрались вплотную. Вспышка выстрела на краткий миг осветила штрек, выхватила из тьмы людей, ползавших по земле, лежавших навзничь, распростертых ничком, сверкнула отблеском на занесенной окровавленной лопатке в руке Мендьеты.
Движение воздуха гнало пыль и дым ко входу в штрек, и Алатристе осторожно двинулся в галерею.
Наткнулся нос к носу на кого-то еще живого, и голландская брань на мгновение опередила новую вспышку и грохот выстрела в упор, едва не опалившего капитану лицо. Бросившись вперед, он вслепую полоснул кинжалом сверху вниз и справа налево – оба удара попали в пустоту. Вытянув руку подальше, сделал еще один крестообразный выпад – и на этот раз клинок достиг цели. Вскрик, и следом – шарканье: голландец убегал на четвереньках. Алатристе погнался за ним, нанося беспорядочные удары на слух, тыча кинжалом туда, где раздавались вопли ярости и смертельного ужаса. Настиг, нашарил, придавил ногой – и стал бить сверху вниз, пока враг не затих и не замер.
– Ik geef mij over[64]! – зазвенел во тьме чей-то голос.
Сказано было не к месту – какие там пленные в этих подземных стычках? Испанцы и сами в случае невезения пощады не ждали. И мольба тотчас сменилась предсмертным хрипом: кто-то из ворвавшихся в галерею, по голосу найдя еретика, прикончил его Алатристе, не шевелясь, напряженно вслушивался. Грянули два выстрела подряд – и капитал разглядел, что в обнимку с голландцем совсем рядом барахтается на земле Копонс. Потом один из братьев Оливаресов вполголоса окликнул другого.
Копонс и голландец затихли. Любопытно, кто из них жив, а кто – нет:
– Себастьян! – позвал он шепотом.
Копонс утробным ворчанием разрешил его сомнения. Было тихо – лишь кто-то тихо постанывал, кто-то тяжело дышал совсем близко, да слышались тяжелые шаги. Алатристе встал с колен, вытянул перед собой, обшаривая темноту, левую руку, прижал к бедру правую – напряженную, готовую к действию, стиснувшую выставленный вперед кинжал. В меркнущем свете фонаря, разбрасывавшем напоследок искры, чуть виднелся заваленный обломками и мусором вход в галерею, ведущую к неприятельским траншеям. Капитан наткнулся на чье-то неподвижное тело, дважды – на всякий случай – вонзил в него клинок, перелез, двинулся дальше, у входа задержался, постоял, прислушался. Было тихо, но он уловил запах и крикнул:
– Сера!
По галерее медленно наползало удушливое облако – и не было сомнений: голландцы подожгли солому, смолу и серу и мехами гонят дым в сторону неприятеля. Сомнений не было и в том, что они решили наплевать на своих соотечественников, оставшихся по эту сторону галереи, а может быть, считали, что все уже перебиты. Ветер тянул сюда и благоприятствовал их замыслу: не успеешь «Отче наш» прочесть, как ядовитый дым отравит воздух. Алатристе, внезапно охваченный необоримой тоской, лавируя между трупами, на четвереньках ринулся к своим, толпившимся у входа в штрек, выбрался наружу и через несколько мгновений, показавшихся ему вечностью, уже снова полз по узкому подземному коридору, изо всех сил отталкиваясь локтями и коленями от рыхлой земли, натыкаясь на обломки надгробий и крестов. За спиной услышал чью-то брань: кажется, то был Гарроте, которого он, споткнувшись, помял немного сапогами. Миновал скважину в потолке штрека, жадно вдохнул свежий воздух и сразу же вновь пополз по узкой галерее – пополз, сдерживая дыхание и сжав зубы, покуда не увидел, как над плечами и головой товарища, спешившего впереди, светлеет отверстие лаза. Вот он наконец юркнул в широкую галерею, откуда уже ушли немцы-саперы, а потом вылез наружу, в родную траншею, сорвал платок и, отдуваясь, тяжело дыша, утер лицо – мокрое от пота, перемазанное землей, пылью, гарью. Выползали один за другим остальные – измученные, грязные, полуослепшие от непривычного света, похожие на восставших из гроба мертвецов. Проморгавшись наконец, Алатристе увидел капитана Брагадо, вместе с саперами поджидавшего их.
– Все тут? – спросил тот.
Недоставало Риваса и одного из Оливаресов.
Младший, Пабло, уже не черноволосый, а седой от пыли, шагнул было назад, и Мендьета с Гарроте насилу удержали его. Голландцы, приведенные в бешенство удачной диверсией, открыли со стен частую и беспорядочную пальбу – пули жужжали вокруг или мягко шлепались в корзины с землей.
– Славно засадили нехристям, – произнес Мендьета.
В голосе его слышалось не торжество, а одна лишь безмерная усталость. Он все еще сжимал в руке черенок лопатки – всю в земле и запекшейся крови. Рядом с Алатристе мешком осел на землю Копонс – перемешанная с потом земля превратила его лицо в глиняную маску.
– Сволочи! – в отчаянии заголосил младший Оливарес. – Гореть вам в аду во веки веков, еретики проклятые!
И осекся, увидав, как у входа в штольню показался Ривас, таща на закорках брата – полузадохшегося, но живого. Голубые глаза галисийца были воспалены, от светлых волос несло серой. Он сорвал с лица платок, сплюнул набившуюся в рот землю, вдохнул полной грудью:
– О, черт!.. Слава тебе, Господи!
Кто-то из немцев принес бурдючок с водой, и люди Алатристе стали по очереди пить.
– Я бы и ослиной мочой сейчас не побрезговал, – пробормотал Гарроте, плеснув на бороду и грудь.
Алатристе сидел в траншее, счищая с лезвия бискайца землю и кровь. Брагадо, не сводивший с него глаз, наконец спросил:
– Ну, что там в галерее?
– Чисто. Как этот клинок.
И, не прибавив к сказанному ни слова, спрятал кинжал в ножны.
– Слава тебе, Господи! – повторил Ривас и перекрестился. Голубые глаза его слезились.
Алатристе вслух не сказал ничего, а про себя подумал: «Господь тоже иногда пресыщается. Как объестся кровью и муками – отвернется и отдыхает».
VIII. Маскарад
В таких вот и подобных трудах и досугах минул апрель; чередуя погожие дни с дождливыми, вызеленив травку на полях, на могилах и вокруг траншей.
Пушки наши продолжали долбить стены Бреды, по-прежнему подводились мины и контрмины, а весь крещеный мир азартно палил из траншеи в траншею, и монотонность осады оживлялась время от времени то нашим приступом, то голландской вылазкой. Тут стали поступать сведения о том, что осажденные испытывают большие лишения – вернее, лишения испытывают их на прочность, большие, да все же не большие, чем осаждающие. Разница в том лишь, что голландцы выросли в краю благодатном и плодородном, что реки их, поля и города щедро были взысканы Фортуною, мы же, испанцы, век за веком орошали наши нивы потом и кровью, чтобы собрать с них хоть горстку зерна. И поскольку неприятель привычней оказался к усладам и роскошествам, нежели к полуголодному существованию, то иные французы и англичане – кто по природе своей, кто по привычке – стали бросать свои части и переходить на нашу сторону, рассказывая, будто за стенами Бреды перемерло уже не менее пяти тысяч человек из числа простолюдинов, бюргеров и солдат. Не раз бывало, что перед городскими воротами дрыгались в петле, встречая утро не для них наступавшего дня, шпионы, пытавшиеся доставить по назначению все более и более отчаянные письма, коими обменивались комендант крепости Юстин Нассау и его родственник Мориц Оранский – сей последний находился в нескольких лигах от Бреды и не оставлял попыток выручить гарнизон города, вот уж год как обложенного наглухо.
В те же дни дошли до нас известия о том, что этот самый Мориц задумал построить дамбу у Севенберга – это в двух часах пути от Бреды – дабы направить на нас воды Мерка, затопить наш лагерь и траншеи и на баркасах и лодках доставить в город подкрепление и продовольствие. Сей замысел сильно заботил нашего генерала Спинолу, который искал и не находил действенное средство воспрепятствовать тому, чтобы в один прекрасный день проснулись мы все в воде по шейку. По этому поводу зубоскалили следующим образом: надо, мол, отрядить на диверсию людей из немецких полков – они-то уж справятся:
…Колбасников созвать и объявить им, Что если тотчас не взорвать плотину, То все мы в водах Мерка захлебнемся. И я вас честью уверяю – мигом Они покончат с Морицевой дамбой, Поскольку век простой водой гнушались И впредь ее не пожелают пить.И примерно в те же дни капитана Алатристе вызвали в шатер дона Педро. Дело было к вечеру, солнце уже клонилось к западу, заливая розовым кромку плотин, за которыми виднелись силуэты ветряных мельниц и тянулись на северо-восток рощи. Для такого случая Алатристе привел себя по возможности в порядок: прикрыл нагрудником из буйволовой кожи драную сорочку, с особым тщанием вычистил оружие, насалил портупею и прочую ременную сбрую. Он ступил под откинутый полог шатра: в одной руке – потрепанная шляпа, другая придерживает шпагу – и стал навытяжку, не произнося ни слова и ожидая, когда дон Педро де ла Амба, беседовавший со своими офицерами, среди которых был и капитан Брагадо, соблаговолит обратить на него внимание.
– Ага, вот он самый и есть, – сказал полковник.
Алатристе не выказал при столь странном приеме ни тревоги, ни любопытства, хотя его приметливый взгляд не оставил без внимания успокаивающую улыбку Брагадо, посланную ему из-за плеча дона Педро. В палатке было еще четверо офицеров, и всех он знал, по крайней мере, в лицо: дон Эрнан Торральба, командовавший одной из рот; начальник штаба Идьякес и еще двое молодых людей – гусманов, как именовали в ту пору юных аристократов или родовитых дворян, жалованья не получавших и служивших ради славы или – что чаще случалось – чтобы завоевать репутацию перед возвращением в Испанию, где благодаря дружеским или семейным связям ожидало их теплое и покойное место. На столе, рядом с книгами и картами, стояло несколько бутылок: присутствующие пили вино – причем из хрустальных бокалов. Со дня взятия Аудкерка Алатристе не держал в руках такой посуды. «Пастухам – ужин, да и не всухомятку, а овечке – вертел», – кстати вспомнилось ему любимое присловье.
– Хотите глоточек?
Петлеплёт, скривив губы, что долженствовало означать любезную улыбку, изящным движением указал на бутылки и бокалы.
– Только что доставили из Малаги. Выдержанный «Педро Хименес».
Алатристе сглотнул, постаравшись, чтобы это осталось незамеченным. В полдень он, как и весь взвод, ел хлеб, сдабривая его маслом, надавленным не то из репы, не то еще из каких корнеплодов, и запивая грязноватой водицей, – обычное окопное угощение. Каждый сверчок знай свой шесток, вздохнул он про себя. Вышестоящие тебя сторонятся, ну и ты к ним не тянись.
– Если позволите, господин полковник, как-нибудь в другой раз.
Он постарался, не теряя почтительности, произнести эти слова так, чтобы ясна была причина отказа.
И дон Педро изогнул бровь и через мгновение повернулся к Алатристе спиной, сделав вид, будто углубился в изучение расстеленных на столе карт. Гусманы, не скрывая любопытства, разглядывали дерзкого солдата сверху донизу. А улыбка на устах Кармело Брагадо, который вместе с капитаном Торральбой был здесь фигурой второстепенной, обозначилась яснее, однако исчезла, как только заговорил Рамиро Идьякес – старый служака с седеющими усами и совсем уже белой, коротко остриженной головой. Шрам, аккуратно деливший кончик его носа пополам, был памятью о том, как на исходе прошлого века, в царствование славного нашего государя Филиппа Второго взяли приступом и разграбили Кале.
– Прислали вызов. – Привычный к командам голос его и вне строя звучал грубовато и отрывисто. – Завтра утром. Пять на пять. У ворот Больдуке.
В те времена подобное было в ходу. Не довольствуясь обычными и общими для всех приливами и отливами военного противостояния, удальцы из обоих станов устраивали этакие вот единоборства, памятуя, однако, что по их личной отваге и задору судить будут если не обо всей стране, то уж о полку – точно.
Еще блаженной памяти император Карл для умиротворения Европы приглашал сразиться один на один своего врага Франциска Первого, но тот после долгих экивоков и уверток вызов не принял. История, тем не менее, выписала лягушатнику счет: в битве при Павии довелось ему увидеть войско свое разгромленным, цвет своей аристократии – перебитым, а у собственного своего августейшего горла – острие шпаги Хуана де Урбьеты, известного еще под именем Эрнани.
Наступила тишина. Алатристе невозмутимо ждал, что еще хорошенького ему скажут. Это взял на себя один из гусманов.
– Вчера нам объявили о поединке двое очень самовлюбленных таких фламандских дворянчиков… Вероятно, наш аркебузир ухлопал кого-то из их друзей, не вовремя высунувшего нос из траншеи. Встреча в чистом поле – час времени, по пять с каждой стороны, оружие – два пистолета и шпага… Разумеется, если мы поднимем перчатку.
– Нет вопроса, – откликнулся второй.
– Вызвались идти итальянцы из Латарского полка, однако есть мнение, что выставить с нашей стороны следует только испанцев.
– Само собой, – добавил второй.
Алатристе медленно обвел их взглядом. Первому было, вероятно, лет тридцать – о знатном происхождении красноречиво свидетельствовали покрой и доброта его платья, да и шпага висела на сафьяновой, шитой золотом портупее. Война войной, однако же время холить и завивать усы у него находилось.
Он был высокомерен и неприветлив. Второй – пошире в плечах, пониже ростом, помоложе годами – был одет на итальянский манер: короткий бархатный колет с разрезными рукавами, отделанная брюссельскими кружевами пелерина. Красные перевязи у обоих украшены золочеными кистями, сапоги со шпорами – хорошей кожи, не чета тем, которые так внятно просили каши на ногах у Алатристе. Ясное дело: эти двое пользуются милостями дона Педро, а тот в свою очередь через них упрочивает свое влияние в Брюсселе и в Мадриде; как ласковы, учтивы и обходительны они друг с другом: еще бы – эти псы из одной своры. Первого звали, кажется, дон Карлос дель Арко, родом из Бургоса, сын маркиза или кого-то в этом роде. Говорят, не трус. Он и нарушил молчание:
– Дон Луис де Бобадилья. И я. Это – двое. Нужны еще трое бойцов не робкого десятка.
– Один, – вмешался Идьякес. – Я решил отрядить с вами Педро Мартина из роты Гомеса Коломы. Четвертым будет Эгилус из роты капитана Торральбы.
– Отличная компания собирается. Накормим голландцев до отвала! – вновь подал голос первый гусман.
Алатристе снес эту похвальбу не поморщившись. Он знал и Мартина, и Эгилуса – оба старые солдаты, не подведут, когда придется схлестнуться с голландцами или кого там выставит противник. Не подведут, не подкачают, лицом в грязь не ударят.
– Пойдете пятым, – бросил ему дон Карлос.
Алатристе, оставаясь неподвижным – левая рука сжимает навершие эфеса, правая держит шляпу, – сдвинул брови. Ему не понравился тон, которым этот дворянчик говорил о его участии в дуэли как о деле решенном, тем паче что это был не офицер, а так, не пришей кобыле хвост, одно слово – гусман.
В равной степени не нравились ему и золоченые кисточки на красной перевязи, и самодовольная нагловатость, столь присущая тем, у кого в кармане не переводятся золотые кружочки с Филипповым профилем, а в Бургосе остался папаша-маркиз. Еще не нравилось, что непосредственный его начальник капитан Брагадо как воды в рот набрал. Ротный, обладая всеми качествами доблестного воина, непостижимым образом умел сочетать их с тонкой дипломатичностью, благодаря чему и поднялся по служебной лестнице. Но Диего Алатристе и Тенорио не желал получать приказы от высокомерных вертопрахов, даже если те на словах – а хоть бы и на деле! – настоящие сорвиголовы, даже если они пьют вино из хрустальных бокалов в полковничьем шатре. Всего этого хватило, чтобы помедлить с утвердительным ответом, и промедление это было замечено доном Карлосом и истолковано превратно:
– Но, конечно, если кишка тонка, – сказал он с оттенком пренебрежения, – тогда…
И с намерением оборвал речь, победно оглядывая присутствующих. На лице у его товарища заиграла улыбка. Не обращая внимания на предостерегающие взгляды капитана Брагадо, Алатристе выпустил эфес и принялся поглаживать усы: это был способ – и не хуже любого другого – унять и сдержать заклокотавшую ярость, горячей волной плеснувшую из живота в грудь и заставившую кровь в висках застучать медленно и ритмично. Ледяной взгляд он упер в лицо дона Карлоса, а потом – в лицо дона Луиса. Молчание затянулось настолько, что дон Педро, все это время стоявший спиной, как если бы его ничего не касалось, обернулся к Алатристе.
Но тот смотрел на Кармело Брагадо.
– Если я правильно понял, это ваш приказ, господин капитан?
Брагадо, ничего не отвечая, стал чесать в затылке и перевел глаза на Идьякеса, который был готов испепелить обоих гусманов яростным взглядом. В этот миг заговорил – причем с нескрываемой досадой – сам полковник:
– В делах чести приказов не отдают. В делах чести каждый поступает так, как велит ему совесть и забота о добром имени.
При этих словах Алатристе побледнел и, отдернув руку от усов, медленно положил ее на рукоять шпаги. Взгляд Брагадо принял выражение умоляющее: вытянуть клинок из ножен хотя бы на дюйм значило в самом буквальном смысле сунуть голову в петлю. Алатристе, однако, дюйма казалось мало – с полнейшим хладнокровием он прикидывал, хватит ли ему времени, проткнув выпадом дона Педро, обернуться к гусманам. И выходило, что прежде чем Идьякес и Брагадо прикончат его самого, как собаку, он успевает разделаться с доном Луисом или с доном Карлосом, желательно бы, конечно, – со вторым.
Идьякес, явно огорченный, прочистил горло кашлем. По чину и положению только он мог противоречить Петлеплёту. Его знакомство с Алатристе началось двадцать с чем-то лет назад, в Амьене, когда они – мальчик и юноша с едва пробивающимися усами – в составе роты капитана Диего де Вильялобоса ворвались на бастион Монтрекур и дрались там четыре часа, захватив неприятельские пушки и перебив до последнего человека восьмисотенный французский гарнизон. Ну и своих положили там человек семьдесят. Черт возьми, недурной расклад – взять за свою жизнь одиннадцать вражеских, да еще тридцать, если арифметика не врет, получить в придачу бесплатно.
– При всем моем уважении… – начал он. – Я обязан сказать, что Диего Алатристе – старый солдат… Все знают, что репутация у него незапятнанная… И я уверен, что…
Дон Педро прервал его резким взмахом руки:
– Репутация – это не бессрочная аренда!
– Диего Алатристе – отважный солдат… – устыдясь долгого молчания, подал наконец голос капитан Брагадо.
Полковник и ему не дал договорить:
– Отважный солдат, а в моем полку таких – хоть отбавляй, дал бы отрубить себе руку, чтобы завтра быть у ворот Больдуке.
Алатристе взглянул ему прямо в глаза и ответил медленно и тихо – тоном, который был холоден и сух, как подрагивавший под пальцами клинок:
– Мне нужны обе руки, чтобы исполнять свой долг перед королем, который мне за это платит… время от времени. – Он помолчал, и молчание это показалось бесконечным. – Что же касается чести моей, совести, доброго имени, то пусть они вас больше не тревожат. Потому что я сам о них позабочусь, и для этого мне подобные поединки, равно как и нравоучения, – без надобности.
Дон Педро смотрел на Алатристе так, словно хотел запомнить его на всю жизнь. Было ясно, что он мысленно перебирает в голове все, что сейчас прозвучало, ища слово, оттенок смысла, интонацию, любую зацепку, которая позволила бы ему отдать распоряжение о казни. Замысел был до того очевиден, что Алатристе осторожно, скрывая это движение шляпой, повел левую руку за спину, поближе к рукояти кинжала. «Чуть что, – думал он с невозмутимой покорностью судьбе, – клинок ему в глотку, потом – за шпагу, а уж там – как Бог захочет. Или дьявол».
– Пусть отправляется в свой окоп, – вымолвил наконец Петлеплёт.
Можно было не сомневаться, что еще свежее воспоминание о недавнем мятеже смиряло его природное пристрастие к хорошо намыленной пеньке.
Идьякес и Брагадо, от которых не укрылись эволюции Алатристе, вздохнули с явным и немалым облегчением. Сам же он, стараясь не показать, что и ему это чувство отнюдь не чуждо, почтительно склонил голову, сделал полуоборот налево и вышел из шатра на свежий воздух. Караул несли немцы-алебардщики, которые, сложись все иначе, могли бы вести его сейчас к ближайшему дереву. Он остановился и на мгновение застыл, с особенной отрадой взирая на солнце, уже почти коснувшееся линии горизонта, ибо знал, что наутро увидит и восход. Потом надел шляпу и двинулся к траншеям, наползавшим на бастион «Кладбище».
В ту ночь капитан Алатристе, покуда вокруг похрапывали товарищи, бодрствовал до зари, завернувшись в плащ и глядя на звезды. Нет, не гнев полковника, но угроза бесчестья лишали его сна – ни малейшего дела не было ему до того, что по Картахенскому полк) пойдет гулять сплетня: Идьякес и Брагадо хорошо знают его и расскажут, как все было на самом деле. И потом, он ведь не зря сказал дону Педро, что сумеет внушить и равным, и совсем даже не равным уважение к себе. Другое вызывало бессонницу – Алатристе мечтал, чтобы, по крайней мере, один из гусманов невредимым вышел из схватки у ворот Больдуке. Хорошо бы уцелеть дону Карлосу. Потому что, сказал себе капитан, не сводя глаз с темного купола небес, время идет, жизнь богата на разного рода курбеты-камуфлеты, нипочем не угадаешь, кто из давних твоих знакомцев вдруг преградит тебе путь в каком-нибудь переулке, будто нарочно созданном для такой встречи, – тихом, темном и безлюдном, где никто из окрестных жителей не поднимет переполох, услышав звон шпаг.
Наутро, провожаемые взглядами из траншей и с крепостной стены, сошлись у Больдукских ворот пятеро наших с пятью не нашими. Неведомо как, но всему лагерю стало известно, что противник отрядил троих голландцев, одного шотландца и одного француза. Что же касается наших, то пятым капитан Брагадо отправил подпрапорщика Минайю – уроженца Сории тридцати с небольшим лет, человека испытанного и надежного, тяжелого на руку, зато легкого на ногу. Вооружены все десятеро были одинаково – пистолет за поясом, шпага на боку, и передавали за верное, что непременным условием поединка «истцы» поставили отсутствие кинжалов, ибо не понаслышке знали, какую опасность являют они собой в ближнем бою и в умелых испанских руках.
А я, лишь накануне вернувшийся в расположение после трехдневной фуражировки – вместе с другими мочилеро добрался вплоть до верховий Мааса, – стоял сейчас рядом с другом моим Хайме Корреасом, забравшись на корзины с землей, которые прикрывали бруствер траншеи. Это был тот редкий случай, когда можно было не опасаться мушкетной пули меж глаз, и сотни солдат высыпали наружу для дарового развлечения. Говорили, будто сам маркиз Бальбасский, наш генерал Спинола, равно как и дон Педро де ла Амба и прочие командиры и начальники, наблюдает за поединком. Что же касается Диего Алатристе, то он находился в одной из траншей вместе с Копонсом, Гарроте и прочими, не говоря ни слова, не шевелясь и неотрывно глядя на происходящее. Рано утром подпрапорщик Минайя, которого капитан Брагадо, без сомнения, ввел в курс дела, показал себя настоящим товарищем: явился к Алатристе с просьбой одолжить пистолет – его собственный якобы оказался неисправен.
Подобная просьба многое говорила в пользу Минайи, свидетельствуя одновременно, что претензий к моему хозяину в роте нет. Прибавлю, раз уж зашла об этом речь, что спустя много лет, когда дрались при Рокруа, мне – после бесчисленных финтов и фортелей Фортуны сделавшемуся офицером королевской гвардии – представился случай оказать покровительство одному юному новобранцу по фамилии Минайя. Что я и сделал не задумываясь – в память того дня, когда его отец вышел на пятерной поединок под стенами Бреды, имея за поясом пистолет капитана Алатристе.
Нежаркое апрельское солнце поднялось уже высоко, и тысячи глаз были устремлены на этих десятерых. Они стояли на ничейной земле – на пустыре, плавно спускающемся к воротам Больдуке.
Обойдясь без предварительных любезностей и даже без приветствий, сражающиеся сблизились на пистолетный выстрел, каковой тотчас и произвели, а потом взялись за шпаги, и оба лагеря, до той минуты хранившие молчание, неистовыми криками принялись подбадривать своих. Знаю, что люди доброй воли предписывают мир и слово, насилие же – осуждают; знаю – причем получше многих, – во что превращает война тело и душу человеческие. И, несмотря на все это, вопреки врожденной и благоприобретенной с годами рассудительности, наперекор здравому смыслу, я не могу сдержать трепет восхищения при виде отваги тех, кто отвагу сию являет. И будь я проклят, если эти десять бойцов были ее лишены. Первый же выстрел свалил дона Луиса, а остальные с обнаженными клинками приступили друг к другу, исполненные боевого задора. Одному из голландцев пуля пробила шею, а его товарищу-шотландцу Педро Мартин распорол живот шпагой, однако извлечь ее назад не сумел и, оказавшись безоружным, с двумя разряженными пистолетами, получил удар в шею, а другой – в грудь, и свалился замертво прямо на того, кто пал от его руки мгновение назад. Что же касается дона Карлоса дель Арко, то он так сноровисто отбивался от француза, с которым выпало ему драться, что в скором времени сумел разнообразить свои выпады выстрелом в голову и остался победителем, хоть и ушел с поля боя хромая – шпага задела ему ляжку. Минайя своего француза застрелил из пистолета, одолженного ему Алатристе, а второго противника – из своего собственного, сам при этом не получив и царапины. Эгилус, которому пуля угодила в правую руку, держал шпагу левой и сумел поразить противника в плечо и под ложечку, так что тот, обнаружив, что остался один и к тому же ранен, решил, подобно Антигону[65], не бегом, но медленным шагом покинуть ристалище. Те трое, что держались на ногах, отдали победителям шпаги и оранжевые перевязи, принятые в армии Генеральных Штатов, и, быть может, отнесли бы к нашим позициям тела дона Луиса де Бобадильи и Педро Мартина, если бы взбешенные голландцы не поспешили заесть горечь поражения шквальным огнем. Наши отступали в полном порядке, но кусок свинца угодил Эгилусу в почку, и он, хоть и сумел с помощью товарищей добраться до траншеи, через три дня после этого отдал богу душу. Семь трупов же оставались в поле почти целый день, пока наконец не объявили краткое перемирие, чтобы можно было забрать их и предать земле.
В Картахенском полку никто не поставил под сомнение честь капитана Алатристе. Доказательством чему служит то, что спустя неделю, когда принято было решение отбить у неприятеля Севенбергскую дамбу, его включили в число сорока четырех человек, отобранных для этого. Они вышли из наших траншей на заходе солнца, чтобы двинуться под прикрытием темноты и тумана. Командовавшие отрядом капитаны Брагадо и Торральба приказали надеть белые рубахи поверх колетов – так можно будет отличить своих. Подобные уловки были у испанцев в большом ходу, и такого рода ночные поиски даже получили название «маскарад». Стало быть, используя природную воинственность и боевую сноровку нашей нации, не имеющей себе равных в рукопашной схватке, следовало незаметно проникнуть в лагерь еретиков и внезапно ударить на них, перебить как можно больше народу, поджечь палатки и бараки – однако не сразу, а лишь перед самым отступлением, чтобы свет пожара не выдал, ну а потом – отступать во весь дух. Как водится в отборных войсках, мы, испанцы, считали участие в рейде честью для себя, горячо оспаривали друг у друга это почетное право и горько обижались, если не попадали в список. Правила были строгие, и все понимали, что от неукоснительного их исполнения в сумятице ночного боя зависит жизнь. Из всех таких поисков самый знаменитый прошел под Монсом, когда перебили пятьсот немцев-наемников и дотла сожгли их лагерь. Или вот еще был случай – для дела требовалось только пятьдесят бойцов, но перед самой отправкой набежала откуда ни возьмись чертова уйма добровольцев, непременно желавших участвовать в операции, так что когда вышли, вместо подобающей случаю тишины начались ор, гвалт и гомон – и это в самую ночь-полночь, – и получилась прямо какая-то мавританская свадьба: триста человек неслись по дороге наперегонки, ибо каждый хотел быть первым, и разбуженный противник обомлел, увидав, как надвигается на него с оглушительными воплями толпа бесноватых, обряженных в белое – они пощады не знали и выхвалялись друг перед другом, кто зарежет больше да лучше.
Что же касается Севенберга, то наш генерал Спинола придумал вот что: два долгих часа до плотины следовало идти с величайшими предосторожностями, то есть скрытно, а приблизившись вплотную – ударить, перебить охрану, разнести шлюзы в куски и все поджечь. Решено было также отправить с отрядом и пяток мочилеро, коим предназначено было тащить на своем горбу все необходимое для исполнения сего замысла, то есть порох, запальные шнуры и прочее. Так вот я и оказался в ту ночь на правом берегу Мерка в непроглядном тумане. Во тьме слышались только приглушенные шаги – мы обули сандалии-нальпаргаты или обмотали подошвы сапог тряпьем, – ибо под страхом немедленной смерти запрещено было говорить в полный голос, запаливать фитили, заряжать пистолет или аркебузу, и белые рубахи подобны были саванам, в коих являются обычно привидения. Мне давно уже пришлось продать мой славный золингеновский клинок, поскольку мочилеро носить оружие не полагалось, и остался при мне лишь славный мой кинжал, надежно прикрепленный к поясу. Однако не думайте, будто шел я налегке – черт возьми, как бы не так: за плечами тащил я суму с зарядами пороха и серы, петардами, смолой, чтоб веселей горело, и два остро отточенных топора, чтобы ломать шлюзовой механизм.
Я дрожал от холода, несмотря на толстый суконный колет, надетый под рубаху, которую лишь в ночной тьме можно было счесть белой – а дыр на ней было больше, чем у флейты. В тумане все становилось каким-то призрачным, волосы и лицо влажнели, будто от мелкого дождичка, какие часто бывали в родном моем краю, и ноги скользили по мокрой траве, так что шел я очень осторожно, чтобы не оступиться – не хотелось бы загреметь прямо в холодные воды Мерка с шестьюдесятью фунтами груза за спиной. И в этой туманной пелене видел я, ей-богу, не больше того, что видит со своей сковородки жареная камбала: два-три белесых расплывающихся пятна впереди и столько же – позади. Ближе всех был обращенный ко мне тылом Алатристе, и я старался от него не отставать. Наш взвод подвигался в авангарде, имея в голове капитана Брагадо и проводников-валлонов из числа тех немногих, кто еще оставался в полку ван Ойста: помимо того, что они хорошо знали местность, им надлежало еще и ввести в заблуждение голландских часовых и снять их так, чтобы не успели поднять тревогу. Во исполнение этой задачи выбрали они тропинку, петлявшую меж болот и торфяников, и притом такую узкую, что идти по ней можно было только в затылок друг другу.
…Белесое пятно маячило впереди – капитан Алатристе был, по обыкновению, молчалив. Мне вспомнилось, как на закате солнца он собирался в путь: под рубаху надел нагрудник из буйволовой кожи, перекинул через плечо перевязь со шпагой, кинжалом и пистолетом, который вернул ему, когда надобность минула, подпрапорщик Минайя, – полочку он обильно смазал салом для защиты от влаги и сырости. Приладил пояс с пороховницей и подсумком на десять пуль, где лежали также кремни, трут, огниво. Прежде чем спрятать порох, убедился, что он нужного цвета – не слишком черный, но и не очень бурый, – что зернышки его мелкие и твердые, и, бросив щепотку на кончик языка, проверил качество селитры. Затем попросил у Копонса точильный брусок и долго доводил до кондиции обоюдоострое лезвие бискайца. Капитан шел в передовой группе, которая не взяла с собой ни мушкетов, ни аркебуз, поскольку должна была завязать рукопашную схватку, а для этой задачи надо идти налегке и иметь свободу рук. Наш ротный каптенармус сказал, что требуются мочилеро помоложе и побойчее, и мы с Хайме Корреасом вызвались идти добровольцами, вспомнив, что кое-какой навык у нас имелся – вот хоть захват Аудкерка. Капитан, увидав, что я уже напялил рубаху поверх всего прочего, вооружился своим трехгранным «кинжалом милосердия» и готов к выходу, по своему обыкновению не похвалил меня и не выругал, а лишь кивнул и указал на один из заплечных мешков. И в расплывающемся свете факелов все мы после этого преклонили колени, и по рядам слитным гулом прошелестел «Отче наш»; потом перекрестились и двинулись на северо-восток.
Вереница солдат внезапно остановилась: от одного к другого стал передаваться пароль, только что придуманный капитаном Брагадо, – «Антверпен». Все было растолковано задолго до выхода, каждый знал, что кому делать, и потому, не дожидаясь приказов, налево и направо от меня двинулись цепочки белых пятен. Слышался тихий плеск – солдаты по пояс в воде огибали плотину с обеих сторон. Шедший за мною солдат тронул меня за плечо – давай, мол, свою кладь. Лицо было неразличимо в темноте, я слышал лишь учащенное дыхание да скрип затягиваемых ремней. Когда я глянул вперед, белесый силуэт Алатристе уже растаял в пелене тьмы и тумана.
Мимо, неслышно, как тени, прошли замыкающие – я уловил приглушенный звон и лязг: это они доставали из ножен клинки и наконец-то заряжали аркебузы и пистолеты. Еще несколько шагов – и вот они обогнали меня, оставили позади, а я растянулся ничком на мокрой траве откоса, от солдатских сапог покрывшейся скользкой глиной и грязью. Сзади кто-то подполз и прилег рядом. Хайме Корреас.
Припав к земле, еле слышно переговариваясь, мы с тревогой всматривались во тьму, поглотившую сорок четыре испанца, которые задались целью устроить еретикам веселую ночку.
Сколько времени прошло, не знаю, но думаю, что успел бы дважды помолиться по четкам деве Марии.
Мы с Хайме вконец продрогли и прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Слышно было только, как поплескивает вода о каменную стену плотины.
– Чего-то больно долго, – прошептал Хайме.
Я промолчал, представляя себе, как капитан Алатристе по шею в воде, держа пистолет в высоко поднятой руке, чтоб не замочить порох, подкрадывается к голландским часовым, охранявшим шлюзы.
Потом подумал о Каридад Непрухе, а с нее мысли мои перескочили на Анхелику де Алькесар. А хорошо все-таки, сказал я про себя, что женщины не всегда знают, какой ужас таится порой в сердце мужчин.
И вот посреди тьмы, тишины, тумана треснул где-то в отдалении выстрел из аркебузы. Я прикинул – шагах в трехстах впереди. Еще мгновение – и началась бешеная пальба, перемежаемая взрывами. Мы с Хайме были взбудоражены и возбуждены, но тщетно пялились в туман – ничего не видно. Выстрелы гремели теперь со всех сторон, делаясь все чаще, сотрясая небо и землю, и казалось, будто началась невиданная гроза, и за темной завесой туч перекатывается гром. Потом рвануло сухо и резко – раз и другой.
Завеса раздернулась, и теперь мы видели, как слабое молочно-белое свечение тотчас налилось розовым, повторилось тысячекратно в крошечных капельках влаги, пропитавшей воздух, отразилось в темной воде, у кромки которой лежали мы с Хайме. Плотина Севенберга была объята пламенем.
Затрудняюсь сказать, сколько продолжалось это, зато знаю, что подобного грохота не услыхать и в преисподней – знаю точно, хоть и не бывал там.
Мы с Хайме приподнялись с земли, и тут послышался топот многих бегущих ног, а потом в туманной пелене начала вырисовываться вереница белых рубах – наши вброд перебирались на ближний берег.
Взрывы и пальба не смолкали – белые тени стремительно двигались вперед, чавкали сапогами по грязи, сопя и отдуваясь, вот кто-то выругался от души, кто-то пошатнулся, задетый пулей, и его подхватили товарищи. Гулкие мушкетные выстрелы звучали все ближе, пули ложились гуще, белые рубахи, бежавшие толпой, рассыпались поодиночке.
– Бежим! – крикнул мне Хайме.
Не совладав с паникой, я вскочил на ноги. Оставаться здесь одному не хотелось. Мимо еще пробегали отставшие, и в каждом белесом пятне я силился разглядеть капитана Алатристе. Вот на плотине возникла и помедлила, будто в нерешительности, какая-то тень, постояла и неуклюже пустилась бегом, и тяжелое дыхание при каждом шаге чередовалось со сдавленным стоном. Немного не дойдя до меня, человек упал, покатился по откосу, и я услышал громкий всплеск – он свалился в реку. Не успев осознать, что делаю, я прыгнул вперед, по колено зайдя в воду, стал шарить, отыскивая невидимое в тумане неподвижное тело. Нащупал кирасу под рубахой, обросшее бородой лицо, холодное, как сама смерть. Нет, это был не капитан.
Пальба грохотала теперь совсем близко и мало того – со всех сторон. Я взобрался на плотину и в этот миг понял, что не знаю, в какую сторону податься. Я не видел теперь отдаленного зарева, никто не бежал мимо меня, я не мог сообразить, с какого берега скатился вниз бородатый испанец, а главное – не понимал, куда бежать. Голова, оглушенная беззвучным воем ужаса, отказывалась соображать. «Думай! – приказал я себе. – Приди в себя, Иньиго Бальбоа, и думай, не то рассвета не увидишь!» Встал на колени, стараясь, чтобы неистовый стук крови в висках не заглушал голос разума. Солдат упал в тихую воду, вспомнилось мне. Мерк еле слышно шумел под откосом справа от меня. Севенберг – ниже по течению. А мы пришли по правому берегу и по бревнам, сыгравшим роль понтона, перебрались на плотину у левого берега. Стало быть, я иду не в ту сторону. И, развернувшись, я, прорезая темную пелену, бросился бежать так, словно за спиной у меня были не голландцы, а сам сатана.
Да уж, нечасто приходилось мне так бегать – попробуйте-ка, господа, сами: в кромешной тьме, в насквозь промокшей, отяжелевшей от влаги одежде.
Рискуя сверзиться прямехонько в Мерк, несся я, ничего не видя перед собой, ловя разинутым ртом холодный воздух, который будто раскаленными докрасна иглами впивался мне в легкие при каждом вдохе. И вдруг ощутил под ногой бревенчатый понтон. Вцепился в него и, скользя по мокрому дереву, на четвереньках перебрался на другой берег. Но едва лишь ступил на твердую землю, как тьма осветилась яркой вспышкой, и у самого моего уха просвистела аркебузная пуля.
– Антверпен! – завопил я, бросаясь ничком.
– …твою мать! – долетело до меня в виде отзыва.
Из тумана, сторожко пригибаясь, вынырнули два белесых силуэта.
– Считай, дружище, что заново родился, – произнес другой голос.
Я поднялся, подошел ближе. Лиц не различал – только белые пятна рубах и очертания ружейных стволов, готовых отправить меня прямиком на тот свет.
– Что ж вы, сеньоры, разве не заметили мою рубаху? – спросил я, еще не вполне отойдя от бега и пережитого испуга.
– Какую еще рубаху?
Я растерянно провел рукой по груди и не выругался потому только, что в ту пору считал это для себя зазорным. Я столько времени пролежал на брюхе, покуда наши брали плотину, что рубаха была вся в грязи.
IX. Дон Педро и мы
Вскорости, к великой скорби Генеральных Штатов и неописуемому ликованию приверженцев истинной веры, помер Мориц Оранский, успев, правда, на прощанье отбить у нас город Гох и сжечь наши магазины в Гиннекене. Попытался он с налету взять Антверпен, да вышла у него осечка. И отправился этот закоснелый в лютеровой ереси грешник в геенну, не исполнив желания, коим был одержим последнее время: снять осаду с Бреды не удалось. И, соболезнуя голландцам в невосполнимой их утрате наши пушки день-деньской долбили стены крепости шестидесятифунтовыми ядрами, а на заре подняли мы на воздух больверк с тридцатью солдатами, на нем находившимися, разбудив их таким вот неучтивым манером и показав, что не всем, кто рано встает, Бог подает.
К тому времени крепость Бреда интереса для нашей державы в военном отношении не представляла – тут, что называется, было дело принципа и репутации. Весь мир затаил дыхание, гадая, слава или позор суждены войскам испанского короля. Даже султан турецкий – ни дна ему ни покрышки! – места себе не находил, ожидаючи, с честью ли выпутается его католическое величество из этой передряги или уберется ни с чем; что уж говорить о европейских государях и прежде всего – о королях Франции и Англии, которые всегда были не прочь извлечь выгоду из неприятностей Испании и безмерно огорчались нашим удачам; в точности так же обстояло дело с венецианцами и даже с Папой Римским. Подумать только – нам, испанцам, делавшим в Европе самую грязную работу, разорившим свою страну во славу Божью и Пречистой Девы, его святейшество, даром что наместник Господа Бога на земле и всякое такое, старался нагадить где только можно и нельзя, потому что не хотел нашего усиления в Италии. Ибо ни одной империи на свете еще не удавалось двести лет кряду внушать всем страх и трепет, не обзаведясь при этом врагами в тиарах или без, пакостящими ей под прикрытием сладких слов, улыбок и прочей дипломатии, беспощадно и безжалостно. Впрочем, желчь нашего понтифика еще отчасти понятна: ровно столетие назад испанцы и ландскнехты нашего императора Карла V, которым жалованья не платили с тех времен, как Сид Кампеадор[66] ходил еще в капралах, взяли приступом и разграбили Рим, не пощадив ни кардинальских дворцов, ни женщин, ни монастырей, так что Клементу VII, предшественнику нынешнего святейшества, пришлось подоткнуть полы сутаны и дать деру в замок Сант-Анджело. Так что полезно уразуметь, что и у римских пап бывают хорошая память и уязвленное самолюбие.
– Тебе письмо, Иньиго.
Я удивленно поднял глаза. Перед шалашиком, который мы смастерили из одеял, веток и земли, стоял капитан Алатристе: на голове – шляпа, на плечах – изношенный плащ, приподнятый сзади ножнами шпаги Густые усы, орлиный нос, впалые щеки.
Обветренное загорелое лицо казалось сегодня особенно изможденным и бледным и словно бы еще больше осунулось. Железное здоровье капитана пошатнулось несколько дней назад – вода была тухлая. Да, впрочем, и хлеб – заплесневелый, и мясо, когда бывало, – червивое. Так что все это вместе вызвало жар и жестокую перемежающуюся лихорадку.
Но капитан не признавал ни пиявок, ни очистительных, уверяя, что не лечат они, а калечат. Сейчас он вернулся от одного маркитанта, в случае надобности становившегося и цирюльником, и аптекарем, который изготовил для него некий целебный отвар из трав.
– Мне?
– Похоже на то.
Оставив Хайме Корреаса и прочих, я выбрался наружу и стал отряхивать землю со штанов. Здесь можно было не бояться шальной пули со стены: дело происходило неподалеку от частокола, за которым размещались наши телеги и вьючная скотина – словом, обоз – и стояло несколько дощатых хибарок, исполнявших роль таверны – это если появлялось вино – и борделя, укомплектованного немками, итальянками, фламандками и нашими соотечественницами. Мы, пажи-мочилеро, проявляя чудеса пронырливости и изобретательности, тоже исхитрялись захаживать туда, дабы несколько скрасить себе жизнь, насколько позволяло наше малолетство и положение в полку – невысокое, прямо скажем, положение. Однако не было еще случая, чтобы не приносили мы из наших фуражировок два-три яйца, десяток яблок, сальных свечей или иного добра, годного для продажи или обмена. Сей промысел позволял мне поддерживать капитана и его товарищей, а при благоприятном стечении обстоятельств – обделывать и собственные свои дела, навещая в обществе верного Хайме Корреаса заведеньице Мендосы: с тех пор, как на берегу канала мой хозяин имел беседу с валенсианцем Кандау, никто больше не смел становиться у меня на пути. Диего Алатристе был осведомлен о моих походах и относился к ним неодобрительно, замечая с укоризной, что от женщин, следующих за войском, держаться следует подальше, если не хочешь получить любострастную болячку или удар ножом. Мне было неведомо, как у него-то самого раньше складывались отношения с сими верными спутницами солдат, но сейчас, находясь при нем неотлучно, ни разу не видел я, чтобы заходил он в палатку или фургон, украшенный изображением лебедя. Знаю, впрочем, что с разрешения Кармело Брагадо побывал он раза два в Аудкерке, осененном теперь флагом с андреевским крестом, где навещал ту фламандку, о которой, помнится, я уже упоминал прежде. Ходили слухи, будто в последний раз вышло у Алатристе какое-то недоразумение с ее мужем, которого для охлаждения пыла пришлось сбросить пинком под зад в канал, а потом со шпагой в руке еще объяснять двоим бургундцам, что лезть не в свое дело – вредно для здоровья. После того случая капитан туда больше не наведывался.
Что же касается природы моих чувств к Диего Алатристе, то были они противоречивы, о чем я в ту пору лишь смутно догадывался. С одной стороны, я подчинялся ему беспрекословно и предан был, извините за пафос, беззаветно, о чем вы отлично осведомлены. С другой же, как всякое существо в буйном цвету юности, стремился высвободиться из-под его, громко говоря, эгиды. Страна Фландрия произвела во мне важные перемены: я жил среди солдат и притом получил возможность сражаться за свою жизнь, за свою честь и за своего государя. Кроме того, в последнее время появилось у меня много вопросов, на которые я не находил ответов – не считать же таковыми молчание капитана. Я всерьез подумывал о том, чтобы сделаться солдатом, хотя года мне еще не вышли – на службу раньше семнадцати-восемнадцати лет не брали, – а врать не хотелось, но при благоприятном стечении обстоятельств это препятствие удалось бы преодолеть. В конце концов, капитан Алатристе и сам вступил в службу, имея от роду всего лишь пятнадцать лет. Наши тогда осаждали крепость Гульст, и, чтобы ввести противника в заблуждение, собрали всех пажей, мочилеро, вестовых, дали им пики, знамена, барабаны и велели потоптаться по дамбе – пусть, мол, неприятель сочтет эту толпу нестроевых вовремя подоспевшим подкреплением. Потом начался весьма кровопролитный штурм форта «Звезда», и пажи, получив в руки оружие, воодушевясь при виде битвы, отважно полезли в самый огонь на помощь своим хозяевам. Вместе со всеми пер в гущу схватки и Диего Алатристе – в ту пору барабанщик в роте капитана Переса де Эспилы. И так славно воевали они в тот день, что принц-кардинал Альберт, губернатор Фландрии, лично командовавший штурмом, оказал отличившимся милость и приказал записать их в солдаты.
– Утром пришло из Испании.
Я взял протянутое мне письмо. На конверте из хорошей бумаги и с нетронутой сургучной печатью значилось мое имя:
Сеньору дону Диего Алатристе для передачи Иньиго Бальбоа.
Рота капитана дона Кармело Брагадо, Картахенский полк, действующая армия, Фландрия.
Дрожащими руками перевернув конверт, я увидел на нем инициалы «А. де А. » Не говоря ни слова, я под внимательным взглядом Алатристе медленно отошел в сторону – туда, где на бережку немки устраивали постирушку. Немецкие солдаты, как, впрочем, и кое-кто из испанцев, любили брать в жены отставных потаскух, которые скрашивали им тяготы походной жизни да еще и доход приносили, стирая солдатам белье, торгуя водкой, хворостом, табаком и трубками, а порой – помните, я рассказывал? – копали траншеи, помогая мужьям. Ну это я к тому, что рядом с портомойней стояло дерево, а под деревом – большой камень, и вот на него-то я и сел, не веря глазам своим и не сводя их с буквочек «А. де А. » на конверте. Я знал, что капитан все еще смотрит на меня, и выждал, пока сердце не перестанет так гулко ухать в груди, а потом, стараясь, чтобы движения мои не выдавали снедавшее меня нетерпение, сломал сургуч и развернул письмо.
Сеньор дон Иньиго,
Я была счастлива узнать о том, что Вы служите во Фландрии, и, поверьте, позавидовала Вам.
Надеюсь, Вы не держите на меня зла за те неприятности, которые навлекла на Вас наша последняя встреча. Ибо не Вы ли сказали когда-то, что готовы умереть за меня? Примите же недавние свои испытания как прихоть судьбы, которая прихотливо чередует горести и радости – такие, как служба нашему государю или, например, получение этого письма.
Признаюсь Вам, что всякий раз, проходя мимо ручья Асеро, я уношусь мыслями к нашей тогдашней встрече. Как я поняла, Вы не сберегли мой амулет. Непростительная оплошность со стороны такого безупречного кавалера, как Вы.
Надеюсь увидеть Вас Когда-нибудь во дворце при шпаге и шпорах и в чаянии этого дня посылаю Вам свой привет и улыбку.
Анхелика де АлькесарP.S. Рада, что Вы еще живы. У меня на Вас виды.
Трижды перечитал я это письмо, переходя от ошеломления к ликованию, а от ликования – к легкой печали, и долго смотрел на бумагу, лежавшую на коленях моих заплатанных штанов. Я воюю во Фландрии, Анхелика же думает обо мне. Бог даст, я еще сумею продолжить рассказ о приключениях капитана Алатристе и своих собственных, и тогда вы узнаете, какие же виды имела на меня Анхелика де Алькесар в ту пору, когда нашему веку исполнилось двадцать пять лет, ей – тринадцать, а мне пошел пятнадцатый год. Впрочем, вы и сами, должно быть, догадываетесь, что благодаря этим ее видам пережил я мгновения величайшего счастья и самого черного ужаса. Пока скажу лишь, что это златокудрое синеглазое существо, столь же прелестное, сколь и коварное, по каким-то неведомым причинам, объяснить которые можно лишь тем, что есть женщины, с самого появления на свет хранящие в сокровенных своих глубинах темную тайну, – так вот, существо это холодно, намеренно, осознанно еще много раз заставит меня рисковать… добро бы еще бренной плотью – нет, спасением души. И загадочным образом будут уживаться в ней любовь – ибо, смею думать, иногда она меня все же любила, – и ненависть, ибо всю жизнь ввергала в разнообразные несчастия.
И продолжаться это будет до тех пор, пока ранняя и трагическая смерть не вырвет ее из моих рук, не избавит меня от нее – клянусь Богом, я и сам, как видите, не знаю, скорбеть или радоваться.
– Ты ничего хочешь мне сказать? – спросил капитан Алатристе.
Сказано было мягко и вроде бы без подвоха. Я обернулся. Он сидел рядом со мной на камне под деревом с обрубленными на растопку ветвями. Шляпа в руке, отсутствующий взгляд устремлен куда-то вдаль, к стенам Бреды. Так просидел он все то время, что я читал и перечитывал письмо Анхелики.
– Да ничего особенного не скажешь, – ответил я.
Капитан медленно склонил голову, как бы принимая мой ответ, слегка пригладил двумя пальцами усы. Промолчал. Он сидел ко мне боком, и в эту минуту показался мне похожим на орла, неподвижно и покойно отдыхающем на вершине скалы. Два шрама на лице – над бровью и поперек лба, а на тыльной стороне левой руки – третий, оставленный Гвальтерио Малатестой у Приюта Духов. Еще несколько скрыты под одеждой, так что в итоге выходит восемь. Исцарапанный чужими клинками эфес шпаги, залатанные сапоги, перехваченные под коленями аркебузными фитилями, тряпки, вылезающие из прохудившихся подошв, бахромчатый от ветхости суконный плащ неопределенного цвета.
Может, и моему хозяину случалось любить когда-то, подумал я. Может, он и сейчас еще по-своему кого-нибудь любит – Каридад Непруху или молчаливую светловолосую фламандку из Аудкерка.
Вот он тихо вздохнул – вернее, просто выдохнул воздух из легких – и стал подниматься. Тогда я протянул ему письмо. Он молча взял его и, прежде чем приняться за чтение, посмотрел на меня – но теперь уже я с каменным лицом уставился на стены Бреды. Краем глаза, однако, я заметил – рука со шрамом снова поднялась, два пальца опять пригладили усы. Потом зашуршала, складываясь по сгибам, бумага, и письмо вернулось ко мне.
– Есть на свете такое… – начал он.
И замолчал. Я бы не удивился, если бы капитан этими словами и ограничился – это было вполне в его манере. Но он заговорил снова:
– Есть на свете такое, что женщины знают с рождения… Пусть даже и не подозревают об этом.
И снова замолчал. Потом как-то поерзал, будто не знал, чем завершить фразу.
– А мужчинам, чтобы постичь это, иной раз и жизни мало.
И на этот раз уже ничего не прибавил к сказанному. Никаких тебе: «берегись, будь осторожен, это племянница нашего врага», – или тому подобных предостережений, которые были бы столь уместны в данном случае, и которые, как он, без сомнения, знал, я с наглым юношеским высокомерием пропустил бы мимо ушей. Он еще посидел немного, оглядывая далекий город, потом надел шляпу, поднялся, оправляя плащ на плечах, и направился к траншеям.
Я смотрел ему вслед, раздумывая над тем, скольких женщин надо узнать, сколько дорог пройти, сколько ударов шпагой получить и отразить, сколько раз видеть чужую смерть и заглядывать в глаза своей собственной, – чтобы повернулся язык выговорить такие слова.
Была середина мая, когда Генрих Нассау, преемник почившего Морица, решил в последний раз попытать счастья и прорваться к Бреде. И вот ведь какое случилось невезение: накануне выступления голландцев наш полковой командир дон Педро де ла Амба с несколькими штабными офицерами отправился с инспекцией на северо-восток, а взвод капитана Алатристе назначили сопровождать начальство. Ну, Петлеплёт тронулся в путь, как положено, верхом, под знаменем, с полдесятком штабных и с шестью немцами-алебардщиками личной охраны, а человек двенадцать пехоты, среди коих был мой хозяин, Копонс и все прочие с аркебузами и мушкетами, кортеж этот открывали и замыкали. Я шел в хвосте, таща свою суму, набитую кое-какими припасами, порохом и пулями, и глядел, как отражается вереница людей и лошадей в тихой воде, розовой от склонявшегося к горизонту солнца. Небо чистое, день тихий, нежаркий, и ничто не предвещало грозных событий, воспоследовавших в самом скором времени.
Замечено было, что голландцы зашевелились, и наш генерал дон Амбросьо де Спинола поручил дону Педро лично осмотреть позиции, которые итальянцы занимали у реки Мерк, на узкой дороге, ведущей к Севенбергу и Струденбергу – осмотреть на предмет того, не надо ли перебросить к ним для усиления роту испанцев. Петлеплёт решил переночевать в Терхейдене, где стоял гарнизоном Латарский полк, а наутро вместе с начальником его штаба доном Карлосом Ромой выехать на место и во всем разобраться.
До Терхейдена добрались мы засветло; полковник со своей свитой разместился в приготовленных для них палатках, мы же расположились на небольшом редуте – частокол да корзины с землей – поужинали чем бог послал, а вернее – чем по-братски поделились с нами веселые итальянцы. Капитан Алатристе отправился к палатке справиться, не будет ли каких распоряжений, на что дон Педро в обычной своей грубой и пренебрежительной манере ответил, что он, мол, ни для чего ему не нужен и может быть свободен. Вернувшись к остальным, Алатристе рассудил, что местность незнакомая, а итальянцы – люди, может, и хорошие – да ненадежные, так что выставить надо собственные караулы. Мендьета пошел в первую смену, старший Оливарес – во вторую, а для себя капитан приберег третью. И, стало быть, Мендьета с заряженной аркебузой и тлеющим фитилем остался у костра, а мы все устроились на ночлег кто как мог.
Занималась заря, когда меня разбудили странный шум и крики «В ружье!». В грязно-сером рассветном сумраке увидел я Алатристе и прочих: они поджигали фитили аркебуз, щелкали кремневыми замками пистолетов, загоняли пули в стволы мушкетов, и все это – очень торопливо. Совсем неподалеку оглушительно гремела пальба, звучали разноязычные крики. Выяснилось вскорости, что Генрих Нассау выслал к дамбе отряд отборных английских стрелков и еще человек двести латников, вверив команду над ними британскому же полковнику Веру, а следом двигались французы с немцами общим числом тысяч до шести, в арьергарде же шла тяжелая артиллерия, обоз и конница. Чуть рассвело, как англичане с большим жаром атаковали первое итальянское укрепление, защищаемое прапорщиком с горсткой солдат, закидали их ручными бомбами, а уцелевших зарубили. После этого с той же отвагой и столь же удачно заняли люнет, прикрывавший ворота форта, и стали карабкаться на его стены. Тут итальянцы в траншеях, увидев, что неприятель сумел прорваться так далеко, а они остались без прикрытия, пришли в замешательство и траншеи свои оставили. Англичане бились рьяно и доблестно, ничего не скажешь, чести своей не уронили и сильно потеснили роту итальянцев под командой Камило Фениче, оборонявшую форт, так что те самым позорным образом обратили к неприятелю спину, дабы подтвердить, быть может, мнение Тирсо де Молины о некоторых солдатах:
Колоду карт засаленных тасуя, Святых тревожат жуткою божбой, Они и Божью Мать помянут всуе, Как девки их поманят за собой. – А бой случится – мы костьми не ляжем, Не станем насмерть. Ну какой в том прок? Ужо мы неприятелю покажем… Подошвы наших доблестных сапог.Но, переходя от стихов к самой что ни на есть грубой прозе, скажу, что англичане прорвались к палаткам, где ночевал дон Педро со своей свитой, и те, выскочив наружу кто в чем был и вооруженные чем попало, стреляя наугад и тыча клинками куда придется, оказались меж бегущих в беспорядке итальянцев и наступающих англичан. Мы же, находясь от палаток шагах примерно в ста, увидели и бегство это, и наступление, и вспышки выстрелов, озарявшие сероватый предутренний сумрак. Первым побуждением Алатристе было устремиться к палаткам, но, уже занеся ногу над бруствером, сообразил он, что это ничего не даст: остановить бегущих не удастся, потому что оттуда, где расположился его взвод, отступать некуда: пригорок, а за ним – болото. Итальянцы избрали для ретирады иной путь.
Только дон Педро со свитой и алебардщиками медленно пятился к редуту, отчаянно отбиваясь от наседавших британцев, которые отрезали ему путь к отступлению, прапорщик же Мигель Чакон спасал знамя. Смекнув, что эта кучка людей ищет спасения на нашем редуте, Алатристе расставил своих людей за корзинами с землей и велел прикрывать полковника беглым огнем, причем и сам посылал в противника пулю за пулей. Я же сидел на корточках за бруствером, подавая стрелкам заряды и порох. Чакон только начал подниматься по откосу, как аркебузный выстрел в спину сшиб его наземь. Мы видели его искаженное от боли лицо, обрамленное густыми солдатскими бакенбардами – прапорщик силился приподняться и уже немеющими пальцами подхватить выпавшее из рук древко. Ему это удалось, он встал было, но в этот миг прилетела новая пуля, и Чакон повалился ничком. Под пологим склоном рядом с трупом знаменосца, так доблестно исполнявшего свой долг, валялось знамя, и Ривас спрыгнул вниз, чтобы подобрать его. Я, помнится, упоминал, что Ривас был родом из Финистерры, где живут не у Христа за пазухой, а у черта на куличках, и никому бы и в голову не могло прийти, что галисиец бросится спасать знамя. Однако от этого народа никогда не знаешь, чего ждать, – вечно преподносят они тебе сюрпризы. Ну, так или иначе, славный Ривас пробежать успел по склону всего футов шесть-семь – тут его прошило сразу несколько пуль, и он скатился вниз, к самым ногам дона Педро, которого вместе с его людьми должны были вот-вот изрубить на куски. Шестеро его алебардщиков делали свое дело в высшей степени добросовестно, ибо немцы, когда им хорошо платят, от добра добра не ищут, жизнь себе не усложняют и голову не ломают – так что все они пали, как Господь заповедал, дорого продав свою шкуру и до последнего оберегая полковника, а тот, успев, к счастью для себя, надеть кирасу, еще держался на ногах, хоть и получил две или три скверных раны. Англичане, уверенные в успехе, не ослабляли натиск, и валявшееся на откосе белое полотнище с синим косым крестом разжигало их отвагу: в соответствии с понятиями того времени, оно заключало в себе честь Испании и нашего государя. Захваченное в бою знамя покрывает славой добывших его и позором – потерявших.
– No quarter! No quarter[67]! – горланили эти мерзавцы.
Наши выстрелы уложили нескольких англичан, однако теперь это было слабым утешением для дона Педро и его людей. Помочь им мы уже не могли ничем. Кто-то из них – а кто именно, сказать затрудняюсь: рассеченное ударом шпаги лицо было залито кровью – взял за локоть и попытался вывести полковника из боя. Но Петлеплёт, отдадим ему должное, остался верен себе до конца: отстранил офицера, подтолкнул его вверх по склону, пронзил шпагой одного англичанина, завязив клинок глубоко в его теле, обжег другого выстрелом в упор – и, непреклонный, несгибаемый, ни на йоту не утратив в смертный час надменности, столь свойственной ему в жизни, пал под ударами англичан, которые, распознав его чин, разразились ликующими криками.
– No quarter! No quarter!
Воспользовавшись этим радостным замешательством, двое уцелевших бросились вверх, но одного через несколько шагов догнала, пробив насквозь, пика. Другой – тот самый, что пытался спасти дона Педро, – подскочил к знамени, наклонился, подобрал, выпрямился, сделал еще три-четыре шага и рухнул, изрешеченный пулями. Знамя снова оказалось на земле, но наши были слишком заняты стрельбой по англичанам, которые упрямо лезли вверх по откосу и твердо намеревались прибавить к трупу полковника еще один – и какой! – трофей. Я и сам, не переставая отмерять заряды пороха и отсчитывать пули, запас коих опасно скудел прямо на глазах, в промежутках прикладывался и стрелял, просовывая меж турами ствол оставленной Ривасом аркебузы. Заряжать мне ее было несподручно – мал еще был ростом – а зверская отдача – ну как будто мул копытом саданул – чуть не выбивала мне плечо из сустава. Тем не менее раз пять или шесть я все же выстрелил: сплевывал свинцовый шарик пули в дуло, осторожно насыпал порох на полку, взводил курок, раздувал фитиль – недаром же я столько раз видел, как делали это капитан Алатристе и прочие.
Обо всем позабыл в горячке боя и грохоте пальбы, и от черного едкого пороха щипало мне глаза, ноздри и рот. Письмо Анхелики де Алькесар лежало у меня на груди, под колетом.
– Если выберусь живым, – бормотал рядом со мной Гарроте, торопливо заряжая аркебузу, – во Фландрию больше не вернусь, хоть озолотите…
Меж тем схватка у ворот форта и на дамбе закипела с новой силой. Увидав, что люди капитана Фениче, павшего в воротах, как пристало воину, бегут, дон Карлос Рома, который был мужчиной не потому, что штаны носил, сам схватил круглый щит и шпагу, остановил отступающих и дал отпор англичанам, благо проход был узкий и разом прорваться через него можно было лишь поодиночке. Так, мало-помалу восстановилось равновесие, итальянцы же, перестроившись и придя в чувство, сплотились вокруг своего полковника и держались стойко: надо сказать, что эта нация дерется не хуже прочих, если есть за что и если ее раззадорить, – а потом начали сбрасывать англичан со стен, отбив, стало быть, их приступ.
Но нам от этого было не легче: не менее сотни англичан упрямо перли по склону, знамя упало, туры от непрестанной пальбы меньше чем с двадцати шагов стали уже не защитой, а помехой.
– Порох кончается! – крикнул я.
И, видит бог, не соврал. Оставалось по два-три заряда на ружье. Курро Гарроте, матерясь, как последний галерник, скорчился за бруствером, прижимая к груди руку, раздробленную мушкетной пулей. Пабло Оливарес взял у него пули и стрелял, пока не вышли и они, и его собственные. Что касается остальных, то Хуан Куэста давно уже валялся мертвым, а теперь к нему присоединился и Антонио Санчес, старый солдат родом из Тордесильяса. Мурсиец Фульхенсио Пуче вскинул руки к лицу, и между пальцами у него хлынула кровь так обильно, словно кабанчика прикололи. Остальные достреливали последние свои заряды.
– Крышка, однако, – заметил Пабло Оливарес.
Мы в нерешительности переглянулись, а крики англичан приближались с каждой минутой и звучали теперь совсем рядом, на склоне. Меня лично повергли они в сильный страх и глубокое уныние.
Времени не оставалось не то что на раздумье, а и на то, чтоб «Верую» прочесть: либо в рукопашную идти, либо тонуть в болоте. Кое-кто потянул из ножен шпаги.
– Знамя, – сказал Алатристе.
Одни взглянули на капитана с недоумением.
Другие – и первым оказался Копонс – поднялись и сгрудились вокруг него.
– Дело говорит, – кивнул Мендьета. – Со знаменем оно как-то веселей.
Я понял его. Лучше драться под знаменем, чем притаиться здесь за турами, как зайцы под кустом.
Страх мой исчез, зато навалилась глубочайшая и какая-то застарелая усталость, и захотелось, чтобы все уже кончилось разом. Захотелось закрыть глаза и проспать до второго пришествия. Я полез за кинжалом и заметил, как дыбом встали волоски на руке.
Рука дрожала, дрожал, соответственно, и кинжал, так что я крепче стиснул его. Алатристе заметил это, и на кратчайший миг в его светлых глазах мелькнула извиняющая улыбка. Потом он обнажил клинок, снял шляпу, стянул через голову портупею с «апостолами» и молча полез на бруствер.
– Испания! Испания и Сантьяго! – раздался чей-то крик.
– Какой там, к матери, Сантьяго… – процедил Гарроте, поднимаясь со шпагой в здоровой руке. – Бей их, ребята!!!
Уж не знаю, как, но мы выжили. О том, что происходило на склоне, ведущем к редуту Терхейдена, остались у меня смутные воспоминания. Помню, как появились мы над бруствером, и кое-кто торопливо крестился, а потом наподобие своры бешеных псов ринулись вниз по склону, вопя во всю мочь, размахивая клинками – в тот самый миг, когда англичане уже тянули руки к валявшемуся на земле знамени. Они оторопели при нашем появлении, ибо полагали, что оборона уже сломлена, и замерли на месте, не успев ухватить ясеневое древко. Я упал на знамя, обхватил его, готовый сдохнуть, но не выпустить этот кусок плотной материи, и вместе с ним покатился по откосу, прямо по трупам офицера из свиты дона Педро, и прапорщика Чакона, и славного галисийца Риваса, и по англичанам, которых Алатристе и остальные погнали по склону с таким свирепым напором (преимущество отчаявшихся – в том, что они не ждут спасения), что те дрогнули, попятились, оступаясь, натыкаясь друг на друга и падая. И вот уже кто-то из них первым показал спину, прочие последовали его примеру. Алатристе, и Копонс, и оба Оливареса, и Гарроте, и все, кто уцелел к этой минуте, были залиты вражьей кровью, ослепли от смертоубийства. И – ей-богу, не вру! – англичане, все, сколько их было, ударились в бегство, а наши преследовали их, разя в спину, и такой вот плотной толпой все вместе достигли подножья, где лежало бездыханное тело дона Педро. Это была сущая бойня, и весь склон был завален трупами англичан, по которым катился я, крепко вцепясь в знамя, и вопил что есть мочи, будто хотел выплеснуть в этих воплях и отчаянье свое, и ярость, и отвагу того племени, к которому принадлежали мужчина и женщина, зачавшие меня. Господь свидетель, мне пришлось побывать потом во многих боях и битвах, но такой резни я никогда больше не видел. Я и сейчас еще пускаю слезу, словно какой-нибудь щенок-несмышленыш, когда вспоминаю это, когда вижу, как я, всего-то на всего пятнадцатилетний паренек, вцепясь в дурацкую сине-белую тряпку, несусь с дикими криками по окровавленному склону редута Терхейдена в тот день, когда капитан Алатристе отправился искать себе славной смерти, а я последовал за ним, и товарищи его тоже. Потому что совестно было отпускать его одного.
Эпилог
Все прочее – на картине и в истории. Девять лет спустя, утром, я пересек улицу и вошел в мастерскую Диего Веласкеса, камер-юнкера его величества.
День был зимний и серый, и погода еще гнусней, чем во Фландрии: ледок на замерзших лужах похрустывал под моими сапогами со шпорами, и холодный воздух щипал щеки, как ни кутался я в плащ, как ни нахлобучивал шляпу. И потому сущим блаженством было очутиться в теплом темном коридоре, а потом – в просторной мастерской, где в камине весело пылал огонь. Большие окна освещали полотна, развешанные по стенам, натянутые на подрамники или разложенные на деревянном настиле пола. Пахло краской, скипидаром, политурой, и в эту симфонию запахов вплетал ароматную мелодию стоявший на очаге котелок, где варилась курица со специями и вином.
– Прошу вас, сеньор Бальбоа, – произнес Диего Веласкес.
Путешествие в Италию, жизнь при дворе, милости нашего государя дона Филиппа Четвертого так благотворно сказались на нем, что художник утратил свой севильский выговор, резавший ухо лет двенадцать назад, когда я впервые увидел Веласкеса на ступенях Сан-Фелипе. Сейчас он сухой чистой тряпочкой тщательно протирал кисти, раскладывая их после этого на столе в ряд. Черная ропилья была кое-где выпачкана красками, волосы растрепаны, усы и бородка давно взывали к цирюльнику. Любимый живописец нашего государя никогда не приводил себя в порядок до полудня, когда делал перерыв в работе, чтобы отдохнуть и подкрепиться после нескольких часов упорного труда, начинавшегося с первым светом дня. Никто из домашних не смел тревожить его до этого перерыва. Потом он вновь работал, потом закусывал, потом, если обязанности не требовали его присутствия во дворце и если не возникали, как принято нынче говорить, обстоятельства неодолимой силы, прогуливался по Сан-Фелипе, Пласа-Майор или по Прадо в компании с доном Франсиско де Кеведо, Алонсо Кано и другими друзьями, знакомыми и учениками.
Сложив на табурет плащ, шляпу, перчатки, я подошел к очагу, зачерпнул добрую порцию похлебки, наполнил ею высокую кружку и, грея о нее озябшие руки, стал прихлебывать ароматное варево.
– Ну, как идут дела при дворе? – спросил я.
– Медленно.
Мы оба усмехнулись старинному присловью. В это время Веласкесу дали важное поручение – отделать и украсить залы нового дворца Буэн-Ретиро.
Поручение исходило непосредственно от самого короля, что тешило самолюбие художника, хоть он и жаловался иногда, что это не дает ему наслаждаться собственным творчеством. Ради него он передал свое звание камергера Хуану Баутисте де Масо, удовольствовавшись менее хлопотными и, так сказать, номинальными обязанностями камер-юнкера.
– Как поживает капитан Алатристе? – осведомился Веласкес.
– Хорошо. Велел кланяться. Вместе с капитаном Контрерасом и доном Франсиско де Кеведо пошел навестить Лопе у него дома на улице Франкос.
– А как наш Феникс[68]?
– Неважно. Бегство его дочери Антоньиты с Кристобалем Тенорьо подкосило его… Никак не может оправиться.
– Надо и мне выкроить часок и проведать старика… Что, он очень сдал?
– Все опасаются, что эта зима станет для него последней.
– Жаль, жаль…
Я сделал еще несколько глотков. Похлебка обжигала, но возвращала к жизни.
– Кажется, будет война с кардиналом Ришелье, – заметил художник.
– На паперти Сан-Фелипе только о том и толкуют.
Направившись к столу, чтобы поставить кружку, я задержался перед картиной на подрамнике – она была завершена, оставалось только лаком покрыть.
Анхелика де Алькесар была чудо как хороша в белом атласном платье, расшитом золотом, отделанном крошечными жемчужинами, и в наброшенной на плечи мантилье из брюссельских кружев – мне было доподлинно известно, что кружева именно брюссельские, потому что я эту мантилью ей и подарил. От насмешливо-пристального взгляда синих глаз, казалось, ничего не укроется – да так оно и было, в моей, по крайней мере, жизни. Я усмехнулся про себя, заметив портрет, – не прошло и нескольких часов, как я расстался с той, кто послужила для него моделью: вышел на спящую улицу, приняв меры предосторожности на тот случай, если меня подкарауливают нанятые дядюшкой убийцы, – то есть завернувшись в плащ и положив на эфес руку, пальцы которой, равно как и губы мои, и вся кожа, еще хранили пленительный аромат Анхелики. На спине носил я и уже зарубцевавшуюся память об острие ее кинжала, в голове еще звучали ее слова, исполненные любви и ненависти – то и другое было неподдельным и смертоносным.
– Я добыл для вас набросок… – сказал я Веласкесу. – Мой старинный товарищ часто видел и хорошо запомнил шпагу маркиза Бальбосского. По моей просьбе он зарисовал ее.
Отвернувшись от Анхелики, я достал из-под ропильи и протянул художнику сложенный лист бумаги.
– Бронзовый эфес с навершием литого золота. Видите, как расположены защитные кольца?
Веласкес, оставив кисти и тряпку, с довольным видом рассматривал рисунок
– А перья у него на шляпе были белые. Точно помню.
– Превосходно, – отозвался Веласкес.
Он положил листок на стол и оглядел картину.
Предназначенная для убранства одного из залов дворца Буэн-Ретиро, а именно – «Салона королевств», она была огромных размеров и помещалась у стены на особом станке, снабженном лесенкой для работы над верхней частью холста.
– Я решил вас послушаться, – добавил он задумчиво. – И заменить знамена копьями.
После того как дон Франсиско де Кеведо посоветовал Веласкесу обговорить со мной все подробности достопамятного события, мы с ним провели несколько месяцев в долгих беседах. Художник решил отказаться от изображения на полотне ярости битвы, от вида скрещенных клинков и прочих непременных принадлежностей батальной живописи, сделав выбор в пользу величавого спокойствия. Он сказал мне как-то, что хотел бы запечатлеть одновременно и великодушие, и высокомерие, и передать это сочетание в свойственной ему манере: чтобы действительность представала не такой, какова она есть на самом деле, а такой, какой он желает ее показать, – и чтобы в картине сквозила недоговоренность, оставляя зрителю простор для умозаключений.
– Ну что? – мягко спросил он.
Мне ли было не знать, что суждения двадцатичетырехлетнего солдата об искусстве не стоят для Веласкеса ломаного гроша. Другое было нужно ему, другого он добивался – я понял это по тому, как едва ли не опасливо смотрел он на меня, покуда я водил глазами по огромному холсту.
– Все было так и не так, – ответил я.
И тотчас пожалел о том, что слова эти сорвались с языка: я боялся обидеть Веласкеса. Но он лишь слегка улыбнулся:
– Я ведь знаю, что никакого холма такой высоты в окрестностях Бреды нет и что перспектива не вполне естественна. – Он сделал несколько шагов и, уперев руки в бока, уставился на картину. – Но сцена получилась, и это главное.
– Я имел в виду не это…
– Я понял, что вы имели в виду.
Веласкес подошел к тому месту, где изображена была рука голландца Юстина Нассау, протягивающая генералу Спиноле ключ от города, – этот кусок был еще не дописан, и вместо ключа виднелось лишь пятно, – и слегка потер его большим пальцем.
Потом отступил на шаг, не сводя глаз с холста: он всматривался в пространство между головами двух военачальников, отчеркнутое стволом аркебузы, лежащей на плече безусого и безбородого солдата, – туда, где угадывался полускрытый головами офицеров орлиный профиль капитана Алатристе.
– В конце концов, вспоминать будут именно это, – промолвил он. – Я хочу сказать – потом, когда и вы, и я ляжем в сырую землю.
Я рассматривал лица полковников и капитанов на первом плане – некоторым не хватало последних ударов кисти. Меня не смутило, что кроме Юстина Нассау, принца Нойбургского, дона Карлоса Коломы, маркизов Эспинара и Леганеса, ну, и, разумеется, самого генерала Спинолы, среди изображенных на холсте не было тех, кого я видел там в то утро, – зато своего друга, художника Алонсо Кано, Веласкес написал в виде голландца-аркебузира, стоящего слева, а черты, весьма похожие на свои собственные, придал офицеру в высоких сапогах, повернутого лицом к зрителям в правом углу. И что учтиво-рыцарственный жест Спинолы – генерал скончался от горя и позора четыре года назад, в Италии – соответствовал действительности, а вот голландский полководец получился куда более покорным и униженным, чем на самом деле. Нет, меня проняло, что в этой торжественно-спокойной композиции – «Нет-нет, дон Юстин, не склоняйтесь передо мной… », – в сдержанности наших и голландских офицеров таилось именно то, что я наблюдал своими глазами и вблизи: горделивая спесь победителей, ненависть и отчаяние в глазах побежденных; ожесточение, с которым мы друг друга резали и долго еще будем резать, благо места в земле, укрытой дымно-серой пеленой пожарищ, всем хватит. Что же касается тех, кто попал на первый план картины, и кто не попал, то мы – испытанная всеми родами смерти, многотерпеливая испанская пехота, делавшая самую черную работу в штольнях и траншеях, белевшая рубахами во тьме ночных боев, разносившая порохом и ломами плотину Севенберга, дравшаяся у Руйтерской мельницы и на стенах форта Терхейден, – в своей изношенной одежонке, со своими хворями и болячками, во всей своей красе и во всем убожестве были всего лишь пушечным мясом, задником вечной декорации, и на фоне его другая Испания, вылощенная, нарядная и парадная, с легким поклоном принимала ключи от Бреды, которую в конце концов, как мы того и опасались, пограбить нам так и не дали; и она-то вот, эта другая Испания, разрешила запечатлеть себя для потомства и позволила себе роскошь быть великодушной: «Полноте, дон Юстин, прошу вас… » Но все же мы стояли среди знати, и солнце еще не зашло во Фландрии.
– Это будет великое произведение, – сказал я.
И не покривил душой. Это будет великое произведение, и, надо полагать, благодаря ему мир узнает нашу несчастную Испанию, малость похорошевшую на картине, с которой так и веет бессмертием, ибо создавала ее кисть величайшего мастера всех времен. Что ж, а действительность, истинные мои воспоминания останутся на заднем плане – там, чуть в стороне от центра композиции, на которую, по правде говоря, мне глубочайшим образом плевать, там, где старое знамя в сине-белую клетку лежит древком на плече косматого усатого знаменосца, похожего на прапорщика Чакона, хоть я своими глазами видел, как его убили, когда он пытался это самое знамя спасти на редуте Терхейдена. Они останутся в аркебузирах Ривасе, Льопе и всех прочих, кто не вернулся в Испанию и вообще никуда, – стоящих за пределами полотна или таящихся в лесу этих выровненных копий: пусть на картине они безличны и безымянны, но я-то могу по именам назвать своих живых и мертвых товарищей, которые пронесли эти копья через всю Европу, поливая ее потом и кровью ради того, чтобы сбылись вещие слова:
И если снова грянет бой кровавый, Воочью изумленный мир узрит, Как сникнет галл, как оробеет брит, Как дрогнет шваб, как страх объяст батава, Как осенит тебя крылами слава, Пехоты нашей доблестной солдат! Ты шел стезею тяжких испытаний, Сквозь череду бесчисленных кампаний, Вослед за солнцем яростным Испании Свой путь торя с восхода на закат.Им, испанцам, разноязыким, разноплеменным, но единым в честолюбии, высокомерии, страдании, им, а не грандам, расположившимся на переднем плане, отдает голландец свои трижды проклятые ключи. Им – этому безликому, безымянному воинству, которое по воле художника лишь чуть угадывается на склоне никогда не существовавшего холма.
В десять часов пополуночи, июня пятого дня в лето от Рождества Христова тысяча шестьсот двадцать пятое, в царствование нашего славного государя Филиппа Четвертого я вместе с капитаном Алатристе, Себастьяном Копонсом, Курро Гарроте и прочими выжившими – в сильно прореженном взводе осталось таковых немного – присутствовал при капитуляции крепости Бреда. А спустя девять лет, в Мадриде, стоя перед картиной, написанной Диего Веласкесом, я словно бы вновь услышал барабанный бой, увидел, как издалека, между окутанных дымом фортов и траншей перед Бредой движутся, чуть колыша знамена и копья, бестрепетные полки лучшей в мире пехоты, идут испанцы – всем ненавистные, свирепые, надменные, вспоминающие о дисциплине только под огнем, твердо помнящие, что «все вынесут они на поле брани, лишь не снесут к ним обращенной брани».
От издателя
К вопросу о присутствии капитана Алатристе на картине Диего Веласкеса «Сдача Бреды»
Вопрос о том, имеется ли в числе персонажей картины Веласкеса «Сдача Бреды» капитан Диего Алатристе-и-Тенорио, дебатируется уже на протяжении значительного времени. Опираясь на свидетельство Иньиго Бальбоа, непосредственного очевидца создания картины, который без колебаний утверждал (причем дважды – на стр. 10 «Капитана Алатристе» и на стр. 217 «Испанской ярости»), что его хозяин является одним из персонажей этой композиции, удалось установить путем изучения голов в правой части полотна, что центральный образ, бесспорно, принадлежит генералу Спиноле и – с меньшей степенью уверенности – идентифицировать находящихся рядом с ним лиц, как соответственно – Карлоса Колому, маркизов Леганеса и Эспинара, а также принца Нойбургского. Исследования профессоров Хусти, Альенде Салазара, Санчеса Кантона и Тембури Альвареса показывают, что одна из голов на картине носит явные черты сходства с наружностью капитана Алатристе, описанной Иньиго Бальбоа.
Ни прапорщик с древком знамени на плече, ни безбородый и безусый мушкетер на дальнем плане слева не могут быть Диего Алатристе. Отпадают также бледный кабальеро с непокрытой головой, стоящий под знаменем рядом с конем, и тучный офицер без шляпы, виднеющийся под горизонтальным стволом аркебузы – в последнем профессор Севильского университета Серхио Саморано идентифицировал капитана Кармело Брагадо. Некоторые ученые выдвинули предположение, что Диего Алатристе – это стоящий на переднем плане справа офицер, повернутый лицом к зрителям, тогда как целый ряд специалистов – и среди них Тембури – считают, что в этом образе Веласкес запечатлел самого себя, как бы уравновесив автопортретом изображение своего друга Алонсо Кано, представленного в виде голландского аркебузира на переднем плане слева.
Как указывает профессор Саморано в своем труде «Бреда – реальность и легенда», черты Диего Алатристе могут совпадать с чертами офицера, стоящего справа, хотя нельзя не признать, что черты этого персонажа мягче, нежели черты капитана Алатристе, знакомые нам по описанию Иньиго Бальбоа. Однако, по наблюдению барселонского исследователя и переводчика Мигеля Антона, изложенному в его работе «Капитан Алатристе и взятие Бреды», возраст его, не превышая тридцати лет, не совпадает с возрастом Алатристе в 1625 году и уж тем более – в 1634-1635 гг., когда и создавалось полотно, не говоря уж о том, что Алатристе, хотя и командовал взводом, оставался рядовым солдатом и, следовательно, не мог носить знаки различия офицера, которые мы видим на картине. Возможность того, что Алатристе, не представленный в правой группе персонажей, помещается среди других испанцев, стоящих на самом заднем плане, за протянутой рукой генерала Спинолы, отвергается после тщательного анализа, произведенного специалистом из «Фигаро Магазэн» Этьеном де Монтети.
Но как же быть с утверждением Иньиго Бальбоа, приведенном в первом томе настоящей серии на стр. 10: «…ибо когда при штурме бастиона Юлих отца моего прошила аркебузная пуля – отчего он и не попал на картину „Сдача Бреды“, не в пример своему другу и тезке Алатристе, которого-то художник Веласкес как раз запечатлел на ней справа, прямо за лошадиным крупом… »? Эти не слишком связные слова в течение длительного времени было принято считать лишь игрой воображения, данью благодарной памяти капитану Алатристе, не выдерживающей никакой критики с точки зрения исторической достоверности. Даже сам Артуро Перес-Реверте, в пору работы над «Приключениями капитана Алатристе» использовавший в качестве документального источника воспоминания Иньиго Бальбоа, который служил солдатом во Фландрии и Италии, участвовал уже в чине прапорщика в битве при Рокруа, затем был лейтенантом королевского почтового ведомства, затем – капитаном испанской гвардии, по достижении пятидесятилетнего возраста (в 1660 году) вышел в отставку вскоре после своей женитьбы на донье Инее Альварес де Толедо, вдове маркиза де Алыуасаса, – считал утверждения Иньиго Бальбоа не соответствующими действительности.
Счастливый случай позволил раскрыть эту тайну, приняв в расчет данные, мимо которых прошли все исследователи, включая и самого создателя серии, базирующейся практически целиком на рукописи Бальбоа[69]. В августе 1998 года, когда я по делам издательским посетил Переса-Реверте у него дома возле Эскориала, писатель поведал мне, сам еще не вполне оправясь от глубокого изумления, о своем случайном открытии, произошедшем при изучении документов для создания эпилога третьего тома. Накануне, сверяясь с монографией «Веласкес», принадлежащей перу Хосе Камона Аснара, одного из крупнейших знатоков творчества нашего гения, Перес-Реверте на стр. 508-509 первого тома (Мадрид, «Эспаса Кальпе», 1964) обнаружил, что профессор Аснар на основании рентгенологического изучения полотна «Сдача Бреды» нашел подтверждения некоторым утверждениям Иньиго Бальбоа, до сей поры представлявшимся, мягко говоря, противоречивыми: так например, знамена на заднем плане в самом деле были «записаны» и заменены копьями. Что же, с художником, известным своими «раскаяньями», подобное случалось не раз – он уничтожал уже написанные фигуры и предметы, изменял черты, отыскивал иное композиционное решение. Но, помимо знамен, уступивших место копьям, – согласимся, что, не будь этого, картина производила бы совсем иное впечатление! – выяснилось, что конь был прежде написан в трех различных видах; что на самом заднем плане, в точном соответствии с действительностью, угадывается некое водное пространство с плывущим кораблем; что в первоначальном варианте Спинола держался прямее; и что справа можно различить «записанные» впоследствии головы и шеи в валлонских воротниках. По неизвестным нам причинам Веласкес в окончательной версии картины уничтожил двух персонажей. Относительно же местонахождения Диего Алатристе, которое указано Иньиго Бальбоа с большой точностью –
«…пространство между головами двух военачальников, отчеркнутое стволом аркебузы, лежащей на плече безусого и безбородого солдата…», – то зритель видит лишь пустое место над головой стоящего к нам спиной пикинера в синем колете.
Однако истинная неожиданность – лишнее доказательство тому, что живопись, как и литература, есть цепь задач-головоломок, – поджидала нас в нескольких словах, притаившихся на странице 509 книги профессора Аснара, относящихся к этому пресловутому пустому месту, где просвечивание в рентгеновских лучах обнаружило, что «…за этой головой угадывается голова еще одного персонажа, похожего в профиль на орла».
И, как нередко бывает, реальность подтверждает то, что нам казалось вымыслом. Мы никогда не узнаем, почему Веласкес решил «записать» эту голову, но, быть может, новые тома серии о приключениях отважного капитана откроют нам эту тайну[70]. Единственное, в чем мы можем быть уверены сейчас, по прошествии четырех столетий, – Иньиго Бальбоа не солгал: Диего Алатристе в самом деле был – и есть – на картине Веласкеса «Сдача Бреды».
Издатель
Приложение
Извлечения из «Перлов поэзии, сотворенных несколькими гениями того времени
Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
Дон Франсиско де Кеведо
Эпитафия маркизу Амбросьо Спиноле, главнокомандующему католической армией во Фландрии
Сонет
То, для чего понадобились в Трое Троянский конь и хитрость Одиссея, Во Фландрии свершил ты, страх посея, Своим клинком и мужеством героя. Твоя когорта, бранный пыл утроя, Пошла на штурм, и пали перед нею Фрисландия и Бреда, цепенея, Знамена побросав на поле боя. В мятежном Пфальце ты стоял над бездной, Но твердо положил к подножью трона Оплот еретиков рукой железной. Тобою Бреду обрела корона. В Италии обрел ты рай небесный. О, боль невосполнимого урона!Кавалер в желтом колете
Сонет, посвященный благородной старости Иньиго Бальбао
Черт побери, из области преданья – И тот рубака – страх ему неведом! – И мальчик, что за ним стремился следом И не искал для стычек оправданья. О том вояке плачет мирозданье! О жарких схватках под открытым небом И о клинке, приученном к победам – Трубы походной скорбное рыданье. Те подвиги, что вы знавали вместе, Над смертью и забвением возвысьте – Пускай не канут в вечность без возврата! Пускай оруженосец честь по чести Расскажет повесть храброго солдата, Отважного Диего Алатристе!Дон Педро Кальдерон де ла Барка
Оборона Терхейдена
Фрагмент 3-го действия знаменитой комедии «Осада Бреды»
Дон Фадрике Басан:
Ах, если бы к нам сегодня Стремглав прискакал Энрике – Уж то-то была бы радость, Вот день-то был бы великий!Дон Висенте Пиментель:
Да где уж! Эта удача Едва ли нам улыбнется.Алонсо Ладрон, капитан:
А спорим, он не иначе С союзниками столкнется! Такое племя чудное! Наш клич всегда одинаков: «Ломи, Испания! К бою! Святой апостол Иаков!» У римлян ума не вдосталь – Не все они понимают: Святой Иаков – апостол, Его инородцы знают, Но верят глупой гурьбою В нелепость иного сорта: «Ломи, Испания! К бою!» – одно из прозваний черта! По мнению итальянцев, Что рыскают по округам, У нас, бесстыжих испанцев, И Бог, и дьявол к услугам!Дон Франсиско де Медина:
Что ж, если Энрике скачет Антверпенскою дорогой, Примкнет к итальянцам… значит…(Звучит сигнал: «К бою!»)
Дон Фадрике:
Ну вот, началось тревогой! Похоже, прорыв.Алонсо:
О Тело Господне! Пусть итальянцы Покамест вступают в дело! Пускай постоят испанцы В сторонке…Дон Фадрике:
Тсс, Бога ради! Болтать – не твоя забота. Не то завоешь в отряде У доброго Петлеплёта! С врагом там мерится силой, Кто шпагой работал вяло.Дон Госало Фернандес де Кордова:
Бежал?Дон Фадрике:
Спаси и помилуй! Такого недоставало! Уж лучше в бою кончина, Чем драпать, не давши сдачи. Кто сдрейфил, тот не мужчина, И не испанец, тем паче!Дон Гонсало:
И точно! Верность присяге – Основа страны и трона. В атаке – хвала отваге, Но сверх похвал – оборона, Где насмерть стоят редуты.Дон Фадрике:
Когда бы не верность флагу, Какие, скажите, путы Сдержали б дающих тягу?Алонсо:
Хотя против их народца Я ничего не имею, Фламандцев побить придется – Не то подвесят за шею. Бой лучше – будь он неладен – Скрещенья трех перекладин!(Слышен барабанный бой.)
Дон Висенте:
Ого, как рубятся рьяно!(Слышен барабанный бой.)
Дон Фадрике:
В железном грохоте боя Как славно дробь барабана Слилась с поющей трубою!Дон Франсиско де Медина:
Глядите, какие танцы: Там строй прорывают роты!Дон Фадрике:
Держитесь же, итальянцы!Алонсо:
Проклятые обормоты! Не выдержат ведь – карамба! – Где надо – они не тянут!Дон Гонсало:
А вон и дон Педро Амба…Алонсо(в сторону):
Не к полночи будь помянут!Дон Гонсало:
Умрет, а назад ни шагу, Равно, как его ребята!(Слышен барабанный бой.)
Дон Фадрике:
А я заставляю шпагу – О тягостный долг солдата! – Томиться, уткнувшись в ножны, Ржаветь и стыть без движенья! Но действия невозможны: Приказ – не вступать в сраженье, В засаде сидеть. О Боже! Непросто служить короне!Дон Висенте:
Гладите, вон там, похоже, Пробита брешь в обороне, И надвое фланг расколот. О, дьявол, дурные шутки: Там в город вступают!..Алонсо:
В город?Дон Фадрике:
Как в город? Ну, это дудки! Еще чего не хватало – Закроем врагу дорогу!Дон Висенте:
Стоять – приказ генерала, Но к черту его, ей богу! Вперед!Дон Гонсало:
Нарушать приказы? Одумайтесь, кабальеро!Дон Фадрике:
Приказы – пустые фразы, Когда особая мера Нужна – ведь случай особый!..Дон Висенте:
Умерьте пыл и взгляните: Стих ветер, дышавший злобой, Застыло солнце в зените, – Явив чудесные свойства, Под триумфальные крики Природа славит геройство, Проявленное Энрике: Врагу преградив дорогу Отважно, неколебимо, Как вовремя на подмогу Пришел он солдатам Рима! Восстал италийский воин На поле сечи кровавой. Но кто всех больше достоин Венчаться бессмертной славой? Конечно же, Карло Рома – Такой ему жребий выпал! Да вспомнит о нем корона, Пожаловав герб и титул, И прочее в том же роде От дома и до амбара, И всяческие угодья За верность его удара! Испанцы у бранной славы Не раз гостили под кровом. Прочь, зависть! Мы трижды правы, Венчая венцом лавровым Италию!Дон Франсиско де Медина:
Несомненно И тот достоит вниманья, Кто знамя спасал от плена, Издевок и поруганья. Кто выстоял честно в драке, Разбив англичан с налета – Конечно, это вояки Полковника Петлеплёта! И есть между ними некто, Не сдавший врагу ни пяди…Дон Гонсало
Но кто этот Марс и Гектор С огнем в горделивом взгляде?Алонсо:
Диего де Алатристе, Не ведавший поражений В сверканье, звоне и свисте Клинков на полях сражений!Дон Гонсало:
Конечно, ему по праву (не меньше, чем Карлу Рома) Воздаст Испания славу Среди победного грома! Каким отважным народом Терхейден в бою не отдан!Дон Фадрике:
Повержены и бескрылы Враги испанской державы – Разметаны вражьи силы, Но вечно сиянье славы, Которую мы стяжали, Венчая лавром порфиру. Пусть бронзовые скрижали Об этом расскажут миру!IV. Золото короля
Что мы получим? Плаху иль почет? Об этом, господа, лишь тот узнает, Кто повесть нашу до конца дочтет.
Гарсиласо дела БегаI. Кадисские висельники
«… пребываем ныне в полнейшем упадке, и те, кто прежде чтил нас, теперь нами пренебрегают. Самое имя „испанец“, некогда приводившее в трепет весь мир, ныне по грехам нашим едва ли не вовсе утрачено нами…»
Я закрыл книгу и взглянул туда, куда глядели все. Штиль продержался несколько часов, но вот восточный ветер зашумел в парусах и погнал галеон «Иисус Назарей» в бухту. Столпясь на борту под сенью парусов, солдаты и моряки указывали друг другу на трупы англичан, очень мило болтавшиеся в петлях под стенами замка Санта-Каталина или вдоль берега, на границе с виноградниками. Висельники казались гроздями винограда, ожидавшими сбора, — с той лишь разницей, что для них сбор уже сыграли.
— Собаки, — высказался, сплюнув за борт, Курро Гарроте.
Как и у всех у нас, его сальные грязные волосы кишели вшами: немудрено — воды на корабле, взявшем на борт ветеранов фламандской кампании, было в обрез, мыла еще меньше, плаванье же от Дюнкерка до Лиссабона длилось пять недель. Курро то и дело с досадой ощупывал свою левую руку, сильно попорченную англичанами при взятии редута Терхейден, и с видом полнейшего удовлетворения поглядывал туда, где на отмели Сан-Себастьяна перед маяком дымились останки корабля: граф Лекст погрузил на него столько убитых, сколько смог собрать, после чего поспешно убрался восвояси.
— Поделом им, — заметил кто-то.
— Жаль, без нас обошлось, — припечатал Курро. Видно было, что ему самому до смерти хотелось бы развесить эти гроздья. Ибо неделю назад в Кадис на ста пяти боевых кораблях явились десять тысяч англичан и голландцев в наглом сознании своего могущества, преисполненные решимости разграбить город, сжечь нашу эскадру, стоявшую в гавани, и захватить прибывающие из Бразилии и Новой Испании галеоны с золотом. Позднее наш великий Лопе де Вега сочинил о сем намерении свой знаменитый сонет, вставив его в комедию «Девушка с кувшином»:
Обманом дерзостным сумел негодный брит Ко льву кастильскому вползти в его обитель…Так что этот самый Лекст, истый представитель пиратской своей нации по жестокости и коварству, лице— и высокомерию, явился — и захватил форт Пунталь. Юный английский король Карл Первый и его министр Бекингем еще не позабыли, какой прием был им оказан в Мадриде, куда Стюарт разлетелся свататься к нашей инфанте: как морочили им голову отговорками и проволочками, как допрежь того — при посредстве, если помните, капитана Алатристе и Гвальтерио Малатесты — едва не провертели в них лишних дырочек, как пришлось принцу и его фавориту воротиться в Лондон ни с чем. Но история тридцатилетней давности, когда войска Эссекса взяли и разграбили Кадис, на сей раз не повторилась — Господь не попустил: наши организовали неприступную оборону, к солдатам с галер герцога Фернандины присоединились жители соседних Чиклана, Медина-Сидонии и Вехера, и все они вкупе с гарнизоном Кадиса дали англичанам отпор столь сокрушительный, что от затеи своей, обошедшейся им большой кровью, те принуждены были отказаться. Лекст, понеся большие потери, ни на шаг не продвинувшись, спешно погрузил своих разбойников на корабли, ибо узнал, что вместо галеонов, груженых золотом и серебром из Индий, предстоит ему встреча с эскадрой в составе шести крупных и скольких-то малых кораблей под испанскими и португальскими флагами — напомню вам, что в ту пору, тщанием блаженной памяти короля Филиппа Второго, была у нас с португальцами общая империя и враги тоже были общие; каковые корабли, помимо сильной артиллерии, имели на борту матерых вояк, всяких видов навидавшихся во Фландрии, а ныне уволенных в отпуск или в отставку. И наш адмирал, в лиссабонской гавани прослышав о новой каверзе англичан, помчался в Кадис во всю прыть, дабы поспеть вовремя.
Однако не поспел. Сейчас паруса неприятельской флотилии превратились в едва различимые на горизонте белые пятнышки. Мы разминулись с еретиками: накануне днем они поспешили убраться восвояси, не сумев повторить успех пятьсот девяносто шестого года, когда спалили дотла Кадис и даже вывезли книги из тамошних библиотек. Дело известное — англичане без устали похваляются разгромом нашей Армады, оказавшейся не столь уж непобедимой, тычут всем в нос подвиги своего графа Эссекса, но осрамившись — помалкивают. А без сраму не обходится, ибо злосчастный наш и старый испанский лев, со всех сторон окруженный врагами, которые всегда не прочь обмакнуть мякиш в нашу подливку хоть и клонился к упадку, хоть и дряхлел день ото дня, еще сохранял клыки и когти и не отдал бы свою шкуру задешево, а заставил бы потрудиться всяческих стервятников в лице торгашей-англичан, коим еретическая их, двуличная, не иначе как самим сатаной порожденная вера позволяет совмещать богобоязненность и корыстолюбие, набожность и безбожную алчбу до того легко и просто, что и распоследний ворюга может считаться почтенным представителем одной из свободных профессий. Послушать их историков, так мы, испанцы, воюем и порабощаем людей, движимые фанатизмом, жадностью и высокомерием, а все прочие нации грабят и гробят ближнего, продают его с потрохами или выпускают ему кишки исключительно ради торжества свободы, справедливости и прогресса. Ну ладно, это я отвлекся. Короче говоря, в сей приснопамятный день англичане лишились в Кадисе тридцати кораблей, покрыли знамена свои позором, понесли большие потери убитыми и ранеными в бою, не считая тех, кто напился пьян, отстал, попал в плен и был нашими беспощадно вздернут на крепостных стенах или в виноградниках. В тот раз сучьей этой своре затея ее вышла боком.
За башнями фортов, за виноградниками виднелся город — белые дома и высокие колокольни, похожие на сторожевые вышки. Мы обогнули бастион Сан-Фелипе и оказались прямехонько перед гаванью, принюхиваясь к дыму отечества, как ослы — к сену. Крепостные орудия встретили нас салютом, и наши отозвались им во всю мочь своих бронзовых глоток. Убрали паруса, приготовились отдать якорь. Матросы взлетели на ванты, я спрятал в свой заплечный мешок «Гусмана из Альфараче»[71], купленный моим хозяином в Антверпене для препровождения времени в пути, и подошел к стоявшим на шкафуте[72] Алатристе и прочим. Почти все пребывали в радостном возбуждении от близости берега, от того, что позади осталось плаванье со всеми своими прелестями вроде встречных ветров, грозящих шваркнуть корабль о береговые рифы, выворачивающей нутро качки, валянья на заблеванной палубе, сырости, тухлой воды — да и той давали по кружке в день, — сухих бобов и червивых сухарей. Уж на что незавидна жизнь солдата на суше, но во сто крат тяжелее она в море, ибо захоти Господь, чтобы там влачили мы свой век, он снабдил бы нас вместо рук и ног плавниками.
Ну да ладно. Увидев меня, Диего Алатристе слегка улыбнулся, положил мне руку на плечо. Зеленовато-прозрачные глаза его задумчиво озирали местность, и, помню, я успел подумать: он не похож на человека, который возвращается в никуда.
— Что ж, мальчуган, вот мы и снова здесь. Сказано это было каким-то странным тоном, словно капитан смирялся с неизбежностью: дескать, что «здесь», что еще где — один черт. Я меж тем рассматривал Кадис, восхищаясь игрой солнечного света на стенах его белых домов и на величественной глади сине-зеленой бухты. Совсем не таким, как в моем родном Оньяте, был здешний свет, но, тем не менее, и его я ощущал своим. Собственным.
— Испания… — с кривой улыбкой процедил сквозь зубы, будто сплюнул, Курро Гарроте. — Старая ты сука, тварь неблагодарная.
Снова дотронулся до покалеченной руки, словно вдруг ощутил боль или решил спросить себя, во имя чего на редуте Терхейден едва не лишился он ее вкупе со всем туловищем? Курро собрался произнести что-то еще, однако Алатристе, которому хищно нависающий над усами крючковатый нос придавал зловещее сходство с ловчим соколом, предостерегающе покосился на него. Потом — на меня, потом вновь царапнул ледяным глазом малагца, и тот благоразумно воздержался от продолжения.
Якоря были отданы, и корабль наш замер в бухте. За песчаной отмелью, связывавшей Кадис с сушей, уходил в небо черный дым с бастиона Пунталь, однако сам город почти не пострадал. Столпясь перед пакгаузами и зданием таможни, с берега приветственно махали нам жители, а с моря окружили нас всякого рода ботики, баркасы, ялики и прочая мелкая посуда, причем экипажи их ликовали так, словно мы отогнали англичан от Кадиса. Потом я узнал, в чем тут дело — повторив ошибку Лекста и его англиканских пиратов, нас приняли за головной галеон из состава «флота Индий», который мы опередили на несколько дней.
Но, телом Христовым клянусь, мы все, хоть не из другого полушария плыли, тоже намыкались предостаточно, а я — больше всех, ибо впервые оказался в студеных северных морях. Флотилия наша, насчитывавшая шестнадцать вымпелов — семь галеонов, сколько-то «купцов», а остальные — баскские и фламандские корсары — прорвав у Дюнкерка блокаду голландцев и взяв курс на север, как снег на голову, свалилась на голландских же рыбаков, ловивших свою селедку, пустила их ко дну, а потом обогнула Шотландию с Ирландией и двинулась по океану на юг. «Купцы» и один галеон разошлись соответственно в Виго и в Лиссабон, прочие же продолжали путь в Кадис. Что касается корсаров, то они остались рыскать вдоль британских берегов, на совесть исполняя свои обязанности, заключавшиеся в том, чтобы грабить, топить, жечь корабли под неприятельским флагом и всячески, одним словом, безобразничать на морских коммуникациях противника, который в точности таким же образом гадил нам у Антильских островов и везде, где только мог. Короче говоря, не рой другому яму и всякое такое.
Тогда-то довелось и мне впервые принять участие в морском сражении: когда прошли проливом между Шотландией и Шетландскими островами, то в нескольких милях к востоку от одного острова, называвшегося Фула или что-то в этом роде, черного и негостеприимного, как, впрочем, и все тамошние края, что ежатся под серым небом, наткнулись мы на целую флотилию рыбачьих шхун, вышедших на промысел под присмотром и доглядом четырех боевых кораблей, из коих один оказался крупным трехмачтовиком — не то корвет, не то бриг. Наши «купцы», отойдя в сторонку, легли в дрейф, корсары из Басконии и Фландрии с акульим проворством ринулись на рыбаков, флагман же наш, носящий имя «Вирхен де Асоге», атаковал их эскорт. Еретики по своему обыкновению намеревались, не сближаясь, издали садить по нам из сорокафунтовых пушек и кулеврин, уповая на меткость и проворство своих отлично обученных артиллеристов, благо англичане и голландцы знали морское дело не в пример лучше испанцев и всегда превосходили нас — что доказывает история с Непобедимой Армадой, — ибо их государи и властители заботились о своих моряках и хорошо им платили, тогда как необъятная империя Испании, чье благополучие напрямую зависело от безопасности морских границ, сей предмет оставляла в небрежении, привыкнув полагаться более на пехотинца, нежели на морехода. Так уж повелось, что в нашей чванной отчизне, где даже портовые девки кичатся знатностью рода: какую ни возьми — не Гусман, так Мендоса, — дворяне гнушались служить на флоте, считая это ниже своего достоинства. Удивляться ли, что у неприятеля были меткие комендоры, вышколенные марсовые, опытные капитаны, испанский же флот, не обделенный хорошими адмиралами и толковыми штурманами, являл собою не более чем все ту же отважную пехоту, посаженную на корабли — пусть и превосходные. Впрочем, в те времена мы все еще грозны были для врагов в рукопашной схватке, и потому англичане и голландцы неизменно применяли одну и ту же тактику: старались, не подпуская нас близко, крушить наши палубы и мачты артиллерийским огнем, увечившим и убивавшим наших матросов, с тем, чтобы понудить нас в конце концов к сдаче. Мы же, напротив, тщились подойти вплотную, взять неприятельский корабль на абордаж, дабы испанская пехота со столь свойственной ей свирепой отвагой могла показать, чего она стоит.
Именно так разворачивался бой у острова Фула: мы стремились сократить дистанцию, противник же, как водится, частым огнем намерению нашему препятствовал. И носивший имя Пресвятой Девы Асогенской флагман, хоть вражеские ядра сильно повредили ему оснастку, а палуба вся осклизла от крови, сумел-таки врезаться в середину строя, оказавшись так близко от голландского корвета, что кливером своим подметал тому шкафут. Перебросили абордажные крючья, и испанцы горохом посыпались на палубу, паля из мушкетов, размахивая топорами. И вскоре, никому не давая спуску, добрались уже до шканцев, покуда мы, зайдя на «Хесусе Насарено» с подветренной стороны, били из аркебуз по остальным неприятельским кораблям. Одно скажу: больше всего повезло тем голландцам, кто кинулся за борт, предпочтя захлебнуться студеной водой, нежели горячей кровью из собственной перерезанной глотки. Таким вот манером два корабля мы захватили, третий потопили, а четвертый повредили столь сильно, что он едва ушел. Вскоре подоспели от Дюнкерка фламандские каперы и, не желая оставаться в стороне от всей этой пахоты, косьбы и молотьбы, распотрошили и сожгли в полное свое удовольствие двадцать две рыбачьих шхуны, которые не то чтобы лавировали, а растерянно шарахались из стороны в сторону, как все равно куры — от забравшейся в птичник лисы. И под вечер — а вечер в этих широтах наступает, когда у нас в Испании еще белый день — мы продолжили путь курсом на юго-запад, оставив на заволоченном дымом горизонте горящие обломки вражьих кораблей. Безрадостный вышел пейзаж.
Дальнейшее наше плаванье обошлось без происшествий, если не считать, что между Ирландией и мысом Финистерре трое суток трепал нас шторм, и уж он понаделал бед: сорвал с лафета пушку, которая, покуда мы пытались водворить ее на место, мечась по палубе и молясь, чтоб пронесло, успела, как клопов, раздавить о переборки нескольких бедолаг — и сильно повредил галеон «Сан-Лоренсо», так что пришлось ему выйти из ордера и плестись в Виго заделывать пробоины. Когда в Лиссабоне догнало нас тревожное известие о новом нападении англичан на Кадис, несколько боевых кораблей устремились к Азорским островам навстречу груженому золотом «флоту Индий», дабы предупредить его о возможной атаке и взять под охрану, мы же поспешили на всех парусах к Кадису, однако, по счастью, как я уже говорил, англичан не застали.
В продолжение всего плаванья я с неизменной для себя пользой и удовольствием читал вышеуказанное сочинение Матео Алемана, равно как и иные книги, которые капитан Алатристе вез с собой или сумел раздобыть на корабле: если не путаю — «Жизнь оруженосца Маркоса де Обрегона»[73], томик Светония и вторую часть «Хитроумного идальго Дон Кихота из Ламанчи». Использовал я путешествие и для совершенствования навыков, со временем обещавших стать просто бесценными: в добавление к фламандскому моему опыту Диего Алатристе и его товарищи заставляли меня упражняться с оружием, добиваясь совершенного владения им. Я, как на почтовых, мчал к своему шестнадцатилетию; тело мое обрело должную соразмерность членов, а мытарства и лишения сообщили мне раннюю возмужалость, укрепив плоть и закалив дух. Капитан Алатристе лучше, чем кто-либо другой, знал: клинок, уравнивающий простолюдина с властелином, есть наивернейшее средство снискать хлеб насущный или защититься. А потому, желая окончательно отшлифовать знания, вынесенные мною из суровой школы боев и походов, задался целью посвятить меня в некоторые секреты фехтовального искусства, по каковой причине мы с ним ежедневно упражнялись в приемах нападения и защиты, товарищи же, расчистив нам место на палубе, глазом знатока взирали на наши эволюции, обменивались суждениями, подавали советы, приводили в пример случаи из собственной практики — не всегда и не в полной мере соответствовавшие строгой правде жизни. И в сем требовательно-доброжелательном кругу людей сведущих и бывалых — за битого, как известно, двух небитых дают — отрабатывали мы финты, парады и рипосты, «мельницы», выпады и рубящие удары, словом, все, что входит в науку умерщвления человека холодным оружием. И вскоре я узнал, как, действуя разом шпагой и кинжалом, отбить и задержать вражеский клинок, а вслед за тем нанести разящий удар, как теснить противника, как ослепить его светом фонаря или поменяться с ним местами, чтобы солнце ударило ему в глаза, как в нужный момент сковать его движения метко брошенным плащом. Все это неотъемлемо от ремесла зашдачина — наемного бретера, убивающего хоть и по заказу, но не из-за угла. Мы не думали и не гадали, что очень скоро придется применить сии навыки на практике, а между тем в Кадисе поджидало нас письмо, в Севилье — друг, а на берегу Гвадалквивира — невероятное приключение. Обо всем этом намереваюсь я по порядку и в свое время вам поведать.
Любезнейший капитан Алатристе, Вероятно, Вас удивит сие письмо, во первых строках коего я поздравляю Вас с долгожданным возвращением в отчизну, каковое возвращение завершилось, смею надеяться, благополучно.
Ваши письма, присылаемые из Антверпена, позволяли мне мысленно следовать за Вами, и я надеюсь, что Вы, равно как и милый моему сердцу Иньиго, по-прежнему пребываете в добром здравии и счастливо избегли ловушек жестокого Нептуна. Если это и в самом деле так, то Вы не могли бы выбрать более благоприятный момент для возвращения домой. Если ко дню Вашего прибытия в Кадис туда еще не причалит «флот Индий», я обращаюсь к Вам с нижайшей просьбой — без промедления отправиться в Севилью. Там сейчас пребывают их королевские величества, совершающие поездку по Андалусии, а поскольку покорный Ваш слуга по-прежнему находится в фаворе у Четвертого Филиппа и графа-герцога Оливареса, поддерживающего престол на манер Атланта (согласимся, впрочем, что нет ничего более переменчивого, нежели расположение властителей земных, и не поручусь, что завтра неосторожная эпиграмма или дерзкий сонет не будут стоить мне, как древле — Овидию, ссылки в Понт Евксинский, каковым в моем случае выступит усадебка моя Торре-де-Хуан-Абад), то в обществе сих высоких и высочайших особ вращаюсь и я, занимаясь всем понемножку, ибо официальный круг моих обязанностей очерчен весьма неопределенно. О неофициальной же стороне трудов моих и досугов я поведаю после того, как буду иметь удовольствие заключить Вас в объятия, а пока — ни слова больше. Скажу лишь, что, разумеется, речь пойдет о деле, требующем участия Вашего и Вашей шпаги.
Шлю Вам свой сердечный привет, к коему присоединяется и граф де Гуадальмедина; он тоже здесь и по-прежнему хорош собой на загляденье, дюжинами пожирая сердца севильянок
Остаюсь любящий Вас —
Франсиско де Кеведо Вилъегас.
Диего Алатристе, спрятав письмо в карман, спустился в шлюпку и сел рядом со мной. Покряхтывали гребцы, налегая на весла, поскрипывали уключины, уплывал назад высокий черный борт: «Иисус Назорей» замер в неподвижной воде гавани рядом с другими галеонами, поблескивающими в ясном свете дня свежим суриком, посверкивающими надраенной медяшкой, вздымающими к небесам высокие мачты в переплетении снастей. И вот уже берег, и нетвердая с непривычки нога ловит ускользающую сушу, неуверенно ступает по земле, столь ошеломительно просторной после тесной палубы — иди, куда хочешь. Щекочет ноздри запах специй, тешат глаз выставленные на прилавках лимоны, апельсины, изюм, сливы, соленья, белый хлеб, ласкают слух зазывные крики торговцев, расхваливающих свой товар — генуэзскую бумагу, берберийский воск, вина из Санлукара, Хереса и Порто, сахар из Мотриля… Покуда капитан, присев у дверей цирюльни, брился, стригся и подправлял усы, я стоял рядом, восхищенно глазея по сторонам. В те времена портом приписки для «флота Индий» служила Севилья, Кадис же, еще не заменивший ее в этом качестве, был маленьким городком с четырьмя-пятью постоялыми дворами, однако улицы его, заполненные генуэзцами, португальцами, маврами, чернокожими невольниками, омывал ослепительный свет, воздух был прозрачен и чист, и все, разительно отличаясь от Фландрии, веселило душу. Мало что напоминало о недавнем приступе, хоть повсюду виднелись солдаты и вооруженные обыватели, а церковную площадь, на которую пришли мы, расставшись с цирюльником, плотно заполнял народ, явившийся возблагодарить небеса за избавление от грабежа и огня. Посланный доном Франсиско негр-вольноотпущенник, как и было условленно, ожидал нас в таверне и, покуда мы в прохладе воздавали должное винцу, тунцу и куриному птенцу с отварной зеленой фасолью, приправленной оливковым маслом, ввел нас в курс дела. По его словам, из-за нападения англичан все лошади были реквизированы для нужд обороны, так что лучше всего нам добираться до Севильи морем. Негр уже нанял для нас баркас со шкипером и четырьмя матросами и по дороге в порт вручил нам бумагу, подписанную герцогом де Фернандиной и призванную служить пропуском: солдату Диего Алатристе-и-Тенорьо, отслужившему во Фландрии, и его слуге Иньиго Бальбоа Агирре разрешалось беспрепятственно проследовать в Севилью.
А в порту простились мы с бывшими нашими однополчанами, с жаром предававшимися игре или блуду с гулящими девицами, коим прибытие нашей эскадры в Кадис сулило славную поживу. Курро Гарроте нашли мы на корточках перед ящиком, заменявшим игорный стол: расстегнув ропилью, то и дело прихлебывая вина из кувшина, положив здоровую руку на рукоять кинжала — мало ли что, — он глядел в развернутые веером карты так, словно вся жизнь зависела от них, и крыл туза козырным валетом, а партнеров — отборной бранью пополам с божбой. И, хотя невезение уже сильно облегчило его кошелек, Курро прервал свое душеполезное занятие, чтобы пожелать нам удачи, в виде примечания добавив, что мы еще наверняка увидимся — не на этом свете, так уж наверняка — на том.
Вслед за Гарроте настал черед Себастьяна Копонса — помните его? — маленького, сухонького, жилистого крепыша, неразговорчивостью своей не уступающего капитану Алатристе. За свои пятьдесят лет сей уроженец Уэски проделал множество кампаний и собрал богатейшее собрание рубцов и шрамов, из коих последний, полученный в бою за Руйтерскую мельницу, тянулся от виска до самой мочки уха. Копонс сообщил, что денька два пробудет здесь, после чего тоже подастся в Севилью, а уж потом придет, наверно, время подумать о Силья-де-Ансо, деревушке, откуда пришел он в Божий мир Женится на какой-нибудь девице, будет ковыряться в земле — чем не жизнь, если, конечно, рука, привычная к шпаге, сумеет удержать сошник плуга. Они с Алатристе сговорились встретиться в Севилье, на постоялом дворе Бесерры, а перед расставанием обнялись — молча и крепко, как пристало настоящим мужчинам.
Меня печалила разлука с Копонсом и Гарроте — да, и с ним тоже, хотя этот курчавый малый с золотой серьгой в ухе и опасными ухватками головореза из мадридского квартала Перчель не стал мне близок. Но так уж случилось, что из всего нашего взвода, воевавшего под Бредой, добрались до Кадиса только эти двое. Прочие остались кто где: уроженца Майорки Льопа и галисийца Риваса присыпали фламандской землицей, одного — на Руйтерской мельнице, другого — у Терхейденского редута. Бискаец Мендьета, если жив еще, исходит кровавой рвотой на койке убогого лазарета в Брюсселе; братья Оливаресы после того, как отведен был на переформирование Картахенский полк, понесший такие потери при взятии Бреды, снова пошли воевать, записавшись в полк дона Франсиско де Медины и взяв к себе мочилеро приятеля моего Хайме Корреаса. Война во Фландрии шла вширь и вглубь: спохватившись, что денег и людей на нее ухлопано, как принято теперь выражаться в Мадриде, немерено, граф-герцог Оливарес, фаворит и первый министр нашего государя, принял решение перейти к обороне, затянув, что называется, ремешок и сократив расходы, то есть численность войск до предела возможного. Оттого-то шесть тысяч человек — кто своей волей, а кто и чужой — взойдя на борт «Иисуса Назорея», поплыли в Испанию: одних списали по старости или по болезни, другим вышел оговоренный срок службы, третьим обещали денежные выплаты, четвертых переводили в другие полки и гарнизоны, расквартированные на Полуострове или в Средиземноморье. Многим, наконец, просто опротивела война со всеми ее опасностями, и они могли бы воскликнуть вслед за Лопе:
А вправду ль так уж плохи лютеране И так велик чинимый ими вред? По зрелом размышленье дам ответ: Да мало ли разнообразной дряни Творец Вселенной произвел на свет?! Решись Создатель им не дать житья, Извел бы всех скорей, чем ты да я.
Показав нам с капитаном баркас, чернокожий посланец дона Франсиско откланялся. Мы поднялись на борт, матросы на веслах вывели кораблик на рейд, и, обогнув наши галеоны — снизу, с водной глади, казались они особенно внушительными, — шкипер приказал поставить парус, благо ветер был попутный. Так мы пересекли всю бухту, двигаясь к устью Гвадалете, и спустя небольшое время добрались до «Левантины», изящной галеры, вместе с другими стоявшей на якоре посреди реки, на левом берегу которой внимание мое привлекли высокие горы, казавшиеся снеговыми — это были соляные копи. Справа тянулся бело-бурый город, и, оберегая своими пушками якорную стоянку, возвышалась над ним башня крепости. В порту «Санта-Мария», где, выражаясь казенным языком, размещалась главная база галерного флота, хозяин мой бывал в ту пору, когда хаживал в походы на турок и берберов. И о самих галерах — сих машинах, приводимых в движение мышцами и кровью людей — знал не понаслышке. И потому, представившись капитану «Левантины», который, изучив наш пропуск, разрешил нам подняться на борт, он отыскал тихое местечко на палубе, позолотил ручку комиту[74], уложил меня и прилег сам на наши заплечные мешки, так за всю ночь и не выпустив из пальцев рукоять кинжала. Ибо, сказал он мне вполголоса, причем под усами его порхнула улыбка, даже самый безгрешный галерник, хоть капитан, хоть прикованный за ногу гребец-каторжанин, не обрящет вечного блаженства, пока не отбудет в чистилище самое малое лет триста.
Я спал, завернувшись в плащ, и кишмя кишевшие тараканы и вши были мне уже не в новинку: за время долгого морского пути я привык, что на всем плавающем обитает такое множество крыс, клопов, блох и всякой прочей мрази и нечисти, что чуть зазеваешься — заживо сожрут, не посмотрят, что великопостная среда. И всякий раз, просыпаясь, чтобы почесаться, видел я светлые глаза Алатристе, сотворенные будто из того же материала, что и луна, медленно катившаяся в поднебесье над верхушками мачт. И вспоминал его шуточку насчет галерников и отбывания срока в чистилище.
Я ни разу не слышал, чтобы он как-то отзывался о своем прошении об отставке, поданном нашему капитану Брагадо после взятия Бреды; ни тогда, ни потом не упоминал он об этом даже вскользь и мимоходом, однако же я чувствовал — что-то должно за этим решением воспоследовать. Лишь много позже мне стало известно: Диего Алатристе рассматривал среди прочих и возможность вместе со мною податься за моря. Помнится, я уже упоминал, что когда в шестьсот двадцать первом году при взятии форта Юлих отыскала моего отца голландская пуля, капитан взял на себя попечение обо мне, и вот, верно, он рассудил, что коль скоро я уже набрался во Фландрии боевого опыта, не утеряв там ни разума, ни здоровья, ни головы, то теперь полезно было бы задуматься о том, какое будущее уготовано юноше моего возраста и наклонностей по возвращении в Испанию. И он не считал, что сын его покойного друга Лопе Бальбоа создан для солдатчины, хоть со временем, после Нордлингена, обороны Фуентер-рабии, войн в Португалии и Каталонии, я и доказал обратное, когда произведен был в прапорщики, а, поносив сколько-то лет знамя, получил сперва чин лейтенанта королевской почтовой службы, а потом — капитана гвардии нашего государя Филиппа Четвертого. Однако успехи мои на сем поприще в известном смысле доказывают правоту Алатристе, ибо я, служивший честно и сражавшийся храбро, как подобает доброму католику, испанцу и баску, ничего бы не выслужил, если бы не милость короля, близость с Анхеликой де Алькесар и неизменное благоволение ко мне фортуны. Ибо Испания — не мать, но мачеха — плохо платит тем, кто проливает за нее кровь, и люди, у которых заслуг не в пример больше моего, гниют в приемных безразличных чиновников, в инвалидных домах или у монастырских ворот, как прежде гнили в окопах и на биваках. То, что мне повезло на стезе военной службы, есть исключение из правил — куда чаще люди, всю жизнь подставлявшие грудь под пули, оканчивают жизнь эту вот так:
Пробита шкура — на манер мишени — Десятком пуль навылет и насквозь, О вспомоществовании прошенье Со смертного одра подать пришлось.А выживешь, просить будешь уже не наградные, не пособие, не пенсию, не роту под начало и даже не пропитания для детей — милостыню будешь клянчить, калекой воротясь из Лепанто, из Фландрии или еще черт знает откуда, а перед тобой захлопнут дверь, сказав злобно:
Как надоели эти речи: Мол, ранен был в жестокой сече, Мол, защищал испанский трон… Ну, вот и требуй пенсион С тех, кто нанес тебе увечье!Еще я думал о том, что капитан Алатристе стареет. Нет, поймите меня правильно: он еще никак не мог считаться стариком: в ту пору — на исходе первой четверти века — ему было лишь немного за сорок. Я говорю о неком душевном дряхлении: оно наваливается на таких, как он, крепких мужчин, от младых ногтей дравшихся за истинную веру и не получавших взамен ничего, кроме тяжких трудов, шрамов и нищеты. Фламандская кампания, с которой капитан связывал известные надежды на свой да и на мой счет, оказалась делом тяжким и неблагодарным: несправедливы были командиры, жестоки начальники, велики жертвы, прибыли — ничтожны, упованья — ложны. Кое-чем поживиться и разжиться удалось только при взятии Аудкерка да еще в каких-то городках, так что по истечении двух лет остались мы ни с чем, если не считать выплаченного капитану при увольнении из армии пособия в несколько эскудо серебром — мне-то, мочилеро, не причиталось ни гроша — на которые можно было протянуть несколько месяцев. Все так, и однако же Диего Алатристе придется еще не раз и не два побывать на войне, когда сама жизнь заставит нас вернуться под испанские знамена, да и смерть свою он — в ту пору уже совсем поседелый — встретит так же, как встречал всякую опасность: лицом к лицу, с клинком в руке, с застывшим в глазах невозмутимым спокойствием, и произойдет это в день битвы при Рокруа, где, храня верность нынешнему своему королю и былой славе, бестрепетно погибала лучшая в мире пехота. И вместе с нею таким, каким знавал я его в радости — скупо отмеренной — и в горести — вот ее-то было с избытком — падет капитан Алатристе, не изменив ни самому себе, ни — если не словам своим, так умолчаниям. Примет смерть, как положено солдату.
Но не будем забегать вперед и торопить события. Помните, я сказал вам, господа, что задолго до смерти человека, который был тогда моим хозяином, что-то умерло в его душе. Мне трудно изъяснить словами ощущения, возникшие именно в ту пору, при возвращении из Фландрии, когда я, в силу юного возраста сиявший полуденной ясностью, впервые заметил, хоть и не вполне осознал, медленное умирание капитана Алатристе. Позднее я пришел к выводу, что скорей всего дело идет о вере или об остатках веры: веры в то, что нечестивые язычники называют «судьба», а добрые католики — «Бог». Прибавилась, быть может, к этому и горестная уверенность, что бедная наша Испания — и он, капитан Алатристе с нею вместе — неуклонно скользит в бездну, и не было надежды, что кто-нибудь вытащит ее — и всех нас — оттуда раньше, чем через много столетий. А сейчас я спрашиваю себя, не мое ли присутствие рядом, не моя ли цветущая юность и почтение, которое я еще испытывал тогда к своему хозяину, помогали ему держаться и не впасть в отчаяние. Не утонуть в нем, как тонет мошка в кувшине вина — вина, кстати, порою бывало многовато. Не разделаться с ним раз и навсегда, поиграв напоследок в гляделки с непреложно-черным дулом пистолета.
II. Дело, требующее шпаги
— Кое-кого придется убить, — сказал дон Франсиско де Кеведо. — И, пожалуй что, многих.
— У меня только две руки, — ответил Алатристе.
— Четыре, — подал я голос.
Капитан уставился на свой стакан. Дон Франсиско поправил очечки и окинул меня задумчивым взглядом, после чего повернулся к человеку, скромно притулившемуся за столом в противоположном углу обеденной залы. Когда мы пришли на этот постоялый двор, он уже был там, и наш поэт, не представляя его нам и не вдаваясь в подробности, назвал его Ольямедильей и лишь потом прибавил к этому еще одно слово — счетовод. Счетовод Ольямедилья. Низкорослый, щуплый, лысый и очень бледный. Этакая серая мышка, робкая и приниженная, даром что в черном колете, а соединенные с коротко подстриженной, реденькой бородкой усы на концах подвиты. Пальцы в чернилах, да и вообще больше всего смахивает на захудалого стряпчего или на мелкого канцеляриста, который света белого не видит, закопавшись среди бумаг. Вот он смиренно кивнул, отвечая на безмолвный вопрос Кеведо.
— Будет два этапа, — сказал тот капитану. — На первом необходимое содействие окажет вам он. — Дон Франсиско показал в сторону человечка, невозмутимо выдержавшего наши пристальные взгляды. — На втором сможете набрать нужных вам людей.
— Нужные люди захотят задаток.
— Бог даст, получат.
— Давно ли вы, дон Франсиско, стали впутывать Бога в подобные дела?
— И то верно: Бог тут ни при чем. Но так или иначе за деньгами дело не станет.
Уж не знаю, почему, но при упоминании Бога и денег дон Франсиско понизил голос. За два долгих года, протекших с того дня, когда он, загнав нескольких лошадей, появился на площади, где аутодафе, извините за каламбур, было в самом разгаре, на челе Кеведо прибавилось морщин. Да и вид у дона Франсиско был усталый, и он чаще обычного подливал себе неизбежного вина — на этот раз выдержанного белого «Фуэнте дель Маэстре». Солнечный луч играл на золоченом навершии эфеса его шпаги, освещал мою опиравшуюся о стол руку, обводил четким контуром профиль капитана. Постоялый двор Энрике Бесерры, славившегося непревзойденным умением приготовлять ягненка в меду и свиную щековину, помещался поблизости от веселого дома у ворот Ареналь, и в окне, за стенами и развешанным на веревках бельишком, виднелись мачты и вымпелы галер, стоявших на якорях у другого берега реки.
— Сами видите, друг мой, — добавил поэт. — Снова придется подраться… Только на этот раз меня с вами не будет.
Он улыбался дружелюбно и успокаивающе, с той особой ласковостью, которую всегда приберегал для нас.
— Что ж поделать, — пробормотал Алатристе. — Каждый сам свою тень отбрасывает.
Он был, по обыкновению, одет в темное и на военный манер — замшевый колет, пелерина, широченные полотняные штаны — но при этом бос. Последние сапоги с истертыми до дыр подошвами остались на «Левантине»: за них помощник капитана дал нам несколько сушеных рыбин, вареной фасоли и бурдючок с вином — этим мы и поддерживали бренную плоть, покуда галера шла вверх по реке. Отчасти поэтому — хоть имелись и другие причины — не слишком сетовал мой хозяин на то, что, едва ступив на испанскую землю, получил предложение вернуться к своему прежнему ремеслу. Может быть, еще и потому не сетовал, что исходило это предложение от друга, а друг в данном случае всего лишь представлял интересы кого-то очень и очень высокопоставленного, но, главным образом, что ничего не брякало в нашем кошеле, как его ни тряси. Время от времени капитан останавливал на мне задумчивый взор, будто размышляя, в какую же переделку втянут меня мои шестнадцать лет, приспевшие так вовремя, и им же самим преподанное мне искусство фехтования. Да, разумеется, я, хоть еще не носил шпаги и на поясе у меня висел лишь мой добрый «кинжал милосердия», был испытанным военными бурями мочилеро, быстрым, бойким, храбрым и смышленым. Полагаю, что Алатристе прикидывал тогда, втравливать меня в это дело или же нет. Хотя обстоятельства сложились к этому времени так, что единолично он уже решать ничего не мог, но — к добру ли, к худу — наши с ним судьбы переплелись неразрывно. И потом, как он сам только что сказал, каждый сам свою тень отбрасывает. Что же касается Кеведо, то по его взгляду, оценивавшему мою возмужалость, о коей свидетельствовал пушок, черневший у меня над верхней губой и вдоль щек, я мог догадаться, что и он мыслит в этом же направлении: Иньиго Бальбоа достиг возраста, когда юнец способен и наносить, и отражать удары шпаги.
— Иньиго тоже пригодится, — проговорил поэт.
Я слишком хорошо знал своего хозяина и потому промолчал, вперив пристальный взгляд в стакан с вином, стоявший передо мной, — да-да, пришла пора и для вина тоже. Слова дона Франсиско заключали в себе не вопрос, а раздумчивую констатацию очевидного факта, и после краткого молчания Алатристе кивнул, как бы примиряясь с неизбежным. Перед этим он даже и не подумал взглянуть на меня, и я, поднеся стакан к губам, поспешил скрыть ликование: оно кружило мне голову и пьянило не хуже вина, у которого был вкус славы, взрослой жизни, приключения.
— А потому выпьем за его здоровье, — сказал Кеведо.
И мы выпили, а счетовод Ольямедилья, тщедушный, бледный и траурный, сухо кивнул из своего утла, показывая, что пить не пьет, но присоединяется к тосту. Это был не первый тост для нас троих: ибо минуло уже довольно много времени после того, как мы с капитаном, сойдя с трапа «Левантины», обняли дона Франсиско на плавучем мосту, соединявшем Триану с Ареналем, и двинулись по склону от порта до Роты, а потом, берегом Санлукара, — до самой Севильи, и дорога шла сперва сосняком, а после начались рощи, сады и перелески, густо росшие по берегам «Большой реки», ибо именно так переводится с арабского слово «Уад-эль-Кевир», в нашем произношении превратившееся в Гвадалквивир. Что осталось в памяти от плаванья на галере? Прежде всего — свисток комита, по которому каторжане начинали грести, а еще — смрад немытых, взмокших от пота тел, тяжелое дыхание и звяканье цепей в лад тому, как погружались и выныривали лопасти весел, выгребая против течения. Комит, подкомит и надсмотрщик прохаживались по нижней палубе, зорко наблюдая за своими подопечными, и время от времени бич, обрушиваясь на чью-нибудь голую спину, добавлял очередной рубец к густому переплетению прежних. Ужас брал при взгляде на гребцов, рассаженных на двадцать четыре банки по пятеро на весло — бритые головы, косматые бороды лоснящиеся обнаженные торсы качаются в равномерном ритме вперед-назад. Были среди этих несчастных рабы-мориски, были взятые в плен турецкие пираты и предатели, плававшие под их флагом, но имелись в немалом числе и христиане, сосланные на галеры во исполнение приговора суда, чью снисходительность они по недостатку средств не смогли снискать.
— Живым сюда лучше не попадать, — негромко сказал мне Алатристе.
Светлые холодные глаза его, лишенные всякого выражения, смотрели на гребцов. Я, кажется, уже упоминал — мой хозяин знал, что такое галеры, не понаслышке: сам служил на них в бытность свою солдатом Неаполитанского полка, сам ходил против венецианцев и берберов, а в шестьсот тринадцатом чудом избежал цепей — но уже на турецкой галере. Впоследствии и мне пришлось поплавать на галерах по Средиземному морю, так что с полным основанием могу утверждать: мало что на земле — ну, или на море — до такой степени напоминает ад. Чтобы поняли вы, сколь чудовищно бытие того, кто ворочает веслом, скажу лишь, что даже самых закоренелых преступников не приговаривали к галерам больше, чем на десять лет, ибо высчитано: это предельный срок мучений, которые человек может выдержать, не утратив здоровья, разума или самой жизни.
А если будет сдернута рубаха И вымыта могучая спина, Прочтешь на ней, какие бич с размаха Отчетливые вывел письмена.И так вот под свистки комита и равномерные удары весел плыли мы вверх по Гвадалквивиру, покуда не причалили к пристани умопомрачительного города; подобно величавому паруснику, что, набив золотом и серебром трюмы, застыл на мертвом якоре меж славой и нищетой, роскошью и расточительством, стал он в ту пору средоточием мировой торговли, столицей моря-океана и хранилищем сокровищ, ежегодно доставляемых сюда из Индий, населился аристократами, купцами, клириками, плутами и красивыми женщинами, затмил богатством и пышностью Тир с Александрией во времена их наивысшего расцвета. Всесветная отчизна, всякой скотине выпас, вселенная без конца и края, матерь сирот и покров грешников — город, как и сама Испания, разом и величественный, и убогий, где каждый в нужде, однако же все как-то устраиваются, где шибает в нос богатство, которое, однако же, зазеваешься — потеряешь. Ну в точности как жизнь.
Мы еще долго вели беседы, не обменявшись ни единым словом со счетоводом Ольямедильей, но когда он встал из-за стола, Кеведо велел идти следом за ним, но держаться на расстоянии. Хорошо бы, добавил дон Франсиско, чтобы капитан познакомился с ним покороче. И мы двинулись по улице Тинторес, дивясь количеству иноземцев, наводнявших ее лавки; потом по улице Асейте свернули к площади, коей дал название высившийся там собор Святого Франциска, потом — к Монетному Двору, соседствовавшему с Золотой Башней, где у Ольямедильи были какие-то дела. Вы легко можете себе представить, что я смотрел во все глаза — бесконечные ряды лавок, продающих мыло, пряности, оружие… лотки фруктовщиков… сверкающие тазики, висевшие у входа в каждую цирюльню… мелочные торговцы по углам… дамы в сопровождении дуэний… кавалеры, занятые беседой… важные каноники верхом на мулах… чернокожие невольники… дома, выкрашенные красной охрой и известью… черепичные крыши церквей… дворцы… апельсиновые и лимонные деревья… кресты, поставленные на перекрестках в память о чьей-то насильственной смерти или чтобы воспрепятствовать прохожим справлять там нужду… И все это, хоть на дворе стояла зима, сияло и переливалось под щедрыми потоками солнца, так что капитану и Кеведо пришлось снять плащи, свернуть их и перекинуть через плечо и даже расстегнуть верхние крючки колетов. Сам по себе хорош был дивный этот город, а тут еще посетила его августейшая чета, и оттого сто с лишним тысяч его обитателей, ликуя, отмечали это событие празднествами. Не в пример прошлым, в этом году наш государь Филипп Четвертый решил почтить своим высочайшим присутствием возвращение «флота Индий», который должен был доставить очередную гору золота и серебра — ох, не приносили нам счастья эти сокровища, растекавшиеся потом по всей прочей Европе. Из нашей заморской империи, столетие назад основанной Кортесом, Писарро и прочими искателями приключений, столь же бесстрашными, сколь и бессовестными, удальцами, которым, кроме жизни, терять было нечего, а приобрести хотелось все, — так вот, из империи этой несякнущим потоком лилось золото, позволявшее Испании для защиты истинной веры и собственной, извините за выражение, гегемонии вести нескончаемые войны с целым светом; золото, донельзя необходимое такой стране, как наша, где каждый мнит о себе невесть что, труд не в почете, торговля — в загоне, где распоследний мужлан спит и видит жалованное ему дворянство, позволяющее податей не платить и ни черта не делать; где юношество предпочитает пытать судьбу в Индиях или же во Фландрии, нежели чахнуть на заброшенных полях, отдав себя на милость бездельникам-попам, выродившимся невеждам-аристократам и растленным чиновникам, истинным пиявкам-кровопийцам, и я вам так скажу: беда стране, где к порокам притерпелись и привыкли, где перестают считать подлеца подлецом, отчего подлость делается естественнейшим состоянием души. Наше могущество долгое время зиждилось на заокеанских богатствах, на золоте и серебре, из коих чеканили монету высокой пробы, расплачиваясь ею — не пробой, разумеется, но монетой — и со своими солдатами, и с чужеземными купцами, ввозившими нам товары. За моря могли мы посылать муку, масло, уксус да вино, а все прочее принуждены были прикупать за границей, где весьма ценили наши золотые дублоны и серебряные монеты по восьми реалов. Держались мы только благодаря высокопробным монетам и слиткам, которые из Мексики и Перу попадали в Севилью, а оттуда — не только во все страны Европы, но и на Восток, в Индию и Китай. Из наших драгоценных металлов извлекал прибыль весь мир, за исключением нас, испанцев: страна, будучи в долгу как в шелку, тратила прежде, чем успевала получить: золото, едва лишь прибыв в Испанию, тотчас утекало — и добро бы только туда, где шли военные действия, или в сундуки генуэзских и португальских банкиров, наших кредиторов, так ведь нет: попадало оно и в руки заклятых наших врагов. Обо всем этом превосходно сказал дон Франсиско де Кеведо в знаменитой своей летрилье[75]:
Жил он, вольный и беспечный, В Индиях, где был рожден, Здесь, в Кастилье, тает он От чахотки скоротечной, В Генуе найдет он вечный Упокой и угомон. Дивной мощью наделен Дон Дублон[76].А пуповиной, которая поддерживала жизнь в бедной и одновременно сказочно богатой Испании, служил «флот Индий», добиравшийся к нам через океан, где грозили ему в равной степени шторма и пираты. Для защиты от сих последних наши галеоны сбивались на Кубе в целую эскадру, а уж потом отправлялись в далекое плавание. И прибытие их становилось истинным праздником, для описания коего нет у меня должных дарований, и вместе со златом-серебром, принадлежащим короне и частным лицам, привозили они кошениль, индиго, синий сандал и фернамбук, иначе называемый красным деревом, шерсть, хлопок, кожи, сахар, табак, пряности, а кроме того, еще и жгучий перец, имбирь, китайский шелк, доставляемый с Филиппин через Акапулько. Отдадим должное нашим морякам — они честно делали свое дело, невзирая ни на лишения, ни на буйство стихий, ни на опасности иного рода. Лишь однажды голландцам удалось захватить весь флот, и даже в самые скверные времена корабельщики наши самоотверженно продолжали бороздить моря, неизменно давая отпор французским, английским и голландским пиратам на переднем крае той войны, которую в одиночку вела Испания с тремя могущественными державами, преисполненными алчной решимости пошарить в ее закромах.
— Чего-то альгвазилов не видно, — заметил Алатристе.
И в самом деле — флот должен прибыть с часу на час, высочайшие особы почтили Севилью своим присутствием, готовились благодарственные молебны и всяческие публичные увеселения, а полицейские встречались нам лишь изредка, причем шли целыми отрядами, были до зубов обвешаны оружием и шарахались, как говорится, от собственной тени.
— Четыре дня назад вышло тут происшествие, — объяснил Кеведо. — Слуги правопорядка замели было одного солдата с галер, что стоят в Триане, но тут подоспели его сослуживцы, началась поножовщина… Альгвазилам в конце концов удалось увести зачинщика, однако все прочие окружили участок и пригрозили сжечь его, если их товарища не выдадут.
— И что же — выдали?
— Конечно, выдали. Но поскольку он успел зарезать альгвазила, то сперва повесили. — Рассказывая, поэт негромко посмеивался. — А наши вояки поклялись отомстить, устроив форменную охоту на полицейских, вот те и держатся теперь кучкой и глядят в оба.
— А как отнесся к этому наш государь? Разговор этот происходил совсем неподалеку от Золотой Башни, где мы стояли, ожидая, пока Ольямедилья уладит на Монетном дворе свои дела. Кеведо указал туда, где тянулись, примыкая к высоченной колокольне кафедрального собора, стены старинной арабской крепости: сейчас они были украшены гербами его величества и пестрели желто-красными мундирами королевских гвардейцев — мог ли я представить, что много лет спустя и сам надену такой же? Часовые с алебардами и аркебузами несли караул у главных ворот.
— Его священное, католическое королевское величество узнает лишь то, о чем ему докладывают, — ответил дон Франсиско. — Великий Филипп засел в Алькасаре и выезжает оттуда лишь на охоту, на праздник или чтобы посетить вечерком какой-нибудь монастырь… Можно не сомневаться, что наш друг Гуадальмедина ему сопутствует — он сейчас близок к государю…
От слова «монастырь» на меня словно пахнуло могильным хладом — с невольным содроганием я припомнил участь несчастной Эльвиры де ла Крус и как сам едва не поджарился на костре. А дон Франсиско уже обратил свои взоры на весьма привлекательную даму, которая шествовала по улице в сопровождении дуэньи и неволъницы-мориски, нагруженной корзинами и свертками, и в эту минуту как раз приподняла подол юбки, обходя здоровенную кучу конского навоза посреди мостовой. Когда же дама, направляясь к своей запряженной парой мулов карете, поравнялась с нами, Кеведо поправил очки, с величайшей учтивостью снял шляпу и, меланхолично улыбаясь, проговорил вполголоса: «Лизи…» Дама, прежде чем закрыть лицо мантильей, ответила ему легким кивком. Следовавшая за нею дуэнья, истая ворона видом и, надо полагать, нравом, крепче стиснула длиннющие — зерен на полтораста — четки и устремила на поэта испепеляющий взгляд. Кеведо в ответ показал ей язык Увидев, что карета тронулась, с печальной улыбкой обернулся к нам. Дон Франсиско был одет, как всегда, с изысканной простотой — башмаки с серебряными пряжками, черные шелковые чулки, темно-темно-серый колет и такие же штаны, шляпа с белым пером, красный крест Сантьяго, вышитый на груди епанчи, надетой внакидку.
— Монастыри — это его пристрастие, — задумчиво договорил он фразу, прерванную появлением дамы.
— Чье? Короля или Гуадальмедины? — улыбнулся в свои солдатские усы Алатристе.
Прежде чем ответить, Кеведо глубоко вздохнул:
— Обоих.
Я стал рядом с доном Франсиско и, не глядя на него, спросил:
— А что королева?
Спрошено было — не придерешься: почтительно и как бы вскользь, дети любопытны — что с них взять? Дон Франсиско обернулся и уставился на меня, будто буравя глазами.
— Королева, как всегда, прекрасна. Стала лучше изъясняться по-испански. — Он взглянул на капитана, а потом — снова на меня, и глаза его за стеклами очков заискрились весельем: — Еще бы, практикуется со своими камеристками… И сменинами тоже.
Сердце у меня заколотилось так, что я испугался, как бы мои спутники не услышали этих гулких ударов.
— А они сопровождают ее в этой поездке?
— А как же! Все до единой.
Улица поплыла у меня перед глазами. Она — здесь, в этом обворожительном городе! Я посмотрел по сторонам, дотянувшись взглядом до самой набережной, простершейся между городом и Гвадалквивиром: живописнейшее место — на другом берегу виднеется Триана, белеют паруса рыбачьих баркасов, добывающих сардину и креветок, снуют всяческие лодчонки, фелуки, ялики, гички и прочие мелкие суденышки, стоят на якорях королевские галеры, на ближнем к нам берегу зловеще высится, заслоняя собой обзор, замок инквизиции, а дальше — множество крупных кораблей вздымают к небесам целый лес мачт, парусов, флагов, тянутся ларьки и лотки торговцев, громоздятся кипы товаров, стучат молотки плотников, струятся дымки — это конопатят борта, чистят и смазывают днища.
Из памяти моей и по сию пору не изгладилось воспоминание о том, как еще ребенком я побывал на представлении комедии Лопе «Набережная в Севилье» в тот самый день, когда принц Уэльский и герцог Бекингем, обнажив шпаги, приняли сторону моего хозяина. И вот этот город, прекрасный и сам по себе, вдруг обрел волшебные, магические черты. Анхелика де Алькесар — здесь, и, быть может, мне удастся ее увидеть! Я покосился на капитана, опасаясь, не заметил ли он, какое душевное волнение охватило меня, но, по счастью, иные заботы томили Алатристе. Счетовод Ольямедилья, покончив со своими делами, приближался к нам и, побожусь, глядел так приветливо, словно мы явились его соборовать. Он был, как и прежде, в черном с ног до головы, украшенной черной шляпенкой с узкими полями и без перьев, реденькая эспаньолка отчего-то еще больше усиливала общее впечатление мышьей невзрачности, исходившее от этого малоприятного господина, чье брюзгливое лицо наводило на мысли о том, что с пищеварением у него не все благополучно.
— На кой черт нам сдался этот раскисляй? — пробормотал капитан.
Кеведо пожал плечами:
— Он здесь выполняет некое поручение… за ним стоит сам граф-герцог. От работы этого, как вы изволили выразиться, раскисляя, многие теряют сон и аппетит.
Ольямедилья сухо кивнул, и мы двинулись за ним следом к Трианским воротам.
— Что же у него за работа такая? — вполголоса спросил Алатристе.
— Говорю вам: он — счетовод. Счета сводит, а заодно — и счеты. Он, что называется, петрит в цифрах, равно как и в таможенных пошлинах и в прочей петрушке. С ним не шути.
— Кто-нибудь украл больше, чем положено?
— Такой всегда найдется.
Широкое поле шляпы затеняло лицо Алатристе, будто покрывая его маской, и оттого глаза, в которых отражалась залитая солнцем набережная, казались еще светлее, чем обычно.
— А нам-то что до всего этого?
— Я — не более чем посредник Меня ласкают при дворе, король смеется моим шпилькам, королева дарит мне улыбки… Оливаресу я сумел оказать важную услугу, и он о ней пока не забыл.
— Рад, что Фортуна соизволила наконец повернуться к вам лицом, дон Франсиско.
— Тс-с, не так громко. Эта дама подстроила мне столько каверз, что к ее милостям я недоверчив.
Алатристе с удовольствием разглядывал поэта:
— Так или иначе, вы стали настоящим придворным.
— Да перестаньте, капитан! — Кеведо беспокойно поскреб шею под брыжами. — Музы не любят острых блюд. Сейчас я — в фаворе, обрел известность, мои стихи звучат повсюду… Дошло до того, что мне приписывают даже те, что принадлежат перу гнусного педераста Гонгоры, чьи предки в рот не брали свинины и тачали сапоги в Кордове, где и получили дворянское достоинство… Он тут выпустил сборник своих виршей, которые я приветствовал залпом десятистиший… Кончаются так:
Когда начнет тебя стихами пучить, Не лиры звон — иной раздастся звук, Как долго будешь ты, желанный друг, Себя и нас стихоспражненьем мучить?
… Но возвращаясь к предметам более серьезным, скажу еще раз: Оливаресу сейчас выгодно иметь меня в союзниках. Он мне льстит и мною пользуется. И вас, капитан, привлекли по желанию самого графа-герцога, который вас помнит. Это одновременно и хорошо, и скверно: мы-то с вами знаем, что он за птица. Будем надеяться на лучшее. Кроме того, однажды вы сказали ему, что если он посодействует спасению Иньиго, то может рассчитывать на вас и вашу шпагу. Министр и этого не забыл.
Алатристе быстро взглянул на меня, потом задумчиво кивнул:
— Чертовски памятлив наш граф-герцог.
— Ну да. Когда ему это выгодно.
Мой хозяин посмотрел вслед счетоводу, который в нескольких шагах от нас, с независимым видом заложив руки за спину, пробивался через припортовую толчею.
— Он не слишком словоохотлив.
— Верно! — рассмеялся Кеведо. — Тут вы с нимсходитесь.
— Важная шишка?
— Мелкая сошка. Однако в ту пору, когда дона Родриго Кальдерона притянули к суду за растрату, именно он перерыл гору бумаг, чтобы доказать его вину… Осознали, с кем придется иметь дело?
Он сделал паузу, давая капитану возможность оценить сказанное. Алатристе тихо присвистнул. Несколько лет назад публичная казнь могущественного Кальдерона растревожила всю страну.
— А что же он вынюхивает теперь? Поэт ответил не сразу.
— Вам об этом расскажут сегодня вечером, — произнес он наконец. — Относительно же миссии Ольямедильи и вашего в ней участия скажу лишь, что поручение дано Оливаресом по воле самого короля.
Алатристе недоверчиво мотнул головой:
— Да вы шутите, дон Франсиско.
— Уж какие тут шутки… Провалиться мне на этом самом месте. Или вот вам клятва пострашнее: пусть дарование мое уравняется с талантом горбатого Руиса де Аларкона!
— Черт возьми, это серьезно.
— Слово в слово сказал я это, когда меня попросили взять на себя роль посредника. Зато если все пройдет гладко, получите известную толику эскудо.
— А если не гладко?
— Боюсь, что в этом случае траншеи под Бредой покажутся вам райскими кущами. — Кеведо вздохнул, помотал головой, как человек, желающий сменить тему разговора. — Сожалею, друг мой, но больше сказать не могу ничего.
— А больше ничего и не надо. — В зеленоватых глазах капитана блеснула насмешливая покорность судьбе. — Хотелось бы только знать, откуда именно пырнут меня шпагой.
Кеведо пожал плечами:
— Откуда угодно, капитан, откуда угодно. Тут вам не Фландрия… Вы вернулись в отчизну.
Мы расстались с доном Франсиско, условившись, что встретимся вечером на постоялом дворе Бесерры. Счетовод Ольямедилья, по-прежнему унылый, как двор скотобойни в великопостную среду, удалился в гостиницу на улице Тинторес, где была приготовлена комната и для нас. Хозяин мой провел остаток дня, занимаясь делами: выправлял разнообразные бумаги, прикупил бельишка и кое-каких припасов, а равно и новые сапоги, благо Кеведо выплатил ему аванс за предстоящую работу. Я же употребил свободу — да нет же, господа, не в том смысле, не ловите меня на слове! — чтобы углубиться в хитросплетения улочек и переулочков, то и дело задирая голову к фасадам, украшенным гербами, распятиями, барельефами Христа, Девы Марии и всех святых, увертываясь от карет и всадников — то есть бесцельно бродил по этому роскошному, грязному, бурлящему жизнью городу, глазел на толпы людей у дверей харчевен и у входа в театры, озирался во всеоружии фламандского своего опыта на женщин — белокурых, разряженных и развязных: особенное очарование придавал их речам севильский, будто позванивающий металлом выговор. Восхищался величественными дворцами за оградами — в знак того, что для обычного правосудия они недоступны, на воротах висели цепи, — и примечал, что если кастильская аристократия в стоицизме своем, сиречь в нежелании работать, доходила до полного разорения и обнищания, то севильская знать смотрела на вещи шире, торговлей и коммерцией не гнушалась, так что идальго мог заняться делом, приносящим доход, а купец — истратить целое состояние ради того, чтобы его считали благородным: вообразите, что даже для вступления в портновскую гильдию следовало представить свидетельство о чистоте крови. К чему это приводило? Во-первых, к тому, что дворянство использовало свои связи и привилегии, чтоб без излишней огласки обтяпывать коммерческие делишки, и к тому, во-вторых, что труд и торговля, столь полезные для других стран, у нас пребывали в забросе и небрежении, становясь уделом чужеземцев. Так что большая часть севильской знати состояла из разбогатевших простолюдинов, отрекшихся от почтенных занятий своих предков и благодаря деньгам и выгодным бракам поднявшихся на другую ступень в обществе. И если дед торговал, то отец становился владельцем майората, благородным человеком, предпочитавшим не вспоминать об источнике своего богатства и упоенно пускавшим его по ветру; внук же зачастую побирался. Даже пословицу об этом сложили: «Дед — купец, дворянин — отец, сын — кутила, внуку не хватило».
Посетил я и Алькаисерию — целую улицу лавок, лотков и палаток, торговавших предметами роскоши и драгоценностями. Сам я был в черных штанах с солдатскими гетрами, на кожаном поясе сзади висел кинжал, поверх штопаной-перештопаной сорочки носил я верхнюю рубаху-алъмилъю, а на голове — берет фламандского бархата — теперь уже весьма давний трофей. Благодаря моей цветущей юности и в этом наряде выглядел я, смею думать, хоть куда и горделиво прохаживался, изображая из себя ветерана-знатока, перед лавками оружейников на улицах Map, Вискайнос и Сьерпес, и у ворот знаменитой тюрьмы, в чьих черных стенах некогда томился в заточении Матео Алеман и мыкал горе наш славный дон Мигель де Сервантес. С важным видом прогулялся я и по факультету плутовства, иными словами — по легендарной паперти кафедрального собора, где не протолкнуться было от торговцев, ротозеев и попрошаек, которые, нацепив на шею табличку с просьбой о подаянии, выставляли напоказ свои язвы, раны и уродства — фальшивые, как поцелуй Иуды, — тянули вперед культи, уверяя, что лишились руки или ноги под Антверпеном, хотя с тем же успехом могли бы заявить, что пострадали в Ронсевальском ущелье, а то и при обороне Нумансии[77], ибо стоило лишь раз глянуть на сих мнимых защитников истинной веры, отчизны и короля, чтобы понять — турка или еретика-лютеранина видали они раз в жизни, да и то на сцене.
Перед королевским дворцом, над которым реяло знамя Габсбургов, а у ворот стояли внушительного вида часовые с алебардами, я завершил прогулку, примкнув к горожанам, ожидавшим появления их величеств. И так уж вышло, что когда толпа — и я с нею вместе — придвинулась чересчур близко, сержант королевской гвардии подошел к нам и в чрезвычайно неучтивой манере попросил очистить проход. Зеваки повиновались с готовностью, но сын моего отца, уязвленный тем, сколь простыми словами изъясняет сержант свое неудовольствие, замешкался с надменным видом, подействовавшим на стража, как красная тряпка — на быка. Он отпихнул меня без церемоний, но я, в силу юного возраста и фламандского опыта мало склонный сносить подобные обиды, оскорбился, ощетинился, как борзый щенок, и схватился за рукоять своего кинжала. Сержант — дородный мужчина с большими усами — расхохотался.
— Глядите, какой удалец выискался, — сказал он, глядя на меня сверху вниз. — Ишь ты, распетушился! Не рано ли? Клювик еще не вырос
Не тушуясь перед этой тушей, я поглядел ему прямо в глаза, как положено ветерану, каковым при всей своей молодости, без сомнения, был. Покуда этот раскормленный павлин жрал и пил в свое удовольствие, маршировал по дворцовым переходам в своем пышном желто-красном оперении, я два года кряду воевал рядом с капитаном Алатристе и видел, как погибают товарищи в Аудкерке, на Руйтерской мельнице, на Терхейденском редуте, в капонирах Бреды, или добывал себе пропитание под вражеским огнем, рискуя попасть под палаши голландской кавалерии. Я пожалел было, что послужной список не запечатлен у человека на лице, но тотчас вспомнил своего хозяина и утешился тем, что все же есть, есть такие, чья наружность красноречивей любой аттестации. Быть может, когда-нибудь люди, только поглядев на меня, узнают или догадаются, что у меня за плечами, сержантов же, тучных или тощих, никогда не ставивших на карту жизнь, постигнет вечное презрение. И, подумав так, сказал сержанту со всевозможной твердостью:
— Вот мой клювик, скотина.
Сержант, не ожидавший такого, оторопело заморгал. Видать, я открылся ему с новой стороны, а может быть, от внимания его не ускользнуло, как завел я руку за спину, чтобы дотянуться до позолоченного эфеса. С дурацким видом уставился он мне в глаза, однако прочесть в них не сумел ничего.
— Черт возьми, я…
И, не договорив, занес руку, намереваясь дать мне пощечину, то есть нанести тягчайшее из всех оскорблений — во времена дедов наших ударить по щеке можно было лишь того, кто не носил ни шлема, ни кольчуги, то есть не был кабальеро. Ну, подумал я, готово дело. Выхода не было — взялся за гуж и так далее, тем паче что звался я Иньиго Бальбоа Агирре родом из Оньяте, прибыл из Фландрии, где состоял в пажах у капитана Алатристе, а потому пойти на сделку, в которой жизнь покупается честью, никак не мог. Нравится мне это или нет, ближайшее мое будущее вырисовывалось довольно отчетливо: когда рука сержанта опустится, мне останется лишь вспороть ему брюхо и кинуться наутек Короче говоря, как сказал бы дон Франсиско де Кеведо, придется подраться. И я приготовился к драке, воодушевясь и во всеоружии фламандского боевого опыта сознавая: чему быть — того не миновать, а от судьбы не уйдешь. Однако Господь в тот день улучил, видно, минутку, чтобы вступиться за дерзких юнцов, ибо запела труба, отворились ворота, долетели до нас колесный гром, копытный стук Сержант, мигом вспомнив о прямых обязанностях, а обо мне позабыв, побежал строить своих людей, я же остался, переводя дух и понимая, что чудом выпутался из больших неприятностей.
Из ворот выехала вереница карет — и по гербам на дверцах, по мундирам кавалерийского эскорта я понял, что это кортеж королевы и ее свиты. И сердце мое, так ровно бившееся, покуда я выяснял отношения с сержантом, вдруг замерло, пропустив удар, а потом бешено заколотилось. Все поплыло у меня перед глазами. Под восторженные вопли зевак, едва ли не кидавшихся под колеса, кареты катились мимо, и вот в окошке одной появилась царственно белая, изящная, унизанная кольцами ручка, коей ее величество изящно помавала в ответ на приветствия толпы. Но иное занимало меня, и я вглядывался в пролетавшие кареты, ища за их стеклами причину своего смятения. Сорвав с головы берет, выпрямившись, неподвижно стоял я, покуда мимо меня промелькивали в окнах замысловатые прически, локоны, веера, прикрывающие лица, приветственно машущие руки, кружева, атлас и бархат. И вдруг наконец внутри последней кареты показалась белокурая головка; синие глаза, взглянув на меня пристально и удивленно, различили, узнали — и скрылись из виду, я же, остолбенев, смотрел вслед этому чудному виденью, хотя не мог уже разглядеть ничего, кроме спины форейтора на запятках да клубов пыли из-под копыт.
Тут за спиной послышался свист, который я узнал бы даже в преисподней. Тирури-та-та, прозвучала рулада. И, обернувшись, я встретился глазами с призраком.
— Ты вырос, мальчуган.
Гвальтерио Малатеста глядел мне в глаза, и я не сомневался, что он читает в них, словно в открытой книге. Как и прежде, весь в черном, в черной же широкополой шляпе — и на кожаной перевязи, не скрытой ни плащом, ни епанчей, висела устрашающего вида шпага со здоровенной крестовиной. Как и прежде, высок и сухопар, и от обращенной ко мне улыбки изрытое оспинами и рубцами лицо — — лицо покойника, умученного долгой болезнью, — не оживлялось, а делалось лишь еще более мертвенным.
— Подрос, подрос… — повторил он задумчиво.
Мне показалось, что он хочет добавить «с тех пор, как мы виделись в последний раз», но этих слов не прозвучало. А виделись мы в последний раз на пути в Толедо, в тот день, когда в закрытой карете он вез меня в застенки инквизиции. Воспоминание об этом было неприятно нам обоим, хоть и по разным причинам.
— Как поживает капитан Алатристе?
Не отвечая, я все смотрел ему в глаза, темные и неподвижные, как у змеи, — и, как змея, опасная улыбка скользнула у него под тонкими усиками, выстриженными на итальянский манер, когда он произносил имя моего хозяина.
— Вижу, ты не стал разговорчивей.
Левую руку, затянутую в черную перчатку, он упер в эфес шпаги и с рассеянным видом повертывался из стороны в сторону. Негромко, словно бы с досадой, вздохнул.
— Стало быть, и в Севилье тоже… — начал он и запнулся, так что я не успел понять, о чем речь. Потом устремил взгляд на сержанта, отошедшего со своими подчиненными к воротам, и мотнул головой в его сторону: — Я стоял в толпе и все видел. — Он снова замолчал, разглядывая меня задумчиво, будто оценивая изменения, произошедшие во мне и со мной. — Ты все так же щепетилен в вопросах чести.
— Я был во Фландрии, — оставалось ответить мне. — Вместе с капитаном.
Итальянец покивал. Только теперь я заметил ниточки седины в его усах и «гусиные лапки» у глаз. Заметил и новые морщины — или это были шрамы? — на лице. Годы никого не щадят — даже самых коварных из наемников.
— Это мне известно, — сказал он. — Хочу, однако, чтобы ты запомнил: честь сложно приобрести, трудно сохранить и опасно носить… Не веришь — спроси своего друга Алатристе.
Я постарался придать своему взгляду наивозможнейшую жесткость:
— Сами спросите, если духу хватит.
Мой сарказм не возымел действия, разбившись о непроницаемость Малатесты.
— Я заранее знал твой ответ, — равнодушно отвечал он. — И найду о чем поговорить с твоим хозяином. Для беседы, поверь, есть у нас предметы не столь общего характера.
Он снова окинул задумчивым взглядом караульных гвардейцев. Потом рассмеялся сквозь зубы — так, словно вспомнил нечто забавное, но решил сохранить это для себя одного.
— Есть на свете олухи, которых жизнь ничему не учит. Вот хоть этот разиня-сержант, что так беспечно поднял на тебя руку… — вдруг проговорил он, опять кольнув меня черным змеиным глазом. — Будь я на его месте, ты со своим кинжалом и дернуться бы не успел.
Я обернулся. Ворота закрылись, и, подтверждая правоту Гвальтерио Малатесты, павлином расхаживал среди своих солдат давешний сержант, не зная, что был на волосок от смерти: я выпустил бы ему кишки и жизнь по его милости окончил бы в петле.
— Запомни на будущее — пригодится, — сказал итальянец.
Когда я повернулся к нему, он уже исчез в толпе. Только между апельсиновыми деревьями, под колокольней собора, мелькнула, удаляясь, черная тень.
III. Альгвазилы и стражники
Вечеру, которому суждено было кончиться бурно и не без участия оружия, предшествовал дружеский ужин и занимательная беседа. Один из участников его появился неожиданно: дон Франсиско де Кеведо не предуведомил, что вечером мы будем иметь удовольствие видеть Альваро де ла Марку, графа де Гуадальмедину. И велико же было наше удивление, когда на закате дня он вошел в харчевню Бесерриты и приветствовал нас с обычной сердечностью — обнял капитана, отвесил мне дружеского тумака и потребовал у хозяина лучшего вина, вкусный ужин и отдельную комнату, чтобы поговорить с нами без помехи.
— Прежде всего вы должны рассказать мне о Бреде!
Лишь замшевый колет на нем противоречил королевскому эдикту против роскоши, все прочее соответствовало ему вполне — дорого, но скромно, ни кружев, ни золота, военные сапоги, длинные перчатки, плащ и шляпа, а на поясе, помимо шпаги и кинжала, еще и два пистолета. Зная дона Альваро, я побился бы об заклад, что на дружеском застолье сегодняшний вечер для него не кончится, и что до зари какой-нибудь муж или мать-игуменья будут иметь все основания спать вполглаза. Мне вспомнились двусмысленные слова Кеведо о совместных с королем посещениях монашеских обителей
— Ты превосходно выглядишь, Алатристе
— Да и вы недурно сохранились, ваша милость.
— Я забочусь об этом. Но не обманывайся, мой друг. Предаваться безделью — самый тяжкий труд.
Гуадальмедина и вправду мало изменился: статный, изящный, с изысканными оборотами речи, странно сочетавшимися в его устах с внезапными переходами к солдатской грубоватости, которой он неизменно придерживался в беседах с капитаном Алатристе, некогда спасшим ему жизнь под Керкенесом. Выпили за Бреду, за моего хозяина и даже за меня, потом граф вступил в спор с Кеведо относительно рифмовки какого-то сонета, прикончил с отменным аппетитом порцию ягненка в меду, поданную на блюде отличного трианского фаянса, спросил глиняную трубку, табак, окутался душистыми клубами дыма, расстегнул колет и с довольным видом откинулся на стуле.
— Теперь поговорим о деле, — сказал он.
Посасывая мундштук, потягивая арасенское вино, граф мгновение разглядывал меня, словно решая, можно ли мне слушать его рассказ, и без дальнейших околичностей приступил к нему. Для начала объяснил, что флот, созданный исключительно для перевозки драгоценных металлов из Индий, коммерческая монополия Севильи и строжайший присмотр за корабельщиками преследовали одну цель — не допустить к нашему золоту иностранцев и контрабандистов: все маховики и шестерни могучей машины налогов, пошлин, сборов и податей должны были вертеться бесперебойно, на благо короны и присосавшихся к ней паразитов. Для того и создан был таможенный кордон у единственных ворот в Индии — Севильи, Кадиса и его бухты. Он приносил немалый доход королевской казне, и все бы хорошо, если б только не одно обстоятельство: растленное наше чиновничество, не довольствуясь тем, что судовладельцы-арматоры и акционеры безропотно выплачивали с каждого корабля положенную сумму, при входе в порт беззастенчиво драло с них семь шкур, чтобы урвать малость и для себя лично. Более того — в годы «коров тощих» его величество порой налагал арест на золото и серебро частных лиц, перевозимое его флотом.
— И беда в том, — попыхивая трубкой, повествовал Гуадальмедина, — что все эти поборы и пошлины, призванные покрыть расходы на защиту коммерции в Индиях, пожирают то, что должны вроде бы защищать. Не хватает золота и серебра, чтобы вести войну во Фландрии, чтобы прокормить вороватую свору чиновников и пробудить Испанию от спячки. И торговые люди должны выбирать из двух зол — либо кровососы государственного казначейства, либо контрабанда… И все это так славно удобряет почву для разнообразнейшего плутовства и мошенничества… — Он с улыбкой взглянул на Кеведо и призвал его в свидетели. — Ну что, неправду я говорю, дон Франсиско?
— Правду, — кивнул поэт. — В здешних краях самый тупоумный олух быстро становится первостатейным ловкачом.
— И набивает карманы золотом.
— И это верно, — Кеведо глотнул вина и утер губы ладонью. — Недаром сказано: «Дивной мощью наделен Дон Дублон».
Гуадальмедина глядел на него, любуясь:
— Отлично сказано! Вы должны были бы написать об этом.
— А я и написал.
— Тогда прочтите. Доставьте мне удовольствие.
— «Жил он, вольный и беспечный… » — начал дон Франсиско, поднеся стакан к губам, отчего голос его сделался замогильным.
— Ах, это! — Граф подмигнул Алатристе. — А я-то думал, это сеньора Гонгоры сочинение.
Кеведо поперхнулся:
— Какого еще Гонгоры?! Что вы несете?! Окститесь!..
— Ну, ладно, ладно, друг мой…
— Да нет, совсем даже не ладно, клянусь Вельзевулом! Такое оскорбление даже не всякий лютеранин бы себе позволил! Что у меня общего с этим сбродом содомитов, которые, родясь иудеями или маврами, перекрасились в пастырей?!
— Да я пошутил!
— За такие шутки, господин граф, принято отвечать с оружием в руках.
— Даже не подумаю. — Гуадальмедина, поглаживая подвитые усы и эспаньолку, улыбался примирительно и благодушно. — Что я, с ума сошел? Разве я не помню урок фехтования, который вы преподали Пачеко де Нерваэсу?! — Правой рукой он весьма грациозно приподнял воображаемую шляпу. — Дон Франсиско, приношу вам свои извинения.
— Угу.
— Что это еще за «угу»? Я, черт возьми, все же испанский гранд. Извольте оценить глубину моего раскаянья.
— Гм.
Вернув себе с грехом пополам благорасположение поэта, Гуадальмедина продолжил рассказ, который капитан Алатристе слушал с большим вниманием, хоть и не выпускал из рук стакан с вином, розовевшим в мягком сиянии горевших на столе свечей. «Война — это чистое дело», — сказал он однажды, и только теперь я вполне осознал, что он имел в виду. Что же касается иноземцев, говорил меж тем граф, то они, дабы обойти государственную монополию, используют посредников из числа местных — их прозвали подгузниками, и это объясняет их роль, — получая золото, серебро и прочие заморские товары, которые законным путем никогда бы им не достались. Кроме того, галеоны, едва выйдя из Севильи или перед самым возвращением туда, заворачивали в Кадис, бросали якорь в порту Санта-Мария или на Санлукарской банке и перегружали содержимое своих трюмов на иностранные суда. Все это побуждало деловых людей слетаться туда, ибо не было места лучше, чтобы обмануть бдительность властей.
— Додумались до того, что строят два совершенно одинаковых корабля, а регистрируют — один. Малым детям известно, что задекларировано, скажем, пять бочек, а ввезено — десять, однако взятки затыкают рты и разжигают аппетиты. Многие сказочно разбогатели на этом… — Граф стал пристально рассматривать чубук, словно что-то в нем нежданно привлекло его внимание. — Очень многие, включая и самых высокопоставленных лиц при дворе.
Альваро де ла Марка продолжал рассказ. Севилья, как и вся прочая Испания, убаюканная потоками заморского золота, не в силах развивать собственную торговлю и ремесла. Выходцы из чужих краев благодаря своему упорству и трудолюбию достигли здесь такого преуспевания, что их теперь не догнать, а высокое положение, в свою очередь, позволило им стать посредниками между нашей отчизной и всей остальной Европой, с которой мы, между прочим, находимся в состоянии войны. Ну не парадокс ли, господа: сражаться с Англией, с Францией, с Данией, с Турцией, с мятежными нашими провинциями — и у них же, через третьих лиц, покупать канаты, парусину, древесину и всякий прочий товар, необходимый на Полуострове не менее, чем по ту сторону Атлантического океана. И, стало быть, золотом Индий оплачивать содержание армий и флотов, которые нас же и бьют. Это — тот самый секрет, известный целому свету, однако никто не решается прекратить такого рода торговлю, потому что она выгодна всем. И даже — его величеству.
— И результат — налицо: Испания катится к чертовой матери, — продолжал граф. — Каждый ворует, врет, плутует, зато никто не платит то, что должен.
— Да еще и бахвалится этим, — вставил Кеведо.
— Вот именно.
Но самое вопиющее во всем этом безобразии, по словам Гуадальмедины, — контрабанда золота и серебра. Благодаря продажности таможенников и чиновников Торговой палаты сокровища, ввозимые частными лицами, декларировались вдвое ниже своей истинной стоимости; чудовищные деньги, доставляемые каждым караваном, расходились по чужим карманам или утекали в Лондон, Амстердам, Париж или Геную. Контрабандой упоенно занимались испанцы и иностранцы, купцы и чиновники, адмиралы и генералы, миряне и клирики, военные, гражданские и какие угодно еще. Еще свеж был в памяти скандал с епископом Пересом де Эспиносой: почив года два назад, сей пастырь оставил после себя пятьсот тысяч реалов и семьдесят два золотых слитка, кои были переданы в казну после того, как выяснилось, что их ввезли из Индий, нимало не потревожив таможню.
— Помимо разнообразных товаров ожидающийся прибытием флот везет нам из рудников Сакатекаса и Потоси на двадцать миллионов реалов серебра, принадлежащего королю и частным лицам. И еще восемьдесят Кинталей[78] золота в слитках.
— Это — легально, — уточнил дон Франсиско.
— Ну да. Что касается серебра, то еще четверть будет ввезена контрабандой. А золото почти целиком пойдет в казну… Впрочем, трюм одного из галеонов загружен золотыми слитками, которые нигде и никак не значатся. Нигде и никак.
Он остановился, чтобы промочить горло и дать капитану Алатристе возможность осмыслить сказанное. Кеведо достал табакерку и взял добрую понюшку, деликатно чихнул и утерся мятым платком, извлеченным из рукава.
— Называется этот парусник «Вирхен де Регла». Шестнадцатипушечный галеон. Владелец — герцог де Медина-Сидония. Фрахтовщик — некто Херонимо Гараффа, генуэзский купец, обосновавшийся в' Севилье. «Вирхен» возит в Индии всякую всячину, от альмаденской ртути для серебряных копей до папских булл, а обратно — все, что только может влезть в трюм. А влезть может многое, в том числе и потому, что по документам регистра водоизмещение его — девятьсот бочек по двадцать семь арроб[79], а на самом деле, благодаря разным кораблестроительным хитростям, — тысяча четыреста…
— Этот галеон, — продолжал Гуадальмедина, — идет в составе флота с грузом серой амбры, кошенили шерсти и кож, предназначенным севильским и кадисским купцам. И еще везет пять миллионов реалов серебряной, свежеотчеканенной монетой — две трети принадлежат частным лицам — и полторы тысячи золотых слитков для передачи в королевскую казну.
— То-то бы пираты порадовались, — заметил Кеведо.
— Особенно если принять в рассуждение, что в составе флота в этом году еще четыре корабля с таким же грузом… — Граф сквозь клубы табачного дыма поглядел на капитана. — Теперь понимаешь, почему англичане нанесли визит в Кадис?
— А откуда они узнали?
— Дьявольщина! «Откуда»! Смекнуть нетрудно! Если за деньги можно купить даже спасение души, то и все остальное труда не составит!.. Нынче вечером ты что-то наивен не в меру! Во Фландрии, говоришь, был? А впечатление такое, будто с луны свалился.
Алатристе промолчал и налил себе еще вина. Взглянул на Кеведо, который с полуулыбкой пожал плечами, как бы говоря: «Забыл, с кем дело имеешь? Принимай его, каков есть».
— Ну да дело не в том, что там написано в его коносаменте[80]. Нам известно, что галеон контрабандой везет серебра еще на миллион реалов. Но и это не самое главное. А важно то, что в трюмах «Вирхен де Регла» едут к нам еще две тысячи золотых слитков, которые нигде не значатся. — Он ткнул в капитана мундштуком. — Знаешь, на сколько, по самым скромным подсчетам, потянет этот тайный груз?
— Не имею ни малейшего представления.
— Ну так знай — на двести тысяч золотых эскудо. Капитан посмотрел на свои руки, неподвижно лежавшие на столешнице, и, прикинув в уме, спросил:
— Это получается сто миллионов мараведи?
— Точно! — расхохотался Гуадальмедина. — Все мы знаем, сколько стоит эскудо.
Алатристе поднял голову и пристально поглядел графу в глаза:
— Тут ваша милость ошибается. Может, и знаете, да не так, как я.
Гуадальмедина открыл рот для очередной шутки, но ледяной взгляд Алатристе заставил его промолчать. Известно было, что капитан убивал людей за десятитысячную часть этой суммы. Без сомнения, в этот миллион, как и я, прикидывал, сколько армий можно набрать и вооружить на нее. Сколько аркебуз купить, сколько жизней сохранить, сколько смертей избежать.
Откашлявшись, Кеведо негромким голосом, медленно и важно прочел:
Мир — торжище. Жизнь — рынок. С давних пор Ворье не остается здесь в накладе, Как заповедь исполнить «Не укради», Когда в ходу: «Не пойман, так не вор»? А и поймают — с правосудьем спор Ты выиграешь, если не тупица: Сумел спереть — сумеешь откупиться.Наступило неловкое молчание. Альваро де ла Марка разглядывал свою трубку. Потом он положил ее на стол и сказал:
— Чтобы загрузить в трюм лишние сорок кинталов золота да еще и незадекларированное серебро, капитану «Вирхен де Регла» пришлось снять с галеона восемь пушек. И все равно — корабль перегружен.
— Кому же принадлежит это золото? — осведомился Алатристе.
— Ну тут и гадать нечего. Прежде всего — герцогу де Медина-Сидония: он организовал всю операцию, снарядил корабль и получит самый большой доход. Затем — двоим банкирам: один из Лиссабона, другой — из Антверпена… Еще кое-кому из придворных. Среди них, судя по всему, — Луис де Алькесар, секретарь его величества.
Алатристе обратил ко мне изучающий взгляд. Я, разумеется, уже успел поведать ему о встрече с Гвальтерио Малатестой, хотя ни словом не упомянул о синих глазах, мелькнувших в окне одной из многих карет, составлявших королевский кортеж. Гуадальмедина и Кеведо, в свою очередь внимательно рассматривавшие капитана, в этот миг переглянулись.
— Фокус в том, — продолжал Гуадальмедина, — что корабль, прежде чем разгрузиться в порту Кадиса или Севильи, зайдет в устье Санлукара. Они подкупили командующего флотом, и тот разрешит кораблям под предлогом непогоды ли, англичан или еще чего одну, по крайней мере, ночь простоять там на якоре. И за эту ночь золото потихоньку перегрузят на другой галеон, стоящий там же. Он называется «Никлаасберген» — фламандская посудина с безупречно католическим экипажем, капитаном и арматором… Курсирует в свое удовольствие между Испанией и Фландрией под флагом нашего государя.
— И куда же доставят золото?
— Скорее всего, доля Медина-Сидонии и прочих останется в Лиссабоне, где тамошний банкир даст за нее недурные деньги… А остальное прямым ходом отправится в мятежные провинции.
— Это — измена, — сказал Алатристе.
Голос его был спокоен, рука, подносившая к губам кубок с вином, в котором он уже успел смочить усы, не дрогнула. Но я видел, как странно потемнели его светлые глаза.
— Измена, — повторил он.
И от того, как было произнесено это слово, ожили в моей памяти картины недавнего прошлого. Шеренги испанской пехоты бестрепетно шагают по равнине, окружающей Руйтерскую мельницу, и рокот барабана вселяет сладкую грусть в души тех, кто обречен здесь пасть. Славный галисиец Ривас и прапорщик Чакон гибнут на склоне бастиона Терхейден, спасая бело-синее клетчатое знамя. Рев вырывается из сотни глоток, когда на рассвете начинается штурм Аудкерка. После рукопашной в подземных галереях люди протирают запорошенные глаза… Мне самому вдруг захотелось пить, и я залпом опорожнил стакан.
Кеведо и Гуадальмедина снова переглянулись.
— Это — Испания, капитан, — промолвил поэт. — Заметно, что во Фландрии вы отвыкли от нас.
— Ныне у нас дело главней всего, — веско прибавил Гуадальмедина. — И это уже не впервые. Разница — в том лишь, что теперь король и особенно — Оливарес не доверяют Медина-Сидонии. Как ни старался он потрафить им и угодить, принимая их два года назад в своем имении Санта-Ана, как ни обходительно устраивал он эту поездку, бросалось в глаза, что дон Мануэль де Гусман, восьмой герцог Медина-Сидония, превратился в некоронованного короля Андалусии. От Уэльвы до Малаги и Севильи его воля — закон. Перед нами — мавры, по бокам — Галисия с Португалией, которые только и ждут, как бы отделиться… Это становится опасным. Оливарес подозревает, что Медина-Сидония вместе со своим сыном Гаспаром, графом де Ньебла, готовят переворот… Кто другой пошел бы за это под суд и на плаху, но уж больно высоко взлетели герцоги Медина-Сидония… Оливарес, хоть он их терпеть не может, несмотря на родство, не решится без веских доказательств устроить скандал…
— А что Алькесар?
— Алькесара сейчас тоже голыми руками не возьмешь. Он пользуется при дворе большим влиянием, его поддерживают инквизитор Боканегра и Совет Арагона. И, кроме того, Оливарес, ведущий опасную двойную игру, считает его полезным. — Граф пренебрежительно пожал плечами. — Вот он и решил действовать скрытно, сочтя, что так будет больше толку… Золото надо стащить из-под самого носа у герцога Медина-Сидонии и переправить в сундуки королевской казны. Оливарес действует с одобрения короля, и их величества предприняли сей вояж в Севилью, чтобы полюбоваться представлением. Потом четвертый наш Филипп с обычной своей невозмутимостью обнимет на прощанье старого герцога, послушав заодно, как тот скрежещет зубами… Беда в том, что план Оливареса предусматривает два этапа: первый — полуофициальный и довольно деликатный. Другой — негласный. Это дело более сложное.
— Правильней будет сказать — «опасное», — Кеведо, виднейший представитель концептизма[81], превыше всего ставил точность.
Гуадальмедина подался к капитану:
— Первым, как ты понимаешь, на сцену выходит Ольямедилья…
Мой хозяин медленно склонил голову. Теперь все стояло на своем месте.
— А вторым — я, — сказал он.
Альваро де ла Марка с величайшим спокойствием погладил свою эспаньолку. Улыбнулся.
— Нравится мне в тебе, Алатристе, что ты все схватываешь на лету,
Был уже поздний вечер, когда мы, выйдя с постоялого двора, зашагали по скверно освещенным узким улочкам. Щербатая луна заливала млечным сиянием фасады зданий; под навесами крыш, под сумрачными кронами апельсиновых деревьев вырисовывались наши силуэты. Попадавшиеся изредка навстречу бесформенные тени ускоряли шаг, когда путь их пересекался с нашим, ибо в это время суток Севилья, как и любой другой испанский город, была не лучшим местом для прогулок. Мы вступили на маленькую площадь, и тотчас темная мужская фигура, прильнувшая к окну и что-то бормотавшая в него, отпрянула, приняла оборонительную позицию, и под распахнувшимся плащом будто ненароком блеснула сталь, окошко же со стуком захлопнулось, Гуадальмедина, успокаивающе рассмеявшись, пожелал неподвижному человеку в плаще доброй ночи. Мы продолжили путь, и, опережая нас, летел перед нами гулкий отзвук наших шагов. Порою сквозь ставни зарешеченных окон пробивался огонек свечи, да на углах, под образом Богоматери Непорочно Зачавшей или страстей Господних тускло мерцала жестяная лампадка.
Ольямедилья, объяснял нам по дороге граф, — старая канцелярская крыса, в совершенстве превзошедшая цифирь и делопроизводство. Пользуется полнейшим доверием Оливареса, которому оказывает важные услуги в деле сведения счетов и счётов Чтобы мы поняли, с кем имеем дело, Гуадальмедина рассказал, что Ольямедилья не только провел все расследование, стоившее головы Родриго Кальдерону но и принял живейшее участие в делах, возбужденных против герцогов Лермы и Осуны. Главная его особенность — редкостные добросовестность и честность. Единственная страсть жизни — четыре правила арифметики, а высшая цель — свести дебет с кредитом. Сведения о контрабандном золоте, полученные Оливаресом через своих шпионов, счетовод подтвердил, несколько месяцев терпеливо прокорпев над имевшимися в его распоряжении документами.
— Для полной ясности не хватает кое-каких последних подробностей, — сказал напоследок Гуадальмедина. — Флот уже выслал вперед вестовое судно, сообщая о скором своем прибытии, так что времени у нас немного. Все должно решиться утром, когда Ольямедилья нанесет визит этому самому Гараффе, чтобы узнать, как именно золото перегрузят на борт «Никлаасбергена»… Разумеется, визит будет, так сказать, неофициальный, ибо у нашего счетовода нет ни власти, ни полномочий, а потому не исключаю, — граф иронически вздернул бровь, — что генуэзец позовет на выручку своих покровителей.
Мы проходили мимо таверны — из освещенных окон долетал гитарный перебор. Отворилась дверь, смех и пение стали громче. Вышедшего на порог посетителя выворачивало наизнанку, а между приступами рвоты он хрипло поминал имя Божье — причем более чем всуе.
— А почему бы этого Гараффу просто не взять за шкирку? — осведомился Алатристе. — Подвал с писцом и дыба с палачом — вернейшее средство от забывчивости. В конце концов, это покушение на власть короля.
— Не все так просто. Власть в Севилье оспаривают Королевский совет и здешний магистрат. Да и архиепископ мимо рта не пронесет. Гараффа в добрых отношениях и с ним, и с герцогом Медина-Сидонией. Возьмешь за шкирку — выйдет скандал, а золото тем временем тю-тю… Нет, действовать в открытую никак нельзя. Генуэзец же, после того, как выложит все, что надо, должен исчезнуть на несколько дней. Живет он один, со слугой, так что, если даже сгинет навсегда, никто его не хватится… — Гуадальмедина сделал многозначительную паузу. — Никто, включая и его величество.
Высказавшись, граф некоторое время шел молча. Кеведо, благородно хромая, чуть приотстал, положил мне руку на плечо, словно желал подбодрить.
— Короче говоря, Алатристе, ход за тобой.
Я не видел лица капитана. Лишь темный прямоугольник его фигуры, начинавшийся со шляпы, а завершавшийся кончиком шпаги из-под плаща, покачивался передо мной в лунном сиянии. Но вскоре послышался знакомый голос:
— Прикончить генуэзца — штука нехитрая. Что же касается сведений о золоте…
Он замолчал и остановился. Мы догнали его. Алатристе вскинул голову, и в его светлых глазах отразилась ночная тьма.
— Пыток не люблю.
Сказано было искренно, без драматических модуляций и пафоса. Так человек сообщает о некоей данности, о том, на что имеет безусловное право. Капитан не любил также кислое вино, пережаренное мясо, равно как и людей, неспособных руководствоваться правилами, пусть даже вовсе не общепринятыми, совершенно отличными от его собственных, или воровскими. В наступившей тишине дон Франсиско снял руку с моего плеча. Гуадальмедина беспокойно прокашлялся.
— Меня это не касается, — не без смущения проговорил он наконец. — Мне и знать-то об этом не надо. Вытянуть из Гараффы нужные сведения поручено Ольямедилье и тебе… Он делает свою работу, тебя подрядили ему в помощь.
— Тем более что генуэзец — это самое легкое, — заметил Кеведо тоном человека, который выступает посредником в трудных переговорах.
— Вот именно, — согласился Гуадальмедина. — Ибо когда Гараффа расскажет о последних подробностях сделки, на твою долю, Алатристе, останется кое-что еще…
Он остановился перед капитаном, и прежней неловкости как не бывало. Я не видел его лица, но был уверен — граф улыбается.
— Счетовод Ольямедилья даст тебе денег, чтобы ты сам мог набрать людей по своему выбору… Старых товарищей, тех, кому ты доверяешь. Ну, разумеется, умелых и опытных. Самых лучших, первого сорта…
В конце улицы слышался унылый речитатив бродячего монаха, со светильником в руке собиравшего пожертвования на заупокойные мессы: «Вспомяните усопших… Вспомяните усопших… » Гуадальмедина, проводив его долгим взглядом, обернулся к Алатристе:
— Потому что тебе придется этот проклятый фламандский корабль захватить.
В таких вот беседах дошли мы туда, где под изображением Пречистой Девы Аточенской на выбеленной стене зияла Арка дель Гольпе, открывавшая проход в знаменитый публичный дом. Когда Трианские и Аренальские ворота запирались, через эту арку и это заведение можно было легко и просто оказаться за городской чертой. А у Гуадальмедины, как можно было понять по его недомолвкам, намечена была важная встреча в харчевне Гамарры, в Триане, то есть на другом берегу, который связывал с нашим понтонный мост. Харчевня же примыкала к некоему монастырю, о чьих обитательницах поговаривали, будто Христовыми невестами они становиться не собирались и затворились в обители не по своей воле. А потому на воскресную мессу людей стекалось больше, чем на первое представление комедии: по одну сторону решетки мелькали чепцы и белые ручки монахинь, по другую — вздыхали их поклонники, местные и заезжие, среди коих были и самые знатные кавалеры: вот, к примеру, наш государь. Что же касается веселого дома на Компас-де-ла-Лагунья, гордившегося тем, что одной из его питомиц была некая Клара Мендес, чье имя сделалось нарицательным, став синонимом слова «потаскуха», то он предлагал постояльцам гостиниц как на соседней улице Тинторес, так и на других улицах, а равно и гражданам Севильи карты, музыку и женщин того разряда, о котором великий дон Франсиско де Кеведо в своей неповторимой манере писал:
Блудило тот, кто у блудев в почете, И блудень тот, кто их лелеет нежно, Его готовы содержать прилежно И блудуэньи, и блудуньи плоти. К звезде блудящей подползая в поте, Блудяшками обмениваясь спешно, Живя блудобоязненно и грешно, Я назову тебя блудней на взлете[82].А содержал бордель некий Гарсипосадас, помимо прочего, известный в Севилье и тем, что один его брат, придворный поэт и друг Гонгоры, в этом году был сожжен на костре за противоестественную связь с мулатом Пепило Инфанте, тоже поэтом и слугою адмирала де Кастильи, а другой — три года назад в Малаге как иудействующий, и мудрено ли, что благодаря таким вот родственным связям сподобился Гарсипосадас получить ехидное прозвище Гренок. Личность достойная во всех отношениях — он весьма сноровисто вел свое предприятие, умея подмазать, где надо, чтоб крутилось без задержки, блудным девкам был отец родной, шпаги требовал оставлять в прихожей, посетителей моложе четырнадцати не допускал, избегая таким образом претензий со стороны городских властей. Приятельские отношения на взаимовыгодной основе сложились у него и с севильскими бандитами, и с блюстителями порядка, оберегавшими его, как сказали бы нечестивые англикане, бизнес.
И в котле сего блудилища кипела похлебка разнообразнейшего сброда — были здесь и фанфаронистые забияки, через слово поминавшие Божью мать и чуть что хватавшиеся за нож, и деловито-обстоятельные наемные убийцы, уважающие себя и свое ремесло, и сбившиеся с пути, спившиеся с круга родовитые дворяне, и загулявшие жители заморских наших провинций, и богатые горожане, и переодетые в мирское платье клирики, и шулера, и юноши, осваивающие азы сводничества, соглядатаи и наушники, честные воры и бессовестные проходимцы, мошенники, за пушечный выстрел чуявшие поживу в лице доверчивого чужестранца и совершенно неуязвимые для правосудия, интересующегося прежде всего толщиной кошелька. Об этом стихами сказал сам дон Франсиско де Кеведо:
… Вот какие в Севилье дела: Тяжесть кары здесь соразмеряют С тем, насколько мошна тяжела.
Так что под снисходительным доглядом властей в Компас-де-ла-Лагуну каждый вечер стекались люди, и рекой текло самое тонкое, выдержанное вино — ну да, текло рекой, а вытекало порой прямо-таки водопадом — и отплясывалась разнузданная сарабанда, благо было с кем. В заведении обитали тридцать с лишком самых что ни на есть распутных путан-распутан, сирен не столь сладкогласных, сколь голосистых, обитавших каждая в отдельной каморке, и в субботу утром — ибо у порядочных людей принято наведываться в бордель в субботу вечером — альгвазил удостоверялся, что ни у кого из девиц нет любострастной болячки, сиречь французской хворобы, проявления коей столь тягостны, что подцепивший ее мог лишь вопрошать в тоске и гневе, почему же Господь не наделит такой же неприятностью всякого язычника, еретика и врага христианской веры. Мудрено ли, что все эти забавы сильно досаждали архиепископу — в одном из его писем того времени читаем мы: «… в изобилии у нас в Севилье развратников, лжесвидетелей, убийц, ростовщиков, мошенников. Игорных домов в городе свыше трехсот, а домов публичных — вдесятеро больше».
Вернемся, однако, к нашему рассказу, благо и ушли недалеко. Стало быть, Гуадальмедина собирался распроститься с нами у Арки-дель-Гольпе, почти что у самого входа в веселый дом, но злая судьба распорядилась так, что в эту минуту появился патруль стражников, возглавляемых альгвазилом с жезлом. Вы, должно быть, помните, что давешняя распря до чрезвычайности обострила отношения между блюстителями порядка и солдатней с галер, так что те и другие, алкая мести и ища случай сквитаться, установили неустойчивое равновесие: первые избегали днем появляться на улице, вторые ночью не покидали Триану и не пересекали городскую черту.
— Ну-ка, ну-ка, — сказал альгвазил, заметив нас.
Гуадальмедина, Кеведо, капитан и я переглянулись в некотором замешательстве. Иначе, как досаднейшим невезением, нельзя было объяснить, что из всего множества разнообразной публики, шлявшейся в полумраке по Лагуне, альгвазил решил прицепиться именно к нам
— Нашим доблестным воинам пришла охота подышать воздухом? — с непередаваемым ехидством осведомился он.
Отчего ж не съехидничать, если у тебя за спиной — четверо верзил в полном вооружении и с рожами, которые в сумраке ночи выглядят еще более мрачными, чем обычно. Тут наконец я понял, в чем дело. В скудном свете фонаря над церковью Пресвятой Девы Аточенской одеяния капитана, и Гуадальмедины, и мое вполне могли сойти за обмундирование. Да и замшевый колет, облекавший стан нашего графа, в мирное время носить запрещалось, а он, как на грех, надел его сегодня потому лишь, что намеревался сопровождать короля. Про Алатристе и говорить нечего — за милю узнавался в нем солдат гвардейской пехоты. Скорый разумом Кеведо почуял недоброе и поспешил уладить недоразумение.
— Вы обмишулились, сударь, — со всевозможной учтивостью проговорил он. — Эти достойные господа — не те, за кого вы их принимаете.
Стали подтягиваться, окружая нас, зеваки — две потаскухи под ничего не скрывающими покрывалами, темная личность из тех, кого в трущобах Мадрида называют хаке, какой-то пьяница, державший бутылку величиной с пасхальную свечу, какие носят на крестный ход. Сам Гарсипосадас-Гренок высунул нос из-под арки. Присутствие публики привело альгвазила в еще большее раздражение.
— А вы, сударь, зачем суетесь со своими объяснениями, куда не просят? Без вас как-нибудь разберусь.
Стоявший рядом со мной Гуадальмедина прищелкнул языком, явно теряя терпение.
— Не робей, ребята, — подбодрил нас некто скрытый во тьме и в толпе. Послышались смешки. Народу прибывало. Одна часть любопытных держала сторону правосудия, другая и более многочисленная в отборных выражениях советовала спуску полицейским не давать, а наоборот — задать им жару.
— Именем короля вы арестованы.
Ничего хорошего нам это не сулило. Гуадальмедина переглянулся с Кеведо и закинул плащ на плечо, высвобождая правую руку.
— Не в моих правилах терпеть подобный произвол, — молвил он.
— Свои правила, сударь, — тотчас отозвался альгвазил, — можете засунуть себе… знаете, куда?
После этой любезности столкновение стало неизбежным. Что же касается моего хозяина, то он помалкивал и не терял спокойствия, поглядывая на человека с жезлом и на его подручных. Даже в полумраке его орлиный профиль и густые усы выглядели весьма внушительно — или, по крайней мере, так казалось мне, хорошо знавшему капитана и представлявшему, чего от него ждать. Я ощупал рукоять своего кинжала, в очередной раз пожалев, что не ношу шпагу: нас было четверо против пятерых. Даже и не четверо, спохватился я с горечью, а три с половиной: две жалкие пяди[83] моего клинка нельзя было брать в расчет в полной мере.
— Попрошу сдать оружие, — приказал альгвазил. — И следовать за мной.
— Напрасно вы так… — сделал Кеведо последнюю попытку договориться. — Я — рыцарь ордена Сантьяго…
— А я — Папа Римский.
Было совершенно ясно, что представитель закона намерен добиться своего во что бы то ни стало: мы ненароком забрели на его делянку, и на происходящее во все глаза взирала его паства. Четверо стражников обнажили шпаги и двинулись вперед, охватывая нас широким полукольцом.
— Если пробьемся и нас никто не узнает, это дело завтра же будет предано забвению. — Гуадальмедина прикрывал лицо плащом, и оттого голос его звучал сдавленно. — Если же нет, помните, господа: ближайшая к нам церковь — собор Святого Франциска.
Стражники, в своих черных одеяниях казавшиеся порождениями тьмы, меж тем приближались. Зрители под аркой хлопали в ладоши, радуясь представлению.
— Покажи им, Санчес, где раки зимуют, — весело крикнул кто-то из них, обращаясь к альгвазилу.
Тот неторопливо, сохраняя полнейшее самообладание, засунул за пояс свой жезл, правой рукой извлек из ножен шпагу, левой — достал длинноствольный пистолет.
— Считаю до трех, — сказал он, делая шаг вперед. — Раз…
Дон Франсиско де Кеведо мягко отодвинул меня в сторонку, оказавшись между мной и стражниками.
Гуадальмедина поглядывал на стоящего к нему боком капитана Алатристе, а мой хозяин невозмутимо пребывал на прежнем месте, прикидывая расстояние до стражников и очень медленно поворачиваясь всем телом к тому, кто был к нему ближе всех, но при этом не выпуская из поля зрения остальных. Я заметил, как граф, отыскав глазами стражника, на которого смотрел мой хозяин, тотчас перевел глаза на другого, как бы окончательно выбрав себе противника.
— Два…
Кеведо, пробормотав сквозь зубы свое излюбленное «Придется подраться», отстегнул пряжку плаща и обмотал его вокруг левой руки. Гуадальмедина свой плащ сложил втрое, приготовясь защищать им корпус от ударов, которые, судя по всему, должны были посыпаться градом. Я отодвинулся от дона Франсиско и сделал шаг к своему хозяину: тот уже взялся за эфес шпаги, а пальцами другой руки поглаживал навершие кинжала. До меня доносилось его размеренное, нимало не учащенное дыхание. Вдруг пришло в голову, что уже несколько месяцев — со дня взятия Бреды — не приходилось мне видеть, как он убивает человека.
— Три! — Альгвазил поднял пистолет и повернул голову к зевакам. — Именем короля!.. Да свершится правосудие!
Он еще не успел договорить, как Гуадальмедина разрядил в него свой пистолет, и от выстрела в упор альгвазила откинуло назад. Раздался женский вскрик, во мраке прошел по рядам зрителей гул ожидания, ибо наблюдать за тем, как режутся ближние твои, есть исконная забава испанского народа. В тот же миг Кеведо, Алатристе и Гуадальмедина выхватили шпаги, и семь обнаженных клинков сверкнули, столкнулись, лязгнули, высекая искры, стражники закричали «Именем короля! », загомонили зрители. Обнажив кинжал, я видел, как одного стражника граф в мгновение ока полоснул по руке, другого Кеведо ткнул в лицо, и тот, обливаясь кровью — а было ее, надо сказать, будто свинью закололи — отшатнулся к стене, зажимая рану, а третьему капитан молниеносным выпадом всадил в грудь две пяди Толедской стали и тотчас извлек клинок едва успев сказать «Матерь Божья», стражник повалился наземь, и кровь, черная, как тушь, толчками хлынула у него изо рта. Увидав, какая судьба постигла его товарищей, четвертый, недолго думая, бросился было прочь, но не преуспел в своем намерении — Алатристе заступил ему дорогу. Тут и я спрятал в ножны свой бесполезный кинжал и проворно подобрал валявшуюся на земле шпагу — ее выронил альгвазил, — поспев как раз вовремя: двое-трое зевак, введенные в заблуждение первоначальным развитием событий, решили поддержать стражников, однако все было кончено так стремительно, что они замерли и затоптались на месте, в растерянности переглядываясь, ибо Алатристе, Кеведо и граф со шпагами наголо выказывали полнейшую готовность к продолжению. Я примкнул к ним и стал в позицию, и рука моя, сжимавшая шпагу, дрожала — но не от страха, а от боевого задора: я бы отдал душу дьяволу, чтобы принять участие в стычке. Однако охота вмешиваться у зевак прошла: они благоразумно держались в сторонке, бормоча себе под нос в том смысле, что руки, мол, марать неохота, и что, мол, погодите, попадетесь нам еще. А мы отступили, не поворачиваясь к ним спиной и оставив на поле боя наголову разгромленного противника: один стражник убит наповал; упавший навзничь альгвазил если еще и дышал, то — на ладан; раненный Гуадальмединой зажимал, как мог, рассеченное предплечье, а пораженный клинком дона Франсиско, обливаясь кровью, стоял на коленях у стены.
— Будете помнить королевские галеры! — залихватски выкрикнул Гуадальмедина, удаляясь с места происшествия.
Это было хитро придумано: укрепить несчастного альгвазила во мнении о том, что именно солдат с галер он на свою голову задержал минуту назад, и на них списать удары шпагой, столь щедро рассыпанные нынешней ночью.
Лестный отзыв мной вполне заслужен, Я его снискал не без причины, Из врагов я нащепал лучины, К сатане отправил их на ужин.
Дон Франсиско де Кеведо на ходу и с ходу сочинил эти стишки, покуда шагал по улице Аринас к Аренальским воротам, отыскивая какую-нибудь еще не закрытую за поздним временем таверну, дабы отпраздновать победу добрым вином. Альваро де ла Марка одобрительно посмеивался.
— Здорово мы им дали, — приговаривал он, — здорово дали и ловко провели.
А капитан Алатристе, тщательно протерев лезвие шпаги извлеченным из кармана платком и спрятав ее в ножны, шел молча, погруженный в свои мысли, постичь которые не представлялось возможным. Я же, гордый, как Дон Кихот, нес шпагу альгвазила.
IV. Фрейлина ее величества
Диего Алатристе — без плаща, в расстегнутом на груди суконном колете поверх тщательно заштопанной чистой сорочки, со шпагой и кинжалом на поясе — стоял, прислонясь к стене какого-то особняка на улице Месон-дель-Моро, между кадками с геранью и базиликом и внимательнейшим образом следил за домом генуэзца Гараффы. Дело происходило поблизости от еврейского квартала, неподалеку от монастыря Босоногих Кармелитов и старого Театра доньи Эльвиры, и в этот час улицы были пустынны — лишь изредка появлялись прохожие, да какая-то женщина подметала мостовую и поливала цветы. В прежние времена, в бытность свою солдатом королевских галер Диего Алатристе часто бывал здесь, знать не зная, что по возвращении в шестьсот шестнадцатом году из Италии доведется ему провести довольно много времени в так называемом «Апельсиновом Дворе», служившем пристанищем и убежищем самым отчаянным и удалым севильским плутам. Вы, может быть, помните, господа: не желая подавлять восстание морисков в Валенсии, капитан вышел из полка, отправился в Неаполь, чтобы, по его собственным словам, «резать только тех басурман, которые могут сопротивляться», плавал на галерах, фа-бил турецкое побережье, а в пятнадцатом году с богатыми трофеями воротился в Италию и зажил в свое удовольствие. Счастье, как счастью и положено, оказалось недолгим: женщина, измена, отметина поперек щеки неверной любовницы, убитый наповал соперник — и вот уже Алатристе бежит из Неаполя, и капитан Алонсо де Контрерас по старой дружбе тайком сажает его на галеру, идущую в Санлукар и Севилью. И прежде чем перебраться в Мадрид, отставной солдат начал зарабатывать себе на пропитание шпагой, став эспадачином в этом новом Вавилоне, средоточии всех пороков, то есть днем отсиживался в убежище кафедрального собора, а ночью выползал оттуда и правил ремесло, которое человека храброго, ловкого, хорошо владеющего оружием, вполне могло прокормить. В ту пору такие легендарные головорезы, как Гонсало Ксенис, Гайосо, Аумада да и сам великий Педро Васкес де Эскамилья, короля признававшие только в карточной колоде, уже сходили со сцены: одни не сумели переварить свинцовую горошину, другие поперхнулись сталью, третьи подхватили пеньковую хворобу, от которой при их роде занятий уберечься было нелегко. Однако в убежище да и в тюрьме, где Алатристе также приходилось бывать регулярно, свел он знакомство с достойнейшими продолжателями их дела — мокрого, сами понимаете — умельцами и знатоками, мастерами колотья и резьбы, да и сам, блестяще владея всеми тонкостями своего ремесла, стал в сем славном сообществе человеком не из последних.
Сейчас не без сладкой грусти, тоскуя не столько по былому, сколько по канувшей безвозвратно юности, он вспоминал все это, тем паче что оказался совсем неподалеку от Театра доньи Эльвиры, где смотрел когда-то представления пьес, где увидел впервые «Собаку на сене» Лопе и «Стыдливого во дворце» Тирсо де Молины, где проводил вечера, начинавшиеся стихами и стуком деревянных рапир на сцене, а завершавшиеся звоном настоящих шпаг, равно как и пирушками в тавернах, в обществе друзей и девиц, податливых и неспесивых. Эта блистательная и опасная Севилья осталась прежней, и отличия следовало искать не в ней, а в самом себе. Время даром не прошло, размышлял он теперь, и душа у человека дряхлеет прежде всего остального.
— Матерь Божья, капитан Алатристе… Мир и вправду тесен!
Алатристе, очнувшись от своих дум, обернулся к тому кто назвал его по имени. Странно было видеть Себастьяна Копонса здесь, а не во фламандской траншее, а еще странней — услышать из его уст восемь слов кряду. Потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать происходящее, припомнить, как плыли из Дюнкерка, как совсем недавно прощались в Кадисе с арагонцем, который собирался увольняться из армии и подаваться на север, в Севилью.
— Рад тебя видеть, Себастьян.
Это было так и не так. В эту самую минуту капитан никому не был рад, и, крепко пожимая руку старому товарищу, из-за его плеча внимательно оглядывал дальнюю оконечность улицы. Слава богу, Копонс — свой человек. Его можно отправить отсюда, объяснив положение, и он, конечно, поймет. В конце концов, в том и состоит ценность дружбы, что друг позволит тебе сдать карты и не спросит, не крапленые ли.
— Обосновался в Севилье?
— Вроде.
Маленький, жилистый, крепкий Копонс не сменил свое солдатское обличье — колет, перевязь со шпагой, сапоги. На левом виске под шляпой виднелся шрам от раны, полученной на Руйтерской мельнице — Алатристе своими руками перевязал ему тогда голову.
— Спрыснуть бы, Диего.
— После.
Копонс воззрился на него удивленно и очень внимательно, а потом проследил взгляд капитана.
— Занят?
— Не без того.
Арагонец снова оглядел улицу, будто отыскивая на ней приметы того, чем же занят его однополчанин. Потом машинально опустил руку на эфес.
— Помочь?
— Нет пока. — По обветренному лицу Алатристе скользнула ласковая улыбка. — Но, может статься, пока ты в Севилье, придется кое-что и на твою долю… Годится?
Копонс с бесстрастием древнего стоика пожал плечами, как бывало, когда капитан Брагадо приказывал лезть с кинжалом в руке в узкую дыру штольни или штурмовать голландский бастион.
— Ты подрядился?
— Да. Можно будет заработать.
— Это — кстати.
Тут Алатристе заметил в конце улицы счетовода Ольямедилью — тот был, по обыкновению, весь в черном, наглухо застегнут, на голове шляпенка с узкими полями, на лице озабоченное выражение мелкого канцеляриста, сию минуту вышедшего из кабинета высокого начальства.
— Мне надо идти, Себастьян… Приходи на постоялый двор Бесерры.
Он положил руку ему на плечо и, ничего не прибавив к сказанному, простился с арагонцем. Неторопливо пересек улицу и нагнал счетовода возле углового дома — кирпичного, с геранями в кадках и неприметной калиткой в решетчатой ограде, за которой виднелся внутренний дворик. Не окликнув друг друга, не обменявшись ни единым словом, а лишь понимающе переглянувшись, оба вошли: Алатристе — взявшись за рукоять шпаги, Ольямедилья — с прежней уксусно-кислой миной Появился, вытирая руки о фартук, престарелый слуга, вопросительно поднял на них глаза.
— Святейшая инквизиция, — ледяным тоном оповестил счетовод.
Слуга изменился в лице, ибо в Севилье вообще, а в доме генуэзца — особенно, слова эти много чего таили в себе, и с телячьей покорностью, безмолвной безропотной, повиновался Алатристе, который связал его, заткнул ему рот кляпом и, втолкнув в какую-то комнатку, запер на ключ. Когда капитан вновь вышел в патио, Ольямедилья ждал его, притаясь за огромной кадкой с папоротником, сложив ладони и нетерпеливо крутя большими пальцами. Молча переглянувшись, оба пересекли патио и остановились перед закрытой дверью. Обнажив шпагу, Алатристе рванул дверь и влетел в просторный кабинет, где стояли стол, шкаф, несколько кожаных стульев, а в глубине виднелся отделанный бронзой камин. Падая из окна — высокого, забранного решеткой и наполовину закрытого жалюзи, — бесчисленные квадратики света плясали на голове и плечах человека средних лет, скорее пузатого, нежели плечистого, одетого в шелковый халат и мягкие домашние туфли. При появлении нежданных гостей хозяин кабинета вскочил в тревоге. На этот раз Ольямедилья не стал упоминать инквизицию да и вообще никак не представился, а, войдя следом за Алатристе, лишь обвел кабинет взглядом, удовлетворенно задержав его на открытом и набитом бумагами шкафу-поставце. Точь-в-точь кот, облизывающийся при виде сардины, подумал капитан. Хозяин же, помертвев лицом, разинув рот, но не произнося ни слова, замер у стола, так и не донеся до свечи сургучную палочку. Крашеные волосы под сеткой, нафабренные и заправленные в особые замшевые чехольчики усы, зажатое в пальцах гусиное перо — таков был Гараффа. Вскочив при появлении незнакомцев, он опрокинул чернильницу, залившую бумаги, и в ужасе скосив глаза смотрел на клинок, приставленный капитаном Алатристе к его горлу.
— Стало быть, не понимаете даже, о чем я говорю?
Счетовод Ольямедилья, по-хозяйски рассевшись за письменным столом, поднял глаза от бумаг и посмотрел на Джеронимо Гараффу — усаженный на стул и крепко прикрученный к его спинке, тот беспокойно двигал головой в так и не снятой сетке. В кабинете было не жарко, но по лбу и по щекам генуэзца катились крупные капли пота, распространяя резкий запах камеди, перемешанный с ароматом примочек и ароматических мазей, употребляемых хорошими цирюльниками.
— Уверяю вас, господа…
Коротким взмахом руки Ольямедилья пресек этот протестующий возглас, и вновь погрузился в изучение бумаг, разложенных перед ним. Гараффа — усодержатели придавали его лицу сходство с нелепой карнавальной маской — выкатил глаза на Алатристе, который, вложив шпагу в ножны, скрестив руки на груди, привалясь спиной к стене, слушал все это молча. Ледяное выражение его лица, должно быть, вселило в генуэзца еще большую тревогу, нежели неприязненно-строгая мина Ольямедильи, ибо он снова повернулся к счетоводу, как бы выбирая из двух неизбежных зол меньшее. После длительного и тягостного молчания тот оторвался от бумаг, откинулся в кресле и, сложив руки на животе, завертел большими пальцами. Вот же крыса канцелярская, подумал Алатристе. Но крыса, на которую походил Ольямедилья, должна была страдать несварением желудка или ощущать во рту горький привкус желчи.
— Ну, хорошо… — холодно произнес счетовод заранее припасенную фразу. — Разъясним дело. Вы знаете, о чем я говорю, а мы знаем, что вы знаете. Все прочее есть зряшная трата времени.
У Джеронимо Гараффы так пересохло во рту, что заговорить ему удалось лишь с третьего раза:
— Клянусь Господом нашим Иисусом Христом… — хрипло сказал он, и от страха чужестранный выговор звучал явственней, чем обычно. — Я ничего не знаю об этом фламандском паруснике.
— Иисус Христос не имеет к нашему делу ни малейшего отношения.
— Это произвол!.. Я требую правосудия…
Последняя попытка Гараффы придать своим словам должную твердость захлебнулась в прорвавшемся рыдании. Одного взгляда на каменное лицо Диего Алатристе хватило бы, чтобы понять — правосудие, которого требует генуэзец и благосклонность которого он, без сомнения, привык приобретать за хорошенькие серебряные монетки по восьми реалов, пребывало сейчас далеко-далеко от этой комнаты.
— Куда причалит «Вирхен де Регла»? — с прежним спокойствием вопросил Ольямедилья.
— Не знаю… Пресвятая Дева… Не понимаю, о чем вы…
Счетовод почесал нос и значительно посмотрел на Алатристе. Капитан подумал, что этот Ольямедилья являет собой живое воплощение, ходячий образ чиновничества, забравшего такую власть в заавстрияченной нашей Испании, — дотошного, скрупулезного и беспощадного. Он мог быть судьей, писарем-делопроизводителем, альгвазилом, адвокатом — любым из обширной коллекции гадов и тварей, процветавших под сенью престола. Кеведо и Гуадальмедина уверяли, будто он — честен. Очень может быть. Но всеми прочими своими деяниями и дарованиями он ничем не отличается от черной стаи алчного и безжалостного воронья, обсевшего судебные залы, адвокатские конторы, аудиторские палаты и прочие присутственные места обеих Испании, самого Люцифера обштопавшего по части гордыни, Какуса[84] затмившего лютым мздоимством, далеко позади оставившего Тантала в неуемной и неутолимой жажде почестей, и никогда ни один язычник не изрыгал хулы кощунственней, нежели та, что содержалась в писаниях сей братии, неизменно гибельных для сирых и убогих, но играющих на руку сильным и власть имущим. Вот уж точно — ненасытные пиявицы, по самой природе своей лишенные милосердия и малейших понятий о приличиях, зато сверх меры одаренные невоздержанностью, хищностью и фанатически-рьяным лицемерием, когтящие и терзающие именно тех, кто вверен их попечению. Впрочем, человек, который угодил им в лапы сегодня, — не сирый, не убогий, не жалкий. Хотя жалости достоин, что уж там говорить.
— Ну, хорошо, — заключил Ольямедилья.
Он сложил бумаги аккуратной стопочкой, не сводя при этом глаз с Алатристе и всем своим видом показывая: «Я свое дело сделал». В течение нескольких мгновений они молча смотрели друг на друга, затем капитан расцепил скрещенные на груди руки и отступил от стены, сделав шаг к Джеронимо Гараффе. На лице генуэзца отразился неописуемый ужас. Алатристе стал перед ним, чуть склонился и взглянул ему прямо в глаза очень пристально и очень пытливо. Ни малейшего сострадания не вызывал у него этот человек и все, что воплощал тот в себе. Из-под сетки, стягивавшей крашеные волосы, по лбу, по щекам и вдоль шеи текли темные струйки, и кисловатый запах испарины, пробирающей человека в миг смертельной опасности, заглушал теперь аромат притираний и бальзама.
— Джеронимо… — почти шепотом произнес капитан.
Услышав свое имя, прозвучавшее в трех пядях от лица, тот дернул головой, как от пощечины. Алатристе, не отстраняясь, еще несколько мгновений неподвижно и молча смотрел на генуэзца в упор, почти касаясь его носа усами.
— Мне приходилось видеть, как пытают, — медленно заговорил он. — Как подвешивают на дыбу, выворачивая руки и ноги, чтобы человек дал показания на собственных детей. Как заживо сдирают кожу, а он воет, умоляя, чтобы прикончили… Как в Валенсии жгли ступни несчастным морискам, требуя выдать спрятанное золото, а до них доносились крики их малолетних дочерей, которых насиловали солдаты…
Капитан замолчал, будто спохватившись, что таких примеров можно приводить до бесконечности, и продолжать ни к чему. Казалось, рука самой смерти коснулась лица Гараффы — он вдруг перестал потеть, словно под кожей, желтой от ужаса, не осталось ни капли жидкости.
— Поверь мне, рано или поздно все развязывают язык, — договорил Алатристе. — Ну, или почти все. Кое-кто умирает под пытками — если палач попадется неумелый… Но это — не твой случай.
Он еще мгновение подержал генуэзца под прицелом своих глаз, потом выпрямился, повернулся к нему спиной, подошел к столу, не спеша расстегнул пуговицу на обшлаге колета и закатал левый рукав. Встретился взглядом с Ольямедильей, который наблюдал за ним внимательно, но не вполне понимал, что происходит. Взял со стола шандал со свечой и вновь приблизился к Гараффе. Чтобы тому лучше было видно, немного поднял подсвечник, и огонек свечи вспыхнул зеленовато-серым отблеском в его устремленных на генуэзца глазах — неподвижных, как два заиндевевших стеклышка.
— Смотри, — бросил он.
И, придвинув к самому носу Джеронимо Гараффы густо поросшую волосами руку, от кисти до локтя прочерченную узким шрамом, Алатристе поднес пламя к своему обнаженному предплечью. Свеча затрещала, запахло горелым мясом, капитан сжал кулак, стиснул челюсти, и под кожей, словно вырезанная на камне виноградная лоза, проступили напрягшиеся мышцы и сухожилия. Зеленоватые глаза не изменили своего выражения, тогда как глаза генуэзца от ужаса выкатились из орбит. Это продолжалось одно мгновение, показавшееся бесконечным. Затем, как ни в чем не бывало, Алатристе поставил подсвечник на стол, снова повернулся к Гараффе и показал ему свою руку. На побагровевшей коже зиял обуглившийся по краям ожог размером с восьмиреаловую монету.
— Джеронимо… — позвал капитан. Он снова вплотную придвинулся к нему и тихо, доверительно произнес: — Если я сделал это с собой, представь, каково будет тебе.
Желтоватая лужица расплылась по полу между ножками стула. Генуэзец застонал, затрясся всем телом — и это продолжалось довольно долго. Когда же он вновь обрел дар речи, то заговорил горячо и сбивчиво, а счетовод Ольямедилья, часто обмакивая перо в чернильницу, прилежно записывал хлынувшие потоком слова. Алатристе отправился на кухню, чтобы смазать ожог салом или маслом. Перевязав руку чистой тряпицей, он вернулся в кабинет, Ольямедилья же обратил к нему взгляд, который у человека с иным душевным устройством означал бы огромное и нескрываемое уважение. Что же касается Джеронимо Гараффы, то он, утеряв представление обо всем на свете, кроме обуявшего его ужаса, продолжал говорить без умолку, сыпя именами, названиями мест и португальских банков, цифрами, датами и прочим.
В это самое время я шел под сводами длинной арки, ведущей вглубь старинного квартала Альхама. И в точности как Джеронимо Гараффа, только по иным причинам, чувствовал, как оледенела кровь в жилах. Остановившись там, где было мне указано, оперся о стену, ибо ноги подкашивались. Однако, повинуясь развившемуся за последние годы инстинкту самосохранения, я, несмотря ни на что, внимательно оглядел место действия — два выхода и внушающие тревогу дверцы в стенах. Тронув рукоять кинжала, как всегда висевшего на поясе за спиной, бездумно ощупал карман, где лежала записка, которая и привела меня сюда. Записка эта была точь-в-точь как из комедии Лопе или Тирсо:
Если чувство, которое Вы питаете ко мне, еще живо, сейчас самое время доказать это. Я буду рада видеть Вас в одиннадцать утра, под аркой, ведущей в старый еврейский квартал.
Записку принесли в девять, на постоялый двор, где я сидел на пороге, дожидаясь возвращения капитана и глазея на прохожих. Она была без подписи, однако имя отправительницы запечатлелось на бумаге так же ясно, как в памяти и сердце у меня. Вы, господа, сами можете представить себе, какая буря противоречивых чувств бушевала в моей душе с минуты получения послания, какая сладостная тревога направляла мои шаги. Дабы не наскучить читателю и не вогнать самого себя в краску, умолчу о своем смятении, столь присущем влюбленным, а упомяну лишь, что было мне шестнадцать лет, и ни одну даму или девицу не любил я в ту пору — да и потом тоже, — как Анхелику де Алькесар.
Да, черт возьми, это было нечто особенное. Я знал, что эта записочка — всего лишь очередной ход в опасной игре, которую вела со мной Анхелика с того дня, как мы впервые увидели друг друга в Мадриде, возле таверны «У Турка». Игра эта, где на кону стояла и жизнь моя, и честь, еще много раз и на протяжении многих лет будет заставлять меня скользить над пропастью по лезвию самой сладостной бритвы, какую только может сотворить женщина для мужчины, который всю ее жизнь, до последнего дыхания, пресекшегося так рано, будет ей и возлюбленным, и врагом. Но до этого было тогда еще далеко, а пока прохладным зимним утром я шел по Севилье с отвагой и бодростью, неотъемлемыми от молодости, припоминая, как эта девочка — теперь уже, наверно, не девочка — три года назад у мадридского источника Асеро, когда я сказал, что готов умереть за нее, ответила с улыбкой нежной и загадочной: «Может, когда-нибудь и сбудется твое желание».
У арки де ла Альхама никого не было. Оставив за спиной колокольню кафедрального собора, врезанную в небо над купами апельсиновых деревьев, я прошел дальше, свернул и оказался у противоположного выхода, где журчал фонтан и свисал с зубчатых стен Алькасара вьюнок. Никого. Быть может, кто-то подшутил надо мной, думал я, вглядываясь в темноту. Но тут за спиной послышался какой-то звук, и я обернулся, одновременно взявшись за кинжал. Одна из дверей открылась, и появившийся оттуда дюжий и рыжий немец-гвардеец молча воззрился на меня. Потом поманил к себе, и я сторожко, опасаясь подвоха, приблизился. Немец не выказывал враждебных намерений, а всего лишь рассматривал меня с профессиональным любопытством, после чего показал знаком, чтобы я отдал кинжал. Между густейших рыжих бакенбард, соединенных с усами, мелькнула добродушная улыбка. Потом он произнес нечто вроде «комензихерейн», и я, вдосталь навидавшийся во Фландрии немцев как живых, так и мертвых, понял, что это значит «Иди сюда», «Заходи» или что-то в этом роде. Выбора у меня не было, так что я отстегнул кинжал и переступил порог.
— Ну, здравствуй… солдат.
Те, кто знает портрет Анхелики де Алькесар, написанный Диего Веласкесом, легко представят себе, как выглядела она года за два-три до этого. Племяннице личного секретаря его величества, фрейлине королевы в ту пору исполнилось уже пятнадцать лет, и ее красота была уже не обещанием, а непреложной данностью. Анхелика выросла и расцвела: шнурованный лиф с отделкой из серебра и кораллов, широкая длинная юбка на металлическом каркасе — гвардимканте, красиво струившаяся вокруг бедер, подчеркивали пленительно-женственные очертания ее фигуры, потерявшей со времени нашей последней встречи отроческую угловатость. Золото завитков — золото, какого и на рудниках Арауко не видывали, — подчеркивая синеву глаз, не противоречило белизне матовой кожи, которая казалась гладкой, как шелк. Впоследствии, когда мне довелось прикоснуться к ней, оказалось, что не казалась.
— Давно не виделись.
Ее красота слепила мне глаза Комната, убранная на мавританский манер, выходила в сад королевского дворца. От того, что Анхелика сидела спиной к свету, солнечные лучи венчали ее голову сияющим нимбом. По изящно вырезанным губам скользнула всегдашняя улыбка — загадочная, будто намекающая на что-то, приправленная пряной крупицей недоброй насмешки.
— Давно, — еле выговорил я.
Немец удалился в сад, где по временам мелькал чепец прогуливавшейся там дуэньи. Анхелика села в резное деревянное кресло, указав мне на низкий табурет, стоявший напротив. Плохо соображая, что делаю, я опустился на него. Сложив руки на коленях, она внимательно смотрела на меня; носок атласной туфельки выглядывал из-под обруча, вшитого в подол юбки, и я вдруг почувствовал, до чего же неуклюже и топорно выгляжу я в своем толстого сукна колете без рукавов, надетом поверх заплатанной рубашки, в грубошерстных штанах, в кожаных солдатских гетрах. Клянусь кровью Христовой, произнес я про себя с досадой, и похолодел от ревности при мысли о том, сколько расфранченных красавчиков с голубой кровью и тутой мошной увивается вокруг Анхелики на придворных балах и празднествах.
— Надеюсь, ты не держишь на меня зла, — мягко произнесла она.
Не потребовалось больших усилий, чтобы мгновенно воскресить в памяти застенки инквизиции, аутодафе на Пласа-Майор и роль, которую сыграла племянница Луиса де Алькесара во всех моих унижениях и злосчастьях. И обретя от этих воспоминаний ту меру холодности, что была мне так необходима в тот миг, я спросил:
— Что вам нужно от меня?
Она помедлила с ответом на секунду больше, чем было нужно, все с той же улыбкой на устах продолжая пристально рассматривать меня. И, судя по всему, увиденное ей понравилось.
— Ничего не нужно. Забавно было встретиться с тобой вновь.. Я заметила тебя на площади. — Помолчала мгновение, перевела взгляд на мои руки, а потом вновь взглянула в лицо: — Ты вырос.
— И вы.
Прикусив нижнюю губу, она не кивнула, а медленно наклонила голову. Локоны при этом движении чуть прилегли к бледным щекам, и это привело меня в полный восторг
— Ты воевал во Фландрии. — Это был не вопрос и не утверждение — казалось, она просто размышляет вслух, и тем неожиданнее прозвучало: — Мне кажется, что я тебя люблю.
Я вздрогнул, привскочив со своего табурета. Анхелика уже не улыбалась, подняв на меня свои синие — как море, как небо, как сама жизнь — глаза. Боже, как умопомрачительно хороша она была, подумал я и пробормотал:
— Боже…
Я дрожал — вот уж действительно, — как палый лист под ветром. Она еще какое-то время оставалась неподвижна и безмолвна. Потом слегка пожала плечами:
— Еще хочу тебе сказать: ты водишься с людьми, которые могут навлечь на тебя беду. Этот твой капитан Батисте, Тристе или как его там… Твои друзья — враги моих друзей… Знай: ты рискуешь головой.
— Не в первый раз, — ответил я.
— Смотри, как бы не в последний. — Она снова улыбнулась, как раньше — задумчиво и загадочно: — Сегодня герцоги де Медина-Сидония дают вечер в честь августейшей четы… На обратном пути моя карета ненадолго остановится в Аламеде. Там такие чудесные сады, фонтаны… Нет места лучше для прогулок.
Я нахмурился. Слишком это было хорошо. Слишком просто.
— Поздновато, мне кажется
— Мы в Севилье. Ночи здесь теплые.
От меня не укрылась чуть заметная насмешка, сквозившая в последних словах. Я взглянул в патио, где прохаживалась дуэнья. Анхелика поняла смысл моего взгляда:
— Она не похожа на того дракона, что стерег меня у источника Асеро… Если я захочу, она отвернется и будет глуха и слепа. И вот я подумала, Иньиго Бальбоа, что, быть может, вам угодно будет оказаться сегодня после десяти в Аламеде.
Я пребывал в ошеломлении, пытаясь осмыслить услышанное.
— Ловушка, — наконец выговорил я. — Засада, как в прошлый раз.
— Не исключено. — Она выдержала мой взгляд. — От твоей отваги зависит, попадешься ты в нее или нет.
— Капитан… — начал я и осекся. Анхелика смотрела на меня, с дьявольской проницательностью, как по книге, читая мои мысли.
— Капитан — твой друг. Ты, конечно, поделишься с ним своей маленькой тайной… А друг не отпустит тебя одного туда, где может ждать засада. — Она помолчала, давая мне время освоиться с этой мыслью, а потом сказала: — Я слышала, он тоже не робкого десятка.
— От кого же вы это слышали?
Анхелика не ответила — лишь улыбка ее обозначилась яснее. А я получил ответ на свой вопрос, едва успев договорить Очевидность предстала передо мной с такой пугающей отчетливостью, что я вздрогнул — мне в лицо с безупречным расчетом был брошен вызов. Показалось на миг, будто в комнату вплыл призрачно-черный силуэт Гвальтерио Малатесты. Все стало ясно — ясно и ужасно: в давней и незавершенной распре появился новый персонаж. Это был я. Ибо уже достиг того возраста, когда принято отвечать за последствия своих поступков, ибо знал слишком много, и для наших врагов сделался не менее опасен, чем сам капитан Алатристе. Меня использовали как приманку, с дьявольским лукавством предупредив о явной опасности: я не мог не пойти туда, куда звала меня Анхелика, но и пойти тоже не мог. Слова «Ты воевал во Фландрии», произнесенные минуту назад, заключали в себе жестокую насмешку. Впрочем, в конечном счете адресатом этого послания был капитан Алатристе. Расчет был на то, что я не умолчу о назначенном свидании, а он либо запретит мне нынче вечером появиться в Аламеде, либо пойдет со мной. Нас обоих вызывали на поединок, и уклониться было бы немыслимо. Мысль моя билась, подобно рыбе в сетях, хотя дело обстояло куда как просто: выбирай между позором и смертельной опасностью. Припомнившиеся вдруг прощальные слова итальянца насчет того, что честь сложно приобрести, трудно сохранить и опасно носить, теперь обрели зловещую многозначительность.
— Мне хотелось бы знать, — нарушила молчание Анхелика, — все ли ты еще согласен умереть за меня?
Я глядел на нее в смятении и не в силах был выговорить ни слова. В самом деле, она читала в моей душе, как в открытой книге.
— Если не придешь, — продолжала она, — я пойму, что ты — трус, хоть, может быть, и геройствовал во Фландрии… А если придешь, то, что бы ни случилось, запомни: я люблю тебя.
Зашуршал тяжелый шелк — Анхелика встала. Теперь она была рядом. Совсем близко.
— И, быть может, буду любить всегда. Бросила взгляд туда, где прогуливалась дуэнья. И подошла еще ближе.
— Запомни это до конца дней своих… Когда бы ни наступил он.
— Это ложь, — ответил я, чувствуя, как вся кровь будто отхлынула у меня от сердца.
Анхелика с каким-то непривычным вниманием очень долго — мне эти мгновения показались нескончаемыми — разглядывала меня. Потом сделала то, чего я никак не ожидал: подняла маленькую ручку безупречной формы и белизны и нежно, словно целуя, прикоснулась пальцами к моим губам.
— Ступай, — сказала она.
Повернулась и пошла в сад. Я же, окончательно сбитый с толку, сделал несколько шагов вдогонку, как будто собираясь последовать за ней во дворец и дальше — в покои самой королевы. Мой порыв был пресечен немцем-гвардейцем в густых бакенбардах — ухмыляясь, он вернул мне кинжал и указал правый путь к выходу.
Я присел на ступеньку неподалеку от кафедрального собора и провел довольно много времени в тягостных раздумьях. Разноречивые чувства бушевали в моей душе, и пробужденная этим нежданным свиданием страсть к Анхелике боролась с убежденностью, что нам снова искусно приготовили западню. Сначала я думал промолчать, а вечером улизнуть из дому под каким-нибудь благовидным предлогом и отправиться на свидание сам-друг, если не считать, конечно, неразлучного кинжала и боевого трофея в виде альгвазиловой шпаги — хороший клинок Толедского закала с клеймами оружейника Хуанеса, — которая хранилась, завернутая в тряпье, на постоялом дворе. Потом сообразил, что это было бы верной гибелью, и воображению моему явилась мрачная фигура Гвальтерио Малатесты. Выстоять против него не было ни малейшей возможности даже в том весьма маловероятном случае, если итальянец явится к месту встречи в одиночку.
Впору было разреветься от ярости и бессилия. Я — баск и дворянин, сын солдата Лопе Бальбоа, павшего во Фландрии за короля и истинную веру. Угроза нависла над моей честью и над головой человека, которого я уважал больше всех в мире. Да и собственная моя жизнь тоже была в опасности, однако в ту пору я, с двенадцати лет попавший в жестокий мир, столько раз ставил эту самую жизнь на карту, что проникся неким фатализмом: можно сказать, дышал им, памятуя при каждом вздохе, что вздох этот может оказаться последним. И столько людей у меня на глазах отправились в мир иной — рыдая или бранясь, молясь или храня гордое молчание, преисполненные отчаянья или смиренно приемля свой удел, — что смерть перестала казаться мне чем-то чрезвычайным да и страшить больше не страшила. Вдобавок я нисколько не сомневался, что это не просто так говорится — «мир иной», а он и вправду существует, и там Господь Бог, любимый мой отец и старые товарищи примут меня, что называется, с распростертыми объятьями. Ну, так или иначе, есть там что-нибудь за гробом или ничего нет, усвоил я, что смерть — такое происшествие, которое в конце концов подтверждает правоту людей, подобных капитану Алатристе.
Этим размышлениям предавался я на ступенях паперти, когда вдруг заметил вдали капитана Алатристе: вместе со счетоводом Ольямедильей он направлялся к зданию Торговой палаты. Уняв первоначальный порыв устремиться к нему, я ограничился тем, что издали рассматривал поджарую фигуру моего хозяина, который шел молча, надвинув шляпу на глаза, придерживая бившую по ногам шпагу.
Вот они исчезли за углом, а я еще долго сидел в неподвижности, обхватив колени. В конце концов, заключил я, вопрос весьма несложен. Нынче вечером мне предстоит решить — одному ли погибнуть или вместе с капитаном Алатристе.
Предложение завернуть в таверну исходило от Ольямедильи, а Диего Алатристе согласился не без удивления — впервые счетовод выказал словоохотливость и общительность. Войдя в таверну Шестипалого, они расположились за столиком неподалеку от двери. Капитан снял шляпу и положил ее на табурет. Прислуживающая в таверне девица принесла им бутылку «Касальи-де-ла-Сьерры» и блюдо черных оливок. Ольямедилья даже выпил с капитаном. Ну, выпил — это громко сказано: он лишь пригубил, но перед тем, как поднести стакан ко рту, долгим взглядом окинул сотрапезника, и хмурое чело его несколько прояснилось.
— Ловко было сделано, — промолвил он.
Алатристе рассматривал острые сухие черты его украшенного маленькой бородкой лица — казалось, будто желтизну свою оно получило от свечей, горевших в канцеляриях. Не отвечая, одним духом опорожнил стакан. Счетовод по-прежнему смотрел на капитана с любопытством.
— Меня не обманули на ваш счет.
— Если вы имеете в виду генуэзца, то это было нетрудно, — хмуро отвечал капитан.
И замолчал надолго. «Случалось вляпываться и в дела погрязнее», будто говорило это молчание. Ольямедилья, судя по всему, истолковал его правильно, потому что медленно склонил голову, как бы показывая, что принимает сказанное к сведению и по тонкости душевного своего устройства в расспросы вдаваться не намерен. Что же касается Джеронимо Гараффы и его слуги, то в эту минуту их обоих — связанных, с заткнутыми кляпом ртами — закрытая карета увозила из Севильи в сопровождении нескольких зловещего вида альгвазилов, которых Ольямедилья, вероятно, оповестил заранее, ибо появились они в доме генуэзца как по волшебству и, уняв любопытство соседей волшебным же заклинанием «Святейшая инквизиция! », унеслись вместе с арестованными в сторону Кармонских ворот. Куда лежал их дальнейший путь, капитан не знал и ни малейшего желания знать не испытывал.
Ольямедилья, расстегнув камзол, извлек из внутреннего кармана вдвое сложенную бумагу, скрепленную сургучной печатью, подержал ее несколько мгновений на весу, будто отгоняя последние колебания, и положил на стол перед капитаном.
— Платежное поручение, — возвестил он. — Предъявителю сего в банке Жозефа Аренсаны, что на площади Сан-Сальвадор, безо всяких вопросов будет выплачено пятьдесят дублонов золотом. Старых дублонов.
Алатристе покосился на бумагу, не беря ее в руки. Так называемые «старые» дублоны весьма ценились в ту пору. Отчеканенные из золота высшей пробы лет сто назад, при блаженной памяти государях Изабелле и Фердинанде, отчего и назывались еще «двуспальными», они котировались выше всех прочих монет одного с ними достоинства, и Алатристе знал людей, которые за одну такую монетку согласились бы зарезать родную мать.
— По окончании всего дела, — прибавил Ольямедилья, — получите вшестеро больше.
— Приятно слышать.
Счетовод задумчиво рассматривал свой стакан, на поверхности которого, делая бесплодные попытки выбраться, плавала мошка, а потом, не переставая внимательно следить за погибающей, сказал:
— Флот прибывает через трое суток.
— Сколько людей потребуется?
— Вам лучше знать. Если верить генуэзцу, экипаж «Никлаасбергена» — человек двадцать с чем-то плюс шкипер и штурман. Кроме него, все — голландцы и фламандцы. Не исключено, что в Санлукаре возьмут на борт еще нескольких испанцев с грузом. А в нашем распоряжении — одна ночь.
— Значит, человек двенадцать-пятнадцать, — быстро прикинул в уме капитан. — Тех, кого я смогу подрядить за это золото, справятся…
Ольямедилья уклончиво повел плечом, давая понять: то, с чем должны будут справиться люди Алатристе, его не касается.
— Ваша команда должна быть готова накануне. Поплывете вниз по реке до Санлукара, с тем чтобы оказаться там под вечер… — Счетовод утопил подбородок в воротнике, словно соображая, не забыл ли чего. — Я отправлюсь с вами.
— Далеко ли?
— Видно будет.
Алатристе взглянул на него с нескрываемым удивлением:
— Едва ли там пойдет речь о бумаге и чернилах…
— Это не важно. Мне поручено оприходовать груз после того, как судно будет в наших руках, и доставить его по назначению.
Алатристе незаметно усмехнулся. Трудно было представить себе этого письмоводителя среди ухорезов и сорвиголов, которых он собирался подрядить на захват парусника, однако не возникало сомнений, что Ольямедилья ему не доверяет. При таком количестве золота искушение прибрать к рукам брусочек-другой слишком велико.
— Считаю нужным напомнить, — сказал счетовод, — что в случае неудачи вас ждет петля.
— А вас?
— А может, и меня.
— Вам вроде бы платят жалованье не за то, чтобы вы ходили на абордаж?
— Жалованье мне платят за то, чтобы я исполнял свои обязанности.
Мошка перестала барахтаться, но Ольямедилья не сводил с нее глаз. Наливая себе еще вина и поднося стакан ко рту, капитан заметил, что собеседник перевел взгляд на него и с интересом рассматривает два шрама у него на лбу и левую руку, стянутую полотняной тряпицей, под которой скрывался свежий ожог. И болел он, можно не сомневаться, чертовски. Потом счетовод насупился: казалось, ему не дает покоя некая мысль, но он не решается высказать ее вслух.
— Я вот все думаю… — произнес он наконец. — А что бы вы стали делать, если бы ваш поступок не произвел на генуэзца впечатления?
Алатристе посмотрел на улицу; сощурился на солнце, отражавшееся от беленой стены, отчего лицо его стало еще более непроницаемым. Перевел глаза на мошку, потонувшую в вине Ольямедильи, поднял свой стакан и ничего не ответил.
V. Вызов
Перед Аламедой в лунном сиянии вырисовывались так называемые «Геркулесовы столпы» высотой в две алебарды. А за ними — насколько глаз хватал — тянулись заросли вяза, и в сплетении ветвей тьма была еще гуще. В этот час здесь, между изгородями, водоемами и ручьями, уже не катились кареты с элегантными дамами, и не гарцевали, горяча коней, севильские кавалеры. Слышалось лишь журчание воды, и порой где-то вдалеке тревожно завывал на луну пес. Я остановился перед одной из этих могучих каменных колонн и прислушался, сдерживая дыхание. Во рту было так сухо, словно его хорошенько протерли песком, а кровь с такой силой стучала в висках и на запястьях, что казалось — вся она, до капельки, отхлынула от сердца. Вглядываясь во тьму, я выпростал из-под епанчи рукоять шпаги, вместе с кинжалом оттягивавшей книзу ременный пояс и тяжестью своей отчасти снимавшей тяжесть с души.
Потом оправил нагрудник из буйволовой кожи, который я с тысячью предосторожностей позаимствовал у капитана Алатристе, покуда он вместе с доном Франсиско де Кеведо и Себастьяном Копонсом ужинал, попивая вино и вспоминая Фландрию. Я же, сославшись на нездоровье, покинул сотрапезников, дабы привести в исполнение все задуманное в течение дня, а именно — тщательно вымылся, надел чистую рубаху, ибо не исключал возможности того, что по завершении дня какой-нибудь обрывок ее окажется в моем теле. Капитанов колет был мне велик, так что благообразия ради пришлось поддеть под него старую грубошерстную куртку, верно служившую мне в бытность мою мочилеро. Наряд мой завершали истертые замшевые штаны, пережившие осаду и взятие Бреды — они недурно защищали бедра от ударов клинка — шнурованные башмаки с гетрами и суконный берет на голове. Разглядывая свое отражение в одном из медных котелков, я пришел к выводу, что изготовился скорее к бою и походу, нежели к любовному свиданию. Однако живой уродец лучше мертвого красавчика.
Наружу я выбрался как можно более незаметно, скрыв шпагу и нагрудник под епанчей. Заметил меня один лишь дон Франсиско, который издали послал мне улыбку, продолжая оживленный разговор с Алатристе и Себастьяном, сидевшими, по счастью, спиной к двери. Оказавшись на улице, я оправил всю свою амуницию и направился к площади Св. Франциска, а оттуда, выбирая самые малолюдные улочки, выбрался к пустынной Аламеде.
Впрочем, не так уж она оказалась пустынна. Под вязами раздалось ржание мула. Я взглянул в ту сторону и, когда глаза мои привыкли к темноте, различил очертания кареты, стоявшей возле каменной чаши фонтана. Осторожно двинулся к ней, ведомый слабеньким свечением фонаря с замазанными краской стеклами, и, шагая с каждым следующим мгновением все медленней, добрался наконец до подножки.
— Добрый вечер, солдат.
Едва лишь прозвучал этот голос, как мой собственный мне изменил, а рука, сжимавшая эфес, задрожала. А может, это вовсе не ловушка? Быть может, Анхелика меня и вправду любит и приехала сюда во исполнение своего обещания? На козлах виднелся силуэт мужской фигуры, а вторая помещалась на запятках — двое безмолвных слуг охраняли фрейлину ее величества.
— Приятно было убедиться, что ты не трус.
Я снял берет. В немощном свете едва можно было различить обивку кареты и золото волос Анхелики. Забыв про все опасения, я поставил ногу на откинутую подножку. Нежный аромат окутал меня, как ласкающее прикосновение, — это был аромат ее кожи, и я подумал, что за счастье вдохнуть его можно и жизнью рискнуть.
— Ты пришел один?
— Да.
Последовало молчание. А когда Анхелика вновь заговорила, в голосе ее мне почудилось удивление:
— Ты либо очень глуп… — произнесла она. — Либо настоящий кабальеро.
Молча — слишком переполняло меня счастье, чтобы осквернять его словами, — я смотрел на нее и видел, как поблескивают в полутьме ее глаза. Потом дотронулся до атласа ее платья.
— Вы ведь сказали, что любите меня…
И вновь наступила тишина, нарушаемая лишь ржанием мулов. Я слышал, как кучер, успокаивая их, слегка пошевеливает вожжами. Лакей на запятках оставался безмолвной тенью.
— Правда? — Она будто припоминала слова, прозвучавшие утром в Алькасаре. — Ну, значит, так и есть.
— А я люблю вас, — объявил я.
— И потому пришел сюда?
— Да.
Она придвинулась ко мне. Богом клянусь, я чувствовал на лице прикосновение ее локонов.
— В таком случае ты достоин награды.
С бесконечной нежностью она провела ладонью по моей щеке, а потом на мгновение прильнула мягкими свежими губами к моим губам. И тотчас отшатнулась в глубину кареты.
— Это только первый платеж, — прошептала она. — Сумеешь остаться жив — взыщешь остальное.
Повинуясь ее краткому приказу, кучер щелкнул бичом. Карета тронулась и покатила. А я остался стоять, как громом пораженный, в одной руке держа берет, а пальцы другой недоверчиво прижимая к губам, на которых еще горел поцелуй Анхелики де Алькесар. Сорвавшаяся со своей оси вселенная закружилась передо мной, и прошло еще немало времени, прежде чем ко мне вернулась способность рассуждать здраво.
Тогда я оглянулся и увидел несколько темных силуэтов.
Они вышли из-под деревьев, из плотной тьмы. Семь темных фигур в плащах и шляпах приближались так неторопливо, словно времени у них в запасе было сколько угодно. Я почувствовал, как под буйволовой кожей покрываюсь гусиной.
— Черт возьми, мальчишка-то один, — произнес кто-то из них.
И без пресловутой рулады тирури-та-та я мгновенно понял, кому принадлежит этот голос — не позванивающий, а сипловато поскрипывающий металлом. Черта помянул тот, кто стоял ко мне ближе остальных: эта тень казалась самой длинной и самой черной. Остальные окружили меня и как будто пребывали в нерешительности, не зная, что им со мной делать.
— Такую сеть — да на одного малька… — вновь раздался тот же голос.
И от прозвучавшего в нем пренебрежения кровь моя вскипела, а мужество ко мне вернулось. Обуревавший меня страх пропал бесследно. Эти рыбаки, может, и не знали, что им делать с попавшимся к ним в сети мальком, он зато весь день провел в приготовлениях к тому, что наконец произошло. Любой, даже самый неблагоприятный поворот событий, был по сто раз взвешен, обдуман и учтен мною. Я был готов. Разумеется, хотелось бы успеть исповедаться и причаститься по всей форме, но вот как раз для этого времени не оставалось. А раз так, я отстегнул пряжку епанчи, глубоко вздохнул, перекрестился и обнажил шпагу. Жаль, жаль, с грустью думал я, что капитан Алатристе не видит меня в эту минуту. Ему было бы отрадно знать, что сын его друга Лопе Бальбоа принял смерть как подобает
— Вот что… — сказал Малатеста.
И не договорил, потому что я сделал выпад. Острие моего клинка, пройдя буквально на волосок от итальянца, угодило ему в плащ. Я успел нанести еще один рубящий удар, прежде чем отпрянувший итальянец потащил шпагу из ножен. Но вот раздался зловещий посвист, и сверкнуло лезвие, а Малатеста сделал второй шаг назад, чтобы избавиться от плаща и стать в позицию. Чувствуя, что упускаю последнюю возможность, я встал потверже и предпринял новую атаку: со всем неистовством, однако не теряя головы, обманул противника ложным выпадом в голову, переложился и вернулся к тому, с чего начал, рубанув сплеча, да так удачно, что если бы не шляпа, душа Гвальтерио Малатесты тотчас унеслась бы в ад.
Итальянец отшатнулся, споткнувшись и звучно выбранившись сквозь зубы на родном языке. Тогда, смекнув, что исчерпал все те преимущества, которые дарует внезапность, я развернулся на месте, описав кончиком шпаги полную окружность, и оказался лицом к лицу с прочими действующими лицами — оправившись от первоначального замешательства, они теперь уже сбрасывали с плеч плащи и подступали поближе весьма бесцеремонно. Было ясно как божий день — которого, кстати, больше мне увидеть не доведется, — что песенка моя спета. Но уроженца Оньяте так просто не прикончишь, лихорадочно думал я, выхватывая левой рукой кинжал. Итак, семеро на одного.
— Я сам, — одернул своих приспешников итальянец.
Выставив клинок, он неуклонно надвигался на меня, и я знал, что доживаю последние мгновения. И вместо того, чтобы, приняв оборонительную позицию, встретить его атаку — как поступил бы человек, по-настоящему поднаторелый в обращении с холодным оружием, — я сделал вид, будто отступаю, а потом, сложившись пополам, вдруг прыгнул к нему на манер ополоумевшего зайца, тщась пропороть Малатесте живот. Шпага моя рассекла только воздух, итальянец непостижимым образом оказался у меня за спиной, а из прорехи, проделанной его клинком на плече моего колета, лезло рядно поддетой под него куртки.
— Это по-мужски, мальчуган, — одобрил меня Малатеста.
В голосе его слышались разом и восхищение, и ярость, но я уже безвозвратно миновал точку, в которой слова хоть что-нибудь да значат, и теперь мне было уже плевать и на ярость, и на восхищение, и на пренебрежение. А потому промолчал и развернулся к нему для последней схватки, как, бывало, капитан Алатристе: ноги чуть согнуты в коленях, шпага в правой руке, кинжал — в левой, дыхание глубокое и ровное. Вспомнились и его слова: «Когда знаешь, что сделал все, чтобы избежать смерти, можешь помирать спокойно».
Однако грохнул пистолетный выстрел, и вспышка его вдруг осветила темные силуэты, взявшие меня в кольцо. Не успел еще осесть наземь один из них, как грянуло и сверкнуло вторично, и я увидел капитана Алатристе, Копонса и дона Франсиско де Кеведо, которые, будто из-под земли выросши, приближались со шпагами в руках к месту происшествия.
Господь свидетель, все было именно так, как было. Ночная тьма наполнилась криками, звоном и лязгом. Двое уже валялись на земле, а вокруг меня восемь человек, взмахивая плащами, оступаясь и спотыкаясь во тьме, так что узнать своих я мог только по изредка вырывавшемуся возгласу, сцепились в смертельной схватке. Покрепче перехватив шпагу, я двинулся напрямик к тому, кто оказался поближе, и весьма решительно, сам удивляясь, до чего же легко это вышло, всадил добрый кусок отточенной стали ему в спину. Всадил, извлек, раненый, вскрикнув, обернулся — тут я и понял, что это не Малатеста — и наотмашь сверху вниз рубанул меня шпагой. Кинжалом я парировал удар, но он был так хорош, что рассек защитные кольца на рукояти и больно задел мне пальцы. Спрятав поврежденную руку за спину и выставив шпагу, я повел атаку, почувствовал, как по моему колету скользнул вражеский клинок, локтем прижал его к боку — и сделал выпад. На этот раз острие моей шпаги вошло так глубоко, что, не устояв на ногах, я повалился на поверженного противника. Занес кинжал, чтобы добить его, но он уже не шевелился, а из горла его рвался хрип, как бывает, когда человек захлебывается собст венной кровью. Придавив коленями его грудь, я высвободил шпагу и вновь бросился в схватку.
Теперь силы были примерно равны. Копонс — я узнал его по росту — теснил своего противника, который отмахивался шпагой, изрыгая страшнейшую брань, вдруг сменившуюся болезненным стоном. Дон Франсиско, с удивительным проворством ковыляя на своих кривых ногах, дрался сразу с двумя наседавшими на него. А чуть поодаль, у каменной чаши фонтана, отыскавший итальянца Алатристе скрестил клинки с ним. Их фигуры и шпаги четко выделялись на залитой лунным сиянием воде. Бой покуда шел с переменным успехом: финты следовали за ложными выпадами, сменяясь разящими ударами. Малатеста, как я заметил, отставил до лучших времен прибаутки и не высвистывал свою руладу: ночь выдалась такая, что тратить силы на подобные роскошества не приходилось.
… Рука у меня с непривычки ныла и немела. Удары сыпались градом, я отступал и отбивался как мог, а мог, как видно, недурно, если все еще был жив. Однако я боялся, что мой противник загонит меня в один из прудиков — я знал, что они где-то близко у меня за спиной, — хотя, спору нет, лучше вымокнуть в воде, чем в крови. Покуда я решал для себя этот трудный выбор, Себастьян Копонс, уложивший своего противника, обернулся к моему и заставил его драться на Два фронта, уделяя, впрочем, больше внимания арагонцу, действовавшему как машина, нежели мне. Я решил воспользоваться этим и, проскользнув за спину врага, подколоть его. Однако в намерении своем не преуспел: со стороны госпиталя Господней Любви, из-за каменных колонн, замелькали фонари, раздались голоса, выкрикивающие: «Именем короля!»
— Стража… — между двумя выпадами процедил Кеведо.
Первым бросился бежать тот, кого атаковали мы с Себастьяном; за ним в мгновение ока скрылся противник дона Франсиско. Трое остались лежать на земле, четвертый, жалобно стеная, уползал в чашу деревьев. Подойдя к фонтану, мы обнаружили, что капитан, еще со шпагой в руке, стоит неподвижно и смотрит вслед скрывшемуся во тьме итальянцу.
— Нам тоже засиживаться резона нет, — молвил дон Франсиско.
Свет и голоса меж тем приближались; альгвазилы продолжали выкликать свое «Ни с места, именем короля!», однако не слишком торопились, опасаясь нелюбезного приема.
— Как Иньиго? — спросил капитан, все еще глядя туда, где исчез Малатеста.
— Жив-здоров.
Только тогда Алатристе обернулся ко мне. По крайней мере, мне показалось, что в слабом лунном свечении блеснули его устремленные на меня глаза.
— Никогда больше так не делай, — сказал он.
И я пообещал, что больше так делать не буду. Потом мы подобрали валявшиеся на земле шляпы и плащи и бегом покинули Аламеду.
Много воды утекло с тех пор. Всякий раз, попадая в Севилью, я направляю свои стопы в эту самую Аламеду, которая за прошедшие годы совсем почти не изменилась, и стою там, предаваясь воспоминаниям. На жизненной карте каждого человека отмечены места, сыгравшие в судьбе его особую роль, — таким местом стала для меня Аламеда, вместе с подвалами Толедо, равниной у стен Бреды или полем Рокруа. Но и среди них Аламеда-де-Эркулес стоит особняком. Фландрия сильно способствовала моей возмужалости: я и сам не знал этого, покуда в тот вечер в Севилье не оказался со шпагой в руке и лицом к лицу с итальянцем и его присными. Анхелика де Алькесар и Гвальтерио Малатеста, сами того не предполагая, великодушно помогли мне постичь эту истину. Узнал я тогда, что куда легче драться, когда чувствуешь рядом плечо товарища или взгляд любимой женщины: тут прибудет тебе и сил, и отваги. Трудно стоять во тьме одному, имея в союзниках лишь совесть да честь. Трудно, когда нет надежды и не ждешь награды.
Длинной оказалась эта дорога. Никого из помянутых в моей истории уже давно нет на свете — ни капитана, ни Кеведо, ни Гвальтерио Малатесты, ни Анхелики де Алькесар — и лишь на этих страницах могу я воскресить их, воссоздать въяве и вживе. В памяти моей запечатлены их тени — ненавистные или бесконечно милые, — неотъемлемые от кровавого, чарующего и грубого времени, в котором навсегда пребудет для меня Испания моей юности, Испания Диего Алатристе. Теперь голова моя седа, а в отчетливых воспоминаниях перемешаны поровну горечь с отрадой, и я разделяю с ними особенную усталость. И с годами усвоил я еще и то, что за ясность мысли платить приходится безнадежностью и что жизнь испанца всегда была неспешной дорогой в никуда. Проходя этой дорогой, многое тратил я, но кое-что — приобрел. А теперь, свершая свое земное странствие, которое для меня длится бесконечно — порою мне кажется, что Иньиго Бальбоа не умрет никогда, — я обладаю смиренной покорностью воспоминаний и молчания и понимаю наконец, почему все герои, вызывавшие в ту далекую пору мое восхищение, были героями усталыми.
Сон не шел ко мне в ту ночь. Лежа на своем топчане, я слышал мерное дыхание капитана, видел, как луна скрывается за рамой открытого окна. Лоб мой пылал, как от лихорадки, от обильной испарины влажными стали простыни. Из веселого дома по соседству доносились женский смех, гитарный перебор.
Отчаявшись приманить к себе сон, я поднялся, босиком прошлепал к окну, облокотился о подоконник. В лунном свете крыши обрели фантасмагорический вид, а свисавшее с веревок белье казалось саваном. Разумеется, я думал об Анхелике.
И, задумавшись, не услышал, как Алатристе тоже подошел к окну и стал рядом. Он тоже был в одной рубахе и босиком. Молча и неподвижно всматривался капитан в ночь, а я краем глаза поглядывал на орлиный нос, на светлые глаза, устремленные в призрачное лунное свечение, на пышные усы, придававшие солдатскому его обличью особую значительность.
— Она верна своим, — произнес он наконец.
Слово она в его устах вселило в меня трепет. Потом я молча кивнул, понимая, что лет мне все же не очень много, и оттого капитан мог бы обсуждать со мной любую тему. Но только не эту.
— Это естественно, — прибавил он. Непонятно, относились ли эти слова к Анхелике или к моим собственным чувствам. И внезапно я ощутил, как горькая досада сдавила мне грудь, так что вдруг нечем стало дышать.
— Я люблю ее, — пробормотал я сквозь это странное удушье.
И тотчас устыдился собственных слов. Однако Алатристе и в голову не пришло отпустить какую-нибудь шпильку или бесплодное замечание. Он стоял неподвижно, продолжая вглядываться в темноту.
— Всякому случается влюбиться, — услышал я. — А иному — и не раз.
— Не раз?
Мой вопрос застал его врасплох. Капитан помолчал, словно прикидывая, нужно ли сказать что-нибудь еще, а если нужно, то что именно. Прочистил горло кашлем. Я чувствовал, как он беспокойно переступает с ноги на ногу, явно испытывая неловкость.
— А потом это проходит, — молвил он. — Вот и все.
— Я всегда буду любить ее.
Алатристе еще мгновение помолчал и лишь потом ответил:
— Ну, ясно.
Опять замолк и потом повторил совсем тихо:
— Ясно.
Я скорее догадался, чем почувствовал, что капитан поднимает руку, чтобы положить ее мне на плечо — так же, как он это сделал во Фландрии в тот день, когда Себастьян Копонс зарезал голландца, раненного в бою за Руйтерскую мельницу. Но теперь рука так и не опустилась.
— Твой отец…
И эта фраза тоже повисла в воздухе. Быть может, подумалось мне, он хочет сказать, что мой отец, Лопе Бальбоа, гордился бы, увидев, как его шестнадцатилетний сын в одиночку противостоит семерым. Или порадовался бы, узнав, что он влюбился.
— Там, в Аламеде, ты вел себя как надо.
Я покраснел от гордости. В устах капитана Алатристе эти слова значили для меня больше, чем награда из рук короля.
— Я знал, что будет засада.
Ни за что на свете не хотелось бы мне, чтобы капитан подумал — я угодил в ловушку, как желторотый необстрелянный мочилеро. Алатристе успокаивающе качнул головой:
— Знаю, что ты знал. И что охотились не за тобой.
— Все, относящееся до Анхелики де Алькесар, — произнес я как мог твердо, — мое и только мое дело.
Теперь он замолчал надолго. Я с упрямым видом смотрел в окно, а капитан, не произнося ни слова, рассматривал меня.
— Ясно, — в третий раз повторил он.
Все, что случилось за сегодняшний день, вихрем пронеслось в моей голове. Я прикоснулся к губам в том месте, где до них дотронулись ее губы. «…Сумеешь остаться жив — взыщешь остальное», сказала она. Потом побледнел, вспомнив, как вышли ко мне из-под деревьев семь темных фигур. Заныло плечо от удара шпаги, убийственную силу которого смягчили капитанов колет и моя куртка из рядна.
— Настанет день, — пробормотал я, как бы размышляя вслух, — и я убью Гвальтерио Малатесту.
Я услышал смех Алатристе. Нет-нет, в нем не было ни насмешки, ни пренебрежения к моей юношеской заносчивости. Это был сдержанный, тихий смех — ласковый и мягкий.
— Очень может быть, — сказал капитан. — Но сначала сделать это попытаюсь я.
На следующий день мы подняли над собой умопостигаемое знамя и начали вербовку, обойдясь без барабанного боя и вообще стараясь действовать как можно более незаметно. А Севилья, надо вам сказать, не знала недостатка в людях того сорта и рода, которые требовались нам для нашей затеи. И мнение о том, что общий наш праотец был вор, праматерь — лгуньей, неприкаянный же сынок их сделался первым на земле убийцей — а многое ли изменилось с той поры? — блистательно подтверждалось в сем богатом и, я бы сказал, стрёмном городе, чьи обитатели любую из десяти заповедей не то что нарушали, а просто-таки рушили, не преступали, а брали приступом. В тавернах его, борделях и притонах, в пресловутом Апельсиновом Дворе при кафедральном соборе, в королевской тюрьме, которая с полнейшим правом гордилась самым полным в обеих Испаниях собранием всякого отребья, изобильно водились люди, готовые за сходные деньги свернуть шею, пустить кровь кому скажут — джентльмены удачи, рыцари плаща и кинжала, дворяне из подворотни, согласно поговорке, жившие «об апреле не заботясь да и мая не боясь» и нимало не опасаясь клыков правосудия, ибо нет намордника лучше звонкой монеты. Славный, одним словом, был городок, обиталище и прибежище самой первостатейной мрази, городок, где стояло множество церквей, готовых приютить любого душегуба, городок, где убивали в кредит за любую безделку, за женщину или неосторожное слово.
Сложность, однако, заключалась в том, что в этой самой Севилье — неотъемлемой части нашей Испании, страны кичливой и бессовестной — среди истинных мастеров своего дела — мокрого, разумеется, — немало было и всякой разнообразной швали, доблестной исключительно на словах, многоглаголивых пустобрехов, за стаканом вина красно повествующих о походах, в которых не бывали, доходах, которых не получали, о том, как лихо прикололи того, распотрошили этого, скольких отправили на тот свет, хотя на этом мнимых своих жертв и в глаза не видывали, заламывающих набекрень такие шляпы, что еще чуточку — и вышел бы зонтик, щеголяющих в замшевых колетах, стоящих враскоряку и шагающих вразвалку, носящих бороды крючком, а усы пиками — но при всем при этом, когда наступал, так сказать, час истины, не способных вдвадцатером справиться с одним толковым стражником и сматывавших удочки при малейшей опасности самим попасться на крючок. Чтобы отличить сукно от рогожи, не вытянуть пустышку, не принять пикового валета за туза, нужен был наметанный глаз Диего Алатристе. И вот начали мы с ним обходить одно за другим питейные заведения в кварталах Ла-Эрии и Трианы в поисках давних капитановых знакомцев, настоящих храбрецов, а не фанфаронов из комедии Лопе, людей скупых на слова и тяжелых на руку, умеющих зарезать так, что любо-дорого. А будучи взяты за некое место, притянуты, не дай бог, к разделке, и при посредстве палача спрошены, сколько, мол, вас было, кто послал да кто велел — выставить ответчиками спину или шею и ни единого словечка не вымолвить, кроме «нет» да «не знаю». И ничего ты из них и от них не вырвешь, не вытянешь, не добьешься, хоть на куски режь, хоть в рыцари Калатравы возведи.
Алонсо Фьерро, мастер мокрых дел, Как волк — зубами, шпагою владел И, как тарантул — смертоносным жалом, Разил врага отточенным кинжалом. О нем не умолкает гром молвы — Он брал лишь по дублону с головы.А для тех, кому надо было переждать неприятности в безопасном месте, Севилья предоставляла самое знаменитое в мире убежище, называвшееся Апельсиновый Двор и находившееся на задах кафедрального собора. Об этом достославном приюте тоже были сложены стихи:
Увернувшись от облавы, я До Севильи добреду, Не возьмут меня легавые В Апельсиновом саду.А собор был некогда старинной арабской мечетью, — впрочем, и колокольня Хиральды в оны дни была мавританским минаретом. Во внутренний же двор, вместительный и прохладный, благодаря фонтану и апельсиновым деревьям, от которых он и получил свое название, можно было попасть через двери, облицованные мраморными плитами. За цепи, ограждавшие ступенчатую паперть, которая днем служила местом прогулок и встреч наподобие мадридского собора Сан-Фелипе, светские власти доступа не имели, отчего и был облюбован Апельсиновый Двор всеми, кто не поладил с законом, — и разнообразный сброд чувствовал там себя очень вольготно, принимал приятелей и подружек и ни— мало не горевал по поводу того, что сунуться в город смел не иначе как целой ватагой, напасть на которую альгвазилы бы не решились. Распространяться о месте сем более подробно я почитаю излишним, ибо над описанием его потрудились лучшие перья нашей словесности — от великого дона Мигеля де Сервантеса до нашего друга, дона Франсиско де Кеведо. Не найдется ни плутовского романа, ни новеллы о похождениях солдата, ни шуточного городского романса — хакары, — где не упоминались бы Севилья и Апельсиновый Двор. Просто попытайтесь, господа, вообразить себе этот причудливый мир, бурливший совсем рядышком с торговыми кварталами Алькаисериас и Лонхой, — мир, в котором всякого отребья было больше, чем клопов в ночлежке. Как уже было сказано, я сопровождал капитана, осуществлявшего рекрутский набор, и мы явились в Апельсиновый Двор при свете дня, чтобы не купить кота в мешке. На ступенях у главного входа бился пульс этой Севильи — пестрой и порой кровожадной. В это время суток на паперти, как всегда, роились праздношатающиеся зеваки, мелочные торговцы, прохожие и проходимцы, женщины под мантильями, закрывавшими лица, юркие карманные воры, побирушки, попрошайки, а равно и люди, добывающие себе хлеб насущный шпагой. В толпе слепец торговал напечатанными на листках песенками и романсами, гнусаво повествуя о смерти Эскамильи, который был «честь и слава всей Севильи». И полдюжины молодчиков стояли под аркой и одобрительно кивали, внимая подробностям кончины легендарного убийцы, первейшего здешнего душегуба. Когда мы проходили мимо, от меня не укрылись любопытствующие взоры, коими проводили они моего хозяина. Внутри, под сенью апельсиновых деревьев, в прохладе, даруемой фонтаном, толпилось еще человек тридцать того же вида и рода. Вооружены они были до зубов, все как один щеголяли в колетах из сафьяна, иначе еще называемого кордовской кожей, в ботфортах с отогнутыми отворотами, широкополых шляпах, все носили усы и ходили вразвалку. Если бы не эти примечательные особенности, глазам моим открылся бы форменный цыганский табор — горели кос-терки, на которых подогревались котелки, на земле разложены были одеяла, валялся разнообразный скарб, люди спали на расстеленных рогожных циновках, за одним столом резались в карты, за другим — в кости, и ходил вкруговую объемистый кувшин вина, коим игроки тешили душу, впрочем, проданную дьяволу не позднее того часа, когда обладателя ее отняли от груди. Кое-кто вел доверительного свойства беседы с подругами — были эти молодки скроены по одной колодке: все, как на подбор, не первой молодости, но оголены до пределов возможного, пышнотелы и так разряжены, что ясно становилось, какое применение нашли себе реалы, тяжкими трудами заработанные на севильских улицах.
Алатристе остановился у фонтана и обвел взглядом патио. Я, одурелый от увиденного, держался чуть позади. Бойкого вида гулящая девица, закинув свое покрывало на плечо, будто плащ перед поединком, приветствовала моего хозяина весьма непринужденно и даже бесстыдно, назвав красавчиком, и при звуках ее голоса двое молодцов, до этого бросавшие кости за столом, оставили игру медленно поднялись, поглядывая на нас не то чтобы косо, но — искоса. Одеты были оба на принятый в их кругу манер — пелерины с распахнутым воротом, цветные чулки, а на широченных перевязях брякала и звенела прорва всякого оружия. Тот, что казался помоложе, вместо кинжала носил пистолет и круглый пробковый щит на боку.
— Чем можем вам услужить, сударь? — спросил первый.
Капитан — большие пальцы засунуты за ремень, шляпа надвинута на глаза — окинул обоих бестрепетным взором и ответил:
— Вы — ничем. Приятеля ищу.
— А может, мы его знаем? — сказал второй.
— Не исключено, — отозвался капитан, озираясь по сторонам.
Двое переглянулись, и к ним, заинтересовавшись, тотчас присоединился третий, до сей поры топтавшийся поблизости. Я взглянул на Алатристе — он был холоден и очень спокоен. В конце концов, подумалось мне, он знаком с этим миром не понаслышке. Ему видней, как себя вести.
— А может, вам угодно… — начал было первый. Но Алатристе, не обращая на него внимания, двинулся дальше, а я — за ним, не выпуская из поля зрения троих молодцов, которые вполголоса совещались, не оскорбиться ли им на такое поведение незнакомца и не пырнуть ли его сзади шпагой разика три-четыре. Поскольку ничего за этим не последовало, к единому мнению они, вероятно, не пришли. Капитан меж тем разглядывал трех мужчин и двух женщин, сидевших в полумраке у стены — они вели оживленную беседу, прикладываясь время от времени к бурдюку вместимостью самое малое в две арробы. Тут я заметил на губах у него улыбку.
Алатристе направился к ним. По мере нашего приближения разговор стихал и наконец прекратился вовсе, а беседовавшие воззрились на нас опасливо. Один из них, смуглый и черноволосый, помимо огромных бакенбардов носил на лице пару отметин, полученных явно не при рождении, и обладал здоровенными ручищами с грязными обломанными ногтями. Был он весь в коже, с короткой широкой шпагой на перевязи, а штаны грубого полотна украшены невиданными мною доселе желто-зелеными . бантами. Оборвав свои речи на полуслове, но не меняя позы, он уставился на моего хозяина.
— Если это не капитан Алатристе, — вдруг воскликнул он, просияв, — пусть меня вздернут на рее!
— Меня удивляет, дон Хуан Каюк, что этого не произошло до сих пор.
Каюк расхохотался, выругался и вскочил, отряхивая штаны.
— Откуда вы взялись? — спросил он, протягивая руку, которую капитан тотчас пожал.
— Откуда и все мы.
— Тоже скрываетесь?
— Нет, в гости зашел.
— Кровью Христовой клянусь, я очень рад вас видеть!
Хуан весело отнял бурдюк у своих сотоварищей, и вино пошло по уготованному ему пути, и даже я получил причитающееся. После обмена воспоминаниями про старых знакомых и некую сообща осуществленную затею — тут я и узнал, что удалец этот служил в Неаполе в солдатах и был там не из последних, а хозяин мой сколько-то лет назад нашел в этом самом дворе убежище — капитан отвел его в сторонку. И без околичностей сообщил, что есть дело. Дело ему по плечу и за недурные деньги.
— Здесь?
— В Санлукаре.
Хуан развел руками, не скрывая огорчения:
— Да я бы с радостью, если бы можно было высунуть нос — и сразу назад… А надолго отлучаться мне никак нельзя, потому что на прошлой неделе я приколол одного купца, а он, как на грех, оказался шурином здешнему канонику. Я — в розыске.
— Это можно будет уладить.
Хуан поглядел на капитана очень внимательно:
— Едва ли… Разве что вы спроворите мне архиепископскую буллу.
— Найдется кое-что получше, — Алатристе похлопал себя по карману. — Как насчет бумаги, по которой люди, набранные по собственному моему вкусу и выбору, будут неприкосновенны для правосудия?
— Да что вы говорите?
— Что слышишь.
— Недурно, недурно… И заманчиво. — Внимание сменилось уважением. — Как я понимаю, затея ваша — из разряда тех, где придется помахать шпагой.
— Правильно понимаешь.
— Вы да я?
— Ты да я да еще кой-кто.
Хуан поскреб косматые бакенбарды. Бросил взгляд на своих дружков и понизил голос:
— И что же — хорошо заплатят?
— Более чем.
— То есть?
— По три «двуспальных» на рыло.
Хуан восхищенно присвистнул сквозь зубы:
— Богом клянусь, мне это подходит! В нашем ремесле, капитан, расценки упали ниже некуда… Не далее как вчера некий хмырь за то, чтобы я прикончил поклонника его благоверной, предлагал мне всего лишь двадцать дукатов… Ну, статочное ли это дело, а?
— Срам.
Хуан вразвалку прошелся взад-вперед и с молодецким видом подбоченился.
— Вот и я ему говорю: за эти деньги можете, сударь, рассчитывать, что на рожу вашего обидчика наложат десять, ну, от силы — двенадцать швов… Так и не сторговались. Мало того: слово за слово, повздорили, сцепились, а кончилось тем, что пришлось в самом клиенте дырочку провертеть, причем бесплатно.
Алатристе снова оглянулся по сторонам:
— Мне нужны надежные ребята… Не бахвалы, не горлопаны, а основательные, умелые люди. Такие, что знают свое ремесло в совершенстве, а если припечет — не проболтаются.
Хуан понимающе покивал:
— И много ль вам требуется?
— Не меньше дюжины.
— Однако… Действуете с размахом.
— Что ж на пустяки-то размениваться…
— Я понял… А это очень опасно?
— Умеренно.
Хуан, соображая, сморщил лоб:
— Здесь какого ни возьми — сплошная труха.. Большинство годится на то лишь, чтобы фехтовать с безруким да стегать ремнем свою бабенку, когда она вечером приносит на полгроша меньше положенного, но вот этот… — он незаметно показал на одного из тех, кто сидел у стены, — подойдет. Имя ему Сангонера, тоже бывший солдат. Отчаянный малый, тяжел на руку, легок на ногу… Еще есть у меня на примете один мулат, он прячется сейчас в Сан-Сальвадоре. Зовут Кампусано, человек умелый и не болтливый… Полгода тому назад хотели повесить на него одно убийство, к которому он, между нами говоря, имел самое непосредственное отношение… Так вот, он выдержал четыре пытки и ни в чем не сознался, ибо затвердил накрепко: распустишь язык — высунешь его до пояса.
— Благоразумно, — заметил Алатристе.
— Тем паче, — философски досказал Хуан, — что в слове «нет» букв всего на одну больше, чем в слове «да».
— Это верно.
Капитан в раздумье поглядывал на Сангонеру, по-прежнему сидевшего у стены.
— Что ж, если ты за него ручаешься, возьму твоего парня — разумеется, после того, как сам с ним потолкую… И на мулата взгляну. Но двоих мне мало.
Каюк завел глаза, припоминая:
— Есть и еще в Севилье испытанные и верные люди. Вот хоть Хинесильо-Красавчик или Гусман Рамирес, у них хорошая закваска… Хинесильо вы наверняка помните — лет десять-пятнадцать назад, как Раз когда вы здесь скрывались, он убил стражника, который прилюдно назвал его поносными словами.
— Помню, — подтвердил капитан.
— А если помните, то, выходит, не забыли, что он глазом не моргнет и не попятится, даже когда жареным запахнет.
— Странно, что его самого еще не поджарили.
— Он нем как рыба, только рыба эта — акула, а потому немного найдется желающих связываться с ним… Где обитает постоянно, не знаю, но вот что сегодня вечером он будет на бдении по Никасио — это точно.
— Это еще кто такой?
Хуан кратко ввел Алатристе в курс дела. Никасио Гансуа, как выяснилось, был одним из самых знаменитых севильских удальцов, грозой стражников, манной небесной для таверн, борделей и игорных домов. Случилось так, что на узкой улочке карета графа де Ньеблы обдала его грязью из-под колес. Никасио не стерпел обиды и не посмотрел на то, что вельможу сопровождали слуги и несколько друзей — таких же, как он, юных аристократов, — и когда от резких слов перешли к делу, двоих уложил на месте, а самого Ньеблу ранил в бедро, так что выжил тот просто чудом. Немедленно налетела орава стражников и альгвазилов, началось следствие, и, хотя сам Никасио не сказал ни слова, повесили на него еще несколько преступлений, в том числе — два убийства и нашумевшее ограбление ювелирной лавки на улице Платерия. В итоге завтра будет он удавлен гарротой на площади Святого Франциска.
— Так жалко, так жалко, — сокрушался Хуан, — для нашего дела он просто находка. Но ничего не попишешь — утром его казнят. Сейчас он в тюремной часовне, и туда, как положено, придут те, кто захочет выпить с ним напоследок и скрасить ему ожидание смерти. Красавчик и Рамирес — его закадычные друзья, так что там наверняка встретите обоих.
— Сейчас же отправляюсь в тюрьму, — сказал Алатристе.
— В таком случае кланяйтесь от меня Никасио. Я бы и сам сходил: попрощаться с приговоренным к казни — дело святое, но где уж мне соваться туда при моих-то обстоятельствах… — Он замолчал и очень внимательно оглядел меня. — А что это за паренек с вами?
— Мой друг.
— Маловат еще вроде бы… — Хуан продолжал с интересом разглядывать меня, причем от его пытливого взора не укрылся и мой кинжал. — Неужто он тоже мешается в наши дела?
— Иногда.
— Славная вещица у него за поясом.
— Славная. И, поверь, он ее не для красоты носит.
— Молодой, видать, да ранний.
Беседа, уже не представлявшая собой ничего особо интересного, потекла далее: капитан подтвердил свое обещание все уладить — с тем, чтобы Каюк смог наутро безбоязненно покинуть свое убежище. Тут мы с ним и распрощались, употребив остаток дня на продолжение нашей вербовки, приведшей нас сперва в Триану, а потом — в Сан-Сальвадор, где капитан имел разговор с мулатом Кампусано — огромным темнокожим верзилой, у которого и шпага-то была длиной с алебарду, — придя к благоприятным для него выводам. Таким вот образом к вечеру под знаменем моего хозяина числилось уже шестеро новобранцев: помимо Хуана Каюка, Сангонеры, Кампусано и очень волосатого мурсийца, горячо рекомендованного прочими его сотоварищами, примкнули к нам и еще двое солдат, прежде служившие на галерах одного звали Энрикес-Левша, другой, по имени Андресито, гордо носил кличку «Пятьдесят горячих», коей был обязан тому, что как-то раз получил именно это количество плетей; порку перенес он стоически, а сержанта, прописавшего ему сие снадобье, спустя небольшое время нашли на улице с перерезанным горлом. Возникли кое-какие подозрения, но одно дело — подозревать, а другое — знать наверное.
Не хватало еще трех-четырех, и, дабы завершить комплектование этой единственной в своем роде команды, Диего Алатристе решил вечером отправиться на проводы бравого Никасио, ожидавшего казни в королевской тюрьме. Но об этом, если позволите, будет рассказано особо и во всех подробностях, ибо Севильская королевская тюрьма заслуживает отдельной главы.
VI. Королевская тюрьма
Итак, ночь мы провели на бдении по еще живому Никасио Гансуа. Но перед этим я уделил толику времени некоему личному дел)', при воспоминании о котором у меня перехватывало дыхание. Откровенно говоря, ничего мне выяснить не удалось, но надо же было хотя бы дать выход досаде на Анхелику, сыгравшую в истории с ловушкой такую недостойную роль. И вот я снова принялся бродить вокруг королевского дворца, обойдя в очередной раз арку, открывавшую проход в еврейский квартал, и постоял, как на часах, у ворот Алькасара. Теперь караул несли не желтые гвардейцы, а вооруженные короткими пиками бургундские стрелки в нарядных клетчатых мундирах, и я вздохнул с облегчением, убедившись, что мордатого сержанта поблизости не видать. Площадь перед дворцом была заполнена людьми, поскольку их величества намеревались присутствовать на торжественной мессе в кафедральном соборе, а сразу вслед за тем — принять депутацию города Хереса, желавшего приобрести представительство в королевских Кортесах, дабы не зависеть от Севильи. В тогдашней заавстрияченной нашей Испании, обращенной в толкучий рынок, подобное было в большом ходу, а предложенные отцами города деньги поднялись до изрядной суммы в 85 000 дукатов, которые должны были осесть в королевских сундуках. Сделка, однако, не состоялась, ибо Севилья подмазала кого надо в Совете, и тот вынес решение — прошение может быть рассмотрено, только если пресловутые дукаты являются не доброхотными даяниями всех горожан, а личными средствами двадцати четырех муниципальных советников, желавших заседать в Кортесах. А поскольку по сусекам наскребли мучицы из другого, как говорится, мешка, то жители Хереса ходатайство свое забрали. Случай этот дает представление о том, какую роль играли кастильские и все прочие Кортесы в ту пору, как покорно вели они себя, и как принимали их в расчет, лишь когда надо было проголосовать за новые подати или налоги для пополнения государственной казны, на ведение очередной войны или просто — на нужды державы, которую граф-герцог Оливарес мечтал видеть единой и могущественной. Не в пример Франции или Англии, где государи лишили власти феодальную знать и действовали в интересах купцов и торговцев — ни рыжая лиса Елизавета Первая, ни лягушатник Ришелье тут полумерами не ограничивались и с владетельными сеньорами не миндальничали — у нас в Испанииаристократия делилась на два лагеря. К первому принадлежали разорившиеся кастильские дворяне, которым ни на кого, кроме короля, рассчитывать не приходилось, и потому пресмыкавшиеся перед ним самым гнусным образом, а ко второму — знать провинциальная, защищенная старинными правами и жалованными привилегиями: она-то и поднимала крик до небес, когда ее просили взять на себя бремя расходов или снарядить войско. Не забудьте, что и Церковь тоже оказывалась тут как тут. Так что политическая деятельность сводилась к шараханью из стороны в сторону, а все передряги, которые впоследствии суждено нам было пережить при Четвертом Филиппе, — и заговор герцога Медины-Сидонии в Андалусии, и герцога де Ихара — в Арагоне, и отложение Португалии, и война в Каталонии, — объяснялись с одной стороны безбожным казнокрадством, с другой же — тем, что аристократия, клир и крупное купечество нипочем не желали расставаться со своими деньгами. И самый приезд нашего государя в Севилью, случившийся в шестьсот двадцать четвертом и длящийся по сию пору, имел целью сломить сопротивление местной оппозиции и заставить ее проголосовать за новые пошлины. В невезучей нашей Испании все были одержимы корыстью, и оттого особое значение обретал «флот Индий». Если же кто спросит, как соотносились с этим справедливость и порядочность, достаточно будет ответить, что года за два, за три до этого Кортесы отклонили налог на роскошь, затрагивавший прежде всего недвижимость, ренты, аренды и прочее, иными словами — богатых. Так что, как ни печально, горькой правдой звучали слова венецианца Контарини[85], написавшего в свое время: «Наилучший способ воевать с испанцами — не препятствовать тому, чтобы собственное скверное правление изнурило и истребило их».
Вернемся к моим трудам и досугам. Как уже было сказано, я проторчал у дворца довольно долго, и вот наконец рвение мое было вознаграждено, хоть и не вполне: ворота отворились, бургундские стрелки образовали проход, и их величества в сопровождении севильской аристократии и местных властей пешком одолели малое расстояние, отделявшее Алькасар от собора. Пробиться в первые ряды зевак я не сумел, однако поверх голов ликующей толпы все же наблюдал за этим торжественным шествием. Юная и прекрасная королева Изабелла отвечала на приветствия, грациозно склоняя голову и время от времени посылая своим подданным улыбку, исполненную того чисто французского шарма, который не вполне вписывался в рамки строгого этикета, принятого при мадридском дворе. Одета она была на испанский манер в платье синего, затканного серебром, атласа, держала в руках золотые четки и требник в перламутровом переплете, а голову ее и плечи покрывала белая мантилья, отделанная жемчугом. Королеву с изяществом, присущим молодости, вел за руку наш государь, дон Филипп Четвертый, и бледное лицо его, обрамленное рыжеватыми волосами, было, как всегда, неподвижно и непроницаемо. Серый бархатный колет, расшитый серебром, короткая фламандская пелерина, сверкающий золотом и бриллиантами орден Золотого Руна на шее, позолоченная шпага у пояса, шляпа с белыми перьями в руке. Приветливая и милая улыбка Изабеллы являла собой разительный контраст величавой важности ее августейшего супруга, который неукоснительно соблюдал протокол, некогда установленный при дворе бургундских герцогов и вывезенный императором Карлом из Фландрии, то есть, хоть и переступал ногами — иначе-то как ты пойдешь? — но не шевелил ни руками, ни горделиво вскинутой головой и всем видом своим показывал, что никому, кроме Бога, не подотчетен. Ни раньше, ни потом никто не видел, чтобы Филипп на людях или наедине с приближенными хоть раз утратил свою поразительную невозмутимость. Да я и сам, человек, которому по воле судьбы впоследствии, в трудные для Испании и ее монарха времена, довелось служить при его особе, оберегая оную — при том, что в описываемый мною день и помыслить о таком не смел — удостоверяю, что он при любых обстоятельствах неизменно сохранял хладнокровие, ставшее легендарным. Тем не менее ничего неприятного в короле не было — он питал слабость к поэзии и драматическому искусству, знал толк во всякого рода литературных забавах и был весьма привержен к рыцарским утехам. Был отважен, хоть никогда не вступал на поле брани, созерцая его издали да и то лишь много лет спустя, когда началась война в Каталонии, однако на охоте, любимой им страстно, подвергал свою жизнь не вполне оправданному риску и, как сказано в одном романе, при мне хаживал на кабана один на один. Превосходно ездил верхом, а однажды — я уже рассказывал об этом — снискал себе восхищение публики, метким выстрелом из аркебузы уложив быка на мадридской Пласа-Майор. В числе главных недостатков его назову слабоволие, побудившее его полностью вверить дела государства в руки графа-герцога Оливареса, а также неуемную тягу к прекрасному полу, которая однажды — об этом будет вам поведано ниже — едва не стоила ему жизни. Не унаследовал наш государь ни величия и силы своего прадеда, императора Карла, ни цепкого ума, коим в избытке обладал дед, Филипп Второй, и все же, хотя он и предавался развлечениям больше чем следовало, оставаясь глух к ропоту голодающего народа, к нуждам страдающих от скверного правления провинций и королевств, к распаду бескрайней испанской империи, к военным поражениям на суше и на море, — его благодушный нрав никогда не возбуждал к себе ненависти подданных, которые до конца дней любили короля, возлагая всю вину за свои злосчастья на неудачно выбранных фаворитов, министров и советников, на чересчур обширные пространства страны, притягивающие чересчур много врагов, или на собственное скотское состояние и испорченные нравы: самого Господа нашего Иисуса Христа, воскресни он и явись в Испании, не смогли бы они не затронуть.
Видел я в процессии и Оливареса, производящего внушительное впечатление и самим обликом своим, и сознанием всеобъемлющей власти, которой был он облечен и которая сквозила в малейшем движении его и самом беглом взгляде; видел и юного сына герцога де Медина-Сидонии, изящного графа де Ньеблу — вместе с цветом севильской аристократии он сопровождал августейшую чету. Было ему в ту пору лет двадцать с небольшим, и далеко еще отстоял тот день, когда, уже унаследовав родовой титул и сделавшись девятым герцогом, преследуемый завистью и недоброжелательством Оливареса, истомленный бесконечными притязаниями короны на свои процветающие владения — чего стоил один только Санлукар, куда причаливал «флот Индий»! — он поддался искушению заключить с Португалией тайный пакт, по которому Андалусия должна была отложиться от прочей Испании, и вступил в заговор, ставший причиной его бесчестья, разорения и прочих несчастий. За графом длинной вереницей следовали придворные кавалеры и дамы, а среди них — и фрейлины королевы. Едва глянув на них, я ощутил толчок в сердце, почувствовав присутствие очаровательной Анхелики де Алькесар. Она шла, грациозно придерживая колыхавшийся на широком гвардаинфанте подол желтого бархатного платья, затканного золотом, и ярче золота на предвечернем солнце горели под тончайшим кружевом мантильи локоны, всего несколько часов назад коснувшиеся моего лица. Потеряв голову, я стал было протискиваться сквозь толпу, пока не уперся в широкую спину бургундского стрелка. Анхелика прошла в нескольких шагах, не заметив меня. Я пытался встретить взгляд ее синих глаз, но они удалялись, так и не прочитав ни укоризны, ни презрения, ни любви, не безумия — словом, ничего того, что переполняло мою душу.
Во исполнение моего обещания перенесемся теперь в королевскую тюрьму, где проходило бдение по Никасио Гансуа. Удалец из квартала Ла-Эрия, краса и гордость севильского сброда, образцовая особь преступной фауны, он пользовался немалым уважением среди своих сотоварищей. Наутро его под барабанный бой в сопровождении священника с крестом должны были, попросту говоря, удавить, так что на сию тайную вечерю собрался весь цвет здешних головорезов, лучшие представители братства душегубов, сидевших с печальным видом, приличествующим случаю, и на зверских рожах их ясно было написано, что против рожна не попрешь, а плетью обуха не перешибешь. Смиренное приятие своего удела входит в профессию наемного убийцы, а потому они явились проводить товарища в последний путь, отлично зная, что избранный ими способ зарабатывать себе на жизнь рано или поздно их тоже приведет либо на гребную палубу галеры, где они, стиснув, как горло недруга, рукоять весла, подставят спину под бич комита, либо к двум столбам с перекладинкой, где суждено им будет загнуться от неизлечимой и очень заразной болезни, причиняемой хорошо намыленной пенькой.
Я мать сгубил, отца зарезал, Отправил брата на костер, И по кривой пустил дорожке Двух несмышленышей-сестер. За воровство, за душегубство, За сотню бед — один ответ: Петля тугая шею сдавит, В глазах померкнет белый свет.
Не менее дюжины пропитых глоток выводило этот жалостный напев, когда Алатристе, с помощью восьмиреаловой монеты снискав благоволение и душевную приязнь альгвазила, попросил проводить нас в тюремный лазарет, в часовне которого и пребывал приговоренный. Не моему слабому перу воссоздавать на бумаге прочие достопримечательности севильского узилища — три его знаменитые двери, решетки, коридоры и живописную обстановку, так что любопытных я отсылаю к творениям дона Мигеля де Сервантеса, Матео Алемана или Кристобаля де Чавеса. Ограничусь тем лишь, что скажу: в этот час двери уже затворены, и арестанты, по милости альгвазила или надзирателей до отбоя бродившие по тюрьме, как по собственному дому, сидели взаперти по своим камерам, за исключением нескольких заключенных, которые благодаря деньгам ли, высокому ли положению могли ночевать, где им вздумается. Посетительницы — блудные девки и законные жены — уже покинули пределы тюрьмы, закрылись до утра четыре таверны, исправно посещаемые заблудшей паствой места сего: вино было в обязанностях начальника, а уж вода — на совести содержателей, затворились ларьки, торговавшие всякой снедью и зеленью, опустели столы, где играли в карты и кости. Таким образом, вся эта ужавшаяся до размеров тюрьмы Испания собиралась отойти ко сну, и то-то радости было клопам и блохам, водившимся во всех камерах, не исключая тех, за которые состоятельные узники ежемесячно платили по шести реалов помощнику начальника, за четыреста дукатов получившего свою должность из загребущих рук самого начальника, первостатейного взяточника и пройдохи. И здесь, как и повсюду в нашей державе, все продавалось и покупалось, и сюда за деньги можно было пронести все что душе угодно. В полной мере подтверждалась правота старинной песенки, уверявшей, что если на дворе — ночь, а на ветке — смоквы, голодать не приходится.
А по дороге произошла у нас неожиданная встреча. Миновав забранный решетками коридор, оставив по левую руку женское отделение и камеры, где содержались приговоренные к галерам, мы увидели нескольких арестантов, занятых беседой. При свете факела, горевшего на стене и озарявшего часть коридора, один из бедолаг узнал нас.
— Лопни мои глаза, если это не капитан Алатристе! — воскликнул он.
Мы остановились перед решеткой. Знакомец капитана оказался чрезвычайно дюжим малым с черными, густыми сросшимися бровями, одетым в грязную рубаху и холщовые штаны.
— Черт возьми, Бартоло! — отозвался мой хозяин. — Каким ветром занесло тебя в Севилью?
Обрадованный встречей верзила обнаружил дыру на месте верхних резцов — заулыбался от уха до уха, что при размерах его пасти было нетрудно.
— Попутным, раз он свел меня с вами, капитан. Ждем вот отправки на галеры. Шесть лет веслом махать, рыбу пугать.
— В последний раз, помнится, ты нашел убежище в церкви Святого Хинеса…
— Раз на раз не приходится. — Бартоло Типун всем видом своим являл покорность судьбе. — Сами знаете, жизнь, она — полосатая.
— Что же шьют тебе теперь?
— Да уж пришили на совесть — не отдерешь — и своего, и чужого… Будто бы мы с ребятами… — при этих словах в глубине камеры заулыбалось несколько свирепых рож, — грабанули пару-тройку постоялых дворов на Кава-Баха да обчистили нескольких проезжающих в гостинице Бубильоса, что у Фуэнфрийских ворот…
— И что?
— И ничего. В кармане у меня, сколько я по нему ни хлопал, не зазвенело, и дознаватель меня не полюбил. Взяли за это место, прижали так, что не отвертишься… И вот я здесь.
— Давно ли?
— Завтра будет неделя. Славная вышла прогулка. -миль двести с гаком пешочком, на руках — браслеты, на ногах — кандалы, по бокам — стража… Промерз до костей. В Адамусе попытались было дать деру, благо дождь лил, как из ведра, да не вышло. Кукуем покуда здесь, а в понедельник погонят нас в Пуэрто-де-Санта-Мария.
— Сочувствую, Бартоло.
— И совершенно напрасно, капитан. Без таких передряг в нашем ремесле не обходится — дело житейское. Могло быть хуже. Кое-кому из наших заменили галеры на серебряные рудники в Альмадене, у черта на рогах… Оттуда мало кто возвращается.
— Чем я могу тебе помочь? Типун понизил голос:
— Не завалялось ли у вас лишних деньжат? Вот бы выручили… Тут без подогрева прямо хоть пропадай.
Алатристе извлек из кармана серебряную монету в четыре эскудо и вложил ее в широченную ладонь арестанта.
— А как поживает твоя Бласа Писорра?
— Уже никак. Преставилась, бедная… — Бартоло, косясь на своих сокамерников, прятал поглубже капитанову мзду, равную тридцати двум реалам. — Волосья вылезли начисто, вся нарывами пошла, смотреть страшно — ну, и свезли ее в лазарет.
— Она оставила тебе что-нибудь?
— Слава богу, ничего, кроме облегчения. Промышляла она сами знаете чем — вот и подцепила французскую болячку, а я не заразился просто чудом.
— Прими мои соболезнования.
— Благодарю.
Алатристе едва заметно улыбнулся:
— Не горюй, Бартоло. Может, повезет — наскочит ваша галера на турок, возьмут вас в плен, тогда примешь ислам и обзаведешься в Константинополе целым гаремом…
— Зря вы так. — Типун, судя по всему, обиделся всерьез. — Одно с другим путать не надо. Ни Господь наш, ни король не виноваты в том, что оказался я там, где оказался.
— Ты прав, Бартоло. Дай тебе Бог удачи.
— И вам, капитан Алатристе.
Мы двинулись дальше, а он, прислонясь к прутьям, смотрел нам вслед. Как я уже говорил, из лазарета доносились складный хор и перебор гитарных струн, а кто-то из сидевших в камере по соседству отбивал такт ножом по решетке, так что можете себе представить, что это была за райская музыка. В комнате, где к двум скамейкам и маленькому алтарю с образом Христа прибавились по случаю проводов стол и несколько табуретов, нашим взорам в свете сальных свечей предстало высокое собрание: здесь были все, кем мог бы похвастаться преступный мир Севильи. Одни сидели тут с вечера, другие пришли незадолго до нас, и все хранили на лицах, изборожденных рубцами и шрамами, сосредоточенно-скорбное выражение, все носили плащи, обвернутые вокруг поясницы, старые колеты с прорехами шире, чем у Клары Мендосы, или истрепанные куртки, надвинутые на лоб шляпы с загнутым кверху передним полем, закрученные усы и бороды на турецкий манер, у всех на руке или предплечье вытатуировано было имя возлюбленной, обведенное сердечком, на шее висели ладанки, медальоны и черные четки, у пояса или на перевязи — шпаги и кинжалы, а из-за голенища выглядывали желтые роговые рукояти ножей. Акулья эта стая часто прикладывалась к расставленным по столу кувшинам с вином, отдавая должное мясистым крупным маслинам, каперсам, фламандскому сыру, ломтям поджаренного сала. Обращались они друг к другу весьма церемонно — «сударь», «сеньор», «достопочтенный кум», «любезный друг» — произнося слова на особый манер, принятый в этой среде, так что не вдруг поймешь, о чем речь. Пили за упокой души Эскамильи, Эскаррамана и самого Никасио Гансуа, хотя в последнем случае она еще не покинула бренную телесную оболочку. Пили за здоровье каждого из присутствующих, не исключая, опять же, виновника торжества, хотя ему здоровье никак уже не могло понадобиться — подобного я не видал ни на наших баскских бдениях, ни на фламандских свадьбах.
Продолжались песни, возлияния и беседа, продолжали прибывать друзья на бдение по Никасио. А ему, надо вам сказать, недавно стукнуло сорок, но стукнуло не больно: был он в скулах едва ли не шире, чем в плечах, желт лицом, опасен нравом, и нафабренные кончики его усищ по пяди длиной торчали едва ли не у самых глаз. По торжественному случаю приоделся, будто к обедне, — темно-лилового сукна колет с разрезными рукавами, лишь кое-где украшенный заплатами, штаны зеленого полотна, выходные башмаки, широкий пояс с серебряной пряжкой. Глаз радовался при виде того, как он, сознавая собственную значительность, сидит в приятном обществе, в хорошей компании, среди собратьев — у всех шляпы заломлены, как у грандов — потчуя других и сам угощаясь вином, которого уже употребили немало, а собирались извести еще больше, ибо, не питая слишком большой доверенности к тому, что продавал начальник, благоразумно прихватили с собой из таверны на улице Кордонерос изрядный запас в кувшинах и узкогорлых бутылях. По виду Никасио не сказать было, чтобы его очень уж тяготило предстоящее ему наутро, а роль свою он исполнял очень достойно и мужественно.
— Смерть, господа, — это в порядке вещей, — время от времени повторял он невозмутимо.
Капитан Алатристе, понимая тонкости протокола, представился Гансуа и прочим, передал поклон от Хуана Каюка, которого сидение в норке на Апельсиновом Дворе лишило удовольствия проводить товарища в последний путь. Смертник отвечал ему столь же учтиво, пригласил за стол, и мой хозяин, приветствовав нескольких знакомых, оказавшихся тут же, приглашение принял. Хинесильо-Красавчик, белокурый и нарядный, с ласковым взглядом и опасной улыбкой, волосы свои, длинные и шелковистые, носивший на миланский манер, то есть до плеч, оказался очень дружелюбен и выказал живейшую радость по поводу того, что видит капитана в добром здравии и в Севилье. Всем на свете было известно, что этот самый Хинесильо… как бы это сказать?.. торных венериных дорог избегал, но под женоподобным обличьем скрывался отважный боец, опасный, как скорпион, удостоенный степени доктора фехтовальных наук. Собратьям Хинесильо — тем, кого можно было бы назвать ягодами одного с ним поля, сиречь приверженцам любви однополой — повезло в этом отношении меньше: власти хватали их под любым предлогом, и бесчеловечно жестокое обращение с ними всех, включая сокамерников, прекращалось только в огне аутодафе. Ибо в тогдашней нашей Испании, столь же лицемерной, сколь и развратной, можно было безнаказанно уестествить собственную сестру, растлить дочь или обрюхатить родную бабушку, однако за содомский грех полагался костер. Убийство, грабеж, казнокрадство, лихоимство и взяточничество — все тебе сойдет с рук, а вот за мужеложство взыщут по всей строгости закона. Точно так же, как за святотатство или ересь.
Ну да ладно. Я устроился на табурете, выпил вина и закусил маслинами, прислушиваясь к разговору, имевшему целью поднять дух Никасио. Лекарь отправляет на тот свет гораздо больше людей, нежели палач, заметил один из собутыльников. Все там будем, прибавил другой, а третий высказался в том смысле, что двум смертям не бывать, а одной не миновать, причем никому — ни Папе Римскому, ни императору австрийскому. Четвертый собутыльник в забористых выражениях помянул адвокатов, Богом проклятое племя, ибо «не сыщешь тварей гаже средь басурманов даже», да и среди лютеран. Судье понравимся, вздохнул пятый, тогда и с правосудием справимся. А сосед его принялся порицать чрезмерно суровый приговор, вынесенный Никасио и лишающий подлунный мир столь славного представителя мира преступного.
— Горько мне, — в свой черед молвил один из обитателей тюрьмы, также присутствовавший на ужине, — что свой приговор я узнаю не сегодня — его огласят со дня на день. И жалко мне, что к дьяволу я отправлюсь не сегодня, ибо лучшего спутника, чем вы, не сыскать.
Все нашли сию ламентацию проявлением истинного товарищества, пустились расхваливать узника, щедро наделенного этим чувством, всячески показывая Никасио, сколь высоко они его ставят и сколь лестно будет им скрасить своим присутствием последние его минуты, когда завтра все, кто ходит без конвоя, отправятся на площадь Святого Франциска. Сегодня ты, а завтра — я, приговаривали они, человека нет, а светлая память остается.
— Мудро поступаете, и в смертный час храня верность своим привычкам, — одобрил тризну один из присутствующих, со шрамом вдоль щеки и сальными космами, лежавшими на залащенном вороте пелерины.
— Дедушкиным прахом клянусь, это так! — ответил Никасио торжественно. — Привык за все платить сполна. Если же останется за мной должок, то в день воскресения из мертвых, когда снова ступлю на землю, возверну все сторицей!
Гости с важным видом закивали, признавая, что такие речи достойны истого идальго, выражая уверенность, что, когда наступит утро, Никасио Гансуа не сдрейфит, а примет смерть, как пристало мужчине и севильцу, подтвердив славу квартала Ла-Эрия, который трусов не рождает и уже многих своих сынов заставил отведать, не поморщившись, сего угощеньица. Тут один из присутствующих повел с явным португальским выговором речи, утешительный смысл коих сводился к тому, что казнь совершится по приговору королевского суда, именем короля, то есть наш удалец будет изъят из обращения не кем попало, а как бы его величеством собственной персоной. И для такого прославленного храбреца бесчестьем была бы иная кончина. Общество встретило это умозаключение в высшей степени одобрительно, а сам герой дня, польщенный таким толкованием, еще больше приосанился и закрутил ус. Человек, произнесший это суждение, носил длинный колет и был почти начисто лишен как мяса на костях, так и волос на голове — лишь на затылке и по бокам мощного, обтянутого смуглой кожей черепа в буйном изобилии вились седые кудри. Рассказывали, что пока злосчастное стечение обстоятельств не привело его на стезю грабежа и разбоя, он изучал богословие в Коимбре. Сведущ был не только в приемах защиты и нападения, но также и в юриспруденции и в изящной словесности, прозывался Сарамаго-Португалец, вид имел задумчивый и благородный. Еще передавали, будто христианские души он губит только по необходимости, а над каждым заработанным грошиком дрожит, как жид, копит да откладывает, чтобы собственным попечением издать бесконечную эпическую поэму, над которой трудится вот уж двадцать лет, повествуя о том, как Иберийский полуостров отделился от прочей Европы и, уподобясь каменному плоту, поплыл по воле волн неведомо куда. Что-то в этом роде.
— Вот только Марикиску жалко… — проговорил Никасио, прихлебывая вино.
Марикискою звали его… — не знаю, как ее определить — зазнобу, присуху, маруху, которую он оставлял на этом свете одну-одинешеньку. Днем она приходила прощаться со своим возлюбленным, билась и рыдала, как та Магдалина, выла и причитала, оплакивая вечную разлуку со светом очей своих, через каждые пять шагов брякалась в обморок, бессильно обмякая на руках у товарищей приговоренного, который в нежной беседе наедине завещал ей, как рассказывали, спасение души, то есть велел отслужить сколько-то заупокойных месс, исповедаться же не пожелал даже в преддверии эшафота, сочтя презренным делом выкладывать Господу Богу то, чего не вытянули у него даже под пыткой, и поручил Марикиске деньгами или чем еще снискать благорасположение палача, чтобы наутро тот расстарался и сделал все как полагается, не выставив Никасио перед его многочисленными знакомыми в непристойном и жалком виде. Эта самая Марикиска, говорил сейчас приговоренный своим сотрапезникам, вот такая баба, очень работящая и усердная, редкостно чистоплотная во всех смыслах, так что трясти ее за шиворот в поисках утаенного приходилось лишь изредка. Впрочем, он мог бы и не распространяться о достоинствах своей марухи, хорошо известных присутствующим, всей Севилье и половине Испании. Что же касается отметины, оставленной ножом поперек щеки, то сей рубец, ничуть, кстати, не обезобразивший ее, ничего особенного не означал, будучи нанесен лишь вследствие того, что он, Никасио, несколько перебрал ароматного санлукарского. Эко дело, чего в семье не бывает, милые бранятся — только тешатся, бьет — значит любит и так далее. Не говоря уж о том, что полоснуть возлюбленную ножичком — значит выказать ей свою нежность, и лучшее доказательство тому — слезы, которые наворачивались на глаза Никасио всякий раз, как он оказывался поставлен перед необходимостью вздуть Марикиску за ту или иную провинность. Так или иначе, продолжал он, она показала себя женщиной сердобольной и верной подругой, ибо скрашивала ему пребывание в каталажке деньгами, заработанными тяжкими трудами, за которые снимется с нее часть грехов, если, конечно, вообще можно счесть грехом заботу о том, чтобы спутник жизни ни в чем не нуждался. Вот и весь сказ. Никасио Гансуа при всей мужественности своей слегка расчувствовался на этом месте, зашмыгал носом и, устыдясь минутной слабости, потянулся за очередным стаканом, а со всех сторон послышались утешающие голоса.
— Ни о чем не тревожьтесь, — заверил его один собутыльник.
— Не оставим ее одну, в беде не бросим, — пообещал другой.
— На что же тогда существуют друзья? — риторически вопрошал третий. Убедившись, что вверяет Марикиску в надежные руки, Гансуа припал к стакану, а Хинесильо-Красавчик сопроводил воспоминание о верной марухе гитарным перебором.
— И про того, кто меня заложил, я тоже ни словечка не скажу, — посулил Никасио.
Слова эти были встречены протестующим хором: само собой разумеется, что доносчик, ввергший славного Никасио в пучину бед, будет зарезан при первом же удобном случае, ибо это самое малое, на что по священному долгу дружества может рассчитывать приговоренный: в среде тех, кто промышляет разбоем, нет греха тяжелее, чем настучать на товарищей или пусть даже и без злого умысла распустить язык; как бы ни велик ущерб, как ни горька обида, но ябедничать властям — позор несмываемый, лучше уж промолчать и потом отомстить своими руками.
— Ладно, уговорили… — согласился Гансуа. — Тогда уж, если можно, не сочтите за труд пришить заодно и стражника Мохарилью: когда меня брали, он вел себя очень грубо и неуважительно.
Будет исполнено, любезный друг, пообещали гости, считай, что панихида по нему уже заказана.
— И вот еще что, — малость поразмыслив, прибавил отъезжающий на тот свет. — Хорошо бы передать мой прощальный поклон и ювелиру.
Вписали в синодик и ювелира. И уже от себя пообещали, что если завтра утром окажется, что палач, не вполне проникшийся увещеваниями Мари-киски, исполняет свой служебный долг с недостаточной чистотой и отчетливостью, то пусть пеняет на себя. Ибо одно дело — а дело, согласимся, есть дело, да притом у каждого свое — спровадить на тот свет изменника или же содомита, и совсем другое — удавить гарротой порядочного человека, не соблюдя всей формы. За это придется ответить. Послушав эти и прочие, но в том же роде, заверения, Никасио остался утешен и успокоен так, что лучше и желать нельзя. Он растроганно взглянул на капитана, пришедшего скрасить ему последние минуты, и сказал:
— Кажется, я не имею удовольствия быть с вами знакомым, сударь?..
— Некоторым из присутствующих здесь известно, кто я такой, — отвечал тот обычным своим тоном. — Очень рад, что могу проводить вас от имени тех, кто в силу разных причин не сумел сделать это сам.
— Ни слова больше… — Приветный взор над огромными усами обратился ко мне. — А отрок этот вас сопровождает?
Капитан кивнул, а я поклонился — и до того учтиво, что вызвал одобрительные возгласы присутствующих, ибо закоренелые злодеи, как никто, умеют ценить в юношестве скромность и благовоспитанность.
— Ладно скроен, крепко сшит, — сказал Никасио. — Пусть пригубит он из чаши сей как можно позже.
— Аминь, — отозвался капитан.
Тут мое появление приветствовал Сарамаго-Португалец. Весьма поучительно для молодого человека, сказал он, шипя на португальский манер, присутствовать при том, как расстаются с этим миром люди, наделенные мужеством и честью, да еще в наши печальные времена, когда вокруг торжествуют бесстыдство и безнравственность. И если не считать счастья родиться в Португалии, — а счастье это доступно не каждому, — то нет ничего лучше для просвещения, нежели видеть достойную смерть, общаться с мудрыми людьми, узнавать новые страны и постоянно читать хорошие книги.
— Так что, — поэтически заключил он, — вслед за Вергилием воскликни, юноша: «Arma virumque cano», и за Луканом — «Plus quam civilia campos»[86].
За этим последовали новые возлияния, беседа становилась все оживленнее, и когда Никасио захотелось напоследок перекинуться в картишки, Гусман Рамирес, малый молчаливый и угрюмый, извлек из кармана засаленную колоду и положил ее на стол. Стасовали, раздали; одни играли, другие смотрели, а пили все. Назначили ставку, поставили на кон деньги, и к Никасио Гансуа — случайно ли, или оттого, что дружки решили порадовать его, — повалила карта, а с ней — и удача.
Игра была в самом разгаре, когда в коридоре послышались шаги и, воронья чернее, вошли — судейский, начальник тюрьмы с альгвазилами и тюремный капеллан. Они собирались огласить приговор. И, хотя Хинесильо-Красавчик прижал ладонью струны гитары, никто и виду не показал, что заметил вошедших, и сам смертник даже не переменился в лице: все продолжали сидеть, как сидели, держа веером по три карты и внимательно следя, кто выложит джокера, коим объявлена была двойка червей. Судейский откашлялся и прочел, что, мол, так и так, то да се, на основании вышеизложенного и с учетом пятого-десятого, рыбного-грибного, так далее и тому подобное, прошение о помиловании отклонено, и такого-то числа в таком-то часу пополуночи приговор в отношении означенного Никасио Гансуа будет приведен в исполнение. А тот невозмутимо слушал чтение и, лишь когда оно завершилось, разомкнул уста, взглянув на партнера и двинув бровями:
— Хожу, — сказал он.
Игра пошла своим чередом. Сарамаго-Португалец сбросил трефового валета, его партнер пошел с короля, а третий игрок выложил бубнового туза.
— Червы, чтоб их!..
— Козыри.
Гансуа очень везло в ту ночь: он отходил целую масть, одной рукой сбрасывая карты, а другой горделиво упершись в бок. И только потом, сгребая выигрыш, поднял глаза на судейского:
— Не затруднит ли вас повторить последнюю фразу, а то я отвлекся?
Писец, почтя себя уязвленным, отвечал, что подобные вещи читаются только единожды и раз так, придется приговоренному укладываться в дорогу, с позволения сказать, втемную, не вникая в суть и подробности дела.
— Такому человеку, как я, — ответил тот с отменным хладнокровием, — человеку, не привыкшему праздновать труса и сызмальства взявшему себе за правило отступать для того лишь, чтоб противник смог причаститься святых тайн, человеку, который участвовал в пятистах формальных поединках, не считая драк без повода и вызова и всякой прочей поножовщины, а потому не считая, что со счета я давно сбился, так вот, говорю: такому человеку подробности нужны, как рыбе — зонтик… Желаю знать, сказано ли в вашей бумаге, что мне — крышка?
— Сказано. Завтра в восемь.
— А чья подпись под приговором?
— Судьи Фонсеки.
Никасио окинул своих товарищей многозначительным взглядом, а те в ответ прижмурили глаз, безмолвно подтверждая, что слышали и поняли. Можно было не сомневаться — доносчик, стражник и ювелир прихватят с собой в дальнюю дорогу еще одного спутника.
— Конечно, — философическим тоном заметил Гансуа. — означенный судья может вынести мне приговор и тем самым лишить меня жизни… Был бы он человеком чести — вышел бы ко мне со шпагой в руке, вот тогда бы мы посмотрели, кто чью жизнь заберет.
Последовали новые важные кивки и покачиванья головой — верно, мол, говорит, все истинно, как в Священном Писании. Судейский всего лишь пожал плечами. Капеллан — благодушного вида августинец с грязными ногтями — приблизился к Никасио:
— Хочешь исповедаться?
Тот, продолжая тасовать колоду, оглядел его сверху донизу:
— Неужто, отче, похож я на корову, от которой хотят получить молока не на утренней дойке, так на вечерней?
— Облегчи душу.
Смертник прикоснулся к висевшим у него на шее ладанкам и четкам:
— О моей душе мне и заботиться, — ответил он, помолчав. — Завтра утром я уже смогу потолковать об этом не здесь, а кое-где еще, и с тем, кто разбирается в этом лучше вашего…
Сидевшие за столом вновь одобрительно закивали. Многие из них знавали Гонсало Барбу: когда при самом начале исповеди он покаялся в восьми убийствах, чем донельзя смутил юного и неопытного священника, то поднялся с колен со словами: «Если уж от таких пустяков вас в пот бросает, лучше прекратим это». Когда же падре принялся настаивать, ответил: «Ступайте с Богом: не тому, кого позавчера рукоположили, исповедовать человека, который убийствам счет потерял».
Игроки продолжали тасовать и сдавать карты, а судейский с монахом направились к дверям. Никасио, вспомнив что-то, вернул их с полдороги.
— Да, вот еще что… Месяц назад, когда мой кум Лукас Ортега всходил на эшафот, одна из ступенек подломилась, и он чуть не сверзился… Мне-то наплевать, но, радея о тех, кто придет за мной, попрошу вас все привести в божеский вид, ибо не каждый владеет собой, как я.
— Починим, — успокоил его судейский.
— Ну, и все на этом.
Представители власти удалились, игра возобновилась, вновь забулькало вино и зазвенела гитара Хинесильо.
В маслянистом свете сальных свечей ложились на стол карты. Бдение продолжалось — проникшиеся важностью момента севильские удальцы пили и играли. То и дело раздавалось «черт возьми», «чтоб я сдох», «провалиться мне на этом месте».
— А неплохая была жизнь, — вдруг задумчиво подал голос герой дня. — Собачья, конечно, а все же неплохая.
Послышались удары колокола на недальней церкви Спасителя. Хинесильо почтительно оборвал мелодию. Все, включая Никасио, обнажили головы и бросили игру, чтобы молча осенить себя крестным знамением. Звонили к мессе.
Когда рассвело, небо показалось мне в точности как на картинах Диего Веласкеса, и доставленный на площадь Святого Франциска Никасио Гансуа твердым шагом стал подниматься на плаху. Мы с капитаном Алатристе и еще несколькими из тех, кто был с ним ночью, явились заблаговременно, чтобы занять место — площадь от улицы Сьерпес и до паперти была плотно забита густой толпой: люди теснились вокруг эшафота, занимали все балконы, и, по слухам, через опущенные жалюзи в окнах дворца наблюдали за казнью августейшие особы. Хватало здесь и простонародья, и знати, а на лучших, загодя арендованных местах слепили глаза мантильи и кринолины дам, фетровые шляпы с перьями, золотые цепи и тонкого сукна колеты мужчин. В толчее сновали среди зевак разнообразное ворье и жулье, а искуснейшие карманники, подтверждая старинную истину «В городе живешь — клювом не щелкай», «блюли исконный свой обычай: придти пустым — уйти с добычей». К нам присоединился и дон Франсиско де Кеведо, с живейшим вниманием следивший за происходящим, поскольку, по его словам, именно в ту пору сочинял он свою «Жизнь пройдохи по имени дон Паблос», и устроители казни подгадали как нарочно, чтобы обогатить нашего поэта впечатлениями.
— Не всегда вдохновение черпаешь у Сенеки и Тацита, — сказал он, поправляя очки.
Никасио наверняка предупредили, что среди зрителей будут их величества, ибо когда его верхом на муле в саване смертника вывезли из ворот тюрьмы, он умудрился связанными спереди руками закрутить усы, а потом еще и помахать приветственно публике на балконах. Удалец наш был чисто умыт, гладко причесан, свеж и бодр, а о вчерашнем бдении напоминали только слегка воспаленные белки глаз. По дороге к эшафоту он, замечая знакомого, раскланивался с ним столь церемонно, словно направлялся на загородную увеселительную прогулку — на пикник, сказали бы нехристи-англичане. Держался, одним словом, до того достойно и молодцевато, что, глядя на него, с досады, что такого человека сейчас казнят, самому хотелось удавиться.
У гарроты дожидался палач. Зрители не могли не отдать должное мужеству и хорошим манерам Никасио, который с полнейшим самообладанием начал взбираться на помост, а когда так и не починенная ступенька заходила у него под ногой ходуном, удостоил судейского, ошивавшегося тут же, сурового взгляда. Вскинув руки, приветствовал он товарищей и Марикиску, под присмотром десятка головорезов занимавшую почетное и удобное место в первом ряду, успевавшую и плакать навзрыд, и при этом еще без умолку восхищаться тем, как красиво свершает ее избранник уготованный ему путь. Потом послушал немного давешнего августинца, важно наклоняя голову всякий раз, когда тот произносил что-нибудь уместное или толковое. Когда же палач начал проявлять нетерпение, сказал ему:
— Не суетитесь, ваша милость, поспеете — не конец света, и мавры не высадились.
Потом от доски до доски, твердым голосом и ни разу не сбившись, прочел «Верую», ловко приложился к распятию и попросил палача, чтоб, вящего благообразия ради, вытер ему слюни, сразу же как потекут, а колпак не натянул, избави бог, криво. Когда же палач по обычаю произнес:
— Простите меня, брат мой, я всего лишь исполняю свой долг, — ответил, что прощает всех и каждого, отсюда и до самой Лимы, но если этот самый Долг исполнит он не как должно, то на том свете будет с него взыскано полной мерой и без снисхождения. Потом уселся, а когда надевали ему ошейник гарроты, не моргал и не гримасничал, и вид имел даже отчасти скучающий. В последний раз закрутил усы и при втором повороте винта остался до того безмятежен и спокоен, что лучше и не бывает. Казалось, он просто глубоко задумался.
VII. За двумя зайцами
Прибыл флот, и вот Севилья, Испания и вся Европа собрались с толком распорядиться потоками золота и серебра, готовыми хлынуть из его трюмов. Сопровождаемый от Азорских островов нашей океанской эскадрой, огромный «флот Индий», весь горизонт заполнивший своими парусами, начал входить в устье Гвадалквивира, и первые галеоны, нагруженные товарами и сокровищами так, что едва не черпали воду бортами, бросили якоря на рейде Санлукара или в бухте Кадиса. В соборах служили благодарственные молебны, вознося хвалу Господу за избавление от штормов, пиратов и англичан. Арматоры и купцы подсчитывали грядущие барыши, торговцы ставили лотки и палатки для новых товаров и хлопотали об их доставке, банкиры готовили векселя и переводные письма, а кредиторы короля — фактуры и счета, надеясь на скорое их погашение, и таможенники потирали руки в предвкушении. Весь город принарядился и украсился: оживилась торговля, на Монетном Дворе разводили огонь под тиглями, чтобы плавить слитки и штамповать реалы и эскудо, чистились склады и хранилища в башнях Золота и Серебра, на набережной Ареналь не протолкнуться было от тех, кто занимался делом или просто пришел поглазеть на суматоху, а чернокожие рабы и неволъники-мориски приводили в порядок молы и причалы. Подметали и мыли мостовые у дверей частных домов и лавок, прибирались постоялые дворы, таверны и бордели, и все обитатели Севильи — от надменного аристократа до самого убогого нищего и последней уличной потаскухи — ликовали, надеясь что-нибудь да урвать от сокровищ.
— Повезло, — молвил граф де Гуадальмедина, поглядев на небо. — В Санлукаре будет хорошая погода.
Перед тем как отправиться нам выполнять поручение — со счетоводом Ольямедильей должны мы были встретиться ровно в шесть на плавучем мосту, — Кеведо и граф решили устроить капитану проводы. И мы сошлись в маленьком кабачке, прилепившемся к стене дока и выстроенном из досок и парусины, взятых с ближней свалки. Под навесом на свежем воздухе стояли несколько столов и табуретов. Место было отличное — тихое и малолюдное, а каких-нибудь моряков, которые в этот час могли забрести сюда, нечего было опасаться. Словом, самое то, чтобы чокнуться на прощанье. И вид, отсюда открывавшийся, тешил взор — портовая суета, грузчики, плотники, конопатчики, работавшие на кораблях, пришвартованных по обоим берегам. На другой стороне Гвадалквивира блистала и переливалась в солнечных лучах бело-красно-охристая Триана, по водной глади сновали взад-вперед рыбачьи баркасы и прочие мелкие суденышки, и предвечерний бриз надувал их кливера.
— За то, чтоб вернулись не с пустыми руками! — провозгласил Гуадальмедина.
Мы сдвинули фаянсовые кружки и дружно выпили. Вино было так себе, но выбирать не приходилось. Дону Франсиско до смерти хотелось отправиться с нами вниз по реке, но это было совершенно невозможно по очевидным причинам, и потому поэт досадовал. Он был и оставался человеком действия и с удовольствием внес бы в свой послужной список захват «Никлаасбергена».
— Любопытно было бы взглянуть на ваших новобранцев, — сказал он, протирая стеклышки носовым платком, извлеченным из-за обшлага.
— И мне тоже, — отозвался граф. — Весьма, надо думать, живописное воинство. Однако нельзя — надо держаться в сторонке… С этой минуты за все отвечаешь ты, Алатристе.
Кеведо водрузил очки на нос, и от саркастической ухмылки усы его встопорщились:
— Узнаю манеру Оливареса… Это очень похоже на него: если выгорит — почестей не ждите, а провалитесь — не сносить вам головы. — Он сделал два крупных глотка, отставил стакан, задумчиво оглядел его и добавил сокрушенно: — Иногда я начинаю жалеть, что втравил вас в это, капитан.
— Меня никто не принуждал, — безо всякого выражения ответил Алатристе, не отводя глаз от дальнего берега, на котором раскинулась Триана.
Стоический тон капитана заставил графа улыбнуться.
— Рассказывают, — вполголоса и явно не просто так проговорил он, — будто наш Четвертый Филипп входит в малейшие подробности вашего предприятия. Он в восторге от того, какую рожу скорчит старый Медина-Сидония, когда до него дойдут новости… Тем более что золото есть золото, и его католическое величество нуждается в нем не меньше, чем мы, грешные.
— Больше, — вздохнул Кеведо. Гуадальмедина облокотился о стол и еще больше понизил голос:
— Вчера ночью, при обстоятельствах, о коих распространяться не стану, государь изволил осведомиться, кто руководит всем предприятием… — Он помолчал, давая нам возможность осознать и прочувствовать сказанное. — Спрошено было у твоего друга, Алатристе. Понимаешь? И тот назвал твое имя.
— Воображаю, каких турусов на колесах вы там нагородили… — сказал Кеведо.
Граф, задетый этим «воображаю», воззрился на поэта:
— Никаких не турусов! Чистую правду!
— И что же ответил великий Филипп?
— Как человек молодой и любитель острых ощущений, он выказал живейший интерес. Вплоть до того, что собрался инкогнито отправиться к месту действия, дабы утолить свое любопытство… Но Оливарес поднял крик до небес.
За столом повисло неловкое молчание.
— Ну вот, — высказался наконец дон Франсиско, — только помазанника божьего там и не хватало.
Гуадальмедина вертел в руках стакан:
— Так или иначе, в случае успеха никого из нас не забудут.
Вспомнив что-то, он сунул руку в карман и вытащил оттуда вчетверо сложенный лист бумаги, скрепленный двумя печатями — Верховного Суда и командующего галерным флотом.
— Совсем забыл, — сказал граф, протягивая документ капитану. — Держи пропуск. С ним тебе разрешат доплыть вниз по реке до Санлукара… Сам понимаешь — как только окажешься на месте, бумагу немедля сожжешь. И уж с той минуты, если спросят, что ты там забыл, отговариваться будешь сам. — Он улыбнулся и погладил бородку. — Бреши, что в голову придет.
— Поглядим, как покажет себя Ольямедилья, — заметил Кеведо.
— В любом случае, ему незачем лезть на абордаж. Он там нужен для того лишь, чтобы оприходовать золото. А ты, Алатристе, будешь заботиться о его здоровье.
— Сделаем, что можно.
— Уж постарайся.
Капитан заложил бумагу за ленту шляпы. Он был по обыкновению холоден и невозмутим, зато я весь изъерзался на своем табурете — еще бы: столь густейшим образом поминались здесь августейшие и высокие особы, что простому мочилеро мудрено было сохранить спокойствие.
— Судовладелец, конечно, начнет протестовать, — продолжал Альваро де ла Марка. — Медина-Сидония придет в неописуемую ярость. Однако никто из тех, кто посвящен в интригу, пикнуть не осмелится… С фламандцами дело обстоит иначе. Их жалобам будет дан законный ход — иными словами, начнется классическая, душу выматывающая бюрократическая волокита и канитель. И потому необходимо, чтобы все это напоминало нападение пиратов… — С лукавой улыбкой он поднес к губам стакан. — Сам понимаешь, никто не будет требовать найти золото, которого вроде бы и не существует.
— Имейте в виду, Диего, — добавил Кеведо, — если попадетесь, все умоют руки.
— Включая нас с доном Франсиско, — отчеканил без околичностей граф.
— Вот именно. Ignoramusatqueignorabimus, что в вольном переводе с латыни значит: «Слыхом не слыхали».
Оба они выжидательно уставились на капитана, но он, по-прежнему не сводя глаз с дальнего берега и раскинувшейся на нем Трианы, лишь коротко кивнул, не прибавив к этому ни слова.
— И в этом случае, — продолжал Гуадальмедина, — советую смотреть в оба, ибо платить за разбитые горшки придется тебе и никому иному.
— Если попадетесь, — добавил поэт.
— А потому, — завершил свою речь граф, — надо исхитриться, чтобы никто из твоих не попался… — Он быстро глянул на меня и повторил: — Никто.
— Сие означает, — подвел итог дон Франсиско, чей острый разум неизменно побуждал его изъясняться как можно более четко и точно, — что у вас, Диего, два пути: победить или умереть, рта не раскрыв. Ясно?
Да уж куда ясней. Любую хмарь предпочтешь такой ясности.
Простившись с нашими друзьями, мы с капитаном двинулись вниз по Ареналю, покуда не дошли до плавучего моста, у которого уже поджидал нас явившийся, как всегда, без опоздания счетовод Ольямедилья. Он зашагал рядом, не размыкая губ, — постный, чопорный, сухой и унылый. Вы не поверите, но покуда мы шли через мост к стенам замка инквизиции, тотчас всколыхнувшего в моей душе самые мрачные воспоминания, освещали нас косые лучи заходящего солнца. Мы были готовы пуститься в путь: счетовод надел черный кафтан, просторный и мешковатый, Алатристе по обыкновению был в плаще и шляпе, со шпагой и кинжалом, а я волок за спиной огромный баул, предусмотрительно набитый всякой всячиной: съестные припасы, два шерстяных одеяла, бурдючок вина, два пистолета, собственный мой кинжал — защитные кольца были уже починены в лавке на улице Бискайнос, — порох и пули, шпага альгвазила Санчеса, нагрудник из буйволовой кожи для моего хозяина и другой, полегче, новый, из хорошо выделанной толстой замши, купленный для меня за двадцать эскудо на улице Франкос. Сборным пунктом определили постоялый двор «У Нефа», куда мы и пришли одновременно с наступлением темноты, оставив за спиной плавучий мост вместе со множеством баркасов, галер и прочих судов, ошвартованных вдоль всего берега. В Триане на каждом углу размещались таверны, кабачки, дешевые ночлежки, всякого рода притоны, так что появление таких подозрительных и к тому же вооруженных личностей никого не удивило бы. Заведение оказалось довольно смрадным: патио под открытым небом служило таверной, над которой в дождливую погоду натягивали парусиновый навес. Сидевшие там люди все как один были в плащах и шляпах, что объяснялось как вечерней прохладой, так и родом занятий большинства посетителей: здесь принято было прятать лицо, кутаться в плащ, оттопыривавшийся спереди кинжалом, а сзади — кончиком шпаги. Мы втроем заняли стол в углу, заказали поесть и выпить и с видом величайшего безразличия огляделись по сторонам. Кое-кто из наших уже прибыл: за столом по соседству я увидел Хинесильо-Красавчика без гитары, зато с длиннющей шпагой у пояса, и Гусмана Родригеса — оба сидели, как сказал поэт, «усы плащом прикрыв, а брови — шляпой»; а вскорости пожаловал и Сарамаго-Португалец: он пришел один, сел и при свече погрузился в чтение. За ним появился маленький, жилистый и молчаливый Себастьян Копонс, который, ни на кого не глядя, спросил вина. Все делали вид, что друг с другом не знакомы. Постепенно подтягивались и остальные — входили вперевалку парами или поодиночке, позванивая оружием, сторожко озирались, молча, не окликая знакомых и ни с кем не здороваясь, усаживались кто где. Потом взорам нашим предстали разом трое — Хуан Каюк, кум его Сангонера и мулат Кампусано, которому благоприятные отзывы, полученные капитаном через графа Гуадальмедину, позволили покинуть убежище в церкви Спасителя. Уж на что хозяин таверны был человек ко всему привычный, но даже он малость обеспокоился при виде такого наплыва людей определенного сорта, однако Алатристе рассеял его подозрения несколькими серебряными монетами, благодаря коим самый любознательный из кабатчиков делается слепым, глухим и немым, тем паче что капитан присовокупил к деньгам дружеский совет не болтать, ибо перерезанную глотку ни за какие деньги не заштопаешь. Еще через полчаса все были в сборе. К моему удивлению — Алатристе ничего не говорил мне об этом — последним пришел не кто иной, как Бартоло Типун: в берете, надвинутом на густые сросшиеся брови, с широченной улыбкой, открывавшей темные глубины щербатой пасти. Он подмигнул капитану и стал расхаживать под арками взад-вперед, стараясь не привлекать к себе внимания: с тем же успехом мог бы остаться незамеченным бурый медведь на поминальной мессе. И, хотя хозяин мой ни разу словом не обмолвился о причинах, побудивших его предпринять шаги к освобождению галерника, которого, между нами говоря, к удальцам можно было причислить лишь из-за наличия у него уда, я полагаю, что руководствовался капитан Алатристе скорее чувствами — если, конечно, допустить, что таковые у него имелись, — нежели здравым смыслом, ибо он с легкостью мог бы пригласить в нашу компанию кого-нибудь почище Ну, как бы то ни было, примкнул к нам преисполненный благодарности Бартоло Типун. И, видит Бог, ему было за что благодарить — капитан избавил его от приятной обязанности шесть лет сидеть на цепи да под свист бича распугивать сардин тяжеленным веслом.
Ну, стало быть, как я сказал, все были в сборе. Когда счетовод Ольямедилья ознакомился с плодами капитановой вербовки, на лице его мелькнула тень удовлетворения, хоть он и остался безмолвен, бесстрастен и брюзглив, как всегда. Помимо перечисленных мною, в строю были также следующие персоны, чьи полученные при крещении имена, равно как и заслуженные воровской жизнью клички, я вскоре узнал. Итак мурсиец Пенчо Шум-и-Гам, отставные солдаты Энрикес-Левша и Андресито-Пятьдесят-горячих, украшенный шрамом сальноволосый Галеон, двое трианских морячков: Суарес и Маскаруа, потом некий бледный, с кругами под глазами малый, похожий на вконец обнищавшего идальго, откликавшийся на прозвище Кавалер-с-галер, потом бритоголовый, рыжебородый, вечно улыбающийся парень с могучими ручищами, знаменитый севильский сутенер по имени Хуан-Славянин, живший за счет четырех или пяти девиц, которых пестовал едва ли не как родных дочек — вот-вот: «едва ли не», да не вполне! Вообразите себе, господа, это изысканное общество, с полным правом могущее называться «гоп-компания», этих молодцов, закутанных в плащи, под которыми при малейшем движении брякала и звякала смертоносная сталь. Если не знать, что они — на твоей стороне, пусть хоть в данную минуту, душа уйдет не то что в пятки, а еще куда подальше. Капитан, увидев, что все налицо, положил к вящему облегчению кабатчика несколько монет на стол, мы поднялись и вместе с Ольямедильей по переулочкам, где было темно, как у волка в пасти, двинулись к реке. Даже не оглядываясь — по звуку шагов за спиной — я безошибочно определил, что наши новобранцы один за другим выскальзывают в двери таверны и гуськом направляются следом.
Погруженная во мрак Триана дремала, а все, что бодрствовало, благоразумно старалось убраться прочь с дороги. Луна была на ущербе, но все же ее тусклого света хватило, чтобы разглядеть стоящий у берега баркас со спущенным парусом. Один фонарь горел на носу, другой — на земле, а на борту темнели две неподвижных фигуры — надо полагать, шкипер и матрос. Алатристе остановился, мы со счетоводом замерли рядом, а все прочие, приблизившись, сгрудились вокруг. По приказу капитана я принес и опустил фонарь к его ногам. Смутно белевшее в полумраке полотнище паруса делало зрелище еще более мрачным: едва вырисовывались кончики усов и бород, надвинутые до самых глаз шляпы, и тускло посверкивало металлом оружие. Наши новобранцы, отыскав знакомых, начали переговариваться вполголоса и приглушенно пересмеиваться, однако отрывистая команда Алатристе заставила всех умолкнуть.
— Пойдем вниз по реке. Предстоит работа, какая — скажу, когда прибудем на место… Вы все уже сделали свой выбор, так что назад ходу нет. Излишне напоминать, чтоб держали язык за зубами.
— Обидно слышать такое… — раздался в ответ чей-то голос. — Каждый из нас в свое время водил знакомство с дыбой и кобылой, так что молчать умеем.
— Просто хочу, чтобы вы это себе уяснили… Вопросы?
— Когда заплатят остальное?
— Когда дело сделаем. Я полагаю — послезавтра.
— И тоже — золотом?
— Чистым и звонким, как детский смех. Двуспальными дублонами — такими же, что вы получили в задаток.
— А много ль душ придется загубить?
Я украдкой взглянул на Ольямедилью — завернувшись в свой черный кафтан, он ковырял землю носком башмака и, казалось, думал о чем-то совсем постороннем. Без сомнения, этот человек, привыкший водить перышком по бумаге, нечасто слышал столь откровенные речи.
— Таких умельцев, как мы с вами, зовут не чакону плясать, — ответил Алатристе. Переждав раздавшиеся после этих слов смешки и одобрительное чертыханье, он указал на баркас: — Грузитесь, господа, устраивайтесь поудобней. И помните, что с этой минуты вы — в строю.
— В каком это смысле? — осведомился кто-то.
В немощном свете фонаре все увидели, как капитан словно бы невзначай опустил левую руку на эфес шпаги. Глаза его пронизали тьму.
— А в таком, что если кто не подчинится приказу или начнет своевольничать, — медленно проговорил он, — я того убью на месте.
Ольямедилья устремил на него пристальный взгляд. Наступила такая тишина, что слышно было бы, как муха пролетит. Каждый переваривал услышанное, надеясь, что оно усвоится. И в этой тишине до нас долетел плеск весел невдалеке — где-то возле ошвартованных у берега суденышек. Все дружно обернулись в ту сторону — из тьмы вынырнула лодка с полудюжиной гребцов и тремя темными фигурами на носу. Себастьян Копонс — у него это заняло меньше времени, чем потребовалось мне, чтобы рассказать об этом, — прыгнул к берегу, наведя на подплывающих два огромных пистолета, как по волшебству появившихся у него в руках, а в руке Алатристе молнией сверкнул обнаженный клинок.
— За двумя зайцами… — прозвучал знакомый голос. Слова эти, послужив паролем, успокоили и капитана, и меня, тоже схватившегося за кинжал.
— Свои, — сказал Алатристе.
Он вложил шпагу в ножны, а Копонс спрятал пистолеты. Лодка ткнулась носом в берег неподалеку от нашего баркаса, и в слабеньком свете фонаря обрисовались три фигуры. Алатристе приблизился. Я — следом.
— Надо же попрощаться с другом, — сказал тот же голос.
Теперь я узнал графа де Гуадальмедину. Как и оба его спутника, он был в плаще и шляпе. За спиной у них, в шлюпке, я различил зажженные фитили двух аркебуз — новоприбывшие тоже были готовы ко всяким неожиданностям.
— У меня мало времени, — не слишком приветливо произнес капитан.
— Мы не помешаем, — ответил граф. — Делай свое дело.
Один из тех, кто стоял на носу, был рослый, широкоплечий, грузный, другой — тоньше и стройнее, в шляпе без перьев, и оба до самых глаз завернуты в плащи. Капитан еще мгновение разглядывал их, а я смотрел на него и в красноватом свете фонаря видел ястребиный профиль, густые усы, сощуренные глаза под широким полем шляпы, пальцы, поглаживающие рукоять шпаги. Весь облик его дышал мрачной угрозой, и, думаю, люди на носу не могли не ощущать ее. Наконец он обернулся к Себастьяну, стоявшему ближе остальных, почти неразличимых в темноте, и коротко приказал:
— Пошли!
Один за другим наши головорезы — первым шел Копонс, следом — все прочие — двинулись к сходням, поочередно попадая в пятно света, отбрасываемого фонарем, звеня и гремя железом, которым были обвешаны. Одни закрывали лица, проходя мимо фонаря, другие — напротив, с вызовом снимали шляпы. Кое-кто даже остановился, чтобы бросить любопытный взгляд на троих укутанных в плащи незнакомцев, а те взирали на этот диковинный парад в совершенном молчании. Счетовод Ольямедилья. поравнявшись с капитаном, принял озабоченный вид и на миг замедлил шаги, словно сомневался, стоит обратиться к незнакомцам или же нет. Решил, что не надо, занес ногу над планширом нашего баркаса и, запутавшись в полах своего мешковатого одеяния, свалился бы в воду, если бы чьи-то сильные руки, вовремя подхватив, не втащили его на палубу. Замыкавший шествие Бартоло Типун нес фонарь, который отдал мне, прежде чем перевалиться через борт с таким звоном и грохотом, словно на поясе у него и через плечо висела целая оружейная лавка. Алатристе стоял неподвижно, не сводя глаз с тех троих.
— Все, — сухо произнес он.
— Что ж, славное воинство… — заметил рослый.
Алатристе силился рассмотреть его в темноте. Голос этого человека показался ему знакомым. Его спутник — тот, что был ниже ростом и тоньше, — который до этого молча наблюдал за погрузкой, теперь внимательно оглядывал капитана.
— Жизнью своей клянусь, — сказал он наконец, — они и на меня страх навели.
Он говорил ровным тоном человека, получившего хорошее воспитание и привыкшего к тому, что никто не осмелится ему возражать или противоречить. При первых звуках этого голоса Алатристе застыл, словно каменное изваяние. Несколько мгновений я слышал только его размеренное дыхание. Потом он положил мне руку на плечо:
— Поднимайся на борт.
Я повиновался и вместе со своим баулом и фонарем полез по сходням. Перевалился через планшир и устроился на носу среди уже лежавших там людей, завернутых в плащи, пахнущих потом, железом, кожей. Копонс подвинулся, и я присел рядом с ним на баул. Отсюда мне был виден Алатристе, по-прежнему стоявший на берегу лицом к тем троим. Вот он поднял руку, словно собираясь снять шляпу, но движение свое не завершил, ограничившись тем лишь, что прикоснулся к полю, словно отдавая честь, потом закинул плащ на плечо и поднялся по сходням.
— Ни пуха ни пера, — сказал Гуадальмедина. Никто не отозвался. Шкипер отдал швартовы, его помощник оттолкнулся от берега веслом и поднял парус. И вот, подхваченный течением и легким бризом, который дул со стороны берега, рябя дрожавшие на черной воде редкие огоньки Севильи и Трианы, наш баркас бесшумно заскользил вниз по реке.
Мы плыли по Гвадалквивиру под бесчисленными звездами, а слева и справа черными тенями тянулись деревья и кусты. Севилья осталась далеко позади — за излучиной реки; ночная сырость пропитала деревянную обшивку баркаса и нашу одежду. Притулившись рядом со мной на палубе, дрожал от холода счетовод Ольямедилья. Прижавшись затылком к баулу, натянув одеяло до подбородка, я время от времени поглядывал на хозяина, сидевшего на носу вместе со шкипером. Над головой у меня подрагивало под ветром светлое пятно паруса, то открывая, то закрывая светящиеся точки, которыми усеян был небосвод.
Почти все хранили молчание. Черной бесформенной грудой заполняла наша команда узкое пространство палубы, и в плеск воды за кормой вплеталось мерное дыхание и похрапывание спящих, или — изредка — приглушенный разговор тех, кто еще бодрствовал. Кто-то напевал нарочито тоненьким голоском. Рядом со мной, завернувшись в плащ и прикрыв лицо шляпой, сном праведника спал Себастьян Копонс.
Кинжал впивался мне в поясницу, так что я в конце концов отстегнул его. Какое-то время я созерцал звезды над головой, желая обратить свои мысли к Анхелике де Алькесар, однако образ ее ускользал, вытесняемый той неизвестностью, что поджидала нас в конце пути. Я слышал наставления, которые граф Гуадальмедина давал капитану, слышал разговоры моего хозяина с Ольямедильей и в общих чертах представлял себе, как планировалось захватить фламандский галеон. Замысел состоял в том, чтобы взять его на абордаж, когда он бросит якорь на рейде Санлукара, а потом, воспользовавшись приливом, подогнать к берегу, где в укромном месте будет ждать наряд испанских гвардейцев, которые к этому времени уже прибудут в Санлукар сушей и в нужный момент вступят в дело. Что касается команды «Никлаасбергена», то, во-первых, это моряки, а не солдаты, а во-вторых, сыграет свою роль внезапность нападения. Указания относительно дальнейшей их судьбы даны были самые недвусмысленные, ибо вся наша затея должна была выглядеть как налет обычных, только очень уж наглых пиратов. Да и потом, если в жизни на что-то и можно полагаться, так это на то, что мертвые не проболтаются.
На заре, когда первые лучи еще невидимого солнца высветили дубовые рощи и купы тополей, тянувшиеся вдоль восточного берега, стало совсем холодно. Люди беспокойно зашевелились во сне, придвигаясь друг к другу в поисках тепла. Проснувшиеся завели вполголоса беседу, чтобы убить время, пустили вкруговую бурдючок вина. Совсем рядом со мной, полагая меня спящим, шушукались трое или четверо — Хуан Каюк, его кум Сангонера и кто-то еще. Речь шла о капитане Алатристе.
— Он не переменился, — сказал Хуан. — Все такой же — слов даром не тратит и спокойствия не теряет.
— Надежный человек?
— Как папская булла. Одно время он жил в Севилье, зарабатывал шпагой, как и все мы. Я с ним вместе прятался на Апельсиновом Дворе… Рассказывали, какая-то у него в Неаполе вышла неувязка. Со смертельным исходом.
— А еще говорят, он служил в солдатах во Фландрии.
— Ну да. — Каюк немного понизил голос. — Воевал вместе вот с этим арагонцем, что дрыхнет без задних ног, и с мальчишкой… А еще раньше был при Ньюпорте и Остенде.
— Ловок драться?
— У-у, не то слово… А при этом еще — крепко себе на уме и настырен, как бес… — Каюк замолчал, вероятно, сдавливая с боков бурдюк: я услышал, как забулькало вино. — Как глянет ледяными своими глазищами, — уноси ноги, пока цел. Я видел, как он орудует шпагой — дырявит людей почище мушкетной пули.
Опять помолчали и побулькали. Я предположил, что беседующие рассматривают моего хозяина, неподвижно сидевшего на корме вместе со шкипером, державшим в руках румпель.
— Он и вправду капитан? — спросил Сангонера.
— Вряд ли. Однако все зовут его «капитан Алатристе».
— Болтать, видно, не любит…
— Вот уж нет. Он шпагой разговаривает. А дерется, побожусь, еще лучше, чем молчит. Один мой приятель служил с ним вместе на галерах в Неаполе… Лет десять-пятнадцать назад. Так вот, на Босфоре турки взяли их на абордаж, перебили чуть ли не всех, осталось не более дюжины, и среди них — Алатристе. Они отступали с боем, потом забаррикадировались на мостике и сдерживали натиск турок, покуда все не были убиты или ранены… Их повезли в Константинополь, но тут, по счастью, появились две мальтийские галеры и спасли уцелевших…
— Смелый человек, стало быть?
— Уж за это я ручаюсь.
— С дыбой, наверно, тоже знаком?
— Это мне неизвестно. Но сейчас, судя по всему, с властями у него мир. Если уж сумел отмазать нас от галер и обеспечить ноли ме тангере[87], стало быть, пользуется кое-каким влиянием.
— Как, по-твоему, кто были эти трое на шлюпке?
— Понятия не имею. Но, полагаю, важные птицы. Как и те, кто принанял нас за такие деньги.
— А этот, в черном? Который едва не свалился за борт?
— Тоже, надо думать, человек непростой. Но эспадачин из него, как из меня — Мартин Лютер.
Снова побулькали и удовлетворенно отдулись. Затем беседа возобновилась:
— А мне нравится наше предприятие, — заметил кто-то. — Я так считаю, что лучше ничего и быть не может: впереди — золото, рядом — товарищи.
Каюк негромко засмеялся:
— Это называется: «Считал, да не спросясь хозяина». Ты сперва добудь его, золото это. Так просто, за красивые глаза, не дадут. Попотеть придется.
— Видит бог, я согласен! За тысячу двести реалов я им луну с неба достану.
— Да и я тоже, — поддержал третий.
— Тем паче что нам с этой колоды сдали сплошные козыри: чистое золото, а не что-нибудь, сверкает как солнце…
Послышалось бормотание — происходил подсчет наличности.
— А вот любопытно было бы узнать, — осведомился Сангонера, — заплатят, как обещали, или выжившие получат больше? Покойникам-то деньги ни к чему.
Раздался приглушенный смех Хуана Каюка:
— Не надейся — не узнаешь, пока все не кончится. Это, кстати, неглупо придумано — а то бы мы под шумок перерезали друг друга.
Горизонт над верхушками деревьев набух розовым, стали видны кусты и ухоженные сады, тянувшиеся вдоль берега. Я поднялся и, огибая распростертые на палубе тела спящих, прошел на корму к Алатристе. Шкипер, облаченный в шерстяной бушлат и выцветший берет, от предложенного мною вина отказался. Придерживая локтем штурвал, он внимательно следил за тем, чтобы держаться на середине фарватера и не столкнуться с плывущими по реке бревнами. Лицо у него было загорелое, и за все время пути он не проронил ни слова. Алатристе пил вино и жевал ломоть хлеба с копченым мясом, а я тем временем сидел рядом, наблюдая, как все ярче разгорается заря на чистом, безоблачном небе, которое, впрочем, у нас над головами оставалось сумрачно-серым, так что лежащие вповалку на палубе не проснулись.
— Что там поделывает Ольямедилья? — спросил капитан.
— Спит. Ночью чуть не околел с холоду. Мой хозяин улыбнулся:
— Без привычки.
Я улыбнулся в ответ. Зато у нас чего-чего, а уж этого в избытке.
— Неужели он полезет с нами на абордаж?
— Кто его знает… — пожал плечами Алатристе.
— Надо будет присмотреть за ним… — озабоченно молвил я.
— Мой тебе совет — за собой смотри.
Мы помолчали, потягивая вино из бурдюка. Капитан мерно работал челюстями.
— Ты стал большой, — сказал он, обратив ко мне задумчивый взор.
Я почувствовал, как от радости меня словно обдало мягким жаром.
— Хочу стать солдатом! — выпалил я.
— Я-то думал, наши мытарства под Бредой отбили у тебя охоту воевать.
— Нет. Хочу в солдаты. Как мой отец.
Он перестал жевать, мгновение разглядывал меня, а потом мотнул головой в сторону разлегшихся на палубе людей:
— Не очень-то это завидная судьба.
Мы еще помолчали, покачиваясь вместе с палубой. Теперь небо за деревьями налилось цветом и светом, и тени померкли.
— Как бы то ни было, — вдруг продолжил Алатристе, — в полк ты сможешь записаться лишь года через два, не раньше. А образование твое мы с тобой как-то упустили из виду. Так что послезавтра…
— Я же читаю книги! — перебил я. — Порядочно пишу, знаю четыре правила арифметики и латинские склонения.
— Этого мало. Преподобный Перес — славный человек, и в Мадриде он займется с тобой всерьез.
И снова замолчал, в очередной раз скользнув взглядом по спящим. Восходящее солнце высветило рубцы и шрамы у него на лице.
— В нашем мире, — договорил он, — пером иной раз сумеешь дотянуться дальше, чем шпагой.
— Но ведь это нечестно.
— Однако это так.
Эти три слова он произнес после недолгого молчания и с нескрываемой горечью. Я же лишь пожал плечами, укрытыми одеялом: в шестнадцать лет я был уверен, что дотянусь до чего угодно и провались она, вся наука преподобного Переса, век бы ее не видать.
— Послезавтра еще не настало, капитан.
Я выговорил эту фразу с облегчением, но также и с вызовом, не сводя при этом глаз с реки, простиравшейся перед нами. Не оборачиваясь к Алатристе, я знал — он смотрит на меня очень внимательно, — а наконец взглянув на него, увидел, как радужки его зеленоватых глаз стали красными от бьющих в них рассветных лучей.
— Ты прав, — сказал он, протягивая мне бурдюк — Впереди еще долгий путь.
VIII. На рейде Санлукара
Солнце было в зените, когда мы добрались до венты Тарфия, где Гвадалквивир поворачивает на запад и впереди, по правому борту, уже начинают угадываться заливаемые приливом земли Доньи-Аны. Плодородные поля Альхарафе и густо поросшие лиственными лесами берега Кори и Пуэблы сменялись мало-помалу песчаными дюнами, сосняком и кустарником, где время от времени мелькали лани или кабаны. Стало жарко и влажно, и люди, скученные на палубе, откинули одеяла, сбросили плащи, расстегнули колеты и куртки. При свете дня отчетливо предстали передо мной небритые лица, щетинистые подбородки, торчащие усы, и грозному их виду не противоречили груды оружия у пояса или на перевязи через плечо — шпаги, кинжалы, короткие рапиры, пистолеты. Погода не баловала, спали вповалку, в тесноте и неудобстве, и потому от грязной одежды, от засалившихся волос шибало в нос едким запахом, памятным мне по Фландрии. Запах походной жизни. Запах войны.
Закусить я решил отдельно от прочих, отсев в сторонку вместе с Себастьяном Копонсом и Ольямедильей — он был мне так же неприятен, как и раньше, однако я почел моральным долгом своим взять на себя попечение об этом человеке, выглядевшем среди прочих сущей белой вороной. Мы выпили вина, кое-чем подкрепились, и, хотя беседа не клеилась — старый солдат из Уэски и счетовод королевского казначейства были в смысле немногословия два сапога пара, — я оставался рядом с ними. Рядом с Себастьяном — в память фламандских наших передряг и мытарств, рядом с канцеляристом — потому, что так уж обстоятельства сложились. Ну а капитан шестьдесят с лишним миль пути провел, не покидая своего места на корме, рядом со шкипером, не спуская глаз с воинства, попавшего ему под начало, и задремывая лишь на краткое время — он тогда закрывал лицо шляпой, словно не хотел, чтобы его видели спящим. Алатристе вглядывался в каждого так пытливо, будто пытался угадать его достоинства и пороки и, стало быть, понять, на что может рассчитывать. Все видел, все примечал — кто как ест, кто как зевает и засыпает; чутко прислушивался к гвалту, начавшемуся, когда Гусман Рамирес извлек колоду карт, и пошла игра. Присматривался к тем, кто пил мало, и к тем, кто — много; к молчунам и к болтунам; слушал божбу Энрикеса-Левши и трубный хохот мулата Кампусано. Останавливал взгляд на каменно-неподвижном Сарамаго-Португальце, который как улегся с книгой, подстелив плащ, так во весь путь и не вставал. Одш — как Кавалер-с-галер, Суарес или бискаец Маскаруа — вели себя скромно и тихо, другие в буквальном смысле места себе не находили, как Бартоло Типун, который, никого не зная, мыкался по палубе и тщетно силился завязать разговор то с тем, то с этим. Были здесь говоруны и занимательные рассказчики, вроде Пенчо Шум-и-Гама или сутенера Хуана-Славянина, который неизменно пребывал в самом лучезарном расположении духа и в блеске немыслимых подробностей повествовал о том, сколь благотворно воздействуют на мужскую силу растолченные в порошок кусочки носорожьего рога — средство, проверенное лично, испытанное на себе. Были и люди замкнутые — такие, как Хинесильо-Красавчик с двусмысленной улыбочкой на ангельски смазливом личике и жестким взглядом, предупреждавшим, что связываться с ним небезопасно, или Андресильо-Пятьдесят-горячих, всем видом своим показывавший, что плевать ему на все, или вовсе отпетый Галеон — весь в рубцах и шрамах, полученных явно не по неосторожности цирюльника. И вот, покуда наш баркас шел себе вниз по течению, одни толковали о бабах или деньгах, другие для препровождения времени резались… нет, покуда еще только в карты, а третьи вспоминали истинные или вымышленные случаи из своей солдатской жизни, начавшейся, если верить им, в Ронсевальском ущелье или куда там еще их Брут отчаянный водил. Только и слышалось:
— Потому что, Девой Пречистой клянусь, я — старый христианин: ни чистотой крови, ни древностью рода не уступлю королю.
— А я еще чище. Ибо, как ни крути, а король наш — наполовину фламандец.
Так что сторонний наблюдатель решил бы, что воинство, плывущее на сем баркасе, есть цвет благородного рыцарства, какое только найдется в Арагоне, Наварре и обеих Кастилиях. Даже здесь, в столь ограниченном пространстве палубы и при немногочисленности нашей рати, неизменно, как водится, возникало соперничество между уроженцами разных провинций, и свои сбивались в кучку, сторонясь чужих, и эстремадурцы язвили арагонцев, а те подкалывали валенсианцев, которые в свою очередь дразнили бискайцев, поминая все их недостатки и слабости, а сближала всех и роднила только общая ненависть к кастильцам. Звучали рискованные шуточки, отпускались шпильки, и каждый пыжился и кичился, корча из себя в сто раз больше того, что на самом деле. И вся эта шатия являла собой Испанию в миниатюре, ибо воспетые Лопе и Тирсо основательность, честь и гордость, считавшиеся свойствами национального духа, сгинули вместе с прошлым веком и ныне встречались разве лишь на театральных подмостках. Остались при нас только надменность да свирепость, так что если вспомнить, как мы сами к себе относились, какие жестокие нравы царили у нас, какое презрение питали мы к уроженцам иных краев и земель, то не вызовет удивления та ненависть, которая окружала нас в Европе и во всем мире.
Что же до участников нашего предприятия, то все вышеперечисленные пороки свойственны им были в полной мере, а вот добродетель пристала, как бесу — нимб над головой, лилейные крыла и арфа в руках. И при всей разности тех скудоумных, кровожадных и хвастливых людей, что плыли на нашем баркасе, было меж ними и нечто общее: всех пьянило обещанное золото, все с профессиональным тщанием насаливали свою ременную сбрую, а когда доставали из ножен клинки — почистить ли, или наточить, — сталь под солнечными лучами лоснилась ослепительным блеском. Я не сомневался, что мой хозяин, привычный и к таким людям, и к подобной жизни, мысленно тасовал колоду своих нынешних сподвижников, сравнивая их с теми, кого знавал прежде, и, значит, способен был предугадать или предвидеть, как покажет себя каждый из них, когда настанет ночь. Короче говоря, на кого можно положиться, а на кого — нет.
Еще засветло свернули мы в последнюю излучину реки, по берегам которой высились белые горы солеварен. Меж песчаных дюн и сосен виден стал порт Бонанса, стоявший в небольшой бухте, заполненной галерами и другими кораблями, а чуть поодаль — колокольня кафедрального собора и кровли самых высоких домов. Это и был Санлукар-де-Баррамеда. Матрос убрал парус, шкипер повел наш баркас к противоположному берегу широченной реки, милях в двадцати пяти отсюда впадавшей в океан.
Мы высадились прямо в воду, благо причалили к длинной песчаной косе, далеко вдававшейся в реку.
Из ближнего сосняка нам навстречу тотчас двинулись трое. Одеты они были на манер крестьян, собравшихся на охоту, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что с таким оружием, как у них, кроликов стрелять не ходят. Ольямедилья окликнул и отозвал в сторонку потолковать с глазу на глаз того, кто был, по-видимому, старшим — рыжеусого малого с военной выправкой, не вязавшейся с деревенским платьем, — а наша команда разлеглась в тени сосен на усыпанном опавшими сухими иголками песке. Счетовод продолжал беседу, время от времени бесстрастно кивая. Оба по временам поглядывали на довольно крутую возвышенность, вздымавшуюся шагах в пятистах, и рыжеусый пускался в пространные пояснения. Но вот наш счетовод простился с мнимыми охотниками, и те, окинув нас пытливым взглядом, двинулись в гущу сосняка. Ольямедилья же, украшая собой пейзаж, как чернильная клякса, подошел к нам.
— Всё там, где и должно быть.
Потом отвел в сторону моего хозяина и стал что-то говорить ему, понизив голос. Алатристе в продолжение его речи иногда вскидывал голову и оглядывал нас. Но вот счетовод замолк и дважды кивнул, отвечая на вопросы капитана. Потом они присели на корточки, Алатристе вытащил кинжал и принялся что-то рисовать на песке, то и дело поднимая глаза на счетовода, который всякий раз утвердительно наклонял голову. Так продолжалось довольно долго, пока хозяин мой не застыл в задумчивости. Потом подошел к нам и сообщил, как именно будем мы брать «Никлаасберген», — сообщил в немногих словах, деловито и сухо:
— Пойдем на двух лодках. Те, кто на первой, полезут на шканцы. И шуму побольше. Однако не стрелять. Пистолеты оставим тут.
Эти слова вызвали ропот, и кое-кто недовольно переглянулся с соседом. Пуля; конечно, дура, зато бьет точней шпаги и притом издали.
— Там будет свалка, и к тому же в темноте. Не хочу, чтобы мы перестреляли друг друга… Кроме того, если обнаружим себя раньше времени, с галеона по нам откроют огонь, прежде чем мы успеем подняться на борт. — Он помолчал, невозмутимо оглядывая слушателей. — Кому из вас, господа, приходилось служить королю?
Почти все подняли руки. Засунув большие пальцы за ременный пояс, Алатристе очень серьезно оглядывал одного за другим. Голос его был так же холоден, как и взгляд:
— Я имею в виду тех, кто на самом деле был на войне.
После этих слов многие замялись, затоптались, искоса переглядываясь. Двое опустили руки сразу, несколько человек — выждав, когда капитан отведет от них глаза. Помимо Копонса, былую принадлежность к испанской армии подтвердили Хуан Каюк, Сангонера, Энрикес-Левша, Андресито-Пятьдесят-горячих. Алатристе указал поочередно на Славянина, Сарама-го-Португальца, Хинесильо-Красавчика и морячка Суареса:
— Вот эти девятеро зайдут с носа. Но не раньше, чем первая партия завяжет бой на шканцах. Надо будет внезапно ударить в спину. Замысел в том, чтобы по якорной цепи незаметно и без шума взобраться на палубу. Встречаемся на корме.
— Кто старший? — спросил Пенчо Шум-и-Гам.
— Себастьян Копонс возьмет под начало тех, кто пойдет с носа. А со мной на корму пойдут Типун, Кампусано, Гусман Рамирес, Маскаруа, Кавалер и Галеон.
Слегка сбитый с толку, я глядел на тех и на других. Различие бросалось в глаза. Потом я сообразил, что Алатристе отдал лучших Себастьяну, оставив при себе самых недисциплинированных и ненадежных, если не считать мулата и Бартоло, который хоть храбёр был больше на словах, в присутствии капитана постарался бы не подкачать. Все это означало, что людям Копонса отводилась решающая роль, тогда как «партии кормы» предназначалось взять на себя основную тяжесть схватки — случись что не так, запоздай или промедли Копонс, потери там будут самыми большими. Так что отправлялись они, по совести говоря, на убой.
— Потом, — продолжал капитан, — перерубим якорный канат, и парусник приливом отнесет к берегу, на отмель возле песчаной косы напротив мыса Сан-Хасинто. Для этого получите два топора… Мы все останемся на борту, пока корабль не сядет на мель… Тогда сойдем на берег, и на этом наше дело будет окончено. Дальнейшим займутся другие — они предупреждены и будут нас ждать.
Все снова начали переглядываться… Тишину нарушал только доносившийся из сосняка однотонный треск цикад да звон роящихся над нами мошек.
— Сильное сопротивление ожидается? — осведомился Хуан Каюк, в раздумье покусывая кончик бакенбарда.
— Не знаю. Да уж стол нам не накроют.
— И сколько же их, еретиков этих?
— Это не еретики, а фламандцы-католики, что, впрочем, дела не меняет. Человек двадцать-тридцать, хоть некоторые сразу же попрыгают за борт… И вот еще что: пока жив хоть один человек из команды, — ни слова по-испански! — Алатристе взглянул на Сарамаго-Португальца, который внимательно слушал его со своим обычным благопристойно-серьезным выражением на породистом худом лице; из кармана колета, как всегда, выглядывала книга. — Хорошо бы вам, сударь, выкрикнуть что-нибудь на своем языке, да и тем, кто знает сколько-нибудь по-английски или фламандски — тоже… — Легкая улыбка мелькнула под усами. — Мы ведь с вами — пираты.
Последняя реплика разрядила обстановку. Послышались смешки, все начали переглядываться, откровенно позабавленные, ибо даже и для сего почтенного общества сравнение с пиратами было чересчур лестно.
— А что с теми, которые не бросятся в воду? — осведомился Маскаруа.
— Никто не должен живым добраться до отмели… Чем больше мы их напугаем, тем меньше придется убивать.
— Ну а раненые или те, кто поднимет руки?
— Нынче ночью пленных не будет.
Кто-то присвистнул сквозь зубы, кто-то хлопнул соседа по плечу, кто-то негромко хохотнул.
— А с нашими ранеными что? — спросил Хинесильо-Красавчик.
— Заберем с собой на берег — там им окажут помощь. И расплата — там же.
— А вот насчет убитых… — Галеон улыбался во все свое изборожденное рубцами лицо. — Нам заплатят, так сказать, аккордно или же долю убитых разделят на всех?
— Там видно будет.
Галеон оглядел товарищей и заулыбался еще шире:
— Да хорошо бы не «там», а здесь. Алатристе, выждав несколько мгновений, снял шляпу и, проведя ладонью по волосам, снова надел ее. Взгляд, устремленный на Галеона, был более чем красноречив:
— Для… кого… хорошо?..
Он произнес эти слова врастяжку и сильно понизив голос, с почтительной интонацией, искренность которой не ввела бы в заблуждение даже грудного младенца, а уж тем более — многоопытного Галеона. Тот все понял, опустил глаза и ничего не ответил. Ольямедилья приблизился к Алатристе и что-то прошептал ему на ухо. Капитан кивнул.
— Да, этот сеньор сейчас напомнил мне кое-что очень важное. Ни при каких обстоятельствах, никто, — тут он обвел всех заиндевелым своим взглядом, — ни один человек не имеет права спускаться в трюм этого корабля или взять себе в качестве трофея хоть нитку.
Сангонера, заинтересовавшись, вскинул руку:
— А если в трюм удерет кто-нибудь из экипажа?
— В этом случае я скажу, кому идти за ним.
Галеон задумчиво пригладил сальные космы, лежавшие на вороте колета, и высказал то, что было на уме у всех:
— А что ж такое лежит в этой дарохранительнице, на что и глянуть нельзя?
— Что надо, то и лежит. Вас не касается. Да и меня тоже. Надеюсь, однако, что повторять мне не придется. Нельзя — значит, нельзя.
— Под страхом смерти? — с грубым смехом осведомился Галеон.
Алатристе взглянул на него пристально:
— Вот именно.
— Знаете, сударь, это, пожалуй, перебор, — заговорил тот, с задорным видом попеременно выставляя вперед то одну ногу, то другую: — Хотел бы вам напомнить, черт возьми, что пугать нас не надо: мы тут все пуганые. И такие угрозы сносить не намерены. Побожусь, что…
— Плевать мне на ваши намерения, — оборвал его капитан. — Я предупредил. Назад хода нет.
— А если нам это не нравится?
— «Мы… нам… нас…»? Сколько вас? Раз. Вот и говорите за себя одного. — Капитан медленно провел двумя пальцами по усам и показал в сторону сосняка. — И с вами лично я готов обсудить все с глазу на глаз вон в том лесочке.
Галеон молча обратился за поддержкой к своим товарищам. Кое-кто — впрочем, далеко не все — поглядывал на него одобрительно. Бартоло Типун, с грозным видом насупив устрашающие брови, поднялся и подошел к Алатристе, готовый стать на его защиту Да и я потянулся за своим кинжалом. Большая часть, однако, отводила глаза, криво ухмылялась п ри виде того, как капитан поигрывает пальцами по эфесу своей шпаги. Всякий был бы не прочь полюбоваться Алатристе в роли учителя фехтования: те, кто уже был наслышан о жизненном его пути, успели поведать это остальным, а Галеон со своим низкопробным высокомерием и бахвальством, совершенно неуместным в среде этих людей, битых, мытых и тертых, симпатий себе не снискал.
— Успеется еще… — процедил он, стараясь не терять лица.
Кое-кто из присутствующих скорчил разочарованную гримасу, кое-кто пихнул соседа локтем в бок, сожалея, что нынче задушевных разговоров в лесочке не будет.
— Как только захотите, — мягко отвечал Алатристе, — я к вашим услугам.
Больше никто ничего обсуждать не пожелал, предложенная банкометом ставка всем показалась чересчур высока. Воцарилось спокойствие, Типун вернул брови в первоначальное состояние, и каждый занялся своим делом. Я заметил, что лишь тогда Себастьян Копонс выпустил из пальцев рукоять пистолета.
Под звон мошкары, норовившей облепить наши щеки и лбы, мы осторожно высунули головы из-за гребня высокой дюны. Послеполуденное солнце ярко освещало раскинувшуюся перед нами бухту Санлукара.
Между портом Бонанса и мысом Чипиона, милях в пяти от того места, где Гвадалквивир впадает в море, частым лесом высились мачты каравелл, галеонов, шхун и прочих кораблей — крупных и мелких, океанских и малого каботажа, стоявших на якоре или сновавших взад-вперед по всей акватории, уходившей к востоку, в сторону Роты и гавани Кадиса. Одни ожидали прилива, чтобы подняться к Севилье, другие перегружали содержимое своих трюмов на баркасы и лодки, третьи, после того, как королевские таможенники поднимутся на борт и освидетельствуют карго, должны были взять курс на Кадис. На левом, дальнем от нас берегу раскинулся цветущий Санлукар: новые дома его спускались едва ли не к самой воде, а на высоком холме виднелись обнесенные стеной старинный замок, герцогский дворец, кафедральный собор и здание таможни, которая в такие дни, как сегодня, казалась, наверное, своим служащим райским садом. Позлащенный щедрым солнцем город у кромки воды, сплошь заполненной рыбачьими лодками, вытащенными на прибрежный песок, кишел людьми, а между стоящими на рейде кораблями и причалами постоянно курсировали суденышки под парусами.
— Вон «Вирхен де Регла», — промолвил Ольямедилья.
Он произнес эти слова, понизив голос, как будто его могли услышать на другом берегу реки, и мокрым платком отер пот со лба. Счетовод был еще бледней, чем всегда: он явно не привык много ходить, а тем более карабкаться по дюнам и продираться через кусты — от жары и нагрузки ему было не по себе. Выпачканный в чернилах палец указывал на крупный галеон, который носом к южному ветру, ерошившему поверхность воды, стоял на якоре между Бонансой и Санлукаром на безопасном расстоянии от песчаной косы, обнаруживавшейся благодаря отливу.
— А вот это и есть «Никлаасберген», — ткнул его палец в парусник по соседству.
Я проследил взгляд Алатристе. Натянув шляпу на самые глаза, чтобы солнце не било, капитан внимательнейшим образом рассматривал галеон. «Никлаасберген» стоял чуть в стороне от других кораблей, ближе к нашему берегу, на траверзе мыса Сан-Хасинто и сторожевой башни, предназначенной для дальнего оповещения о подходе берберийских, голландских и английских пиратов. Черный, довольно короткий трехмачтовик, вида уродливого и неуклюжего, с высокой массивной кормой, выкрашенной под стеклянным фонарем в бело-красно-желтый цвет. Паруса убраны. Самое что ни на есть обычное и ничем не примечательное грузовое судно. Развернут носом к югу; орудийные люки открыты — вероятно, чтобы проветрить нижние палубы.
— Стоял на якоре рядом с «Вирхен», пока не рассвело, — объяснил Ольямедилья. — Потом переместился сюда.
Капитан всматривался в парусник, напоминая мне хищную птицу, которая, чуть стемнеет, ринется на добычу.
— Все золото на борту? — спросил он.
— Нет, не все. Чтобы не возбуждать подозрений, решили не задерживаться рядом с фламандцем… Остаток перегрузят, когда стемнеет. На лодках.
— И сколько же времени у нас в запасе?
— Он поднимет паруса не раньше, чем рассветет и начнется прилив.
Ольямедилья указал на развалины каменного навеса, стоявшего на берегу. За ними угадывалась песчаная отмель, которую отлив оставлял на виду.
— Вот это место, — продолжал счетовод. — Даже когда вода высоко, можно добраться до берега.
Алатристе повел глазами, рассматривая черные скалы, торчавшие из воды.
— Я помню эту мель. Еще бы мне ее не помнить… Галеры всегда старались разминуться с ней.
— Не о чем беспокоиться. В этот час нам будут благоприятствовать прилив, ветер и течение реки.
— Что ж, тем лучше. Но если нас вынесет не на песок, а на эти скалы, ручаюсь, что потонем. И золото утопим.
Ползком, стараясь не поднимать головы, мы вернулись к остальным. Они лежали на разостланных плащах, погрузившись в терпеливое ожидание, неотъемлемое от избранного ими рода занятий. Причем сами, без приказа, движимые безотчетным побуждением, разделились надвое, согласно капитановой диспозиции.
Солнце скрылось за верхушками сосен. Алатристе опустился на землю, придвинул к себе бурдючок и отпил вина. Расстелив одеяло, я улегся рядом с Себастьяном Копонсом, который дремал, лежа на спине, закрыв лицо носовым платком от мошкары и сложив ладони на рукояти кинжала. Ольямедилья подсел к Алатристе. Большими пальцами он вертел, а прочие сцепил в замок.
— С вами пойду, — произнес он негромко.
Я видел, как капитан, задержав на полдороге бурдюк, воззрился на счетовода и лишь после паузы ответил:
— Не самая удачная мысль.
Счетовод — осунувшийся и бледный, с отросшей за время пути эспаньолкой — казался сейчас особенно тщедушным и хилым. Однако губы его сжались упрямо:
— Это моя обязанность. Я — королевский чиновник.
Капитан некоторое время раздумывал, вытирая усы тыльной стороной ладони. Потом отложил бурдюк и откинулся на песок.
— Дело ваше. Никогда не влезаю в то, кто кому что обязан. — Помолчал, предаваясь размышлениям, и добавил, пожав плечами: — Будете под началом у Себастьяна.
— Почему не под вашим?
— Потому что не стоит класть все яйца в одну корзину.
Ольямедилья устремил на меня взгляд, который я выдержал, не моргнув:
— А мальчик?
Алатристе, мельком посмотрев на меня, расстегнул пряжку ремня, сняв его, обмотал вокруг шпаги и кинжала. Положил на свернутое валиком одеяло, служившее ему изголовьем, снял колет.
— Иньиго будет при мне.
И, сдвинув шляпу на лицо, распростерся, намереваясь отдохнуть. Ольямедилья поглядел на него и снова завертел большими пальцами. Сегодня он казался не таким непроницаемо-бесстрастным, как прежде: создавалось впечатление, будто его томит некая мысль, которую он не осмеливается высказать. Но вот он все же решился:
— А скажите, что будет, если люди сеньора Копонса промедлят?.. Или не успеют вовремя извлечь из трюма то, что нам нужно?.. Иными словами… Кхм… Что будет в том случае, если с вами, капитан, что-нибудь случится?
Алатристе, не шевельнувшись и не сдвигая шляпу, закрывавшую ему лицо, ответил:
— Что будет, не знаю. А вот чего не будет, могу сказать определенно: дела мне — до «Никлаасбергена».
Я заснул. Как часто случалось во Фландрии перед переходом или боем, — смежил вежды и постарался использовать досуг, чтобы восстановить силы. Поначалу это была легкая дремота: я то и дело открывал глаза, ловя последний свет дня, посматривая на разлегшихся вокруг товарищей, слушая их дыхание и похрапывание, приглушенные разговоры. Капитан по-прежнему лежал неподвижно, накрывшись шляпой. Но постепенно меня сморило, и я плавно закачался на черных ласковых волнах, уносивших меня в открытое море, до самого горизонта заполненное бесчисленными парусами. Как всегда бывало, появилась под конец и Анхелика де Алькесар. И опять я утонул в глубине ее глаз и ощутил сладостное прикосновение ее губ. Я оглянулся по сторонам, ища, с кем бы поделиться своей радостью, и тотчас увидел в туманной дымке голландского канала неподвижные тени отца и капитана Алатристе. Шлепая по грязи, кинулся к ним и поспел как раз вовремя, чтобы обнажить шпагу перед неисчислимой ратью призраков, встающих из могил в заржавленных латах и шлемах, сжимающих костлявыми руками оружие, глядящих на нас бездонными пустотами глазниц. И открыл рот, чтобы выкрикнуть в тишине древние слова, уже лишенные смысла, ибо время уже вырывало их у меня изо рта одно за другим.
Чья-то рука легла мне на плечо, и я проснулся.
— Пора, — шепнул капитан мне на ухо, почти щекоча его усами. И я открыл глаза. Костров не разводили, огня не зажигали. Ущербная луна лила слабый свет, в котором, впрочем, можно было разглядеть движущиеся вокруг меня силуэты. Слышались краткие слова, произносимые полушепотом. Я по звуку определял, что происходит — вдвигаются шпаги в ножны, застегиваются пуговицы, плотней затягиваются все ремни, пряжки и крючки, место шляп занимают головные платки, обматывается тряпьем оружие, чтобы бряцаньем своим не выдало раньше времени. Как приказал капитан, пистолеты оставили на берегу вместе со всем прочим скарбом: на захват «Никлаасбергена» мы шли с холодным оружием.
Развязав на ощупь наш баул, я надел свой новый замшевый колет — еще достаточно плотный и толстый, чтобы защитить от скользящих ударов. Потуже приладил ремешки альпаргат, закрепил кинжал на поясе, для надежности прихватив рукоять бечевкой, и перекинул через плечо кожаную перевязь со шпагой, доставшейся от альгвазила. Вокруг меня товарищи высасывали последние капли вина из бурдюков, облегчались перед боем, переговаривались вполголоса. Алатристе на ухо давал Копонсу последние наставления. Отступив на шаг, я наткнулся на счетовода Ольямедилью, который узнал меня и без особой сердечности похлопал по спине — приняв в рассуждение, сколь кисел сей субъект, это можно было расценить как наивысший знак дружеского расположения. Я заметил, что и у него к поясу прицеплена шпага.
— Пошли! — скомандовал капитан.
И мы, увязая в песке, двинулись. Кое-кого из тех, кто шагал рядом, я узнавал — вот долговязая и худощавая фигура Сарамаго-Португальца, вот широкоплечий силуэт Бартоло Типуна, а вот приземистая тень Себастьяна Копонса. В ответ на брошенную кем-то шутку прозвучал задавленный смех мулата Кампусано. Капитан шикнул, и больше никто уже не осмеливался переговариваться в полный голос.
Когда проходили мимо сосняка, оттуда донеслось ржанье, и я заметил меж деревьев несколько лошадей, а рядом — смутные очертания их хозяев. Без сомнения, это были те люди, которым после того, как галеон сядет на мель, предстояло заняться золотом в трюме. Подтверждая мою догадку, из-под сосен выступили три фигуры, и, приглядевшись, я узнал в них мнимых охотников. Они о чем-то кратко посовещались с подошедшими к ним капитаном и Ольямедильей и вновь скрылись в чаще. Теперь мы поднимались по крутому склону дюны, по щиколотку увязая в песке, и на его светлом фоне четче вырисовывались наши силуэты. Когда достигли вершины, донесся до нас шум прибоя, и легкий ветерок освежил разгоряченные лица. Перед нами возникло обширное темное пятно, на котором до самого невидимого горизонта поблескивали светящиеся точки — кормовые стояночные огни мерцали в черной воде, как отражения звезд. Вдалеке, на другом берегу, можно было различить фонари Санлукара.
Теперь мы приближались к урезу воды, и песок глушил звук шагов. Позади раздался голос Сарамаго-Португальца, еле слышно читавшего:
Передо мной приборы разложили, Я высоту стал солнца замерять, Спеша найти с усердьем неизменным, Тех мест расположенье во Вселенной[88].— Что это за бред? — осведомился кто-то, и португалец, нимало не обидевшись, объяснил, несколько гнусавя и подсвистывая на согласных, что на Лопе и Сервантесе свет клином не сошелся, есть еще и Кэмоинш, а сам он, Сарамаго, перед схваткой всегда повторяет эти строки, идущие у него из глубины души, а кому не пришлись по вкусу «Лузиады», тот может отправляться к такой-то и такой-то матери.
— Передо мной приборы разложили, а мы на вас с прибором положили, — вполголоса откликнулся кто-то.
Иных комментариев не последовало, и Сарамаго продолжал бормотать себе под нос бессмертные октавы. Привязанные к сваям, покачивались на воде две лодки, явно предназначенные для нас: в каждой сидело по человеку. Мы столпились на берегу в ожидании.
— За мной, — сказал Алатристе своим.
Он был без шляпы, в нагруднике из буйволовой кожи, с кинжалом и шпагой у пояса. Разделившаяся надвое команда стала прощаться — зазвучали шуточки, пожелания удачи и неизбежное при сей верной оказии бахвальство насчет того, сколько глоток перережет каждый, только дай. Не было недостатка и в бранных словах, звучавших, когда кто-нибудь оступался в темноте, и призванных скрыть известную тревогу. Себастьян Копонс повел своих людей ко второй лодке.
— Дашь нам отплыть — и давай следом, — тихо сказал ему капитан. — Не сразу, но особенно не тяни.
Тот по своему обыкновению ограничился безмолвным кивком и остался на берегу, покуда его партия грузилась в лодку. Последним полез счетовод Ольямедилья, едва различимый в темноте в своем темном одеянии. Предпринимая героические усилия перевалиться через борт, силясь высвободить запутавшуюся между ног шпагу, он шлепал по воде, покуда его не втащили в лодку.
— Пригляди за ним, если сможешь, — прибавил Алатристе.
— Окстись, Диего, — отозвался арагонец, туго обвязывая платок вокруг головы. — Не многовато ли поручений для одной ночи?
Алатристе еле слышно рассмеялся сквозь зубы:
— Кто бы мог подумать, а? Опять резать фламандцев — но уже в Санлукаре…
Копонс тоже хмыкнул:
— Когда рука набита, не все ли равно, где… Войдя в воду примерно по щиколотку, я перенес ногу через борт и устроился на банке. Через мгновение к нам присоединился и капитан.
— На весла! Навались!
Мы разобрали весла, вставили уключины и начали грести, с каждой минутой удаляясь от берега, а сидевший на корме рулевой направлял лодку к дрожавшему на поверхности воды световому пятну. Вторая лодка держалась поблизости, гребцы почти беззвучно погружали и вытаскивали весла.
— Медленней, — сказал Алатристе. — Медленней…
Я сидел рядом с Бартоло и, уперев ноги в переднюю банку, равномерно подавался вперед, почти достигая подбородком колен, и откидывался назад вместе с тяжеленным веслом. В этот миг я поднимал голову к небу, усыпанному отчетливо видными звездами. А наклоняясь, иногда оглядывался через плечо. Свет на корме галеона был все ближе.
— Ну чем тебе не галеры… Все-таки не удалось от них отвертеться… — бормотал рядом со мной Типун, с усилием занося лопасть.
Вторая лодка — на носу виднелся знакомый силуэт Копонса — начала отставать. Потом и вовсе исчезла во тьме — слышался только приглушенный плеск воды. Вот смолк и он. Ветер свежел, легкая зыбь раскачивала лодку, грести в лад становилось все труднее. На полпути капитан приказал смениться, чтобы гребцы не выбились из сил перед боем. Пенчо Шум-и-Гам сел на мое место, а Маскаруа заменил Бартоло Типуна.
— Никому — ни звука, — шепнул Алатристе. — И глядеть в оба!
Мы были уже совсем близко. Я видел громоздкий темный корпус, врезанные в ночное небо очертания мачт. Горевший на шканцах фонарь высвечивал корму. Второй, стоявший на палубе, озарял бакштаги[89], переплетение снастей и основание грот-мачты. Свет просачивался также из открытого орудийного люка. На палубе не было ни души.
— Суши весла! — приглушенно скомандовал капитан.
Лодка закачалась на мелкой волне. От огромной кормы нас отделяло не больше двадцати футов. В воде, у нас под самым носом, дрожало отражение кормового фонаря. С борта галеона свисала веревочная лестница — шторм-трап.
— Готовь кошки.
Из-под банок достали бухты узловатых тросов с прикрепленными к ним абордажными четырехлапыми крючьями.
— Помалу вперед! Тихо…
Еще несколько ударов веслами — и мы продвинулись к самому борту. Прошли под высоченной черной кормой, отыскивая места, которые сигнальный фонарь оставлял во тьме. Все мы напряженно смотрели вверх, затаив дыхание, ожидая, что в любую минуту там мелькнет голова, раздастся крик, сигнал тревоги, а за ним следом грянет залп из аркебуз или ударит картечь. Весла легли на дно лодки, и та, проскользив еще немного, ткнулась в деревянную обшивку борта как раз под болтающимся шторм-трапом. Мне показалось, что звук этого удара должен был перебудить всех на свете. Однако на галеоне все было по-прежнему тихо. Лодка, будто и ей передалось снедавшее нас напряжение, заходила ходуном, когда мы лихорадочно начали освобождать оружие от тряпья, готовясь к подъему. Я затягивал потуже все шнуры на своем колете, когда увидел совсем близко лицо капитана. Глаз его я различить не мог, но знал — он смотрит на меня.
— Помни, мой мальчик: каждый за себя, — тихо проговорил Алатристе.
Я кивнул, хоть и знал, что он не увидит этого. Потом рука его на краткий миг крепко стиснула мое плечо. Я поднял глаза, сглотнул слюну. До палубы было футов шесть с половиной.
— Наверх! — прошептал капитан.
Теперь фонарь освещал ястребиный профиль, густые усы. Позванивая шпагой и кинжалом у пояса, он, глядя вверх, полез по шторм-трапу. Я, не размышляя, последовал за ним, слыша, как мои товарищи, уже не скрываясь, закидывают кошки, с глухим стуком ударяющиеся о палубу и фальшборт. Не существовало уже ничего, кроме напряжения почти болезненного, судорогой сводившего мои мышцы и все нутро, покуда я карабкался по веревочной лестнице, торопливыми рывками подтягиваясь со ступеньки на ступеньку, скользя по обшивке борта.
— Ах, чтоб тебя!.. — сказал кто-то внизу.
И в тот же миг у нас над головами раздался крик — я увидел голову, смутно освещенную с кормы. Не веря своим глазам, моряк смотрел на карабкающихся по борту. Он и не успел поверить, что это ему не снится — добравшийся доверху капитан Алатристе по самую рукоять вонзил ему в горло кинжал. Но послышались крики, затопали ноги по палубам. Из орудийных люков показались еще несколько голов, высунулись — и тотчас скрылись, залопотав по-голландски. Задев меня каблуком, капитан спрыгнул на палубу. Выше, на шканцах, мелькнула фигура: я увидел тлеющий фитиль, а затем — ослепительную вспышку. Грохнула аркебуза. Один из наших, по веревке лезший на борт рядом со мной, разжал руки и опрокинулся в воду, не успев даже вскрикнуть. Раздался всплеск
— Пошел! Пошел! — кричали, подсаживая друг друга, люди Алатристе.
Сжав зубы, втянув голову в плечи, словно это могло сберечь ее, торопясь что было сил, я одолел последние дюймы, перелез через фальшборт, спрыгнул на палубу — и немедленно поскользнулся, угодив ногой в огромную лужу крови. Весь вымазанный ею, выпрямился, опираясь о бездыханное тело убитого Алатристе моряка. Над ограждением возник Бартоло Типун — глаза выпучены, бородатое лицо перекошено зверской гримасой, чему весьма способствовал огромный тесак, который он держал в зубах. Мы вместе оказались у основания бизань-мачты, рядом с трапом, ведущим на шканцы. Через борт переваливались один за другим наши, и казалось чудом, что на шум, на свист и лязг обнажаемых клинков еще не сбежался весь экипаж галеона, чтобы устроить нам достойную встречу.
Я выхватил шпагу, в левую руку взял кинжал и начал озираться в поисках противника. И он не замедлил появиться: на палубу откуда-то снизу выскочили целой оравой люди, такие же рослые и рыжеватые, как те, кого знавали мы во Фландрии, а другие уже заполнили корму и шкафут, и набралось их, пожалуй, многовато. Увидел, как капитан Алатристе с дьявольским проворством рубит и колет, пробивая себе путь к шканцам, я бросился к нему на помощь, не удосужившись посмотреть, следуют ли за мной Типун и прочие. Повторяя имя Анхелики де Алькесар, как твердят молитву перед смертью, с диким протяжным воплем кинувшись в схватку, я вдруг с необыкновенной, с предельной, так сказать, отчетливостью осознал — если Себастьян Копонс промедлит, то здесь, на палубе «Никлаасбергена», приключения наши и завершатся.
IX. Старые друзья, старые враги
Руки, сжимавшие шпагу и кинжал, онемели. Диего Алатристе охотно отдал бы жизнь — которой, впрочем, оставалось совсем пустяки — за то, чтобы опустить оружие и хоть минутку передохнуть. К этому времени он дрался, руководствуясь старинным правилом «Делай, что должен, и будь, что будет», и, быть может, безразличие к исходу, как ни странно, помогало ему оставаться живым в свалке и сумятице рукопашной. Со всегдашним своим хладнокровием он отражал и наносил удары, не осмысляя своих действий, почти не глядя, полагаясь на то, что руки-ноги сами знают, как им поступить в каждый следующий миг. Человеку, попавшему в такую переделку, разум мог только навредить; следовало доверяться лишь безотчетным побуждениям — инстинкту, говоря языком нынешних ученых мужей: только он и мог совладать с судьбой.
… Вонзив шпагу в грудь противника, он оттолкнул его, чтобы легче было извлечь клинок. В воздухе висели стон, крик, брань, а когда время от времени вспышка выстрела озаряла полутьму, можно было видеть плотный клубок сражающихся и кровавые ручьи, стекавшие к самым шпигатам[90] из-за того, что галеон покачивался на легкой зыби.
Алатристе парировал удар короткой сабли, отклонился и сделал выпад, попавший, впрочем, в пустоту. Противник отскочил и тотчас обернулся к тому, кто налетел сзади. Капитан, воспользовавшись этим кратчайшим затишьем, привалился спиной к переборке, перевел дух. Перед ним, хорошо освещенные кормовым фонарем, высились ступени трапа — путь на шкафут был свободен. Чтобы добраться сюда, пришлось уложить троих, а ведь никто не предупредил его, что их будет столько. Там, на высокой кормовой надстройке, вполне можно было бы продержаться до подхода Копонса, но, оглядевшись по сторонам, Алатристе убедился — почти все его люди завязли на палубе, дрались насмерть и не в силах были продвинуться ни на пядь.
Ну, значит, о шкафуте можно забыть, со всегдашним своим смирением подумал он, и вновь кинулся в бой. Всадил кинжал кому-то в спину — быть может, своему недавнему противнику — повернул лезвие в ране, расширяя ее, вырвал клинок, услышал отчаянный крик. Совсем рядом грохнуло и сверкнуло — зная, что у его людей только холодное оружие, Алатристе кинулся туда, откуда стреляли, рубя вслепую. Кто-то схватил его за руки, он сбил нападавшего с ног и с ним вместе повалился на залитую кровью палубу, ударил противника головой раз и другой, почувствовал, что рука, держащая кинжал, свободна, и просунул его между собой и фламандцем. Тот вскрикнул, ощутив режущее прикосновение, на четвереньках метнулся прочь. Алатристе перекатился в сторону и сейчас же на него грузно свалилось чье-то тело, раздались причитания по-испански: «Пречистая Дева, Иисус-Мария…» Он не знал, кто это, а выяснять времени не было. Выбрался из-под него, вскочил на ноги, со шпагой в одной руке, с кинжалом — в другой, огляделся и увидел, что мрак редеет и высвечивается розовым. Крик вокруг стоял ужасающий, и нельзя было ступить шагу, чтобы не поскользнуться на крови.
Звон и лязг. Время замедлило ход, капитан дивился тому, что на каждый его выпад не отвечают десятью-двенадцатью чужими. Почувствовал сильный удар в лицо, ощутил во рту такой знакомый металлический привкус крови. Вскинув шпагу, рубанул наотмашь — и расплывающееся белесое пятно перед ним с воплем отшатнулось. Прилив и отлив рукопашной вновь вынесли его к ступеням трапа, где было светлей, и он с удивлением убедился, что локтем прижимает к боку чью-то шпагу, бог знает как давно вырванную у противника. Выронил ее на палубу, резко обернулся, потому что показалось — кто-то лезет сзади, и, уже занеся шпагу, узнал свирепое бородатое лицо Бартоло Типуна: не разбирая, где свои, где чужие, он размахивал тесаком, и пена текла у него изо рта. Алатристе развернулся в другую сторону — и как раз вовремя: у самых глаз мелькнуло острие короткой абордажной пики. Отпрянул, отбил и сделал выпад с такой силой, что ушиб себе пальцы, когда острие шпаги, с глухим скрипом ввинтившись в тело, наткнулось на кость. Дернул локтем, чтобы высвободить завязший клинок, и, споткнувшись о бухту каната, спиной вперед упал на ступени трапа. О-охх. Показалось, что он сломал себе хребет. Сверху кто-то молотил его прикладом аркебузы, и капитан отдернул голову, вжал ее в плечи. Чувствуя, как дьявольски ломит спину, он хотел застонать: протяжный, сквозь зубы, стон — превосходный способ обмануть боль, заглушить ее, — но из глотки не вырвалось ни звука. В голове звенело, во рту по-прежнему было солоно от крови, распухшие пальцы едва удерживали рукоять шпаги. Не броситься ли за борт: староват становлюсь для таких дел, мелькнула горькая мысль.
Переведя дух, Алатристе обреченно вернулся к схватке. Здесь тебе и конец, Диего, подумал он. В тот миг, когда он, поднявшись на первую ступень трапа, оказался в круге света, кто-то выкрикнул его имя — и в этом восклицании слышались разом и злоба, и удивление. Капитан не без растерянности обернулся, выставив перед собой шпагу. И с усилием сглотнул слюну вместе со скопившейся во рту кровью, не веря своим глазам. Пусть меня распнут на Голгофе, если это не Гвальтерио Малатеста.
— Рядом со мной умирал Пенчо. Матрос-фламандец, с которым дрался мурсиец, выстрелом в упор снес ему челюсть, так что осколки костей долетели до меня. Он еще не успел опустить пистолет, как уже в следующий миг точным, быстрым и отчетливым движением я полоснул его клинком по горлу, так что матрос рухнул на Пенчо, пробулькав что-то по-своему. Крутя «мельницу», я удерживал на почтительном расстоянии прочих. Трап, ведущий на шканцы, был слишком далеко, пробиться туда я не мог, а потому мне оставалось то же, что и всем — держаться, пока Себастьян Копонс не подоспеет на выручку. Я уже не шептал имя Анхелики и даже не взывал к Господу Всемогущему — сил хватало лишь на то, чтобы спасать свою шкуру от лишних отверстий. Довольно долго я отбивался, парировал и отражал удары, а кое-какие — и возвращал. Иногда в неразберихе боя мне казалось, что я вижу вдалеке капитана Алатристе, но попытки пробиться к нему не удались. Слишком много людей резали друг друга на этом пути.
Наши дрались грамотно и умело, решительно и со знанием дела, как люди, все поставившие на карту, но и команда галеона далеко превзошла худшие наши ожидания, так что мало-помалу моряки оттеснили нас к борту, на который мы влезли при начале нашего предприятия. Что ж, сказал я себе, по крайней мере, я умею плавать. Палуба была завалена трупами, на каждом шагу мы спотыкались о раненых — стонущих, корчащихся. Становилось жутко. Нет, смерть меня не пугала, это в порядке вещей, как сказал Никасио Гансуа перед казнью. Страшили меня увечья и поражение.
… Очередной противник оказался не рыжим и долговязым фламандцем, а скорее всего — соотечественником, бородатым и худосочным. Он нанес мне несколько рубящих ударов, орудуя шпагой, как двуручным рыцарским мечом, но успеха не достиг: не растерявшись, я встал потверже, и, когда он предпринял третью или четвертую попытку и занес шпагу, — с похвальным проворством вогнал ему свой клинок в грудь по самую рукоять, оказавшись так близко к нему, что почувствовал его дыхание и едва не столкнулся с ним лбами. Мы вместе упали на палубу, и, услышав, как сломалось о настил острие шпаги, насквозь пронзившей бородатого, я раз пять или шесть ткнул его в живот кинжалом. Когда он выкрикнул что-то по-испански, я решил было, что ошибся и зарезал своего, но при свете кормового фонаря увидел незнакомое лицо. Значит, на борту есть испанцы, понял я. Да не просто испанцы, а — по одежде и настырности судя — вояки.
Я поднялся на ноги в некотором смятении. Это, черт возьми, в корне меняет дело — и не в нашу пользу. Но предаваться размышлениям мне было недосуг — вокруг шел ожесточенный бой. Ища, чем бы заменить сломанную шпагу, я подобрал с палубы кривую абордажную саблю с коротким широким лезвием и массивной рукоятью. Это тебе не шпага с узкими долами и сходящим на нет острием — таким оружием можно было прорубить себе дорогу и в чаще леса, и в гуще схватки. Последним я и занялся и даже сам поразился тому, какой поднялся вокруг треск и хруст. Наконец я пробился к своим, представленным мулатом Кампусано, у которого из рассеченного наискось лба хлестала кровь, и Кавалером — этот дрался вяло, из последних сил, и отыскивал глазами лазейку, чтобы махнуть за борт.
Перед глазами сверкнул клинок. Еще занося саблю, чтобы отбить выпад, я с ужасом понял, что допустил оплошность. Но было уже поздно: в этот миг что-то острое сверху вниз пронизало замшу колета, вонзилось в тело, и я, объятый ужасом до мозга костей, почувствовал, как ледяная сталь, разрезая кожу и мышцы, въезжает мне меж ребер.
Все сходится, мельком подумал Диего Алатристе, становясь в оборонительную позицию. Золото, Луис де Алькесар, появление Гвальтерио Малатесты в Севилье, а теперь — и на борту фламандского галеона. Итальянец сопровождает груз — вот почему получили капитан и его люди столь неожиданный и ожесточенно-умелый отпор: противостояли им не моряки, а такие же головорезы-наемники, как они сами. Проще говоря, перегрызлись собаки с одной псарни.
Но размышлять было некогда: оправившись от первоначального удивления — а нежданная встреча ошеломила итальянца не меньше самого капитана, — черный и грозный Малатеста уже приближался, выставив шпагу. Недавнюю усталость как рукой сняло. Чтобы взбодриться, ничего нет лучше застарелой ненависти — вот и у капитана в жилах вскипела и забурлила кровь. И страсть к убийству пересилила инстинкт самосохранения. Алатристе даже оказался проворней противника и четким парадом отбил первый выпад, причем острие его шпаги прошло в дюйме от лица итальянца, который, споткнувшись, едва успел отшатнуться. На этот раз, подумал капитан, придется тебе обойтись без тирури-та-та и подобных штучек — не до них тебе будет.
Прежде чем Гвальтерио Малатеста опомнился, капитан начал теснить его, одновременно угрожая шпагой и кинжалом, заставляя отступать и не давая итальянцу пространства для маневра. Вот они сшиблись вновь у ступеней трапа: со звоном и лязгом столкнулись массивные гарды, скрестились лезвия кинжалов, — потом схватка увлекла их к противоположному борту. Малатеста, пятясь, споткнулся о винград[91] бронзового орудия, на миг потерял равновесие, и Алатристе с удовольствием заметил, как в глазах противника мелькнул страх, когда он одновременно ткнул кинжалом и нанес рубящий удар шпагой, которая, к несчастью, повернулась в руке так, что пришелся он плашмя. Этой мгновенной заминки хватило, чтобы итальянец, издав крик свирепой радости, с поистине змеиным проворством сделал ответный выпад — и если бы капитан не отпрянул, то сейчас же покинул бы сию слезную юдоль.
— Как тесен мир, — заметил Малатеста, едва переводя дыхание.
Было видно, что нежданная встреча со старым врагом до сих пор удивляет его. Капитан же промолчал — лишь встал потверже и принял первую позицию. Чуть пригнувшись, выставив клинки, они какое-то время мерили друг друга взглядами, выбирая удобный момент для атаки. Вокруг кипела схватка, и людям Алатристе приходилось солоно. Итальянец исподлобья оглядел место действия:
— На этот раз ты проиграл, капитан. Откусил больше, чем сможешь заглотнуть… — Черный, как Парка, с рябым, исполосованным шрамами лицом, он улыбался в сознании своего превосходства. — Надеюсь, тебе хватило ума не брать с собой мальчишку?..
Алатристе знал — это его слабое место: излишняя разговорчивость пробивает бреши в обороне. Он сделал выпад. Острие вонзилось в левую руку итальянца, заставив его выругаться и выронить кинжал. Капитан воспользовался этим и сверху вниз нанес своим кинжалом удар такой силы, что едва устоял на ногах. Лезвие ударилось о ствол орудия. Мгновение они с Малатестой стояли вплотную друг к другу, словно обнявшись, потом разом отпрянули, освобождая место для того, чтобы действовать шпагой, причем каждый стремился опередить противника. Затем, опираясь свободной — и болезненно нывшей — рукой о ствол, Алатристе пнул итальянца, отшвырнув того к борту. В это время за спиной у него на шканцах поднялся крик, на палубе засверкали новые клинки. Он не обернулся, но когда на лице Малатесты вдруг отразилась крайняя озабоченность, если не отчаяние, капитан понял: Себастьян Копонс со своими людьми только что влез на борт «Никлаасбергена» со стороны носа. Подтверждая его догадку, итальянец витиевато выругался на родном языке, помянув Иисуса Христа и Пречистую Деву.
Зажимая рану, я отползал в сторону, покуда не при-, валился спиной к бухте канатов возле борта. Расстегнулся, чтобы осмотреть правое подреберье, куда угодила шпага, — но ничего в темноте не разглядел. Зато почувствовал, как болит бок и как кровь сочится у меня между пальцами, стекая к пояснице и ляжкам, по ногам на палубу, и без того уже мокрую. Надо что-то делать, мелькнуло у меня в голове, иначе я в самом скором времени помру. От этой мысли, совсем ослабев, я стал жадно глотать воздух, стараясь не лишиться чувств, ибо в сем случае я нечувствительно изошел бы кровью, как приколотый кабанчик Вокруг шла схватка, и товарищи мои были слишком заняты, чтобы оказывать мне помощь, не говоря уж о том, что на зов мог подоспеть недруг и облегчить мои страдания, полоснув меня по горлу. Так что я предпочел помалкивать и справляться сам. Перевалившись на здоровый бок, я ощупал рану, силясь определить, насколько она глубока. Не больше двух пядей, спасибо замшевому колету, смягчившему удар — не зря уплатил я за обновку двадцать эскудо. Дышать было не больно, стало быть, легкое не задето, однако кровь не унималась, и я слабел с каждой минутой. Не законопатишь эту дыру, Иньиго, — можешь заказывать по себе панихиду. Приложить бы щепотку земли, чтобы кровь свернулась и запеклась, но где ж я тебе тут возьму землю? Не было даже чистой тряпицы. Обнаружив, что кинжал мой при мне, отрезал подол рубахи, скомкал и прижал к ране. Невзвидев света от боли, закусил губу чтобы не взвыть.
В голове мутилось все больше. Ладно, ты сделал все, что мог, утешал я себя, чувствуя, что неуклонно соскальзываю в черный бездонный провал, разверзшийся под ногами. Я не думал об Анхелике — да и вообще ни о чем не думал. Слабея с каждым мгновением, я привалился затылком к борту, и мне показалось, что он движется. Ну да, это у меня голова кружится, подумал я. Но тут же заметил, что шум боя отдалился — голоса и лязг оружия доносились теперь с носа, со шканцев. К борту, едва не задев меня, подскочили какие-то люди, спрыгнули вниз, в воду. Всплеск, испуганный вскрик. В ошеломлении взглянул вверх — показалось, кто-то, обрубив шкоты, поставил марсель на грот-мачте, потому что парус вдруг опустился, надулся от ветра. И тогда губы расползлись в дурацкой гримасе, обозначающей улыбку счастья, — я понял, что мы победили, что люди Себастьяна Копонса сумели перерезать якорный канат, и галеон в ночной тьме двинулся к песчаным отмелям Сан-Хасинто.
Надеюсь, он не сдастся и получит то, что ему причитается, подумал Диего Алатристе, покрепче перехватывая шпагу. Надеюсь, у этой сицилийской собаки хватит достоинства не просить пощады, потому что я убью его в любом случае, а безоружных убивать я не люблю. И с этой мыслью, побуждаемый необходимостью спешно завершить дело, не натворив в последний момент ошибок, капитан собрал последние силы и обрушил на итальянца град ударов столь стремительных и яростных, что и лучший в мире фехтовальщик принужден был бы дрогнуть и отступить. Попятился и Малатеста: он с трудом парировал каскад выпадов, однако сумел сохранить хладнокровие и, когда капитан завершил серию, ответил боковым ударом в голову, лишь на волосок не достигшим цели. Кратчайшая заминка позволила итальянцу оглянуться по сторонам, оценить положение дел на палубе и заметить, что галеон неуклонно сносит к берегу.
— Что ж, Алатристе, твоя взяла…
И не успел договорить — клинок кольнул его чуть пониже глаза. Малатеста застонал сквозь зубы, вскинул свободную руку к лицу по которому заструился тоненький ручеек крови. Не потеряв самообладания, тотчас почти вслепую сделал ответный выпад, едва не проткнув колет Алатристе. Капитан вынужден был отступить на три шага.
— Отправляйся к дьяволу, — процедил итальянец. — Вместе с золотом.
Продолжая угрожать капитану шпагой, он взлетел на фальшборт и спрыгнул вниз, растаяв во тьме, подобно тени. Алатристе, полосуя лезвием воздух, кинулся следом, но услышал только донесшийся из черной воды всплеск. И замер в оцепенении, почувствовав вдруг неодолимую усталость и тупо уставясь туда, где исчез итальянец.
— Извини, Диего, малость замешкались, — услышал он за спиной знакомый голос.
Рядом, тяжело дыша, стоял Себастьян Копонс — голова повязана платком, в руке — шпага, сплошь покрытая засохшей кровью. Алатристе все с тем же отсутствующим видом кивнул.
— Потери большие?
— Половина.
— Иньиго?
— Подкололи… Но ничего, не опасно. Капитан снова кивнул, не сводя глаз с мрачного черного пятна за бортом. За спиной слышались ликующие крики победителей и предсмертные стоны последних защитников «Никлаасбергена» — их добивали, не слушая мольбы о пощаде.
Когда кровь унялась, мне стало легче, и силы мало-помалу начали возвращаться. Себастьян Копонс очень удачно перевязал рану, и с помощью Бартоло Типуна я добрался до трапа, ведущего на шканцы. Наши сбрасывали за борт убитых, предварительно очистив их карманы от всего мало-мальски ценного. Только и слышались зловещие всплески, и никому так и не довелось узнать, сколько же фламандцев и испанцев из экипажа «Никлаасбергена» погибли в ту ночь. Пятнадцать? Двадцать? Или больше? Прочие попрыгали в море во время боя и сейчас уже пошли ко дну или барахтались в темной воде, в пенной струе за кормой галеона, который северо-восточный ветер нес прямо на песчаные отмели.
На окровавленной палубе вповалку лежали тела наших. Тем, кто штурмовал галеон с кормы, досталось крепче — Сангонера, Маскаруа, Кавалер-с-галер, мурсиец Шум-и-Гам, всклокоченные, с открытыми или плотно сжатыми ртами, замерли в тех самых позах, в которых застала их старуха-Парка. Гусман Рамирес упал за борт, а у лафета пушки, сердобольно прикрытый чьим-то колетом, кончался, негромко постанывая, Андресито-Пятьдесят-горячих: кишки из распоротого живота вывалились до колен. Энрикес-Левша, мулат Кампусано и Сарамаго-Португалец отделались ранами полегче. На палубе валялся еще один убитый, и я довольно долго всматривался в его черты, ибо и вообразить себе не мог, что подобная участь постигнет и счетовода. Глаза его были полуоткрыты, и, казалось, он до последней секунды следил за тем, чтобы все шло как должно и в соответствии с тем, за что платили ему его чиновничье жалованье. Лицо было еще бледней, чем обычно, губы под крысиными усиками недовольно кривились, как будто он досадовал, что лишен возможности составить официальный документ — как полагается, по всей форме, на бумаге, пером и чернилами. Смерть не придала значительности облику распростертого на палубе счетовода: он был, как и при жизни, тих и нелюдим. Кто-то рассказал мне, что вместе с людьми Копонса он вскарабкался на борт, с умилительной неловкостью путался в снастях, вслепую махал шпагой, владеть которой не научился, а вскоре, в первые же минуты боя, без стона и жалобы рухнул замертво, отдав жизнь за сокровища, не ему принадлежащие. За короля, которого лицезрел лишь однажды и то издали, который даже не знал, как его зовут, и при встрече, случись она, не сказал бы ему ни слова.
Завидев меня, Алатристе приблизился, осторожно ощупал рану, потом положил мне руку на плечо. При свете фонаря я заметил на его лице отстраненно-рассеянное выражение: он еще не отошел от боя и с трудом возвращался к действительности.
— Рад видеть тебя живым, — сказал он.
Но я знал, что это неправда. Может, и обрадуется — но потом, когда сердце забьется в прежнем ритме и все станет на свои места: а сейчас это было не более чем слова. Думал он о Гвальтерио Малатесте и о том, куда ветер и течение вынесут галеон. Мельком глянул на трупы своих сподвижников и даже Ольямедилью удостоил лишь беглым взглядом. Ничто, казалось, не занимало его, не отвлекало от дела, из которого он вышел живым и которое еще не было окончено. Хуана-Славянина послал на подветренный борт следить, куда идет наш корабль, Хуана-Каюка отрядил проверить, не притаился ли где-нибудь уцелевший член экипажа, и еще раз напомнил, чтобы никто ни под каким предлогом не смел спускаться в трюм. Под страхом смерти, мрачно повторил он, и Каюк, поглядев на него пристально, кивнул в ответ. После чего, прихватив с собой Копонса, капитан сам полез вниз. Ни за что на свете не мог я пропустить такого, а потому последовал за ними, хоть рана давала себя знать. Впрочем, я старался не делать резких движений, чтобы не разбередить ее.
Копонс нес фонарь и подобранный с палубы пистолет, Алатристе держал шпагу наголо. Никого не встретив, мы прошли несколько кают и кубриков — в самой большой на столе увидели десяток тарелок с нетронутой едой — и оказались перед трапом, ведшим вниз, во тьму. Вот дверь, заложенная массивным железным брусом, запертая на два висячих замка. Себастьян, передав мне фонарь, пошел за абордажным топором, и после нескольких ударов дверь подалась. Я посветил внутрь.
— В лоб меня драть… — вырвалось у арагонца. Здесь лежало золото и серебро, из-за которых мы убивали и умирали на палубе. И было их в буквальном смысле — как грязи, до верхней переборки высились тщательно перевязанные штабеля и ящики. Брусками и слитками, блиставшими, точно в немыслимом золотом сне, был вымощен весь трюм. В далеких копях и рудниках Мексики и Перу тысячи индейцев-рабов под бичами надсмотрщиков отдавали здоровье и жизнь, чтобы добыть эти сокровища, предназначенные для того, чтобы заплатить долги империи, набрать и вооружить армии, продолжить войну едва ли не со всей Европой, а равно и для того, чтобы осесть в карманах банкиров, чиновников, бессовестной знати и самого короля. Золото отсвечивало в зрачках капитана Алатристе, искрилось в широко открытых глазах Себастьяна Копонса и приковывало к себе мой взгляд.
— Дурни мы с тобой, Диего, — промолвил арагонец.
Это была истина очевидная и неоспоримая И я увидел, как Алатристе медленно склонил голову, соглашаясь со словами товарища. Распоследние олухи и остолопы, если не знаем, как поставить все паруса, как повернуть корабль, чтобы шел не на мель, а в открытое море, в те воды, что омывают берега, населенные свободными людьми, не ведающими богов, не признающими королей.
— Матерь божья… — раздалось позади.
Мы обернулись. Галеон и Суарес-морячок стояли на ступеньках трапа и в ошеломлении смотрели на сокровища. У обоих в руках было оружие, а за спиной — мешки, набитые всем, что попалось под руку.
— Что вы здесь делаете? — спросил капитан.
Всякий, кто знал его, насторожился бы уже от одного лишь тона, каким задал он этот вопрос. Но, видно, эти двое капитана не знали.
— Прогуливаемся, — нагло ответил Галеон. Алатристе провел двумя пальцами по усам. Глаза его застыли и потускнели, как кусочки слюды.
— Я запретил спускаться в трюм.
— Ну да, запретил. — Галеон прищелкнул языком, а потом плотоядная улыбка превратилась в жестокую гримасу, от которой перекосилось покрытое рубцами лицо. — И мы теперь даже понимаем, почему.
Он не спускал вспыхнувшего алчным огнем взора с золота, наваленного в трюм на манер щебня. Потом переглянулся с Суаресом, и тот опустил мешок на ступеньку, заскреб в затылке, будто не веря своим глазам.
— Сдается мне, куманек, — сказал ему Галеон, — что надо будет сообщить об этом ребятам. Грех упускать…
Слова застряли у него в горле, когда Алатристе без околичностей всадил ему в грудь шпагу — причем с такой стремительностью, что Галеон еще растерянно смотрел на свою рану, а клинок уже был извлечен наружу. Не успев закрыть рот, он только вздохнул напоследок и рухнул вниз — прямо на капитана, а когда тот увернулся — покатился по ступеням, пока не замер прямо у бочонка с серебром. Увидев такое, Суарес в ужасе выругался и поднял было свою алебарду, но, похоже, передумал — повернулся и со всех ног бросился по трапу вверх, подвывая от ужаса. Вой этот оборвался, когда Себастьян Копонс догнал его, схватил за ногу, повалил, оседлал и, за волосы закинув ему голову, одним взмахом кинжала перерезал горло.
Я смотрел на все это в оцепенении, застыв и не решаясь шевельнуться. Алатристе меж тем вытер лезвие о рукав убитого Галеона, чья кровь уже выпачкала штабель золотых слитков, и вдруг сделал нечто странное: сплюнул, будто в рот попала какая-то гадость. Плюнул, словно бы в самого себя, словно произнося безмолвное ругательство, и, встретившись с ним глазами, я затрепетал: капитан глядел, будто не узнавал, и на миг я испугался, что он ткнет шпагой меня.
— Смотри за трапом, — сказал он Себастьяну.
Присев на корточки возле распростертого тела Суареса и вытирая кинжал о рукав его куртки, Копонс кивнул. Алатристе прошел мимо, даже не взглянув на убитого моряка, поднялся на палубу. Я следовал за ним, чувствуя облегчение от того, что эта жуткая картина больше не маячит перед глазами. Наверху увидел, как Алатристе остановился и несколько раз глубоко вздохнул, словно возмещая нехватку воздуха в трюме В этот миг раздался крик Хуана-Ставянина и почти одновременно — заскрипел песок под килем галеона. Движение прекратилось, палуба накренилась набок, наши стали показывать на огоньки, мелькавшие на суше. «Никлаасберген» сел на мель у Сан-Хасинто.
Мы подошли к борту Во тьме угадывались очертания баркасов, по берегу к самой оконечности косы двигалась цепочка огней, осветивших воду вокруг нашего корабля. Алатристе оглядел палубу.
— Пошли, — сказал он Хуану-Каюку.
Тот немного помедлил в нерешительности и с беспокойством спросил:
— А Суарес и Галеон?.. Мне очень жаль, капитан, но я не смог их остановить… — Осекшись, он очень внимательно вгляделся в лицо моего хозяина, благо фонарь с кормы помогал различить его. — Уж извините. Как их не пустишь вниз?.. Не убивать же? — И снова помолчал. — А? — спросил он растерянно.
Ответа не последовало. Алатристе продолжал оглядываться по сторонам.
— Уходим с корабля! — крикнул он тем, кто копошился на палубе. — Помогите раненым.
Каюк все всматривался в него и будто еще ждал ответа. Потом мрачно спросил:
— Так что там с ними?
— Не жди, не придут, — ответил капитан очень холодно и очень спокойно.
И с этими словами наконец обернулся к Хуану, который открыл рот, но не произнес ни звука. Постоял так минутку и, отвернувшись, принялся поторапливать своих товарищей. Лодки и огоньки приблизились еще больше, а мы полезли по шторм-трапу на отмель, обнаженную отливом. Поддерживая Энрикеса-Левшу, у которого был сломан и кровоточил нос, а на руках имелись две приличных размеров колотых раны, ползли вниз Бартоло-Типун и мулат Кампусано с обвязанной на манер тюрбана головой. Хинесильо-Красавчик помогал ковыляющему Сарамаго — в бедре у того была дырка пяди в полторы длиной.
— Чуть в евнухи не произвели, — жаловался Португалец.
Последними появились Каюк, только что закрывший глаза своему куму Сангонере, и Хуан-Славянин. Андресито-Пятьдесят-горячих ни в чьей помощи уже не нуждался, ибо минуту назад отдал Богу душу. Из люка, ведущего в трюм, вынырнул Копонс и, ни на кого не глядя, прошел к трапу. А на борт влез человек, и я тотчас узнал в нем того рыжеусого, который давеча секретничал с Ольямедильей. Он был по-прежнему одет как охотник, обвешан оружием, а за ним поднялись еще несколько человек такого же примерно облика. С профессиональным любопытством оглядев палубу, заваленную телами, залитую кровью, рыжеусый окинул взором тело Ольямедильи и подошел к Алатристе.
— Ну как? — поинтересовался он, кивнув на труп счетовода.
— Как видите, — лаконично отозвался капитан. Рыжеусый посмотрел на него внимательно.
— Чистая работа, — высказался он наконец.
Алатристе промолчал. На борт продолжали подниматься очень хорошо вооруженные люди — кое у кого были аркебузы с зажженными фитилями.
— Ну, кораблем теперь займусь я, — сказал рыжеусый. — Именем короля.
Я видел, как хозяин мой кивнул, и следом за ним направился к борту, по которому уже полз вниз Себастьян Копонс. Алатристе обернулся ко мне все с тем же отсутствующим видом и протянул руку. Я оперся на нее, ощутив такой знакомый запах железа и кожи, перемешанный с запахом крови — крови тех, кого он убил сегодня. Он бережно поддерживал меня, покуда мы не спрыгнули на отмель, оказавшись в воде по щиколотку, а потом, когда побрели к берегу, — и по пояс, отчего стала зудеть моя рана. Выбрались наконец на твердую землю, присоединились к остальным. В темноте вырисовывались силуэты вооруженных людей, а также многочисленных мулов и телег, готовых перевезти содержимое «Никлаасбергена».
— Побожусь, — сказал кто-то, — мы честно заработали свою поденную плату.
И шутейные слова эти произвели действие нежданное и магическое — взломали лед молчаливого напряжения, сковывавший всех. Как всегда бывает после боя — я видел такое во Фландрии не раз и не два — люди заговорили: поначалу будто нехотя, отрывисто и кратко, перемежая фразы кряхтеньем и вздохами, а потом все живее и вольнее. Вот послышалась наконец и неизбежная похвальба, сопровождаемая смехом и божбой. Стали вспоминать перипетии боя, вызнавать, при каких обстоятельствах сложил голову тот или иной товарищ. О гибели счетовода Ольямедильи никто не сожалел: этот унылый субъект в черном приязни себе здесь не снискал, да и потом слишком сильно бросалось в глаза, что он — не этого поля ягода. Кто просил его лезть не в свое дело?
— А где же Галеон? Вроде был живой…
— Да, я видел его после боя…
— И Суарес-морячок тоже не сошел на берег. Те, кто не знал причины, недоумевали, а кто знал — помалкивали. Прозвучало вполголоса несколько реплик, но тем дело и кончилось, ибо Суарес не успел обзавестись друзьями, а Галеона недолюбливали многие. Так что отсутствие обоих никого всерьез не опечалило.
— Ну и пес с ними, нам больше достанется, — сказал кто-то, и слова эти были встречены грубым смехом.
Наперед зная ответ, я спросил себя: а если бы я лежал на палубе, холодный и твердый, как вяленый тунец, неужели и меня удостоили бы подобного надгробного слова? Я видел поблизости безмолвный силуэт Хуана-Каюка и, хоть лица его различить не мог, знал — он смотрит на капитана Алатристе.
Мы двинулись к ближайшей харчевне в рассуждении подкрепиться там и переночевать. Плутоватому хозяину стоило лишь глянуть на своих перевязанных, обвешанных оружием посетителей, чтобы склониться в поклоне и залебезить, как будто заведение его почтили своим присутствием испанские гранды. И вскоре затрещали в очаге дрова, чтобы просушить мокрую одежду, мигом появилось вино из Хереса и Санлукара вкупе с обильным угощением, коему все мы отдали дань, ибо хорошая резня разжигает поистине волчий аппетит. Мелькали кувшины и кубки, недолгий век был сужден жареному козленку — без церемоний расправились мы с ним, и вот наконец пришел черед выпить за упокой души павших, а следом — за блеск золотых монеток, выложенных перед каждым из нас на стол: незадолго до рассвета их принес и раздал рыжеусый, приведший с собою лекаря, который в числе прочих обработал и мою рану: почистил, стянул края двумя стежками, наложил мазь и свежую повязку. Мало-помалу под воздействием винных паров люди стали засыпать прямо за столом. Время от времени постанывали Левша и Португалец, да растянувшийся на циновке в углу Себастьян Копонс похрапывал так же безмятежно, как, бывало, делал он это в грязи фламандской траншеи.
Я же заснуть не мог жгла и ныла рана — первая моя рана, однако я покривил бы душой, сказав, что она вселяла в меня неизведанную доселе и несказанную гордость. Ныне, по прошествии времени, когда прибавилось отметин у меня и на шкуре, и в душе, та, первая, стала едва заметной черточкой вдоль ребер, ничтожной по сравнению с полученной при Рокруа или прочерченной острием кинжала Анхелики де Алькесар, и все же иногда, проводя по шраму пальцем, ясно, будто дело было вчера, я вижу бой на палубе «Никлаасбергена» и кровь Галеона, обагряющую золото короля.
Не изгладился из памяти моей и капитан Алатристе, каким видел я его в ту ночь, когда боль не давала мне уснуть: привалившись спиной к стене, он сидел на табурете поодаль от прочих, глядел, как сочится в окно сероватый свет зари, медленно и методично подносил к губам стакан, пока глаза его не сделались похожи на матовые стекляшки, а голова, повернутая ко мне в профиль и оттого особенно напоминающая орлиную, не склонилась на грудь; глубокий сон, похожий на смертное забытье, сковал его члены, отуманил сознание. Но я к тому времени прожил рядом с ним достаточно, чтобы понять: Диего Алатристе и во сне продолжал брести через холодное высокогорье своей жизни, безмолвно, одиноко, себялюбиво отстраняя от себя все, что не вмещается в мудрое безразличие, свойственное человеку, который знает, сколь ничтожно расстояние от бытия до небытия. И убивает исключительно ради того, чтобы выжить и поесть досыта. И покорно исполняет правила странной игры — древнего ритуала, — соблюдать которые люди, подобные моему хозяину, обречены от начала времен. Все прочее — ненависть, страсти, знамена — не имеют к этому ни малейшего отношения. Ах, насколько легче было бы, если бы вместо горестно-отчетливой ясности, сопровождавшей любое его деяние или мысль, был капитан Алатристе наделен такими бесценными дарами, как глупость, фанатизм или подлость. Ибо лишь им одним — глупцам, фанатикам или мерзавцам — дано счастье не страдать от угрызений совести.
Эпилог
Гвардейский сержант, которому его желто-красный мундир придавал особенно внушительный вид, узнал меня, а потому поглядел со злобой. Да, это с ним — с этим вот тучным усачом — мы неделю назад обменялись у стен королевского дворца несколькими резкими словами, и потому, вероятно, он удивился, увидев меня в новом колете, тщательно причесанного и принаряженного что твой Нарцисс. Дон Франсиско протянул ему пропуск на прием, устраиваемый их королевскими величествами магистрату города Севильи по случаю прибытия «флота Индий». Вместе с нами входили и прочие приглашенные — богатые купцы с женами в брильянтах и мантильях, дворяне не первой степени знатности, заложившие, надо думать, последние пожитки, чтобы одеться как подобает, духовенство в сутанах и мантиях, старшины цехов и гильдий. Едва ли не все они пребывали в молчаливом и восхищенном оцепенении и на импозантных караульных гвардейцев — испанцев, бургундцев и немцев — поглядывали с опаской, словно ожидая, что вот-вот раздастся вопрос «А вы тут зачем? », и их тотчас выставят за ворота. Каждый знал, что августейшую чету увидит лишь на мгновение да и то издали, и все сведется к необходимости обнажить и склонить голову при проходе короля и королевы, однако возможность побывать в садах древнего арабского дворца, присутствовать на подобном действе, а назавтра рассказывать, как, разодевшись пышней испанского гранда, вращался ты в самом изысканном обществе, грела сердце любого простолюдина. И когда завтра же Четвертый Филипп попросит у отцов города одобрить новый налог или обложить неслыханной прежде податью только что прибывшее золото, давешний прием подсластит Севилье эту горькую пилюлю: как известно, больней всего ранят удары, задевающие кошелек, — и она проглотит ее, не поморщившись.
— А вот и Гуадальмедина, — сказал Кеведо.
Граф Альваро де ла Марка, занятый беседой с дамами, заметил нас издали, рассыпался в учтивейших извинениях и, с поразительной ловкостью лавируя в толпе, двинулся в нашу сторону, сияя самой лучезарной из своих улыбок.
— Черт возьми, Алатристе. Как я рад!
С обычной своей обходительностью он приветствовал дона Франсиско, похвалил мою обновку и дружески похлопал по спине капитана.
— Да и не я один, — добавил он многозначительно.
Он был по-всегдашнему элегантен — весь в бледно-голубом шелку, затканном серебром, с фазаньими перьями на шляпе — и на фоне этого вертопрашьего изящества особенно суров казался облик дона Франсиско в строгом черном одеянии с вышитым на плече крестом Сантьяго и еще скромнее — наряд моего хозяина, выдержанный в блёкло-бурых тонах: старый, но выштопанный и чистый колет, полотняные штаны, сапоги.. Впрочем, сверкали начищенные ножны шпаги, глянцевито лоснился ременный пояс, к коему была она пристегнута. Имелось, конечно, и кое-что новое: фетровая широкополая шляпа с красным пером на тулье, белоснежный и накрахмаленный валлонский воротник, который Алатристе носил на солдатский манер расстегнутым, и обошедшийся в десять эскудо кинжал, заменивший тот, что был сломан при встрече с Гвальтерио Малатестой, — отличный кинжал длиною почти в две пяди, с клеймами оружейника Хуана де Орты на лезвии.
— Не хотел идти, — молвил дон Франсиско, указывая на Алатристе.
— Догадываюсь, — отвечал Гуадальмедина. — Однако приказы не обсуждаются. — Он фамильярно подмигнул. — Тебе ли, старому рубаке, этого не знать?
Капитан промолчал. Он держался скованно — озирался по сторонам, не знал, куда девать руки, и без нужды оправлял колет. Стоявший рядом Гуадальмедина кивал направо и налево, раскланивался со знакомыми, улыбкой приветствовал то супругу купца, то жену стряпчего, усиленно обмахивавшихся веерами и тем побарывавших застенчивость.
— Скажу тебе, Диего, что пакет прибыл по назначению, чему все очень рады. — Граф засмеялся и понизил голос. — Впрочем, не все: одни — больше, другие — меньше… С герцогом Медина-Сидонией от огорчения случился приступ, и он чуть не сыграл в ящик А когда Оливарес вернется в Мадрид, твоему другу, личному королевскому секретарю Луису де Алькесару придется держать перед ним ответ и давать объяснения.
Произнося все это, Гуадальмедина, как безупречный придворный кавалер, не переставал посмеиваться и отвешивать поклоны.
— Зато граф-герцог на седьмом небе… Если бы Ришелье громом убило, и то он не обрадовался бы сильней… Потому и потребовал, чтобы ты непременно сегодня был здесь — желает приветствовать тебя, пусть хоть издали, когда будет обходить гостей вместе с их величествами. Личное приглашение от первого министра. Это ли не честь?
— Наш капитан считает, что наивысшую честь ему оказали бы, предав все дело скорейшему забвению, — сказал дон Франсиско.
— И он не так уж неправ! — воскликнул Гуадальмедина. — Порою милости сильных мира сего опасней, нежели их нерасположение… Так или иначе, Алатристе, счастье твое, что ты солдат, ибо царедворец из тебя, как из дерьма — пуля. Порой мне приходит в голову, что еще неизвестно, чье ремесло хуже…
— Каждому — свое, — кратко ответствовал капитан.
— Ну да ладно, речь не о том… Его величество вчера сам попросил Оливареса рассказать, как было дело. Я при этом присутствовал и могу засвидетельствовать, что министр нарисовал довольно живую картину. И хоть наш помазанник — не из тех, кто дает волю чувствам, но пусть меня вздернут на суку, как последнюю деревенщину, если в продолжение рассказа он не моргнул раз шесть или семь, а для него это означает высшую степень душевного волнения.
— Любопытно, обретет ли сие волнение иное выражение, — промолвил практичный дон Франсиско.
— Если вы имеете в виду денежное, то есть такие кругленькие штучки с орлом и решкой, то — едва ли. Наш государь в смысле скупердяйства заткнет за пояс самого Оливареса, у которого снегу зимой не выпросишь… И король, и его министр считают, что уже расплатились и, быть может, даже слишком щедро.
— Так и есть, — заметил капитан.
— Раз ты так считаешь, значит, так тому и быть. — Альваро де ла Марка пожал плечами. — Мы разожгли любопытство короля, напомнив, кому года два назад в театре пришли на выручку принц Уэльский и Бекингем… И его величеству угодно поглядеть на тебя… — Граф многозначительно помолчал. — Потому что позапрошлой ночью на берегу Трианы было слишком темно… — И снова замолчал, вглядываясь в бесстрастное лицо Алатристе. — Ты слышал, что я говорю?
Мой хозяин оставил это без ответа, словно полагал: то, на что намекает Гуадальмедина, не имеет ни малейшего значения, а потому и вспоминать об этом не стоит. Нечего голову забивать всяким вздором. Через мгновение смысл этого безмолвного высказывания дошел до графа, и он, не сводя глаз с Алатристе, медленно качнул головой и слегка улыбнулся — понимающе и дружелюбно. Потом оглянулся и заметил меня.
— Говорят, мальчуган показал себя молодцом, — сказал он, сменив тему. — И даже получил отметину на память?
— Очень большим молодцом, — подтвердил капитан, и я надулся от гордости.
— Ну а что касается сегодняшнего выхода, порядок простой. — Гуадальмедина показал на высокие двери, соединявшие сады и залы. — Вон оттуда появятся их величества, вся публика, как говорится, согнется вперегиб, а король с королевой исчезнут вон там. Были — и нет. А от тебя, Алатристе, требуется лишь снять шляпу и раз в жизни склонить солдатскую свою башку… Государь, который по своему обыкновению смотрит поверх голов, на миг глянет на тебя. И Оливарес тоже. Поклонишься — и свободен.
— Высокая честь, — насмешливо заметил Кеведо и очень тихо, так что нам пришлось придвинуться вплотную, продекламировал:
Ты видишь, как венец его искрится, Как, ослепляя, рдеет багряница? Так знай, внутри он — только прах смердящий[92].Но Гуадальмедина, на которого в этот вечер нашел придворный стих, поморщился и стал оглядываться по сторонам, жестами призывая поэта быть более сдержанным:
— Дон Франсиско, дон Франсиско… Поверьте, вы неудачно выбрали время и место… И потом — я знаю людей, которые за обращенный к ним взгляд короля дали бы оторвать себе руку… — Он обернулся к Алатристе: — Очень хорошо, что Оливарес тоже тебя помнит и пожелал увидеть здесь. В Мадриде у тебя немало врагов, а числить первого министра среди друзей — отнюдь не безделка. Полагаю, нищете пришло время перестать следовать за тобой неотступной тенью. Как ты однажды в моем присутствии сказал тому же дону Гаспару: «Никому не дано знать, как повернется жизнь».
— Сущая правда, — отозвался капитан. — Не дано. В глубине двора раскатилась барабанная дробь, коротко пропела труба, и тотчас прекратились разговоры, замерли веера, кое-кто заранее снял шляпу, и все устремили взоры в дальний конец двора, где за фонтанами и розарием раздернулись тяжелые драпировки. Вышли их величества со свитой.
— Мне надо присоединиться к ним, — сказал Гуадальмедина. — До скорого свидания, Диего. И умоляю тебя — улыбнись, когда Оливарес взглянет на тебя… А впрочем — нет! Лучше не надо. От твоей улыбки — мороз по коже.
Он удалился, а мы остались на обочине аллеи, делившей сад пополам. По обе стороны ее теснились приглашенные, которые вытягивали шеи, стремясь увидеть шествие. Его открывали двое офицеров и четверо лучников королевской гвардии; за ними, колыша перьями, слепя глаза золотом и бриллиантами, следовали пышно разодетые придворные дамы и кавалеры.
— Вот она… — шепнул Кеведо.
Он мог бы и не говорить этого — я и так замер, застыл и онемел. Среди фрейлин королевы шла — ну, разумеется — Анхелика де Алькесар в тончайшей белой мантилье, наброшенной на плечи, которых касались ее золотисто-пепельные локоны. Она была по обыкновению ослепительно хороша, а на поясе ее атласной юбки висел отделанный серебром и драгоценными камнями пистолетик — маленький, но отнюдь не игрушечный: из этой безделушки вполне можно было выпустить пулю. В руке она сжимала неаполитанский веер, а в волосах не было никаких украшений, кроме тонкого перламутрового гребня.
Анхелика заметила меня. Синие глаза, с безразличным выражением глядевшие прямо вперед, вдруг, словно она по какому-то наитию колдовским образом предугадала мое появление здесь, обратились ко мне. Не поворачивая головы, не нарушая чинной торжественности выхода, Анхелика смотрела на меня довольно долго и очень пристально, а за миг до того, как шествие увлекло ее дальше, — послала мне свою сияющую, лучезарную улыбку. Послала — и прошла дальше, а я остался в полнейшем ошеломлении, безоглядно и безраздельно отдав ей во власть все, чем был богат — и память, и сообразительность, и волю. И ради еще одного такого взгляда готов был бы вновь оказаться на Аламеде-де-Эркулес или на борту «Никлаасбергена», да не раз, а тысячу, и не просто оказаться, а погибнуть. И сердце заколотилось с такой силой, что вскоре я ощутил под повязкой покалывание и влажное тепло — рана открылась.
— Ах, мальчик мой, — произнес дон Франсиско, ласково кладя мне руку на плечо. — Так уж повелось: тысячу раз будешь умирать, а тревоги твои останутся вечно живы…
Я лишь вздохнул в ответ, ибо выговорить не мог ни слова.
Их величества, шествуя неспешно, как того требовал этикет, уже поравнялись с нами: Филипп Четвертый, молодой, рыжеватый, статный, державшийся очень прямо и глядевший по своему обыкновению поверх голов, был в синем бархатном колете, затканном серебром, с орденом Золотого Руна на черной ленте и золотой цепью на груди; королева донья Изабелла де Бурбон — в серебряно-парчовом платье, отделанном апельсинового цвета воланами из тафты. Украшавшие ее голову перья и драгоценности подчеркивали приветливость юного лица. Покуда ее августейший супруг супился и хмурился, она улыбалась всему миру, и глаз радовался при виде этой француженки — дочери, сестры и жены королей, которая веселым своим нравом несколько десятилетий кряду разгоняла мрак мадридского двора, многих заставляя вздыхать по себе, многим внушая страсть — об этом я, если позволите, расскажу в другом месте, — и всю жизнь отказывалась жить в выстроенном Филиппом Вторым величественном, темном и унылом Эскориале, зато по смерти навсегда поселилась там, упокоившись, бедняжка, в одном из его склепов рядом с останками других испанских королев.
Но в тот праздничный севильский вечер до этого было еще очень далеко. Пока что Филипп и Изабелла, еще молодые и красивые, медленно шли мимо гостей, склоняющихся перед величием их величеств. И рядом с ними живым воплощением могущества и власти шел граф-герцог Оливарес, который, подобно Атланту, держал на своих широченных плечах тягчайшее бремя — необозримую испанскую империю. Мысль о том, что ноша эта когда-нибудь станет непосильна даже для такого исполина, спустя годы дон Франсиско сумел выразить всего в трех строках:
Но берегись, чтоб враги в свой черед, Соединившись, не взяли совместно Все, что как дань тебе каждый дает[93].Дон Гаспар де Гусман, граф-герцог Оливарес, первый министр нашего государя, облаченный в бархат, чью черноту оживляли только пышный воротник из брюссельских кружев да вышитый на груди крест ордена Калатравы, носил устрашающего вида усы, поднимающиеся едва ли не к самым глазам — а всевидящие глаза эти зорко и проницательно всматривались, примечали, узнавали, ни на миг не оставаясь неподвижны. По едва заметному знаку Оливареса их величества иногда — очень редко — замедляли шаг, и тогда король, королева или оба вместе устремляли взор на тех, кого в силу особых заслуг, влиятельности или по иным, неведомым причинам считали нужным удостоить такой чести. Дамы в подобных случаях приседали в глубоком реверансе, мужчины, уже давно стоявшие с непокрытыми головами, кланялись в пояс, венценосная же чета, одарив счастливцев взглядом и не долее одного мгновения молча постояв перед ними, шествовала дальше. Среди следовавших за нею знатнейших вельможей и грандов Испании был и граф де Гуадальмедина, который, поравнявшись с нами, — Алатристе и Кеведо, как и все прочие сняли шляпы, — что-то шепнул Оливаресу, и тот, остановив на нашей троице взор, неумолимо-свирепый, как смертный приговор, в свою очередь нагнулся к августейшему уху, и мы увидели, как блуждавший поверх голов взгляд Филиппа Четвертого остановился на нас. Министр продолжал что-то нашептывать его величеству, а оно, величество это, еще сильнее оттопырив выпяченную губу — родовую примет) всех Габсбургов — слушало, выказывая все признаки нетерпения, но не сводя водянисто-голубых глаз с лица капитана Алатристе.
— О вас речь, Диего, — еле слышно сказал Кеведо.
Я поглядел на своего хозяина. Выпрямившись, держа в одной руке шляпу, а другую положив на эфес шпаги, с непроницаемо-спокойным выражением лица, украшенного густыми солдатскими усами, он взирал на своего короля, с именем которого столько раз ходил в бой и ради которого трое суток назад дрался не на жизнь, а на смерть. Заметно было, что он нимало не смущен, нисколько не растерян и уж совсем не робеет. Первоначальная неловкость улетучилась бесследно; и августейший взгляд капитан встретил взглядом прямым и исполненным достоинства — взглядом человека, который никому ничего не должен и ни от кого ничего не ждет. В этот миг мне припомнилось, как у стен Аудкерка началось возмущение в Картахенском полку, как из рядов начали выносить знамена, дабы не запятнать их мятежом, как я уж готов был примкнуть к восставшим, и как капитан, дав мне по шее, повел за собой со словами: «Король есть король». Только здесь, в севильском дворце, стал проясняться для меня невнятный прежде смысл этого догмата, только теперь понял я, что капитан хранил верность не этому вот рыжеватому юноше, стоявшему перед нами, не его католическому величеству, не истинной вере, не тем идеям, которые они воплощали на земле, а просто-напросто собственным понятиям о порядочности, принятым по доброй воле и за отсутствием иных, более, что ли, обширных и возвышенных, ибо те сгинули и прахом пошли вместе с невинностью юности. Понятия эти, каковы бы ни были они — верны или ошибочны, разумны или глупы, справедливы или нет, — помогали людям, подобным Диего Алатристе, противостоять хаосу бытия и вносить в него хотя бы видимость порядка. Так что, хоть и звучит это в высшей степени странно, хозяин мой, снимая шляпу перед королем, делал это не из верноподданнических чувств, не повинуясь дисциплине, не руководствуясь покорностью, граничившей с безразличием, но единственно — от безнадежного отчаяния. В конце концов, за неимением прежних богов, в которых веришь, и высоких слов, которые выкрикиваешь в бою, недурно обзавестись королем, и драться за него, и обнажать перед ним голову: по крайней мере, это лучше, чем ничего. И капитан Алатристе неукоснительно следовал этому правилу, хотя если бы вселилась в его душу верность чему-то или кому-то иному, он с точно такой же истовостью способен был бы пробиться через любую толпу и зарезать этого же самого короля, ни на миг не задумавшись о возможных последствиях.
Тут произошло такое, что прервало нить моих размышлений. Граф-герцог Оливарес завершил свой краткий доклад, и в обычно бесстрастных глазах короля, устремленных на капитана, вдруг мелькнуло любопытство, а голова чуть заметно кивнула в знак одобрения. Четвертый Филипп замедленными движениями чрезвычайно неторопливо поднес руку к своей августейшей груди, отстегнул висевшую на ней золотую цепь и протянул ее министру. Тот взял, с задумчивой улыбкой взвесил на ладони, а потом, ко всеобщему удивлению, обратился к нам:
— Его величеству угодно, чтобы вы приняли это.
Сказано было столь свойственным ему резким и надменным тоном и сопровождено жестким взглядом черных глаз и улыбкой, таимой в буйных зарослях усов.
— Золото Индий, — добавил он с нескрываемой насмешкой.
Алатристе побледнел. Застыв, как каменное изваяние, он смотрел на Оливареса, но, казалось, не слышал его. Граф-герцог по-прежнему протягивал ему на ладони цепь.
— Не заставляйте меня ждать, — бросил он нетерпеливо.
Капитан наконец очнулся. Обретя свое обычное спокойствие и выйдя из столбняка, он взял цепь, пробормотал какие-то невнятные слова благодарности и вновь взглянул на короля. Филипп продолжал смотреть на него с тем же любопытством, покуда Оливарес занимал свое место рядом с его величеством, Гуадальмедина улыбался, придворные оправлялись от изумления, а процессия готовилась двинуться дальше. Вдруг Алатристе почтительно склонил голову. Король снова едва заметно кивнул и отошел.
Я хвастливо вертел головой, гордясь своим хозяином, а все окружающие удивленно рассматривали его, спрашивая себя, кто, черт возьми, тот счастливец, которому граф-герцог из своих рук передает подарок его величества. Дон Франсиско де Кеведо пребывал в полном восторге от этого события: тихонько посмеивался, прищелкивал пальцами на манер кастаньет и твердил, что надо тотчас спрыснуть его в харчевне Бесерры, где он немедля запишет стихи, которые — не сойти ему с этого места! — сию минуту родились у него в голове:
— Когда мы что имеем, не храним, когда мы о потерянном не плачем, готовы мы к провалам и удачам, и рук Судьба не выкрутит таким, — читал он, ликуя, как всегда, если предоставлялась возможность щегольнуть свежей рифмой, как следует подраться или выпить доброго вина:
Будь, Алатристе, вольный человек, И в смерти будь хозяин положенья Живи один — к исходу бытия Пусть лишь тебя коснется смерть твоя[94].Капитан, так и не надев шляпу, смотрел вслед человеку, которому посвящались эти строки, а король удалялся в сопровождении своей свиты. И я удивился, заметив, что лицо моего хозяина омрачилось, словно случившееся связало его — в смысле символическом — сильнее, нежели он сам того желал. Человек тем свободнее, чем меньше он должен, и в душе моего хозяина, способного убить человека за дублон или за необдуманное слово, жили нигде не записанные, никогда не произнесенные вслух понятия, не менее святые, чем дружба, дисциплина, верность слову. И покуда дон Франсиско де Кеведо продолжал на ходу сочинять строфы своего нового сонета, я понял — или почуял, — что для капитана Алатристе эта золотая цепь — тяжелее чугуна.
Приложение
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «ПЕРЛОВ ПОЭЗИИ, СОТВОРЕННЫХ НЕСКОЛЬКИМИ ГЕНИЯМИ ТОГО ВРЕМЕНИ»[95].
Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
Франсиско де Кеведо
Нравственные наставления капитану Диего Алатристе
Сонет
Когда мы что имеем, не храним, когда мы о потерянном не плачем, готовы мы к провалам и удачам, и рук Судьба не выкрутит таким. Когда мы не прельщаемся мирским, мы, встретив Смерть, пред черепом незрячим глаз не отводим, и лица не прячем, поскольку в грязь не ударяли им. Страшись, Диего, головокруженья страстей, которых полон этот век Будь, Алатристе, вольный человек, и в смерти будь хозяин положенья. Живи один — к исходу бытия пусть лишь тебя коснется смерть твоя.Строфы на мученическую смерть незабвенного Никасио Гансуа, принятую им через удушение в славном городе Севилье
Приписывается дону Франсиско де Кеведо
Песнь первая
Давненько столько народа не видел свод каземата: краса севильского сброда, отборные все ребята! Святых поминая всуе, идет проститься когорта — назавтра Нико Гансуе харчиться в гостях у черта Мудра короля забота, для многих тюрьма — награда, а если завтра гаррота, то, стало быть, так и надо! Идут крестоносцы боен, пропущены стражей разом, (а каждый стражник подпоен, а каждый стражник подмазан) В плащах по самые брови, с клеймом на душе и шкуре, хлебнувшие вдосталь крови — явились, не обманули. И пир уж горой — гляди ты, какие цветки-бутоны! И все как один бандиты, бахвалы и фанфароны Высокого рода парни (здесь девки не портят вида!), и шляпы у них шикарней, чем шляпы грандов Мадрида. Пышнее мессы не сыщем Святому Глотку и глотке, и ножик за голенищем у каждого в той слободке На то и собрались вместе, сойдясь в благородном деле, чтоб смертнику честь по чести воздать, и в том преуспели. Вон там Красавчик, что с девой схож видом, с мужем — отвагой, владеет правой и левой, равно гитарой и шпагой. А рядом с ним Сарамаго, знаток ученой латыни, в руке то перо, то шпага — он лихо фехтует ими. Поодаль, слегка на взводе, прислушиваясь вполуха — шельмец Галеон (в народе такая за ним кликуха). А за табачным туманом зверье особой породы — Кармона с доном Гусманом, тузы крапленой колоды. А возле — такие принцы, друзья ночного улова, кидалы и проходимцы, охотники до чужого. И каждый весьма достоин, чтоб задал король им перцу. А вон Алатристе — воин любезный нашему сердцу, явивший столько примеров и доблести, и сноровки среди других кавалеров пеньковой мыльной веревки. Бальбоа с ним неразлучен, что носит штаны недаром, в боях под Бредой приучен удар отражать ударом. Всем скопом под сегидилью с азартом карты метали, с Гансуа ночь проводили, остатний век коротали. Они заслужили, Боже, чтоб ты их впредь не обидел, послав им спутников тоже в последнюю их обитель.Песнь вторая
Приходит стряпчий в собранье, а с ним судейская свора, разбойничкам в назиданье зачесть слова приговора. Привычный к любой невзгоде, Гансуа сидит с парнями, тасует карты в колоде да бьет тузов козырями. Пускай приговор несладок, Гансуа глух, как надгробье. К нему с пригоршней облаток спешит его преподобье: «Покайся в преддверье смерти, прими причастье святое! » Да только — верьте, не верьте — Гансуа в ответ: «Пустое! Не надо мне отпущенья, хоть даром его ты даришь: чего не вкушал с рожденья, под старость не переваришь! » И он, с оглядкой на моду, подкручивает усищи, заходит с туза и с ходу к себе подгребает тыщи. Он рад картежной победе, как на свободе ликуя, и слышат гости, соседи и прочие речь такую: «Уж коли попался в сети, другого нет поворота. Должна меня на рассвете обнять госпожа гаррота. Вступлю с ней в брак поневоле. Такие, как я, ей милы: обнимет крепко до боли, полюбит — аж до могилы! Ввиду такого событья, прощаясь с земной юдолью, спешу, друзья, изъявить я свою последнюю волю». И молвит, взором пытливым окинув бродяжье братство: «Я кое с кем неучтивым прошу за меня сквитаться! И главное (между нами), чтоб было впредь неповадно, разделайтесь с болтунами». Кивнули ребята: «Ладно». «Предателя ждет расплата. Пожертвуйте, Бога ради, ему хоть вершок булата, а лучше — не меньше пяди! Болтливость — та же зараза. Железо в подобной драме приучит с первого раза держать язык за зубами. Поскольку собрался кворум, прошу перед честным клиром разделаться с тем, которым опознан я, — с ювелиром. Невежлива здесь охрана — не может служить примером. Пускай сержанта-мужлана обучат тонким манерам. Надеюсь, ваша опека не даст грубияну спуску. Да, кстати, — судья Фонсека! Ну, этого — на закуску Воздайте всем по заслугам, со всех взыщите по списку. Прощаясь с каждым, как с другом, вверяю вам Марикиску. Хотя она не девица и не сродни недотрогам, а все-таки не годится ей близко знаться с острогом. Да минет ее невзгода, и в бедах выйдет отсрочка! Засим, такого-то года, числа, имярек — и точка». Гансуа был прост и краток, и речи недолго длились. Иных пробрало до пяток, а многие прослезились, насупились и в печали сжимали молча стилеты, и клятвенно обещали исполнить его заветы.Песнь третья
Одной ногою в могиле, а держится образцово Поди-ка в целой Севилье сыщи второго такого! Не сыщешь и в целом свете, засмотришься поневоле — Гансуа в новом жилете, в лиловом длинном камзоле. И пояс ему не тяжек — сутаж, а по краю блестки, и чернь серебряных пряжек видна на башмачном лоске. Но с первым лучом рассвета он с пышностью распростится: заменит бархат жилета убогая власяница. Теперь рассветает рано. «На выход! » — законы жестки: ведь казнь — не род балагана, ее помост — не подмостки. Уже замок отомкнули, и город полон вестями. Гансуа едет на муле со связанными кистями. Горит на груди распятье. Шумит людская лавина. Он всех вокруг без изъятья кивком приветствует чинно. Так на Страстную неделю идут на праздник в округе. В лице ни следа похмелья, не говоря об испуге. Какая стать — молодчина! Храбрец — отвага в избытке! На что уж злая кончина, а, право, берут завидки! Идут к эшафоту с пеньем. Иным не в пример беднягам по шатким его ступеням восходит он твердым шагом. И не теряя рассудка, вещает так принародно: «Конечно же, смерть не шутка, но раз королю угодно!.. Почту за честь, умирая, исполнить его веленье». В толпе от края до края несется гул одобрения. Внизу, к эшафоту близко, где всё — бандит на бандите, прекрасная Марикиска следит за ходом событий. Слепцов бродячей артели она наняла для Нико, чтоб в голос его отпели, отчетливо, но без крика. Негоже христианину пропасть, как ветошь на рынке. Гансуа прочел картинно всё «Верую» без запинки. Палач подошел поближе — притих в ожиданье город — «Прости, — он твердил, — прости же!» — вращая железный ворот. Гансуа умер достойно, без судорог и без шуму — как будто сидел спокойно и думал крепкую думу.V. Кавалер в желтом колете
Враги — и многочисленны, и рьяны — Его объехать тщились по кривой. Боец изрядный, хоть и рядовой, Молвой произведен был в капитаны, Торил ему по свету путь кровавый Не ведающий жалости клинок. Попробовал бы он не быть жесток Какие времена — такие нравы[96].I Театр де ла Крус
Диего Алатристе не иначе как бес попутал. Вместо того чтобы смотреть в Театре де ла Крус новую пьесу, он дрался на Пуэрта-де-ла-Вега с совершенно незнакомым ему человеком: как зовут — и то неизвестно. На первое представление комедии Тирсо де Молины, о которой много было разговоров в Городе и при Дворе, устремился весь Мадрид: люди заполнили театр до отказу и выстроились в очередь на улице, готовые пустить друг другу кровь по столь основательному поводу, как кресло в партере или стоячее место, ибо в те времена выхватить шпагу было все равно, что перекреститься; тем более что в такой толчее поневоле кого-нибудь толкнешь и тотчас услышишь: «Поосторожней, черт побери, глядите, куда лезете!» — «Я бы посоветовал вам, сударь, самому разуть глаза». Слово за слово, и готово дело. Именно подобный обмен любезностями сделал поединок неизбежным, и Алатристе, проведя двумя пальцами по усам, заметил своему собеседнику: тот вправе давать ему любые советы, но только не здесь, а буквально в двух кварталах отсюда, на Пуэрта-де-ла-Вега, где они смогут выяснить отношения с оружием в руках. Если, конечно, духу хватит. Судя по всему, с присутствием духа у запальчивого молодого человека все обстояло благополучно, и оттого собеседники, не обменявшись более ни единым словом, направились на берег Мансанареса, держась не только рядышком, словно закадычные друзья, но — и за рукояти шпаг, которые сейчас, вылетев из ножен и скрестясь, так весело звенели и сверкали в лучах заходящего солнца.
…Капитан удвоил внимание и не без труда отбил первый опасный выпад своего противника. Он злился и досадовал, но больше на себя, а еще больше — на собственную злость. Потому что она — скверное подспорье в таких делах. Когда на кону стоят жизнь или здоровье, фехтование требует полнейшего хладнокровия и некоей даже бесчувственности, а злость и досаду затаи в душе, если не хочешь, чтобы вместе с нею вылетели они через треугольную дырочку в колете. Алатристе знал это правило, но ничего не мог с собой поделать. Именно в таком расположении духа вышел он нынче из таверны «У Турка»: Каридад Непруха с ходу, едва успев воротиться от мессы, затеяла большой скандал с битьем посуды, вследствие чего капитан удалился, хлопнув дверью, а к началу спектакля опоздал — и именно своему скверному настроению обязан был тем, что лишился возможности, рассуждая здраво и выражаясь учтиво, избежать поединка по столь вздорному поводу. Но теперь уже было поздно, назад не отыграешь. Противник ему попался не из последних — быстрый, увертливый, с хорошо поставленным ударом и явным навыком в таких делах. Он перемежал короткие выпады с искусными финтами, отступал, словно готовясь рубануть шпагой, а на самом деле старался улучить момент, припасть на левую ногу и ухватить капитанов клинок крючками на эфесе своего кинжала. Старый трюк, однако может привести к успеху, если зорок глаз, и рука тверда, но Алатристе, человек опытный и закаленный в подобных переделках, разгадал замысел противника, на уловку эту не поддавался, внимательно следил за его левой рукой, не позволяя ему исполнить хитрое намерение, а сам тем временем выматывал его. Человеку, с которым ему довелось сойтись в бою, немного перевалило за двадцать, он был хорош собой, и что-то неуловимое в облике его подсказывало капитану, что с ним дерется свой брат — вояка, солдатская кость, — хоть и одетый, как принято у молодых и знатных мадридцев: короткие замшевые сапоги, ропилъя тонкого сукна, хорошие плащ со шляпой, сейчас брошенные наземь, чтоб не мешали. Нет, он молодец — совсем не трус, держится стойко, рот держит на замке и ничуть не фанфаронит. Алатристе не купился на ложный выпад, сместился еще на четверть окружности вправо, так что солнце било теперь в глаза противнику. Будь все проклято! К этой минуте на сцене отыграли не меньше половины первого действия «Садов Хуана Фернандеса».
Пора кончать, решил он, но горячку пороть не надо. Ни горячку, ни брюхо противнику — нечего осложнять себе жизнь убийством средь бела дня. Алатристе сделал вид, что собирается нанести удар вверх, ушел вправо, опустил клинок, защищая корпус, и, стремительно рванувшись вперед, полоснул противника кинжалом по голове. Это против правил, сказал бы любой секундант, но секундантов не было, а была Мария де Кастро, уже вышедшая на сцену Театра де ла Крус, до которого, между прочим, еще шагать два квартала. Какие уж тут фехтовальные изыски. Так или иначе, поединок он выиграл. Юноша побледнел, упал на колени, а из рассеченного виска густо и ярко хлынула кровь. Кинжал он выронил, а на шпагу опирался, пытаясь привстать, но Алатристе, вложив клинок в ножны, подошел вплотную и добрым пинком выбил оружие у него из рук. Подхватил, не дав свалиться навзничь, достал из-за обшлага чистый платок и, как умел, перевязал глубокую царапину.
— Как вы смотрите на то, что я сейчас откланяюсь? — осведомился он.
Но раненый смотрел осоловело и не отвечал. Алатристе, сердито засопев, пояснил:
— Дел много.
Дождавшись наконец слабого кивка, поддержал за плечо, помог приподняться. Из-под платка продолжала струиться кровь, но Алатристе рассудил: скоро уймется, парень молодой и крепкий.
— Сейчас позову кого-нибудь.
Почему-то не получалось плюнуть на все да идти своей дорогой. Он задрал голову к верхушке башни Алькасара, вздымавшейся над крепостными стенами, потом глянул вниз, на Сеговийский мост. Никого. Ни альгвасилов — впрочем, это как раз недурно, — ни прохожих. Ни единой живой души. Весь Мадрид сидит в театре, рукоплещет Тирсо, а он торчит здесь, попусту теряя время. Может быть, нетерпеливо подумал Алатристе, принанять за горстку медяков какого-нибудь разносчика или носильщика — их много, наверное, ошивается у Пуэрта-де-ла-Веги в ожидании приезжих — и пусть тащит этого малого в гостиницу, к черту или к дьяволу. Куда угодно. Вновь усадил раненого на камень — обломок поваленной стены. Подобрал с земли и протянул ему плащ, шляпу, шпагу, кинжал.
— Ну, что еще я могу для вас сделать?
Тот дышал медленно и прерывисто, и лицо его оставалось меловым. Поднял голову, долго — как видно, все плыло и расплывалось у него перед глазами — смотрел на капитана и проговорил наконец хрипло и слабо:
— Как ваше имя?
Алатристе надел шляпу, предварительно отряхнув ею запыленные сапоги, и ответил неприязненно:
— Вам нет дела до моего имени. А мне — до вашего.
Когда гитары возвестили конец интермедии, мы с Доном Франсиско увидели капитана — сняв шляпу, перебросив через руку свернутую епанчу, склонив голову и придерживая шпагу, он пробирался через густую толпу, заполнявшую патио и вообще все помещение театра, причем на каждом шагу приговаривал: «Прошу извинения… Виноват… Простите за беспокойство…» Вот он вышел из-под касуалы[97], приветствовал альгвасила, уплатил шестнадцать мараведи служителю, поднялся по ступенькам и стал пробираться к нам — а мы сидели в первом ряду, у самой балюстрады. Как это он проник в театр: у входа творится сущее светопреставление, к дверям не пробиться, — удивился я, но сразу понял, что капитан решил воспользоваться не главным входом, а задней дверью — именно через них попадали в театр дамы — охранявший же ее служитель в кожаном нагруднике, призванном уберечь его от кинжалов тех, кто желал наслаждаться искусством задарма, в миру был помощником аптекаря Фадрике Кривого, закадычного приятеля Диего Алатристе. Так что поход в театр, считая мзду привратнику, плату за вход, за место и благотворительный сбор, облегчил и без того не слишком пухлый кошелек капитана реала на два. Но сегодня давали «Сад Хуана Фернандеса», новую комедию Тирсо. В те времена вместе с престарелым Лопе де Вегой и юным, но шибко идущим в гору Педро Кальдероном этот монах ордена мерседарианцев, которого на самом деле звали Габриэлем Тельесом, приносил наибольшие доходы импресарио и артистам, доставлял наслаждение обожающим его зрителям, хотя, конечно, в славе и всенародном признании уступал великому Лопе, парившему в заоблачных высях. Кроме того, расположенный невдалеке от Прадо великолепный мадридский сад, подаривший свое имя комедии и служивший излюбленным местом для прогулок и любовных свиданий, был тогда в большой моде, так что едва успела появиться на сцене переодетая мужчиной Петронила в сопровождении Томасы в лакейской ливрее, публика начала рукоплескать, не дожидаясь, когда блистательная комедиантка Мария де Кастро произнесет свою первую реплику. И даже так называемые мушкетеры, получившие сие прозвище за то, что, облекая по команде своего верховода Табарки критические отзывы в громовое шиканье, топот и пронзительный свист, являлись на представления в плащах, при шпагах и кинжалах, точно солдаты в караул, — так вот, даже они одобрительно били в ладоши и значительно, как истые ценители, покачивали головами, слушая слова Томасы. А снискать одобрение мушкетеров — вещь немаловажная. В те времена, когда наравне с корридой театр влек к себе и патрициев, и плебеев, одинаково пользуясь у тех и других любовью страстной и пристрастной, даже самые прославленные авторы в прологе старались польстить этой шумной и взыскательной части публики, ибо сказано:
…Вам надобно снискать сперва поддержку тех,
Кто предопределит провал или успех.
Поскольку в тогдашней нашей Испании, яркой и живописной, ни в дурном, ни в хорошем удержу и меры не ведавшей, невежественный лекарь мог, кары не страшась, морить пациентов кровопусканиями, продажный и растленный чиновник — безбоязненно запускать лапу в казну, а вот поэту неточная рифма или вялая интрига не сходила с рук. Казалось порой, что публика предпочитает плохие комедии хорошим, поскольку на вторых можно было лишь сидеть да хлопать, зато первые предоставляли простор для шиканья, гиканья, свиста, топота и заушательских отзывов во всеуслышание — «К черту! Пусть такое туркам показывают!» Распоследний тупица строил из себя знатока, любая дуэнья или дюжая мужеподобная служанка считала себя вправе звенеть ключами, выказывая свое неудовольствие по поводу затянутого монолога. И в театральной зале испанский народ, разъяренный тем, как бездарно им правят, мог вволю и всласть предаваться исконной национальной забаве — совершенно безнаказанно буйствовать и бушевать, вымещать накопившуюся досаду, изливать застоявшуюся желчь. Не так ли в свое время поступил и Каин, который родился, само собой разумеется, в Испании, был идальго и старый христианин?
Но я отвлекся. Итак, мой хозяин пробрался к месту, которое мы держали для него до тех пор, пока некий зритель не потребовал, чтобы мы позволили ему сесть, а дон Франсиско, избегая ссоры не по миролюбивому складу характера, но по обстоятельствам времени и образа действия, уступил, предупредив чересчур настырного театрала, что когда явится законный владелец, придется убраться. Дерзкая формула «там видно будет», которую произнес, усаживаясь, претендент, обрела оттенок боязливого уважения, ибо все и вправду стало видно и очевидно минуту спустя, когда дон Франсиско, пожав плечами, указал выросшему на ступеньках Алатристе на занятое место, и тот обратил к пришлецу свой заиндевелый взгляд. Соперник — нетрудно было догадаться, что это разбогатевший простолюдин, поставлявший в столицу лед откуда-нибудь из Фуэнкарраля, и шпага на перевязи пристала ему не более, чем корове седло, а Иисусу Христу аркебуза — посмотрел на капитана, оценил пронзительную стынь его глаз, пышные солдатские усы, исцарапанную и выщербленную чашку эфеса, рукоять подвешенного справа кинжала. Без единого слова, безмолвно, как моллюск, он сглотнул, сделал вид, будто желает купить у разносчика стакан воды с медом, и посунулся в сторону, потеснив соседа слева, а капитану предоставив место на скамье во всей его целокупности.
— Соизволили наконец пожаловать, — сказал ему Кеведо.
— Вышла небольшая заминка, — ответил Алатристе, усаживаясь и поудобнее пристраивая шпагу.
От него, как бывало на войне, пахло потом и железом. Дон Франсиско заметил, что рукав его колета чем-то выпачкан.
— Кровь? — вопросил он, вздернув брови за стеклами очков.
— Чужая.
Поэт значительно кивнул, отвернулся и промолчал. Ибо сам неоднократно утверждал, что дружба зиждется, помимо совместно выпитого, на умении драться плечом к плечу и промолчать в нужную минуту. Я тоже с некоторой тревогой посматривал на своего хозяина, а он ответил мне успокаивающим взглядом и мелькнувшим под усами слабым подобием улыбки.
— У тебя все в порядке, Иньиго?
— Все, капитан.
— Какова была интермедия?
— Очень хороша. «Подавай карету» называлась, сочинение Киньонеса де Бенавенте. Мы хохотали до колик.
Но тут смолкли гитары, и разговор прервался. Мушкетеры, как всегда грубые и несдержанные, злобно зашипели, требуя тишины и обводя соседей зверскими взглядами. В касуэлах началось усиленное колыхание вееров, а многозначительное переглядывание с мужчинами, наоборот, прекратилось, разносчики с корзинами и объемистыми кувшинами удалились, а знатные люди вернулись на свои места в ложах, задернутых шторками. В одной из лучших я заметил графа де Гуадальмедину в компании приятелей и нескольких дам — мне было известно, что за эту ложу он платит две тысячи реалов в год, — а по соседству с ним — графа-герцога Гаспара де Гусмана Оливареса со всем семейством. Не хватало только его величества — Четвертый Филипп обожал театр и частенько появлялся тут под маской или инкогнито, — однако он был утомлен недавней поездкой по Арагону и Каталонии, где, кстати, в числе его сопровождавших лиц был и наш дон Франсиско, чья звезда разгоралась все ярче. Кеведо, разумеется, мог бы сидеть в любой из лож, куда его с радостью пригласили бы наши гранды, но он любил потереться в гуще народа и предпочитал живой и вольный дух партера, а кроме того, ему доставляло удовольствие ходить в театры в обществе Диего Алатристе. Этот бывший солдат и сущий эспадачин был достаточно образован, ибо книг прочел немало и порядочно разбирался как в литературе, так и в театре, и, хоть мнения свои, отличаясь крайней несловоохотливостью, высказывал не раньше, чем спросят, отлично видел все достоинства и пороки комедии, не давал себя обмануть дешевыми трюками, которые иные авторы во имя успеха у непритязательного простонародья использовали чересчур щедро. Это, разумеется, не касалось титанов — Лопе, Тирсо или Кальдерона: ибо даже когда они прибегали к расхожим приемам, не отмеченным печатью безупречного вкуса, те получались у них совсем иными и отличались от ремесленных поделок, как небо от земли. Сам Лопе владел этим искусством несравненно:
Лишь стоит за комедию мне взяться, на семь замков я запираю знанья и выношу Теренция и Плавта из дома прочь, чтобы немые книги своих подсказок не кричали в уши[98].
Это, однако, следует понимать не как покаяние нашего Феникса, но как объяснение того, почему он не желает потрафлять ученым мужам, последователям Аристотеля, которые хоть и бранили его комедии, однако же дали бы отрубить себе руку за право поставить под ними свою подпись, а главное — получать процент со сбора. Впрочем, я отвлекся: в тот вечер играли не Лопе, а Тирсо, что в данном случае не так уж важно. Комедия, относящаяся к разряду «плаща и шпаги», написанная превосходными стихами, с должной глубиной и основательностью изображала тогдашний Мадрид, лживый город — не город, а морок, — гиблое место, куда приходит солдат, желая получить за свою храбрость награду, которая от него уплывает. Порицалось там наше всегдашнее презрение к труду и тяга к роскоши — тоже, между прочим, национальный порок, и тогда, и потом неуклонно тянувший нас в пропасть, усугублявший нравственный недуг, который развалил необъятную империю, наследие отважных, непреклонных, жестоковыйных людей, после восьмисотлетней резни с маврами усвоивших, что терять им нечего, а обрести можно все. Над Испанией 1626 года, к коей относится мой рассказ, солнце еще не заходило, но стояло уже далеко не в зените. А окончательный закат былой славы пришлось мне своими глазами наблюдать семнадцать лет спустя, в долине Рокруа, когда под визг неприятельской картечи я, уже в чине прапорщика вздымая располосованное знамя над последним каре нашей несчастной, нашей стойкой пехоты, в ответ на вопрос французского офицера, сколько людей было в дочиста истребленном полку, сказал: «Сочтите убитых». Тогда же я закрыл глаза капитану Алатристе.
Но всему свой черед. А потому вернемся в Театр де ла Крус, где в тот вечер давали новую комедию Тирсо де Молины, от которой столь многого ожидали и которая стала причиной столпотворения, описанного мною ранее. И вот мы с капитаном и Кеведо смотрели на сцену, где меж тем начался день второй[99]: из-за кулис вновь появились Петронила и Томаса, предоставив воображению зрителей дорисовать красоты сада, а о том, что это именно сад, скупо намекала декорация в виде увитой плющом ограды. Краем глаза я видел, как Алатристе подался вперед, облокотился о барьер, и орлиный профиль его четко обозначился в снопе света, проникшем через прореху в парусине, натянутой ради того, чтобы предвечернее солнце не слепило зрителей, ибо театр был выстроен на западной вершине холма. Обе комедиантки были чудо как хороши в мужских костюмах, ношение коих на сцене не смогли искоренить ни королевские указы, ни нападки инквизиции — уж больно по сердцу приходилась сия вольность мадридским зрителям. Когда же в свое время несколько членов Совета Кастилии, чье безмерное фарисейство подхлестнуто было фанатизмом неких клириков, попытались вообще изгнать комедию со сцены, народ воспротивился единодушно и не отдал свою отраду, тем паче что ревнителям нравственности объяснили: часть сборов от каждого представления идет в пользу богоугодных заведений.
Итак, под аплодисменты битком набитого зала появились из-за кулис две женщины в мужском платье, и когда Мария де Кастро, исполнявшая роль Петронилы, подала свою первую реплику:
Поскорее все открой мне,
Места не найду в тревоге… —
мушкетеры, люди, как я уже говорил, взыскательные, в безмолвном одобрении привстали на цыпочки, чтобы лучше видеть, а дамы в ложах прекратили грызть орешки, жевать лаймы и сливы. Мария де Кастро была самой красивой и самой знаменитой комедианткой того времени, и как ни в ком ином воплощалась в ней пленительная и странная суть того, что называется «театром», вечно колеблющегося между зеркальным отображением — нужды нет, что зеркало это было порою кривым, — нашей повседневности и сновиденной прелестью самых возвышенных мечтаний. Мария, создание живое и пылкое, была отлично сложена и на лицо хороша как картинка, наделена огромными черными глазами, белейшими зубками, изящно очерченным и соразмерным ртом. Женщины завидовали ее нарядам, красоте и мастерству декламации. Мужчины млели от нее на сцене и домогались ее за кулисами, чему нимало не препятствовал супруг, Рафаэль де Косар, блистательный комедиант и любимец публики, о коем я поведаю вам в надлежащее время, а пока скажу лишь, что помимо ярчайшего дарования, выказываемого во всех ролях, будь то плутоватый слуга, изящный кабальеро или благородный старик-отец, был он славен еще и тем, что весьма охотно, безо всякой огласки и за приемлемую мзду предоставлял доступ к прелестям четырех или пяти актрис своей труппы: все они были или по крайней мере считались замужем, и, следовательно, не нарушали королевских установлений, введенных в действие еще во времена великого нашего государя Филиппа Второго. Сам Косар с обезоруживающим бесстыдством говорил по этому поводу так: «Я впал бы во грех себялюбия и преступил бы завет милосердия, каковое есть важнейшее из добродетелей, если бы не дал наслаждаться искусством тем, кому оно по карману». В сих обстоятельствах законная его жена — впоследствии я узнал, что брак их был фиговым листком, прикрывавшим шашни обоих супругов, — Мария де Кастро, приберегаемая для особых случаев прекрасная арагонка с каштановыми волосами и нежно звенящим голоском, оказалась истинным сокровищем, почище золота инков. Короче говоря, к бесстыжему Косару с полнейшим основанием можно было отнести лукавый стих Лопе:
Супружеская честь — такая цитадель, Где штурмовой отряд всегда отыщет щель.Впрочем, отдадим должное Марии де Кастро, тем паче, что это имеет отношение к нашей истории — не всегда во вкусах своих и представлениях руководствовалась она только выгодой, не только алчностью горели порой ее прекрасные глаза. Недаром же говорится: «С одним — для достатка, с другим — чтобы сладко». Вот в отношении этого «другого» и чтобы прояснить вам, господа, положение вещей, скажу, что Диего Алатристе и комедиантка были знакомы хорошо и близко: скандал, устроенный Каридад Непрухой накануне спектакля, и скверное настроение моего хозяина имели к сей близости самое непосредственное отношение, — и что когда начался день второй, капитан не сводил пристального взора со сцены; я же поглядывал то на него, то на Марию. Ибо с одной стороны тревожился за него, а с другой — огорчался из-за трактирщицы, которую очень любил. Актриса и меня пробирала до печенок, воскрешая в памяти события трех— четырехлетней давности, когда я впервые увидел ее в Театре дель Принсипе на представлении «Набережной в Севилье», ознаменовавшимся побоищем в высочайшем присутствии и с участием принца Уэльского и Бекингема — тогда еще не герцога, а маркиза. Ибо если Мария де Кастро и не казалась мне прекраснейшей женщиной на свете — как вам известно, сей титул мною отдан был той, кому не иначе как сам сатана даровал при рождении синие глаза, — то все же красота актрисы переворачивала мне нутро так же, как и всем лицам мужеского пола. Разумеется, я и предполагать тогда не мог, сколь сильно осложнит она жизнь мне и моему хозяину, какие опасности навлечет на нас — да что мы! даже нашему государю придется в те дни проскользить в буквальном смысле по лезвию, не бритвы, так шпаги. Обо всем этом я намереваюсь поведать вам, дабы новое приключение наше доказало: нет такой каверзы, которую не измыслит дьявол, избрав орудием своим хорошенькую женщину, нет такого безумства, на которое не подвигнет он мужчину, и такой пропасти, на край которой не поставит он его.
Между вторым и третьим днями по зычному требованию мушкетеров пропеты были известные куплетцы под названием «Воровка донья Исабель», которыми с большим вдохновением и жаром порадовала нас Хасинта Руэда, малость перезрелая, но все еще аппетитная красотка. Впрочем, насладиться искрометным исполнением мне было не суждено, ибо тотчас же приблизился к нам служитель и сообщил сеньору Диего Алатристе, что его ожидают. Капитан многозначительно переглянулся с доном Франсиско, а покуда он вставал и оправлял на левом боку шпагу, поэт неодобрительно покачал головой, примолвив:
— Марионеткой не плясав на тонких нитях, Блажен, кто без страстей сумел прожить, Трикрат блажен, кто смог похоронить их.Алатристе пожал плечами, взял плащ, надел шляпу, сухо пробормотал:
— Не морочьте голову, дон Франсиско, без вас тошно, — и начал протискиваться к выходу. Кеведо же послал мне красноречивый взгляд, и я, правильно истолковав его, двинулся вдогонку хозяину. «Дашь знать, если что пойдет наперекос, — сказали мне глаза, спрятанные за стеклами круглых очков. — Шпага хорошо, а две — лучше». В гордом сознании возложенной на меня ответственности я половчей приладил висевший сзади «кинжал милосердия» и тихой мышкой выскользнул следом за Алатристе, от всей души уповая, что нам дадут насладиться комедией. Ибо величайшей низостью было бы портить премьеру славному Тирсо.
Диего Алатристе знал дорогу, ибо шел по ней не впервой. Спустился по ступеням, не доходя до буфета, свернул налево и оказался в коридоре, который, огибая ложи, вел на сцену и за кулисы. На лестнице увидал он давнего друга — лейтенанта альгвасилов Мартина Салданью, занятого беседой с содержателем театра и еще двумя знакомыми, принадлежащими к тому же миру. Алатристе на миг замедлил шаги, здороваясь с ними, и уловил озабоченность на лице лейтенанта. Двинулся было дальше, но тут Салданья с деланной непринужденностью, будто вспомнив о некоем не слишком важном дельце, окликнул его, нагнал и, взяв пониже локтя за руку, прошептал:
— Там — Гонсало Москатель.
— А мне-то что?
— Хотелось бы, чтоб все было тихо.
Алатристе с непроницаемым видом взглянул на него и ответил:
— И ты тоже голову не морочь.
И прошел вперед, покуда Салданья скреб себе бороду, раздумывая, в какую компанию зачислил его былой однополчанин. Шагов через десять капитан отодвинул драпировку и оказался в просторном помещении без окон, где хранились расписанные задники декораций. В глубине же, отделенные занавесками, тянулись каморки, в которых переодевались и гримировались актрисы; мужские уборные помещались ниже этажом. В этой же комнате занятые в спектакле ждали своего выхода на сцену и принимали поклонников, и в настоящую минуту находилось там человек шесть комедиантов обоего пола, готовых выйти на сцену, как только Хасинта Руэда, чей голос доносился из-за драпировки, допоет куплет, да трое-четверо кабальеро из тех, кому благодаря богатству или положению в обществе дозволялись такие вольности. Был среди них, понятное дело, и дон Гонсало Москатель.
Поймав на себе взгляд Салданьи и, как благонравный отрок, поклонившись лейтенанту, я скользнул следом за своим хозяином. Черты одного из тех, кто стоял на лестнице вместе с альгвасилом, показались мне знакомыми, но вспомнить, где я его видел, не удалось. Внутрь я не вошел, а прислонился к стене в узком коридорчике, откуда увидел, как капитан и находившиеся в комнате кабальеро сухо раскланялись, не подумав даже снять шляпы — наверное, чтоб прическу не попортить. Единственный человек, не ответивший на приветствие Алатристе, прозывался дон Гонсало Москатель, и мне пора представить вам эту колоритную личность. Сеньор Москаль казался ожившим персонажем «комедии плаща и шпаги» — рослый, тучный, со зверскими усищами, подвитые кончики коих торчали выше носа, а в облике его в равных долях причудливо перемешивались изысканность и преувеличенная воинственность, каковое сочетание придавало ему смехотворно-свирепый вид. Сами посудите: одет чрезвычайно щеголевато, словно какой-нибудь юный придворный вертопрах, — остроугольный кружевной воротник, темно-лиловый колет со сборчатыми рукавами, с недавних пор вновь вошедшими в моду, французского покроя пелерина, шелковые чулки, черные фетровые башмаки и такая же шляпа с необыкновенно пышным султаном, но при этом на перевязи, сплошь инкрустированной старинными серебряными монетками, висит непомерной длины шпага, какую носят мадридские фанфароны, которые залихватски крутят усы, на каждом шагу поминают бога и черта и поминутно лязгают ножнами. Вдобавок дон Гонсало хвастался — без малейших на то оснований — тем, что состоит в дружбе с Гонгорой, и сам кропал стишки, издавая их собственным попечением, благо человек был не бедный. Имелся у него лишь один сомышленник и поклонник, а верней сказать — прихлебатель, на всех углах трубивший ему славу, но сей сомнительный виршеплет, писавший, на свою беду, пером, выдернутым, надо полагать, из крыла ангела, некогда явившегося в Содом[100], недавно был сожжен на костре по обвинению в том самом грехе, название коему дал славный библейский городок, так что некому было восхвалять дарования Москателя до тех пор, пока некий проходимец по имени Сатурнино Аполо — гнуснейший представитель судейского сословия, человечишка липкий, неумеренно льстивый и мутный — намертво не приклеился к нему, заняв место казненного и начав без зазрения совести высасывать из благодетеля деньги. О нем речь впереди. А деньги у дона Гонсало водились, ибо помимо того, что он поставлял в мадридские мясные лавки разнообразную убоину, включая сало свежее и свежепросоленное, ему досталось немалое наследство по смерти жены, отец которой был служителем Фемиды, весьма искусно умевшей скашивать глаз из-под повязки и склонять как раз ту чашу весов, куда золотых накидали больше. Потомством Москатель не обзавелся, но в его доме на улице Мадера воспитывалась сиротка-племянница — барышня на выданье, — которую он стерег почище трехглавого пса Цербера. Сомневаться не приходилось, что рано или поздно заблещет на его колете крест какого-нибудь рыцарского ордена — в нашей Испании, где не продохнуть от мздоимцев и сребролюбцев, все доступно тому, кто наворовал достаточно, чтобы за это все уплатить.
Краем глаза Алатристе заметил, что Гонсало Москатель пепелит его взглядом, а руку не снимает с эфеса. К несчастью, они были хорошо знакомы, и при каждой встрече взгляды мясника недвусмысленно показывали, какого рода чувства испытывает он к капитану. Все началось месяца два назад, в ночной час, когда с криком «Поберегись!» из окон выплескивают помои и опорожняют урыльники: завернувшийся в плащ и скупо освещенный луной Алатристе возвращался к себе в таверну, когда на углу улицы Уэртас услышал разговор на повышенных тонах, а подойдя поближе, разглядел две тени. Он не любил лезть не в свое дело и твердо помнил, что «свои собаки грызутся — чужая не приставай», но так уж вышло, что путь его лежал именно в этом направлении, и сворачивать он не собирался. У дверей пререкались двое: мужчина не оставлял намерений пройти в двери, а сильно раздосадованная женщина ему препятствовала. Приятный голосок, отметил капитан. Такой должен принадлежать красивой или, по крайней мере, молодой женщине. И Алатристе замедлил шаги, дабы бросить на нее любопытствующий взгляд. Обнаружив его присутствие, кавалер обратил к нему пожелание «идти своей дорогой и не искать, где не терял». Предложение было разумное, капитан уж собирался последовать ему, как вдруг дама — или кто она там была — спокойно и очень светски произнесла: «Ах, боже мой, хоть бы этот господин убедил вас оставить меня в покое и уйти с богом». Это меняло дело, и капитан, хоть и понимал, что вступает на скользкий путь, после минутного размышления осведомился у дамы, ее ли это дом. Ее собственный, отвечала она, а этот кабальеро — их с мужем знакомый и дурных намерений не обнаруживает, он проводил ее из гостей, за что ему спасибо, но в столь поздний час каждый, как говорится, сыч на свою оливу летит. Капитан еще немного подивился тому, что супруг этой дамы не появляется в дверях, дабы уладить дело, но в этот миг ее спутник прервал нить его раздумий, порекомендовав, и на этот раз — весьма настойчиво и неучтиво, — скрыться с глаз долой, а то худо будет. И слышно было, как вылез из ножен клинок: если по звуку судить — примерно так на треть. Это решило дело, а поскольку в такой холодный вечер в самый раз было согреться, Алатристе сдвинулся назад и влево, так, чтобы самому оказаться во тьме, а нелюбезному кабальеро — на свету, отстегнул пряжку плаща, обмотал его вокруг левой руки, правой же вытащил шпагу. Обнажил оружие и его противник. Не сближаясь вплотную, обменялись несколькими выпадами, не принесшими успеха ни одному из сражающихся, причем капитан молчал, а неизвестный кабальеро сотрясал воздух божбой. Поднятый шум разбудил слугу, слуга принес фонарь, а следом появился и хозяин дома — в ночной сорочке, колпаке с кисточкой, в шлепанцах на босу ногу, но со шпагой в руке и с возгласами негодования: «Что тут творится? Кого тут черт принес? Кто смеет буянить на пороге моего дома?» — на устах. Звучали и иные выражения, но произносились они эдак глумливо и с явной насмешкой. Хозяин оказался человеком весьма приятным и обходительным, с густыми усами, на немецкий манер переходящими в бакенбарды. Поскольку ничьей чести Урону нанесено не было, заключили мир. Задиристый кабальеро-полуночник назвался доном Гонсало Москателем, и хозяин — предварительно передав свою длинную шпагу слуге — заверил, что он и вправду друг дома, так что имело место не более чем прискорбное недоразумение. Все это напоминало театральную сцену, и Алатристе совсем уж было собирался расхохотаться, как вдруг признал в хозяине знаменитого актера Рафаэля де Косара, славного и своим талантом, и веселым нравом, а в хозяйке — не менее прославленную комедиантку Марию де Кастро. Обоих супругов имел он удовольствие наблюдать на сцене, но никогда еще не видел актрису так близко: стоя в свете фонаря, высоко поднятого слугой, завернувшись в мантилью, она улыбалась, от души позабавленная ночным происшествием, и показалась капитану чрезвычайно привлекательной. И надо полагать, такое случалось с нею не впервые, ибо актрисы издавна считались дамами не слишком строгих правил, тем более что передавали за верное муж, побранясь для порядка и помахав длинной, всей Испании известной шпагой, в дальнейшем относился весьма снисходительно к поклонникам и своей жены, и прочих комедианток из труппы, в особенности если поклонники эти — вот как дон Гонсало Москатель, снабжавший мясом весь Мадрид, — оказывались кредитоспособны. Талант талантом, а и Косар, покорствуя общему закону, от того, что само в руки плывет, отказываться не собирался. Оттого, быть может, и на защиту своей чести выступил он с изрядным опозданием. Недаром же говорится:
Мораль актеров, в общем, — не строга: Кто обучился в театральной школе, Сдает жену в наем, согласно роли, С достоинством нося свои рога[101].Короче говоря, Алатристе намеревался извиниться да отправляться восвояси, предав забвению эту путаницу, когда Мария де Кастро, то ли решив позлить своего воздыхателя, то ли просто начав тонкую и опасную игру, к которой так склонны женщины, в приятных выражениях принялась благодарить капитана за его своевременное вмешательство, нежно поглядывать на него снизу вверх и приглашать его как-нибудь заглянуть в театр, где в те дни доигрывали комедию Рохаса Соррильи. При этом она улыбалась, сверкая белоснежными зубами, которые дон Луис де Гонгора, заклятый враг дона Франсиско де Кеведо, непременно уподобил бы перламутру и мелкому жемчугу. И во взгляде ее Алатристе, человек по этой части весьма опытный, прочел обещание.
И вот теперь, спустя два месяца после недоразумения, уже не раз и не два получив обещанное — супружеская шпага больше не сверкала — и намереваясь получать его и впредь, он стоял за кулисами Театра де ла Крус, а Москатель, с которым доводилось сталкиваться на этой дорожке, метал в него взоры, горящие ревнивой яростью. Дело было в том, что красотка-комедиантка отнюдь не принадлежала к числу тех, кто на одном угольке похлебку греет: иными словами, она продолжала вытягивать денежки из дона Гонсало, позволяя ему кое-какие вольности, но далеко не пуская — каждая встреча на Пуэрта-де-Гвадалахара обходилась мясоторговцу довольно дорого, ибо Мария знала толк и в шелках-бархатах, и в колечках-камушках — и одновременно посредством Алатристе, чьи дарования и род деятельности дону Гонсало были известны, удерживая сего последнего на почтительном расстоянии. И Москатель, поощряемый Косаром — тот ведь был не только актер первой величины, но и плут первостатейный, а потому этого поклонника, как и всех прочих, приваживал, бессовестно залезая к нему в карман, — бежал, подобно ослику за пучком сена, питая, а вернее — вкушая надежды, ибо исключительно их вкупе с посулами, коими, впрочем, тоже сыт не будешь, подавала ему хитроумная комедиантка, но сохранял упорство и от вожделенной цели не отказывался. Разумеется, капитан знал, что не он один пользуется милостями Марии: захаживали к ней и другие гости, и даже, говорят, граф Гуадальмедина и герцог де Сесса знакомы с нею были отнюдь не шапочно и ценили по достоинству ее сценическое мастерство и прочие дарования. Диего ли Алатристе — всего лишь отставному солдату, подавшемуся в эспадачины — было соперничать с этими знатными и богатыми господами? Однако по причинам, ему неведомым — женская душа непостижима, — Мария де Кастро бесплатно предоставляла ему то, в чем одним отказывала и за что с иных драла семь шкур. Ибо недаром же говорится:
Не всегда берется плата, Хоть услуга — не пустяк. То, что маврам стоит злата, Христианам дам за так.И Диего Алатристе отдернул занавеску. Он не был влюблен в эту женщину — как и ни в какую другую. Но Мария де Кастро была краше всех, кто в ту пору выходил на театральные подмостки, а он время от времени получал привилегию обладать ею. И поцелуй, который в этот самый миг запечатлели на устах капитана, будет помниться до тех пор, пока свинец или сталь, недуг или старость не навеют на него вечный сон.
II Дом на улице Франкос
На следующее утро грянул скандал. Со второго этажа стали доноситься до нас его отголоски. Верней сказать, даже и не отголоски, а голос — зычный голос Каридад Непрухи: эта добрая женщина повела по капитану Алатристе сосредоточенный огонь и зарядов не жалела. Причиной же, сами понимаете, послужило пристрастие моего хозяина к театру, так что имя Марии де Кастро поминалось беспрестанно с добавлением определений, из коих «подстилка штопаная» и «сучка рваная» были наиболее мягкими и звучали особенно выразительно в устах Непрухи, ибо трактирщица, и сейчас еще, к сорока годам, не утратившая смуглой своей прелести, в вопросах нравственности собаку съела и сколько-то лет кряду сама промышляла продажной любовью, прежде чем на деньги, скопленные этим достойным занятием, не открыла таверну, расположенную, если помните, на углу улиц Толедо и Аркебузы. И хоть капитан, вернувшийся из Фландрии и Севильи, никаких обещаний, как и раньше, не давал, а уж предложений тем более не делал, он получил на втором этаже прежнее свое обиталище, не говоря уж о праве зимними ночами согреваться в хозяйкиной постели. Что ж, ничего удивительного: всякий знал, что Каридад влюблена в Алатристе без памяти и в пору его отсутствия неукоснительно хранит ему верность — никого на свете нет добродетельней отставной потаскухи, если, не дожидаясь, когда дурная болезнь уложит на койку в лазарете Пресвятой Девы Аточеской, успеет она свернуть со стези порока и обратить свои стопы и помыслы к богу или домашнему хозяйству. Не в пример многим дамам, не изменяющим мужьям оттого лишь, что не с кем или удобного случая никак не представится, отставная проститутка знает, что почем, и сколь многое обретает человек, кое от чего отрешившись. Одна беда — Каридад при безупречном поведении, любящем сердце, статном теле отличалась еще и необузданностью нрава, так что предполагаемые шашни моего хозяина с комедианткой приводили ее желчь в волнение.
Не ведаю, что говорил ей в тот раз капитан — да и говорил ли вообще. Зная своего хозяина, я уверен, что он, как подобает старому солдату, выдерживал натиск стойко и бестрепетно, сомкнув строй и уста в ожидании, когда противник выдохнется. Да и пора бы, черт возьми, ибо по сравнению с нынешней переделкой что Руйтерская мельница, что Терхейденский редут казались сущими безделками — даже турки не заслуживали слов, которые без запинки выговаривала Каридад. Когда же донесшийся до нас грохот и звон возвестили, что битва вступила в следующую свою фазу и в ход пошла посуда, капитан, прихватив шпагу, шляпу и плащ, очистил помещение, выйдя передохнуть. Я же, как всегда по утрам, сидел за столом у двери, где было посветлее, и листал латинскую грамматику дона Антонио Хиля, полезнейшую книгу, которую преподобный Перес, наш с капитаном давний друг, вручил мне в видах пополнения моего образования, находящегося после фламандской кампании в состоянии плачевном. Хотя на семнадцатом году решение мое вступить в военную службу окрепло окончательно, капитан Алатристе и дон Франсиско де Кеведо без устали внушали мне, что зачатки латыни и греческого, умение писать и изрядная толика хороших книг пробьют толковому человеку дорогу лучше всякой шпаги, тем более в Испании, где судьи, чиновники, стряпчие, всякого рода писаря и прочие стервятники давят горами исписанной бумаги бедный наш безграмотный народ с тем, чтобы способней было обдирать его и потрошить в свое удовольствие. Так вот, покуда я прилежно переписывал «miles,quemduxlaudat, Hispanus est»[102], служанка Дамиана мыла пол, а обычные в этот час посетители — лиценциат Кальсонес, только что вернувшийся с площади Провинсиа, отставной сержант кавалерии Вигонь, потерявший под Ньюпортом левую руку, и кривой аптекарь Фадрике — играли в ломбер, поставив на кон порцию свиных шкварок и здоровую бутыль вина.
На соседней колокольне пробило четверть двенадцатого, и когда наверху хлопнула дверь, а на лестнице послышались шаги капитана, партнеры переглянулись, укоризненно покачали головами и вернулись к игре: с бубен пошел Хуан Вигонь, трефами ответил аптекарь, Кальсонес же выложил пикового туза. В этот миг я поднялся, захлопнул учебник, заткнул чернильницу, прихватил берет, кинжал и куртку и на цыпочках, чтобы не натоптать на свежевымытом полу, вышел вслед за своим хозяином на улицу Аркебузы.
Миновав фонтан, оказались мы на маленькой площади Антона Мартина и, словно подтверждая худшие подозрения Каридад Непрухи, сразу направились туда, где имели обыкновение собираться комедианты. Таких мест в стольном городе Мадриде имелось три: одно — на ступенях Сан-Фелипе, другое — подле королевского дворца, а то, о котором идет у нас речь, находилось в квартале, облюбованном литераторами и актерами, на замощенном пятачке, где сходятся улицы Леон, Кантарранас и Франкос. Здесь помещались вполне пристойная гостиница, булочная и кондитерская, три-четыре славных таверны, и каждое утро стекался сюда народ, имеющий отношение к театру, — авторы, поэты, антрепренеры, актеры — и, разумеется, неизбежные зеваки, мечтающие увидеть, как их любимцы и кумиры обоего пола выходят с корзиной на Руке за покупками или угощаются в кондитерской, отстояв мессу в соборе Святого Себастьяна и опустив в церковную кружку посильную лепту. Место это пользовалось заслуженной славой, являясь чем-то вроде живой газеты: здесь обсуждались на все лады уже написанные или еще только сочиняемые комедии, из уст в уста и из рук в руки передавались стихи содержания самого что ни на есть вольного и фривольного, губилась репутация и маралась честь, здесь прогуливались увенчанные славой поэты в сопровождении друзей и почитателей, а полумертвые от голода юнцы дерзали соперничать с теми, кто уже взобрался на Парнас и теперь остервенело его оборонял. И правду надо сказать, талант и слава представлены были здесь изобильней и гуще, нежели во всем прочем Мадриде — я назову имена лишь нескольких знаменитостей, обитавших не далее двухсот шагов отсюда: Лопе де Вега в своем доме по улице Франкос и дон Франсиско де Кеведо — на улице Христа-Младенца, той самой, где проживал довольно долго дон Луис де Гонгора, пока заклятый его враг Кеведо не купил дом, выставив «кордовского лебедя» вон. По здешним мостовым хаживали монах-мерседарианец Тирсо де Молина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкон по прозвищу Горбун, павший жертвой собственной желчности и чужой неприязни: враги сорвали представление его «Антихриста», открыв посреди действия колбу с неким составом, распространившим по залу вонь непереносимую. По соседству с Лопе, на углу улиц Леон и Франкос, как раз напротив булочной Кастильо, жил и умер славный наш дон Мигель де Сервантес, а между улицами Уэртас и Аточе помещалась прежде печатня, в которой Хуан де ла Куэста выпустил в свет первое издание «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского». Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения нашей словесности покоятся в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса. Дабы лишний раз подчеркнуть, сколь мы, испанцы, беспамятны и неблагодарны, упомяну, что в неподалеку расположенном госпитале пять лет спустя описываемых мною событий суждено было окончить свои дни отважному капитану и великому поэту Гильену де Кастро, автору «Юности Сида», причем — в нужде столь жестокой, что пришлось устраивать складчину, дабы похоронить его. А раз уж заговорили мы о нужде и нищете, напомню вам, господа, что когда бессчастный дон Мигель де Сервантес, ссылаясь на свои военные заслуги, на увечье, полученное при Лепанто, и пять лет алжирского плена, попросил всего лишь о разрешении перебраться в Индии, то оного отнюдь не получил и в шестнадцатом году нового столетия, иными словами — ровно десять лет назад, умер в бедности, всеми покинутый, и о кончине его не было объявлено публично, а гроб везли по этим вот самым улицам к церкви Тринитариев без подобающих почестей и траурного кортежа, и самое имя его, стремительно изгладившись из памяти современников, пребывало в забвении, пока заграница не оценила и не принялась переиздавать «Дон Кихота» — лишь тогда воссияло оно во славе своей. Дивиться ли этому: не такой ли, спрошу я, конец сужден по обыкновению в гнусной нашей отчизне славнейшим ее сынам? Считанные исключения подтверждают правило.
Там, где улица Кантарранас упирается в помянутый мною мощеный пятачок, в дверях таверны, что по соседству с табачной лавкой, увидали мы дона Франсиско, расправлявшегося с ломтем пирога, именуемого английским. Заметив нас, поэт спросил еще один кувшин «Вальдеиглесиас», два стакана и еще две порции пирога, а мы подсели к нему за стол. Кеведо был, как всегда, в черном колете с алевшей на груди ящерицей креста Сантьяго, в черных шелковых чулках, а бережно свернутый плащ вместе со шпагой лежал на скамье. Он только что вернулся из дворца, куда отправился спозаранку хлопотать насчет нескончаемой тяжбы из-за имения Торре-де-Хуан-Абад, и теперь утолял голод перед возвращением домой, где собирался готовить к новому изданию свою книгу «Политика Бога, правление Христа»: сочинения его наконец-то стали печататься, а эта вызвала кое-какие цензурные придирки со стороны инквизиции. Поэт сообщил, что рад нам несказанно, ибо наше присутствие отгонит докучливых просителей: с тех пор, как он вошел в фавор при дворе — помните, я упоминал: в свите их величеств он сопровождал августейшую чету в недавней поездке по Арагону и Каталонии, — отбою нет от тех, кто осаждает его просьбами.
— Помимо всего прочего, мне заказали комедию. Играть будут в конце месяца в Эскориале… Наше католическое величество едет туда на охоту и желает развлечься искусством.
— Драматургия — вроде бы не ваша стезя, — заметил Алатристе.
— Попытка — не пытка. Если уж бедняга Сервантес пробовал свои силы на театре, мне сам бог велел. Поручение самого графа-герцога. Так что с сей минуты можете считать меня натуральным комедиографом. В собственном соку.
— И что же — вам заплатят или пойдет, как всегда, в счет грядущих благодеяний?
Поэт хмыкнул не без горечи:
— О грядущем загадывать не берусь, — со вздохом промолвил он. — «Вчера ушло, а завтра не настало…» А в настоящем — шестьсот реалов. Так, по крайней мере, посулил Оливарес.
Вот вам пища для ума — так нас давят, что беда: долг исполнить — это да, но нельзя же задарма[103]!
Ну так вот. Министру угодно получить комедию с лихо заверченной интригой из тех, которые, как вам известно, так по вкусу нашему великому Филиппу. Выпотрошим Аристотеля с Горацием, прибавим Сенеку с Теренцием, а потом, как говорит Лопе, накатаем несколько сот строк на потребу… Будет пользоваться успехом.
— И сюжет уже есть?
— А как же! Любовь, серенады под окном, quiproquo[104], поединки… Все как всегда и как положено. Я назову ее «Шпага и кинжал». — Кеведо поглядел на Алатристе поверх стакана и будто невзначай добавил: — Хотят, чтобы ставил ее Косар.
В этот миг на углу улицы Франкос поднялась суматоха. Вскоре мы узнали в чем дело: лакей маркиза де Лас-Наваса пырнул ножом кучера, не уступившего ему дороги. Злоумышленник укрылся в церкви Святого Себастьяна, пострадавшего — он при смерти — перенесли в соседний дом.
— Ну, раз он кучер, — высказался дон Франсиско, — то стократ заслужил то, что получил. — Потом поглядел на моего хозяина и повторил: — Косар.
Алатристе, который, сощурив от солнца свои светло-зеленоватые глаза, невозмутимо созерцал людскую толчею, ничего не сказал.
— Еще говорят, — продолжал Кеведо, — будто наш неугомонно пылкий государь взял Марию де Кастро в правильную осаду… Вы ничего не знаете об этом?
— Откуда бы мне это знать? — ответствовал капитан, пережевывая ломоть пирога.
Дон Франсиско молча отхлебнул вина. Дружба, связывавшая его с капитаном, исключала непрошеные советы и не позволяла лезть в чужие дела. Молчание затягивалось. Алатристе с прежним бесстрастием смотрел на улицу, и я, обеспокоенно переглянувшись с Кеведо, устремил взор туда же. Зеваки галдели, прогуливались взад-вперед, пялились на женщин, стараясь угадать, что за личико скрывается под мантильей. У дверей своей мастерской в фартуке и с молотком в руке ораторствовал сапожник Табарка, расписывая верным своим приспешникам достоинства и недостатки вчерашнего спектакля. Зычно расхваливая свой товар, прошла с корзинками торговка лимонами, появились, грызя орешки, поглядывая, к кому бы пристать, двое студентов, у которых из всех карманов торчали листки со стихами. Тут я заметил смуглого, тощего, бородатого — сущий турок — субъекта: прислонясь к стене, он чистил ногти кончиком ножа и посматривал в нашу сторону. Он был без плаща, с длинной шпагой на перевязи, с кинжалом у пояса, в заплатанном колете скверного сукна, в шляпе с широкими полями, отогнутыми, как принято у мадридских проходимцев, книзу. В мочке левого уха посверкивала крупная золотая серьга. Только я собрался было приглядеться к нему повнимательней, как чья-то тень легла на стол, послышались приветствия, и дон Франсиско поднялся на ноги:
— Вы не знакомы, господа? Честь имею представить… Диего Алатристе-и-Тенорио, Педро Кальдерон де ла Барка.
Мы с капитаном тоже встали, здороваясь со вновь прибывшим, которого я мельком видел вчера в театре. Теперь, рассмотрев его вблизи, я тотчас узнал этого человека с тоненькими юношескими усиками на худом лице. Только теперь лицо это не лоснилось от пота, не было вымазано гарью и копотью, и одет он был не в кожаный нагрудник, а в элегантный колет, плащ тонкой шерсти, и на голове у него сидела шляпа с вышитой лентой, и шпага у пояса висела не солдатская. Прежней оставалась только улыбка, памятная мне по встрече в Аудкерке.
— А юношу зовут Иньиго Бальбоа, — продолжал дон Франсиско.
Педро Кальдерон, припоминая, всмотрелся в мои черты.
— Фламандский знакомец? Так ведь?
Он улыбнулся еще приветливей и дружески положил мне руку на плечо. Я очутился на седьмом небе от счастья при виде того, как удивились капитан и Кеведо, узрев, что молодой комедиограф, которому прочили славу Тирсо и Лопе — звезда его в последнее время разгоралась все ярче: «Мнимый астролог» в прошедшем годе шел на театре с большим успехом, а теперь он дописывал «Осаду Бреды», — узнал убогого мочилеро, два года назад помогшего ему спасти от огня библиотеку аудкеркской ратуши. Кальдерон — в ту пору дон Франсиско очень к нему благоволил — присел за наш стол и включился в общий разговор, орошаемый новой бутылкой вина, а от еды отказался, сказав, что не голоден и взяв на закуску лишь горсть маслин. Затем все мы поднялись и отправились на площадь. Парень, вслух читавший кучке хохочущих зевак какие-то стихи, приблизился к нам и протянул дону Франсиско исписанный листок:
— Говорят, это ваше сочинение, сеньор де Кеведо.
Тот с недовольным видом, но явно наслаждаясь тем, что все ждут его слова, проглядел листок, потом встопорщил ус и прочел вслух:
Пороком сверху донизу закакан. И смерть его пороков не излечит: Во гробе лежа, талию промечет, Не станет карт — сыграет в чет-и-нечет, И душу грешную поставит на кон.— Нет, не мое, — заметил он с деланной серьезностью. — Я бы лучше написал… Но скажите-ка: неужто брат Гонгора так плох, что ему уже сочиняют эпитафии?
Тут послышались льстивые смешки — не сомневаюсь, впрочем, что при ином раскладе они же сопроводили бы и выпад Гонгоры против Кеведо, которому, разумеется принадлежали и эти, и многие другие стихи, без подписи гулявшие по мадридским площадям. Случалось, впрочем, что ему приписывали чужие, не отмеченные печатью его дарования. Что же касается Гонгоры, то эпитафия не с ветру была взята: Кеведо продал дом на улице Христа-Младенца, где обитал вечный его соперник, и тот, вконец разоренный страстью к картам и неодолимым стремлением корчить из себя важную особу, испытывая столь острую нехватку денег, что их едва хватало на содержание старой кареты и немногочисленной прислуги, сдался и отправился в Родную Кордову, а там уже через год больного и вконец отчаявшегося поэта доконала давняя его хвороба — апоплексия, кажется. Надменный и заносчивый, с замашками аристократа, каковым считал он себя по праву таланта, дон Луис скверно играл в карты и еще хуже умел выбирать себе друзей и врагов: выступив против Лопе и Кеведо, он обдернулся не хуже, чем за ломберным столом, и не на тех поставил, связавшись с опальным герцогом де Лермой, с доном Родриго Кальдероном, погибшим на плахе, и с графом де Вильямедианой, павшим от рук убийц, так что надежды его попасть в фавор при дворе и снискать расположение всесильного Оливареса, у которого домогался он для своих племянников то чина, то сана, пошли прахом. Не снискал он удачи и в творчестве, ибо, гордыней обуянный, отказывался предавать тиснению труды свои, довольствуясь тем лишь, что давал их читать и распространять друзьям, а когда наконец по жестокой необходимости воспользовался типографским станком, то умер прежде, чем вышли они в свет и, кстати, тотчас попали под запрет, ибо инквизиция сочла их безнравственными. И хоть ни сам дон Луис, ни стихи его, переполненные вычурными образами и диковинными словесными оборотами, никогда не нравились мне, должен заявить вам, господа, что в лице его потеряли мы первоклассного поэта, который вместе и заодно — вот ведь странность какая — с заклятым своим врагом Кеведо сильно обогатил наш прекрасный язык. Один придал ему культеранистскую глубину, другой — консептистскую выразительность, так что вполне можно сказать: после этой беспощадной и плодотворной битвы двух титанов, отличных друг от друга решительно всем, кроме степени одаренности, в выигрыше оказался испанский язык. Он навсегда стал иным.
Оставив Кальдерона, заболтавшегося со своими родственниками и приятелями, мы двинулись вниз по улице Франкос к дому Лопе — вся Испания звала его так и не нуждалась в добавлении громкой фамилии, — к которому дон Франсиско имел поручения из дворца. Дважды оглянувшись, я убедился, что смуглый человек без плаща следует за нами, но, обернувшись в третий раз, уже никого не увидел. Совпадение, сказал я себе, однако закаленное в уличных свалках наитие шепнуло мне, что от совпадения этого попахивает кровью и сталью. Впрочем, внимание мое вскоре было отвлечено двумя немаловажными обстоятельствами. Дело, во-первых, было в том, что дон Франсиско получил от Оливареса заказ сочинить не только комедию, но и несколько хакарилий[105], которые ее величество непременно желала послушать на одном из вечеров, устраиваемых в так называемой «Золотой гостиной» дворца. Кеведо, обещавший принести эти стишки и, по желанию королевы, лично прочесть их ей и всему синклиту придворных дам, снова выказал себя прежде всего истинным и верным другом, ибо пригласил с собой меня в качестве помощника, пажа, секретаря или кем уж мне будет угодно. Мне же прежде всего было угодно увидеть Анхелику де Алькесар, фрейлину ее величества, в которую — да не в величество, разумеется, а во фрейлину — был я влюблен, можно сказать, смертельно.
А второе обстоятельство обнаружилось непосредственно в дома Лопе. Дон Франсиско постучал в дверь, Лоренса, служанка старого поэта, отворила, и мы вошли. Дом сей впоследствии будет мне хорошо знаком, благодаря дружбе, связывавшей Кеведо с нашим Фениксом, а моего хозяина — кое с кем из близких великому драматургу людей, в числе коих были капитан дон Алонсо де Контрерас и некий неожиданный персонаж, нетерпеливо ожидающий сейчас своего выхода на сцену. Короче говоря, мы переступили порог, миновали прихожую и лестницу, ведущую во внутренние покои — на ней играли две девочки — племянницы Лопе, спустя сколько-то лет оказавшиеся его дочерьми от Марии де Неварес, — и спустились в сад, где возле обвитого виноградной лозой фонтана, под сенью знаменитого апельсинового дерева, посаженного и выращенного поэтом собственноручно, сидел в плетеном из камыша кресле он сам. Только что отобедали: на столике с еще не убранной посудой стояли десерт и стеклянный графин сладкого вина, которым старик потчевал троих гостей. Первый — вышеупомянутый капитан Контрерас в колете с вышитым на груди мальтийским крестом — неизменно посещал Лопе, бывая в Мадриде. Самые добрые отношения установились у него с моим хозяином еще со времен службы в Неаполе на галерах, а может быть, и того раньше — с той поры, как они оба совсем желторотыми птенцами записались в войско эрцгерцога Альберта и отправились воевать во Фландрию. Впрочем, Контрерас — он уже тогда был изрядной бестией, даром что двенадцати лет от роду — умудрился зарезать в драке такого же, как он сам, сорванца и потому с полдороги дезертировал. Вторым гостем был секретарь Совета Кастилии, дон Луис Альберто де Прадо, известный тем, что преклонялся перед Лопе и сам сочинял недурные стихи. Третий — юный и весьма привлекательный идальго на вид лет двадцати, с перевязанной головой — при нашем появлении не смог сдержать удивленного восклицания, а мой хозяин как вкопанный остановился у колодца, машинально взявшись за рукоять кинжала.
— Если говорят, что мир тесен, то Мадрид должен быть не обширней носового платка… — сказал этот молодой человек.
И, видит бог, не ошибся. Именно с ним не далее как вчера утром на берегу Мансанареса дрался на шпагах капитан. Мало того — оказалось, что юношу зовут Лопито Феликс де Вега Карпьо, поэту он приходится родным сыном и только недавно приехал в Мадрид с Сицилии, где с пятнадцати лет служил в галерном флоте под командой маркиза де Санта-Крус. Сей незаконный, но признанный плод любви Лопе и комедиантки Микаэлы Лухан сражался с берберийскими пиратами, воевал с французами, участвовал в освобождении Генуи, а теперь находился при Дворе, ожидая производства в первый офицерский чин и, между делом, настойчиво увиваясь за некой Дамой. Положение, надо сказать, сложилось затруднительное: Лопито выложил все без утайки отцу, а тот в растерянности собирал хлебные крошки с колен, обтянутых тканью сутаны, посматривал на своих гостей и явно не знал, гневаться ему или дивиться. И хотя капитан Контрерас и дон Франсиско, оправившись от первоначального замешательства, наперебой пустились приводить всяческие резоны в оправдание моего хозяина, тот счел свое присутствие в этом доме неуместным и собрался уже удалиться.
— … и потом этот молодой человек может почесть себя счастливчиком, — соловьем разливался Кеведо. — Сойтись в поединке с лучшим фехтовальщиком Мадрида и отделаться всего лишь царапиной — это, знаете ли… Тут надо либо в рубашке родиться, либо превосходно владеть шпагой.
Капитан Контрерас поспешил подтвердить: он-де знает Диего Алатристе еще по Италии и потому свидетельствует, что тот не убивает, лишь когда не хочет убивать. Подобные речи звучали в течение довольно продолжительного времени, но хозяин мой намерения своего не оставил и был готов в любую минуту покинуть дом Лопе. Учтиво склонив голову, он сказал, что никогда не обнажил бы шпагу, зная, кто перед ним, и, не дожидаясь ответа, развернулся к дверям. Алатристе уже шел к выходу, когда вмешался Лопито де Вега:
— Отец, позвольте этому кабальеро остаться — я не держу на него зла, мы дрались честно и по всем правилам. Признаюсь, получить удар кинжалом — это малоприятно, однако мой противник не оставил меня истекать кровью. Он перевязал мою рану и был так любезен, что нашел человека, сопроводившего меня к цирюльнику.
Эти достойные слова всех успокоили: старик перестал хмуриться, Кеведо, Контрерас и Прадо хором вознесли хвалу молодому человеку, оказавшемуся столь же благоразумным, сколь и незлопамятным, а это многое говорило и о нем самом, и о чистоте его крови. Лопито же меж тем вновь, на этот раз — весело и подробно — принялся рассказывать о поединке: разговор сделался всеобщим, рассеялись тяжкие тучи, грозившие вымочить дождем десерт Испанского Феникса и навлечь его неудовольствие на Диего Алатристе, о чем тот, поверьте, сокрушался бы весьма и весьма, ибо принадлежал к самым горячим его поклонникам и питал к старику глубочайшее почтение. И, подняв бокал душистой малаги, он выпил за здоровье всех присутствующих. Так началась его дружба с Лопито — дружба, коей суждено было продлиться восемь лет, до той минуты, когда злосчастная судьба привела прапорщика Лопе Феликса де Бегу Карпьо на борт корабля, который пойдет ко дну во время экспедиции к острову Маргариты. Ну, впрочем, об этом человеке мы потолкуем в свое время, если, конечно, уже настало время рассказать о роли, сыгранной Лопито, капитаном Алатристе и вашим покорным слугой, равно как и кое-кем из тех, кто вам уже знаком или с кем вам еще предстоит познакомиться, в попытке нашей — уже второй за столетие — взять Венецию, перерезать глотку дожу и прочим сенаторам, которые, снюхавшись с Папой Римским и Ришелье, отчаянно пакостили нам на Адриатике и по всей Италии. Однако всему свой черед. Венецианское наше приключение требует и, черт возьми, заслуживает целой книги.
А сейчас в саду текла умиротворенная беседа. Я воспользовался случаем, чтобы вблизи поглядеть на Лопе де Бегу, который года два назад, словно благословляя, положил руку на голову мне — совсем еще тогда щенку, только-только попавшему в Мадрид. Полагаю, вам трудно сейчас понять, что значил великий Лопе для своих современников. Седой как лунь, но бодрый и свежий в свои шестьдесят пять, он носил подстриженные усы и лихую эспаньолку, придававшие ему воинственный вид, коему нимало не противоречила священническая сутана. Сдержанный, немногословный и улыбчивый, он держался со всеми необыкновенно учтиво, как бы стараясь подчеркнуто любезным обхождением сократить, что ли, огромную дистанцию, отделяющую его от всех прочих, и показать, что не видит в завидном своем положении ничего особенного. Мало кто — ну разве что Кальдерон впоследствии — познал при жизни такую громкую славу, как этот человек, создавший испанский театр, по богатству, разнообразию и мощи не имеющий себе равных в Европе. В юности наш Феникс служил в солдатах, усмирял мятежный Арагон, дрался с англичанами, а к тому времени, о котором я веду речь, уже создал большую часть своих полутора с лишним тысяч комедий и четырехсот ауто[106]. Сан священника ни в малейшей степени не мешал ему вести жизнь бурную, чтобы не сказать — скандальную, менять любовниц, плодить во множестве незаконнорожденных детей, отчего при всей своей невероятной литературной славе не смог Лопе прослыть человеком высокой нравственности и получить кое-какие бенефиции, коих домогался — вот, к примеру, метил он в придворные историографы, мечтал об этой должности, да напрасно. Впрочем, и без того лавров и злата было у него в избытке. И не в пример славному дону Мигелю де Сервантесу, скончавшемуся, как я говорил, в бедности, одиночестве и забвении, похороны Лопе, который после описываемых мною событий прожил еще девять лет, стали беспримерными по многолюдству, пышности и почестям, возданным усопшему. О том, чем и как стяжал он свою славу, написаны многие тома — к ним я и отсылаю желающих. От себя добавлю, что со временем я побывал в Англии, выучил тамошний язык, читал и видел на сцене пьесы Гильермо, по нашему говоря, Шекспира, составил о нем собственное мнение и скажу, что, хотя британский драматург проникает в самую душу человеческую, а герои его проходят путь развития, неведомый персонажам Лопе, изобретательность сего последнего, виртуозное мастерство, умение строить интригу и держать зрителя в неослабевающем напряжении, равно как и богатейший арсенал средств вкупе с мастерством остались не превзойденными. Да, впрочем, и в том, что касается обрисовки характеров, не поручусь, что англичанину неизменно удавалось изображать сомнения и тревоги юных влюбленных или хитроумные проделки плутоватых слуг столь же ярко и выразительно, как нашему Фениксу. Да возьмите вы хоть малоизвестную его пьесу «Герцог де Висео», возьмите, почитайте, а потом скажете, уступает ли эта трагикомедия творениям британца! И если считается общепризнанным, будто театр Шекспира всеобъемлющ, и каждому представителю рода людского найдется в нем место — а у нас один лишь «Дон Кихот» универсален, как Шекспир, хоть насквозь проникнут испанским духом, как Лопе, — то несомненно и другое: Феникс своим новоявленным искусством комедиографа сотворил зеркало, где отразилась Испания нашего века — создал театр, всем особенностям коего подражали на разных материках и континентах, благодаря чему испанский язык, как и положено языку метрополии, сделался предметом восхищения: на нем стали говорить и читать повсеместно — впрочем, не в последнюю очередь и потому, что был это язык наших грозных легионов и наших надменных, траурно-торжественных дипломатов. И в отличие от прочих наций — не исключая и той, что дала Шекспира — обычаи, ценности и язык нации испанской распространились столь повсеместно, опять же благодаря именно и как раз театру, который усилиями и стараниями Лопе, Кальдерона, Тирсо, Рохаса, Аларкона и других весьма долгое время царил на подмостках всего мира: и когда в Италии, во Фландрии и на заморских Филиппинах звучала испанская речь, а француз Корнель, подражая комедиям Гильена де Кастро, обретал шумный успех в своем отечестве, родина Шекспира все еще оставалась не более чем островком, населенным лицемерными пиратами, кормившимися — как и многие иные — тем, что отбивали добычу у дряхлеющего и усталого испанского льва, который, по словам Лопе, уже забыл то, чего вы никогда не узнаете.
Вестготов кровь голубая, испанцы дальних морей! Ликуй, дублоны сгребая! Для нас — добыча любая, Не зря мы гнались за ней[107]!…Итак, беседовали в саду понемногу обо всем. Капитан Контрерас рассказал, что новенького слышно на театре военных действий, Лопито поведал Диего Алатристе о том, как идут дела на Средиземноморье, благо в свое время хозяину моему довелось там и поплавать, и подраться. С политики, как водится, свернули на изящную словесность — дон Луис Альберто Де Прадо прочел несколько десятистиший, удостоившихся похвалы дона Франсиско, — а потом разговор коснулся неизбежного Гонгоры.
— Говорят, он при смерти, — заметил Контрерас.
— Неважно, — ответил Кеведо. — Ему на смену придут новые. Каждый день рождаются в Испании, обуянные жаждой славы виршеплеты — лезут как грибы после дождя.
С олимпийских своих высот снисходительно и ласково улыбнулся на эти слова Лопе. Он и сам терпеть не мог Гонгору, хотя в глубине души и восхищался им, и побаивался его — причем до такой степени, что посвятил ему сонет, начинавшийся словами: «Пресветлый лебедь из Бетиса…»
Но был этот лебедь из тех, кого ни приручить, ни прикормить нельзя. Поначалу дон Луис собирался оспаривать у Лопе его поэтическое первородство и потому взялся сочинять комедии, однако в этом, как и во всем прочем, потерпел неудачу. А потому проникся к Лопе тяжкой злобой и постоянно насмехался над его необразованностью — в отличие от самого Гонгоры и от Кеведо тот древнегреческого не знал да и в латыни разбирался с грехом пополам, — попрекая его успехом у непритязательного простонародья:
Поток бурливый пошлости словесной, долины Беги мутное вино, лопочет Лопе, как заведено — напиток жидкий и на редкость пресный[108].Но Лопе не унизился до перебранки. Он желал со всеми на свете оставаться в добрых отношениях, обретя к тому времени славу столь ослепительную, что ввязываться в литературную распрю было бы ниже его достоинства. И потому ограничивался прикровенными выпадами, оставляя грязную работу своим друзьям — Кеведо в первую очередь, — которые весьма бесцеремонно издевались над высокопарной изысканностью Гонгоры, последователей же его и сторонников просто рвали в клочья. А с остервенившимся доном Франсиско «кордовский лебедь» не совладал.
— Я, кстати, еще на Сицилии читал «Дон Кихота», — сказал, меняя тему, капитан Контрерас. — Это совсем недурно. Мне так кажется.
— И мне, — поддержал его Кеведо. — Превосходный роман. Ему будет сужден долгий век.
Лопе пренебрежительно вскинул бровь, велел подать еще вина и заговорил о другом. Вот вам и еще одно доказательство того, что в тогдашней нашей Испании пером было пролито крови больше, нежели шпагой, что зависть и ревность суть неизбывны, а место на Парнасе вожделенней золота инков, и что соперничество как ничто другое ссорит людей. Вражда Лопе и Сервантеса, который, как я уже говорил, в это время пребывал уже в селеньях праведных, одесную Господа нашего, была давней и, как ни странно, не завершилась с кончиной бедного дона Мигеля. Первоначальная дружба, связывавшая двух титанов нашей словесности, сменилась обоюдной и жгучей неприязнью после того, как сухорукий гений, также не добившийся успеха на театре, выстрелил первым, язвительно высмеяв творения Лопе в прологе своего романа — помните пародийную сцену, где пастушки пасут овечек? Лопе не смолчал и ответствовал такой вот резкой сентенцией: «О поэтах говорить не стану; таков уж наш век Но никого нет скверней Сервантеса и не родился еще тот недоумок, что расхвалит „Дон Кихота“». В ту пору роман считался жанром второстепенным, годным разве что для увеселения девиц; деньги давал театр, а славу и блеск приносили стихи. Именно поэтому Лопе ценил Кеведо, побаивался Гонгору и презирал Сервантеса.
Куда тебе! Ты Лопе не чета! Он солнце! Отвернется — дождь и град. Твой «Дон-Кихот» — нет, не из уст в уста он переходит, А из зада в зад, куда по праву послан — Ни листа помойки из него не сохранят[109]!Так кончался оскорбительный сонет, который Лопе для пущей издевки отправил Сервантесу в письме наложенным платежом, и адресат впоследствии признавался, что заплатить этот реал ему было тяжелей всего. И бедный дон Мигель, отлученный от сцены, изнуренный непосильными трудами, нищетой, тюрьмами, всяческими притеснениями и мытарствами, не ведающий, что верхом на своем Росинанте он уже въезжает в бессмертие, никогда не искавший милостей у сильных мира сего, не тешивший их бесстыдной лестью — чем грешили и Гонгора, и дон Франсиско, и сам великий Лопе, — в конце концов с обычной искренностью признается в житейском своем поражении:
Ночей не сплю, усердствую втройне, чтоб только проявить свой дар поэта, в котором небо отказало мне[110].
Ну ладно. Да, таков был этот неповторимый мир в те времена, когда от одного упоминания Испании содрогалась земля: сходились в схватках новоявленные Гомеры, цвели высокомерие, жестокость, ненависть. И когда империя, над которой никогда не заходило солнце, стала постепенно крошиться и ужиматься в размерах, покуда вовсе не исчезла, за что должны мы благодарить собственные невезение и низость, остались на руинах ее и развалинах исполинские следы никогда прежде не виданных гениев, которые могут если не оправдать, так объяснить эпоху беспримерного величия и славы. И в хорошем, и в дурном — а того и другого было немало — были они сынами своего времени. Никогда ни один народ не порождал в таком изобилии стольких гениев, и никто не запечатлевал так верно, так досконально и тщательно мельчайшие черты и приметы эпохи, как они. По счастью, все они живут и поныне — на полках библиотек, на страницах книг — и всякий волен приблизиться к ним и с восхищением услышать грозный и героический гул нашего века, наших жизней. Приблизьтесь, внемлите — только тогда сумеете понять, чем были мы и чем стали. Черт бы нас всех побрал.
Лопе остался дома, дон Прадо простился с нами, а мы все, не исключая и Лопито, двинулись в таверну
Хуана Лепре, что на углу улиц Лобо и Уэртас. Завелась оживленная беседа, тон которой задавал капитан Контрерас, оказавшийся очень милым человеком: он говорил без умолку, рассказывая случаи из своего военного прошлого. Упомянул и о том, как в пятнадцатом году в Неаполе, когда хозяин мой на поединке заколол соперника, не кто иной, как Контрерас помог ему улизнуть от правосудия и переправил его в Испанию.
— И дама, из-за которой весь сыр-бор разгорелся, в накладе не осталась, — со смехом прибавил он. — Диего, помнится, полоснул ее по щеке… И, жизнью короля клянусь, эта тварь получила по заслугам! Еще дешево отделалась!
— Я знаю многих, — вставил неисправимый женоненавистник дон Франсиско, — кому такое обращение тоже бы не помешало.
И, не сходя с места, прочитал сию минуту сочиненное:
Лети, о мысль моя, шепни чуть слышно той, На чье давно уж претендую я вниманье: — Есть денежки в кармане!Я посмотрел на своего хозяина — не верилось, что он способен изуродовать лицо женщины. Но, склонившись к столу, устремив глаза на свой бокал капитан оставался безмолвен и бесстрастен. Дон Франсиско, перехватив мой взгляд, покосился на Алатристе, но ничего больше не сказал. Как мало я знаю, подумалось мне, как много таится за этими умолчаниями! И я затрепетал, как всякий раз, когда проникал мысленным взором в потемки капитановой души. Плохо быть проницательным не по годам, вот что я вам скажу; даром это не проходит. С течением времени глаза мои обретали все большую зоркость и различали такое, о чем я предпочел бы даже и не догадываться.
— Но надо принять в расчет, — промолвил Контрерас, как бы спохватившись, что наговорил лишнего, — что мы были молоды и пылки. Вот вспоминается мне такой случай. Дело было на Корфу…
И начал рассказ, в котором замелькали знакомые имена: вот, скажем, Диего Дуке де Эстрада, с которым приятельствовал мой хозяин в пору злосчастной высадки на Керкенес, где оба они едва не погибли, спасая Альваро де ла Марку, графа де Гуадальмедину, ныне ставшего наперсником и конфидентом Четвертого Филиппа и, по сведениям Кеведо, каждую ночь вместе с ним шатающегося по Мадриду в поисках приключений. Завороженный, позабыв обо всем, слушал я истории о рейдах, абордажах, грабежах, которые в устах капитана Контрераса обретали черты баснословные: вот, например, как пылала на рейде Ла-Голеты берберийская эскадра, какие грандиозные попойки, оргии и дебоши устраивались в тавернах у подножья Везувия, как Контрерас с Алатристе по молодости лет за несколько Дней спустили все, что награблено было на греческих островах, на турецком побережье. Под конец Рассказчик, расплескивая неверной рукою вино, продекламировал написанные в его честь стихи Лопе, куда ловко вставил строчку, посвященную Алатристе:
Всюду с нами, видит бог, Пышный лавр, стальной клинок Алатристе, славный воин, Он Контрераса достоин, Басурманам дал урок Воздадим же, честь по чести, Храбрецам без всякой лести — Враг бежал, не чуя ног[111].А тот, повесив портупею со шпагой на спинку стула, поставив шляпу на пол, лишь время от времени кивал в том смысле, что да, мол, так оно все и было, похмыкивал да скупо улыбался в усы, когда Контрерас, Кеведо или Лопито де Вега обращались к нему. Я жадно вслушивался в эти воспоминания, ловя каждое слово, и чувствовал себя своим среди этих людей — в конце концов, по шестнадцатому году у меня на счету была уже и Фландрия, и еще несколько переделок, не уступающих военной кампании, и шкуру мою украшали шрамы, и шпагой я владел весьма недурно. Все это укрепляло меня в намерении пойти в солдаты — причем как можно скорей — и обрести на бранных полях славу с тем, чтобы когда-нибудь и я мог вот так, за столом, вспоминать бои и походы, а может быть, и послушать сложенные в мою честь вирши. Невдомек мне было тогда, что на столь желанной стезе я увижу и оборотную сторону этой самой славы, и что война, суть которой я, малолетка-несмышленыш, плененный внешним ее великолепием, постичь не смог, явит мне свой истинный лик, и созерцание его омрачит душу мою и память. И когда сегодня, погруженный в чересчур уж затянувшуюся старость, пишу я эти строки и оглядываюсь назад, то в шелесте реющих под ветром знамен, в барабанных раскатах, задающих темп мерному шагу пехотных полков, которые на моих глазах гибли под Бредой, Нордлингеном, Фуэнтеррабией, в Каталонии или при Рокруа, вижу лишь тени, и одиночество осеняет меня — одиночество бесконечное и просветленно-премудрое, свойственное лишь тому, кто знает то хорошее и дурное, что сплелось воедино вокруг слова «Испания». Только теперь, уплатив сполна по счету, выставленному жизнью, я понял, что скрывалось за молчанием капитана Алатристе, что выражал его отсутствующий взгляд.
Распрощавшись со всеми, он в одиночестве брел вверх по улице Лобо и в проезде Сан-Херонимо поглубже нахлобучил шляпу, плотней запахнул плащ. Было темно, холодно и пусто, а улочку Лос-Пелигрос едва освещала одинокая лампадка у образа Пречистой Девы. На полдороге появилась настоятельная потребность облегчиться. Слишком много было выпито, подумал он. Отошел в самый темный угол, закинул полу плаща, расстегнулся, расставил ноги. В этой позиции и застиг его перезвон курантов с недальнего монастыря бернардинок. Времени еще много, подумал он. До назначенного срока оставалось полчаса. В доме, стоявшем на верху крутого спуска, почтенная, поднаторелая в своем ремесле сводня уже приготовила все необходимое — постель, ужин, умывальный таз и полотенца — для его свидания с Марией де Кастро.
Он еще застегивал пуговицы, когда услышал за спиной шорох. Улица оправдывает свое название[112], мелькнуло в голове. Не хотелось бы отправиться на тот свет в таком виде. Он торопливо привел себя в порядок, одновременно оглядываясь через плечо и высвобождая из-под плаща рукоять шпаги. Господь свидетель, нынче гулять по ночному Мадриду — удовольствие сомнительное, дело рискованное, недаром же люди состоятельные нанимают себе провожатых с оружием и фонарями. Утешало только, что при встрече с Диего Алатристе неизвестно еще, кому грозит большая опасность. Впрочем, все зависит от того, кто и с каким намерением выходит на улицу. А у него сегодня ночью намерения были самые мирные.
В первое мгновение он ничего не различал — тьма стояла непроглядная, и лишь кое-где робкий огонек свечи озарял кусочек полуоткрытой ставни. Он помедлил в неподвижности, оглядывая перекресток улиц Лос-Пелигрос и Алькала, как оглядывают предполье, по которому садят без передышки вражеские аркебузиры, а потом сторожко двинулся дальше, пытаясь не угодить ногой в кучи конского навоза и прочие нечистоты, в изобилии представленные на мостовой. Слышались только его собственные шаги. Но вот, когда позади осталась стена, огораживавшая сад Лас-Вальекас, и уже показалась узкая улочка Лос-Пелигрос, звук словно удвоился. Не замедляя шагов, он глянул по сторонам и различил бесформенную тень — кто-то, старавшийся держаться вплотную к фасадам, нагонял его справа. Может быть, это припоздавший прохожий, безобидный, как ягненок, но, может, и злоумышленник. Не выпуская его из поля зрения, прошел он шагов двадцать-тридцать по середине мостовой, когда чуть впереди, на другой стороне улицы, различил еще один силуэт. Не многовато ли, спросил он себя. Грабители или подосланные убийцы. И, одной рукой отстегивая пряжку плаща, другой выхватил шпагу.
Разделяй и властвуй, подумалось ему. Если повезет, конечно. И потом, кто рано встает, тому бог подает, а кто первым пришел, первым мелет. И, быстро обмотав плащ вокруг левой руки, бросился на того, кто был ближе, и, не дав ему обнажить оружие, нанес удар, почувствовав, как лезвие пронизало плащ и прошло дальше. Противник, хрипло застонав, отшатнулся, скрылся во тьме. Алатристе обернулся навстречу второму, убедившись, что в руках у того нет пистолета. Зато был обнаженный клинок, уже выставленный вперед. И когда неизвестный — он тоже был в шляпе с опущенными полями, как велит мода мадридского сброда, — подскочил вплотную, капитан мельницей закрутил свой плащ, сковывая движения нападавшего. Покуда тот с проклятьями силился высвободить шпагу, Алатристе нанес несколько коротких ударов — почти наугад и вслепую. Однако последний, кажется, достиг цели, ибо нападавший свалился наземь. Алатристе оглянулся, опасаясь атаки с тыла, но малый в плаще решил, наверно, что с него хватит, и бегом бросился по улице, вскоре скрывшись из виду. Капитан подобрал свою шпагу, которая, полежав минутку на мостовой, смердела гадостно, обтер ее, спрятал в ножны, вытащил левой рукой кинжал и приставил его к горлу поверженного:
— Отвечай на мои вопросы или, богом клянусь, прикончу.
Еще не отойдя от горячки боя, тот дышал прерывисто и тяжело, но уже способен был оценивать обстоятельства. От него несло винным перегаром. И кровью.
— А не пошел… бы ты… — слабо пробормотал он.
Алатристе всматривался в его лицо — запущенная щетина, поблескивающая в темноте серьга. Особый говорок мадридского головореза. Наемный убийца, без сомнения. И, по манере держаться судя — не робкого десятка.
— Кто тебя нанял? — капитан посильнее нажал на кинжал. — Отвечай!
— Не твое дело! Кому надо, тот и нанял… — прохрипел тот в ответ. — Не дави, обрежешь…
— Мой порез квасцами не замажешь.
— Ничего, до свадьбы заживет…
Капитан усмехнулся в усы, благо в темноте это было незаметно. Чего другого, а присутствия духа у этого мерзавца в избытке, и едва ли удастся развязать ему язык Быстро обшарил лежащего, не обнаружив ничего, кроме кошелька — его он спрятал к себе в карман — и ножа с хорошим клинком — его отбросил подальше.
— Ну, так что — исповедаться не желаешь?
— В другой… раз…
Капитан понимающе кивнул и поднялся. В гильдии наемных убийц, как и во всякой иной, уставы и правила соблюдаются свято. Упорствовать — только время терять: не ровен час, появится стража, придется объяснять, что он делает рядом с полудохлым. Стало быть, надо сматываться. Он уже собирался сунуть кинжал в ножны и удалиться, но тут в голову ему пришла более удачная мысль. Снова склонившись над раненым, он крест-накрест полоснул его лезвием по губам. С таким примерно звуком мясник всаживает свой топор в колоду, и мадридский головорез, помимо того, что потерял сознание, лишился языка в самом что ни на есть буквальном смысле. Хотел молчать — вот и молчи. Впрочем, он, судя по всему, язык не распускал, даже когда тот у него имелся. Если выживет и какой-нибудь искусник заштопает ему эту крестообразную прореху, то при встрече и при свете можно будет его признать. А не встретятся, пусть он — или то, что от него останется, — всю жизнь вспоминает улицу Лос-Пелигрос, где на нем — вот уж точно — крест поставили.
Взошла, хоть и с опозданием, луна, залила млечным сиянием оконное стекло. Алатристе сидел спиной к свету, будто вписанный в серебрящийся прямоугольник, который тянулся до самой кровати, где спала Мария де Кастро. Капитан глядел на очертания едва прикрытого простыней тела, слушал ровное дыхание, изредка перебиваемое нежными постанываниями, слетавшими с ее уст, когда, устраиваясь поудобнее, она переворачивалась с боку на бок Капитан поднес к лицу свою ладонь, втянул ноздрями едва уловимый аромат — после ночи любви казалось, что женщина, в изнеможении раскинувшаяся в постели, насквозь пропитала его собой. Он шевельнулся — и его тень, скользнув к ней, нависла над бледным свечением ее наготы. Как хороша, черт возьми!
Он шагнул к столу налить себе вина. Для этого пришлось ступить с ковра на выложенный каменной плиткой холодный пол, и от ледяного прикосновения взъерошились на затылке коротко, по-солдатски остриженные волосы. Не отрывая глаз от спящей, он выпил. Сотни мужчин всех званий и состояний, мужчин знатных и богатых, отдали бы за обладание ею все, что угодно. А стоит здесь, пресытясь ею, он, Диего Алатристе, у которого всех достатков — одна шпага, а в будущем — только забвение. Снова подумалось ему, что непостижимы силы, воздействующие на сердце женщины. Вот этой женщины. Денег в кошельке, который он молча выложил вчера на стол, в обрез хватило бы на пару туфелек, на веер да ленты — недорого оценили его жизнь те, кто подослал к нему давешних убийц. И, тем не менее, стоит здесь именно он.
— Диего… — прошелестело как сонный вздох.
Женщина повернулась в постели, взглянула на него.
— Жизнь моя… Иди ко мне…
Алатристе поставил стакан, приблизился, присел на край кровати, прикоснулся к теплому телу. «Жизнь моя», — сказала она. Ни кола, ни двора, хлеб насущный — и тот приходится снискивать шпагой, и сам он — не изящный кавалер, не светский любезник, которым восхищаются дамы на улицах и званых вечерах. Жизнь моя. На память ему внезапно пришла концовка стихотворения, услышанного накануне в доме Лопе:
О, женщина, сколь схожа ты с пиявицей: Ты можешь уморить — или помочь поправиться.Лунный свет коснулся неправдоподобно прекрасных глаз Марии де Кастро, четче очертил губы полуоткрытого рта, неодолимо притягивающего к себе: так влечет бездна, так манит пучина. Ну и что? — подумал капитан. Жизнь или не жизнь. Любовь моя или всех прочих. Мое безумие или мое благоразумие. Не все ли равно? Сегодня ночью он остался жив, остальное — не в счет. Имеющий глаза да видит, имеющий губы — пусть целует, а кто еще не вовсе обеззубел — кусается. Ни турки, ни еретики, ни альгвасилы, ни наемные убийцы — никто из всей той сволочи, что встречалась ему на жизненном пути, не сумел лишить его этой минуты. Как ни старались обратить его в бездыханное тело, он все еще дышит. Он — жив. И теперь, словно в подтверждение этого, рука Марии нежно скользит по его груди, задерживаясь поочередно на каждом из старых шрамов. «Жизнь моя», — повторила женщина. Уж, конечно, дон Франсиско де Кеведо не прошел бы мимо такого, уложил бы все происходящее в четырнадцать строк безупречного пятистопного ямба. А он, капитан Алатристе, лишь усмехнулся про себя. Хорошо остаться живым — пусть хоть на день или на час — в этом мире, где никто ничего тебе не подарит, где за все непременно придется платить, — до, после или во время. «Уплатил и я, — думал он. — Не знаю, когда и сколько, но уплатил, сомневаться не приходится, если жизнь выкатила мне такую награду. Видно, я заслужил, чтоб хотя бы одну ночь женщина так смотрела на меня».
III Королевский дворец
— С нетерпением жду вашу новую комедию, сеньор де Кеведо.
Королева у нас была красавица. И француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV, имела от роду двадцать три года, белую кожу, ямочку на подбородке. Выговор у нее был такой же очаровательный, как и наружность, особенно когда с прелестным усердием, силясь произнести наши раскатистые кастильские «р», она слегка морщила лобик. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, однако всякий бы сразу сказал, что она рождена царствовать: эта чужестранка уселась на испанском престоле так же непринужденно и уютно, как ее свойственница Анна Австрийская, сестра Филиппа Четвертого и жена Людовика Тринадцатого — на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком — решалось, кому быть повелителем Европы, — обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что суровые времена, которые наступить не замедлили, породили любопытный парадокс: мы, испанцы, которыми правила француженка, резались с французами, которыми правила испанка. Вот, черт возьми, какие неожиданные коленца откалывают политика и война.
Но вернемся к донье Изабелле де Бурбон и в королевский дворец. Нелишним будет упомянуть, что в то утро солнечный свет, тремя мощными потоками врывавшийся в Зал Зеркал, золотил кудри королевы, дрожал и переливался в ее жемчужных серьгах. Изабелла в домашнем, цвета мальвы, камлотовом платье, отделанном серебром и с фижмами — теперь буду знать, что такое домашний наряд коронованных особ, — сидела у срединного балкона на высоком табурете, так что можно было видеть ее башмачки на плоской подошве и узенькую полоску белого чулка.
— Боюсь, ваше величество, не поспеть к сроку.
— Поспеете. Весь двог бесконечно довег'яет вашему даг'ованию.
Мила как ангел небесный, подумал я, застыв в дверях и не решаясь шевельнуть даже бровью: окаменелость моя объяснялась несколькими причинами, и присутствие ее величества королевы было лишь одной из многих и уж точно не самой главной. Одет я был с иголочки — черный суконный колет с накрахмаленным воротником—голильей, черные же штаны и берет: все это портной с Калье-Майор, приятель капитана Алатристе, сшил мне в кредит всего за три дня, считая с той минуты, как мы узнали, что дон Франсиско намерен взять меня с собой во дворец. Кеведо в ту пору был в фаворе, считался любимцем государыни и потому без него не обходилось ни одно придворное торжество. Он развлекал августейшую чету, льстил Оливаресу, поставив свое отточенное перо ему на службу и помогая отбиваться от врагов; число коих возрастало постоянно. Дамы от него были без ума и постоянно требовали новых и новых стихотворных экспромтов. Наш поэт, человек изворотливый и лукавый, позволял себя любить, хромал больше обычного, дабы уравновесить физическим недостатком свой божий дар и фавор и без зазрения совести пожинал лавры, покуда длится эта светлая полоса. Ибо знал, знал сей скептик и стоик, сомышленник и воспитанник античных мудрецов, что подобное благоприятное расположение звезд — не вечно. Тем более в Испании, где с вечера до утра все может перемениться разительно. То люди тебе восторженно рукоплещут и за честь почитают свести с тобой знакомство, а то — глазом не успеешь моргнуть — они же бросают тебя в каталажку или в дурацком колпаке-коросе тащат по улице на плаху.
— Позвольте, ваше величество, представить вам моего юного друга. Его зовут Иньиго Бальбоа, он воевал во Фландрии.
Я покраснел до ушей, сорвал с головы берет и поклонился королеве чуть ли не в ноги. А покраснел не потому лишь, что оказался перед супругой Филиппа Четвертого: четыре королевские фрейлины обратили ко мне взоры со своих бархатных стульчиков, стоявших на желто-красных плитах пола. Рядом находился и Гастончик, французский шут, которого Изабелла Бурбонская, отправляясь на помолвку, вывезла из Парижа. Так вот, от взглядов и улыбок этих юных дам голова пошла бы кругом у любого. — Он так юн… — произнесла королева. Приветливо улыбнувшись мне, она завела с доном Франсиско беседу о заказанных стихах, я же остался стоять столбом, комкая в руках берет, уставившись в неведомую даль и чувствуя, что если сию же минуту не обопрусь плечом о стену, отделанную португальскими изразцами, ноги мне откажут. Менины меж тем шушукались и перешептывались с Гастончиком. Шут был не более вары[113] ростом и безобразен, как я не знаю что. При дворе он славился своим злоязычием и чисто галльским остроумием, столь присущим лягушатникам. Королева души в нем не чаяла, так что волей-неволей ядовитым шуткам его приходилось смеяться и всем остальным. Ну да ладно, дело было не в нем, а в том, что я стоял неподвижно, словно превратившись в одну из фигур на картинах, развешанных по стенам зала — заново отделанного и лишь недавно открытого вместе с другими помещениями дворца, соседствующими с мрачными, темными и обветшалыми покоями, которые помнили не одно прошлое царствование. Я глядел на «Ахилла» и «Улисса» — эти парные полотна кисти Тициана висели над дверьми, — на весьма уместную в наших обстоятельствах аллегорию «Испания поддерживает Религию», на конный портрет императора Карла в битве при Мюльберге и на не менее конное изображение нынешнего нашего государя Филиппа Четвертого, писанного Диего Веласкесом. И вот, когда каждое из этих полотен навсегда врезалось мне в память, я набрался храбрости и наконец решился повернуть голову к тому, что составляло истинный предмет моего беспокойства. Не умею определить природу гулких ударов, которые сотрясали все мое нутро — гремели ли это молотки плотников, готовивших за стеной малый зал к званому вечеру у королевы, или бухало у меня в груди сердце, до скорости пушечного ядра разгоняя кровь по жилам. И покуда стоял я, как в строю, будто перед накатывающим валом неприятельской кавалерии, с обитого алым бархатом креслица демон в ангельском обличье глядел на меня тем синим взором, что сладчайшей горечью отравил невинные годы моего отрочества. Вы уже поняли — я говорю об Анхелике де Алькесар.
Примерно час спустя, по окончании аудиенции, когда следом за доном Франсиско я вышел в патио, Гастончик догнал меня, дернул за рукав колета и ловко всунул в руку вчетверо сложенную записочку. Я повертел ее в пальцах и, не решаясь развернуть, сунул потихоньку от Кеведо в карман. Потом огляделся по сторонам, чувствуя себя благодаря этой записке столь же неотразимым и неустрашимым, как герой комедии Лопе. Черт побери, неслось у меня в голове, жизнь прекрасна, а двор чарует и завораживает. Черт побери, я во дворце, где решаются судьбы империи, раскинувшейся на полсвета. Два патио, один из которых именовался «Двор короля», а другой — «Двор королевы», были заполнены придворными, просителями и зеваками, сновавшими оттуда сюда и обратно, а за аркой ворот четко выделялись на свету клетчатые мундиры караульных гвардейцев. Дона Франсиско де Кеведо, который, как я сказал, был в те дни и в моде, и в силе, останавливали на каждом шагу, чтобы приветствовать, или заручиться его поддержкой, или испросить протекции. Один ходатайствовал за племянника, другой — за шурина, третий — за крестника. Взамен никто ничего не предлагал и не обещал — все требовали благодеяний как чего-то само собой разумеющегося, причитающегося им по законному праву рождения и чистоты крови, воспаляемой заветно-сладостной испанской мечтой: ни черта не делать, податей не платить и разгуливать со шпагой на боку и с вышитым крестом на груди. Дабы яснее дать вам представление, до какой крайности доходили мы в притязаниях своих и прошениях, скажу, что даже святые в храмах не были избавлены от назойливости просителей, ибо в руки статуям всовывали целые меморандумы, взывающие о толике тех или иных земных благ, как будто сии угодники, святители и страстотерпцы тоже состояли в штате придворного ведомства. Дошло до того, что в соборе безотказного святого Антония Падуанского под резным его изображением вывесили объявленьице: «Приема нет. Обращаться к Святому Гаэтану».
И в точности как Святой Антоний, дон Франсиско де Кеведо, которому и самому частенько приходилось взывать к сильным мира сего, причем далеко не всегда ему сопутствовал успех, выслушивал, улыбался, пожимал плечами, разводил руками, не обещая ничего определенного. Я всего лишь поэт, отвечал он чаще всего, пытаясь отделаться. А порой, раздосадованный неуемной настырностью просителя и утратив возможность изъясняться учтиво, посылал того подальше.
— Клянусь гвоздями, которыми распяли Христа, — восклицал он. — Мы превратились в нацию попрошаек!
И это было совершенно справедливо и по отношению к нынешним временам и — особенно — ко временам грядущим. Для испанца милость всегда была не привилегией, но неотъемлемым правом, а невозможность добиться в точности того же, что получил сосед, грозила сильнейшим разлитием желчи и душевным расстройством. Что же касается пресловутого рыцарского благородства, вкупе с иными отечественными добродетелями вдрызг замусолившегося от частого употребления, — вспомним, что даже француз Корнель, создавая своего Сида, заглотнул эту наживку за милую душу, — то не спорю: может быть, она и наличествовала в иные времена, в те баснословные года, когда нашим землякам, чтобы выжить, приходилось сражаться, и доблесть была всего лишь одной из добродетелей, которые за деньги не купишь. Минули те времена, минули и канули. Не в Лету, так в Мансанарес, и слишком много его воды утекло под мадридскими мостами с той поры, о коей опять же дон Франсиско написал на манер эпитафии:
Былая доблесть! Где теперь она, Что грозною была, хоть небогатой? В тщету и сон она погружена[114].Да, в наши дни доблесть, даже если прежде и существовала, пошла псу под хвост. Остались у нас слепое высокомерие и разобщенность, которые в конце концов и уволокут нашу державу в пропасть; осталась толика достоинства, хранимая в редких личностях — их наперечет, — в пьесах, идущих на театральных подмостках, в стихах Лопе и Кальдерона, на далеких полях сражений, где еще звенела сталь наших легионов. Смешно мне слушать тех, кто, залихватски крутя усы, наделяют нашу нацию чертами рыцарственности и благородства: я сам был и остаюсь баском и испанцем, долго живу на свете, но неизменно встречалось мне на жизненном пути куда больше Санчо, нежели Дон-Кихотов, куда больше коварства, подлости, непомерного тщеславия, нежели отваги и порядочности. Единственное наше достоинство, признаюсь, в том заключалось, что кое-кто даже из числа последних мерзавцев умеет, когда нужно или когда ничего другого не остается, встретить смерть, как Господь заповедал — лицом к лицу, с оружием в руках. Спору нет, лучше бы эти дарования обратить не к смерти, а к жизни — к трудам и преуспеванию, — но удавалось это редко, ибо с удивительным постоянством препятствовали нам в сем благородном начинании короли, вельможи и монахи. Тут уж ничего не поделаешь. Каждый народ — таков, как он есть, а что было у нас в Испании, то и было. Да, может, оно и к лучшему: перед тем, как сгинуть в пучине бесчестья, куда всем нам пришлось в конце концов погрузиться, горсточка отчаянных людей спасала, как простреленное знамя над Терхейденским редутом, честь ничтожного и подлого большинства. Люди эти молились, бранились, рубились и дорого продали свои шкуры. Наше у нас никто не отнимет. И потому, когда спрашивают меня, что же достойно уважения в злосчастной и убогой Испании, я всегда повторяю слова, сказанные мною тому французскому офицеру в битве при Рокруа. «Черт возьми. Сочтите убитых».
Если вы отыщете в своей душе достаточно рыцарских чувств, чтобы сопровождать даму, ждите нынче ночью, после «анимас», у ворот Приоры.
Подписи не было. Пока дон Франсиско прощался со знакомыми, я, прислонясь к столбу, трижды перечитал записку, и всякий раз сердце у меня обрывалось. За все то время, что мы с Кеведо стояли перед королевой, Анхелика де Алькесар ни единым движением не выказала интереса к моей особе, и даже улыбки ее сравнительно с улыбками трех прочих менин были самыми мимолетными и сдержанными. И только синие глаза глядели на меня столь пристально, что — говорю же — в какое-то мгновение мне показалось, что я не устою на ногах. В ту пору я был пригожим малым, для своего возраста довольно рослым, с живыми глазами, с черными густыми волосами, а новый костюм и берет с красным пером сообщали моей наружности вполне пристойный вид. Все это придало мне сил выдержать пронизывающий взгляд моей дамы, если только слово «моей» применимо по отношению к племяннице королевского секретаря Луиса де Алькесара, которой обладать было можно — тогда, во дворце, мне и в голову не приходило, сколь близок уже этот миг, — а владеть нельзя, ибо во все время нашего с ней тесного знакомства она оставалась только своей собственной и ничьей больше, так что я чувствовал себя проходимцем, робко проникшим в чуждые, так сказать, пределы, откуда его, того и гляди, вышвырнут сторожа. Тем не менее и невзирая на все то, что впоследствии произошло между нами, включая и удар кинжалом, след от которого остался у меня на спине, я всегда знал — хочу в это верить, — что она меня любит. По-своему.
Под одной из сводчатых арок мы повстречали графа де Гуадальмедину. Он шел из покоев нашего государя, куда доступ ему всегда был открыт и куда Четвертый Филипп только что вернулся с охоты в рощах Каса-дель-Кампо — король предавался сему благородному развлечению с истинной страстью: передавали за верное, будто он способен без собак ходить на кабана и, целый божий день не слезая с седла, травить косулю. Граф же Альваро де ла Марка был в этот день облачен в замшевый колет и краги, густо облепленные грязью, а на голове имел изящную шапочку, украшенную изумрудами. Обмахиваясь надушенным платком, он шел к эспланаде, где у ворот дворца его поджидал экипаж. В охотничьих доспехах, придававших его изысканному облику грубовато-мужественный вид — этакую брутальность, — граф был чудо как хорош. Неудивительно, что придворные дамы, попадая под прицел его взгляда, начинали с еще большим жаром и рвением обмахиваться веерами, и даже ее величество поначалу испытывала к нему определенную склонность, проявлявшуюся, впрочем, в более чем благопристойных формах, приличествующих высочайшей особе, и потому не наносившую ни малейшего урона ее репутации. Я сказал — «поначалу», ибо ко времени, которого касается мое повествование, Изабелла Бурбонская была уже отлично осведомлена о шашнях своего августейшего супруга и о том, какую роль — сводника, провожатого и наперсника — играл в них Гуадальмедина. Королеву это не могло не раздражать, но этикет требовал неизменной и учтивой сдержанности — не забудьте, Альваро де ла Марка был, помимо прочего, испанский гранд — и потому она держалась с ним подчеркнуто холодно. Только один человек при дворе вызывал у нее еще большую ненависть — первый министр нашего государя, граф-герцог Оливарес, чье особое положение всегда бесило принцессу, выросшую при спесивом дворе Марии Медичи и Генриха Наваррского. Так что со временем наша Изабелла — подданные, кстати, любили и уважали ее до самой смерти — возглавила враждебную Оливаресу партию, которой полтора десятилетия спустя удалось низвергнуть всесильного фаворита с пьедестала абсолютной власти, куда возвели его ум, честолюбие и гордыня. Случилось это в ту пору, когда народ, трепетавший и беспрекословно слушавшийся великого Филиппа Второго, жалевший Филиппа Третьего и с оглядкой перешептывавшийся на его счет, пришел, можно сказать, в отчаянность, измучился и устал от бесконечных провалов и катастроф до такой степени, что начал терять должное почтение к Филиппу Четвертому. И потому решено было утишить народную ярость и во спасение короля пожертвовать ферзем.
Но все это будет потом, а пока граф де Гуадальмедина, заметив нас с Кеведо, вприпрыжку слетел с последних ступенек лестницы, обогнул, обнаруживая большой жизненный опыт и проворство, кучку просителей — среди них были капитан в отставке, клирик, алькальд и трое провинциальных дворян, — ожидавших, что кто-нибудь исполнит их чаяния, и, радостно приветствовав поэта, а меня сердечно похлопав по плечу, отвел нас в сторонку.
— Есть дело, — без предисловий произнес он весьма значительным тоном.
Потом покосился на меня, сомневаясь, стоит ли продолжать в моем присутствии. Но, поскольку он давно уже мог убедиться, что я — человек верный и неболтливый, принимавший живейшее участие во многих затеях дона Франсиско и Диего Алатристе, то решился, огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто, поднес руку к узкому полю своей охотничьей шапочки, здороваясь с проходившим невдалеке членом Государственного Совета — просители тотчас устремились к сановнику, как все равно, извините, чушки к кормушке, — еще больше понизил голос и продолжал:
— Передайте Алатристе, чтобы сменил лошадку. Смысл сего высказывания до меня не дошел. А вот дон Франсиско острым своим умом все понял сразу и, поправив очки, воззрился на Гуадальмедину:
— Это вы всерьез?
— Да уж куда серьезней. Взгляните на меня и скажите, расположен ли я шутить.
Наступило молчание. Я начал догадываться, что к чему. Поэт с досадой ответил:
— Там, где речь заходит о юбках, я — пас… Сами скажите. Если хватит пороху.
Гуадальмедина, не обижаясь, покачал головой:
— Я в это дело соваться не могу.
— Почему же? В другие ведь суетесь.
Граф пригладил усы.
— Не дразните меня, дон Франсиско. У каждого — свои обязанности. Я и так превысил данные мне полномочия…
— Так что же я должен передать ему?
— Не знаю! Чтобы не метил так высоко. Чтоб гусей не дразнил. Чтоб не ошивался на задворках Габсбургского дома…
Последовала долгая и красноречивая пауза. Собеседники глядели друг на друга. С одной стороны — преданность и благоразумие, с другой — распря между дружелюбием и своекорыстием. Поскольку оба они в ту пору были, по-нынешнему говоря, «в большом порядке», находились в полнейшем фаворе, то один поступил бы осмотрительнее, промолчав, а другому куда лучше было бы ничего не слышать. Осмотрительней, лучше, безопасней и уютней. И тем не менее оба стояли тут, у подножья дворцовой лестницы, переговариваясь вполголоса и тревожась за судьбу друга. А я был достаточно смышлен, чтобы оценить сделанный ими выбор.
Гуадальмедина пожал плечами.
— Чего вы от меня хотите? — сердито бросил он. — Если король потерял голову, говорить больше не о чем. Тут и петух снесется.
Это высказывание привело меня в задумчивость, итогом коей стала мысль о том, как странна жизнь. Взяв в жены прекраснейшую из женщин, могущую составить счастье любого, король, попросту говоря, шляется по бабам. Да не по каким попало, а самого что ни на есть низшего разбора — актриски, горничные, трактирные служанки. В те времена мне еще и в голову не приходило, что так, вопреки природным добродушию и флегме нашего государя, проявились в нем два главнейших, более всего свойственных ему порока, которые очень скоро промотают и расточат престиж монархии, созданной его дедом и прадедом, пороки же эти суть непомерное любострастие и полнейшее безразличие к государственным делам. И тут, и там никак было не обойтись без фаворитов.
— Дело решенное? — осведомился дон Франсиско.
— Решится, боюсь, дня через два. Если не раньше. Ваша комедия тоже подсудобила… Филипп давно уже заприметил эту комедиантку. А когда явился инкогнито на репетицию первого дня, прикипел к ней окончательно.
— А муж?
— А что муж? Муж в полном курсе дела и в накладе не останется. — Граф выразительно потер большим пальцем об указательный. — Хитер как черт и мудрить не станет. Озолотится на всю жизнь.
Поэт уныло качал головой, время от времени с беспокойством поглядывая на меня.
— Черт возьми… — высказался он наконец.
Мрачность тона была предопределена обстоятельствами. Я тоже размышлял о своем хозяине. В иных обстоятельствах козырная шестерка короля бьет. Впрочем, о том, когда и как это происходит, лучше бы справиться у Марии де Кастро.
Спускался тихий вечер, желтоватое, уже невысокое солнце удлинило тени на проезде Сан-Херонимо. В этот час Прадо[115] была полна — в окнах бесчисленных карет мелькали украшенные самоцветными камнями локоны, белые ручки с веерами, а рядом, держась у самой подножки, гарцевали нарядные всадники. Плотная толпа гуляющих наслаждалась последними предвечерними часами: дефилировали, более или менее успешно пряча лица под мантильями, дамы, многие из коих таковыми не были и никогда не будут, равно как и кавалеры, которые, несмотря на плащ, шпагу и гордый вид, явились сюда прямиком из сапожной мастерской, швальни или лавчонки, где добывали себе хлеб насущный, в поте лица своего, как господь заповедал, честным трудом, хотя, как истые испанцы, нипочем бы в этом не сознались. Впрочем, имелись здесь, разумеется, и люди высшего разбора, но они держались в гуще фруктовых деревьев, у цветников и вьющихся живых изгородей, в беседках: вдохновленные успехом комедии Тирсо, графиня Оливарес, графиня Лемос, графиня де ла Сальватьерра и другие придворные дамы устроили небольшой и непринужденный пикник, где почетным гостем был кардинал Барберини, легат — и более того, родной племянник — его святейшества Папы Урбана VIII, ведший в Мадриде сложную и хитроумную дипломатическую игру. Не было у католической веры защитников надежней, чем испанские полки. И в точности как во времена великого Карла Пятого, наши монархи предпочли бы всего лишиться — не так ли, в конце концов, и случилось? — нежели править еретиками. И все равно поражает меня, что покуда Испания из последних сил обороняла деньгами и кровью истинную веру, Римский Папа старался ослабить наше присутствие в Италии и кое-где еще в Европе, через своих агентов и послов сговариваясь исподтишка и втихомолку с нашими врагами. И невольно задумаешься — а не стоило бы применить к сему недугу то же снадобье, что так чудодейственно помогло девяносто девять лет назад, в 1527 году, когда императорские войска штурмом взяли и дочиста разграбили Рим? Но тогда мы еще были тем, чем были, и от одного лишь упоминания испанцев перехватывало дыхание у всего мира. Теперь иные настали времена, и Четвертый Филипп даже отдаленно не напоминал своего прадеда; теперь куда больше заботились не о сути, а о форме, и переливали из пустого в порожнее, перекладывали из кулька да в рогожку, и момент не благоприятствовал тому, чтобы понтифики, подоткнув сутаны, бежали прятаться в замок Сант-Анджело, а наши ландскнехты, дабы шустрей бежалось, подкалывали их алебардами в зад. А жаль. Ибо во взбаламученной тогдашней Европе, в Европе, где рядом с нашей полуторастолетней старушкой-Испанией возникали новые нации, не надо, чтоб тебя любили, — надо, чтоб боялись: это в десять раз выгодней. И ежели бы мы и прежде вели себя так, как ведем сейчас, то есть претендовали бы на нежные чувства и добрососедские отношения, все эти британские, французские, голландские, венецианские, турецкие и иные-прочие мастера на ходу подметки резать покончили бы с нами гораздо раньше. И обошлось бы им это куда дешевле. А так, зубами и когтями отстаивая каждую пядь суши, каждую милю моря, каждую Унцию золота, мы, по крайней мере, заставили их, сволочей, сильно раскошелиться.
Но я отвлекся. Вернемся в Мадрид и к его высокопреосвященству папскому нунцию Барберини, который вместе с другими высокими особами недавно удалился из парка, однако многие знатные дамы и господа еще оставались у накрытых под навесом столов, наслаждаясь прохладой, плодами и разнообразными лакомствами. По аллеям, по берегам ручьев, на пространстве от монастыря Святого Иеронима до обители августинцев катились взад-вперед кареты, прогуливалась или сидела под деревьями публика: почтенные супружеские пары, дамы из общества и подражающие им девицы: сами они были уличные, а собачонки у них на руках — комнатные, распутные молодые люди и служанки из харчевен и постоялых дворов, жаждущие найти то, чего не теряли, конные и пешие кавалеры, относящиеся к разряду «красавец-мужчина», бродячие торговцы, разносчики сластей и фруктов, туча пажей и горничных. Обстановка была точно такой, как описывал со свойственной ему язвительностью наш добрый знакомый и сосед Салас Барбадильо:
Раздолье здесь и отдых от забот, Покой здесь снищет гумор раздраженный. Блудят здесь, по лужку блуждая, жены, Пасется здесь крупнорогатый ск… муж.А мы трое — капитан, дон Франсиско и я — тоже бродили здесь, прохаживались под высаженными в три ряда деревьями, чьи густолиственные ветви образовывали над нашими головами сплошной свод. Мой хозяин и Кеведо вполголоса беседовали о чем-то своем, и, признаюсь вам, я, обычно столь чутко внимавший их речам, на сей раз отвлекся и увлекся течением собственных мыслей: перезвон курантов на колокольне должен был возвестить мне о том, что пришел час свидания. И все же я прислушался к разговору, уловив слова Кеведо: «… остерегитесь». Сделав еще несколько шагов — капитан шел рядом молча и глядел из-под надвинутой шляпы хмуро — поэт повторил:
— У тех, с кем вы сели играть, пять тузов в колоде…
Они — а за ними и я — остановились у перил мостика, пропуская несколько экипажей с дамами: те возвращались с гулянья домой, уступая место сводням, которые с наступлением темноты начнут искать клиентов для своих подопечных, а также девицам из хороших семей — наплетя с три короба своим отцам и братьям, будто отправляются слушать мессу либо заниматься благотворительностью, барышни эти поспешат на заранее условленное свидание или же отыщут кавалера, так сказать, на месте. Кто-то из сидящих в экипаже узнал Кеведо и поздоровался с ним, а тот в ответ снял шляпу.
— … все это напоминает мне, — продолжал он, поворачиваясь к Алатристе, — лекаря, который женится на старухе, зная, что в его власти уморить ее.
Капитан, не в силах удержать улыбку, дернул усом, однако промолчал.
— Будете упорствовать, — настойчиво говорил дон Франсиско, — не поставлю за вашу жизнь и ломаного гроша.
От этих слов меня бросило в жар. Я стал внимательно вглядываться в орлиный профиль своего хозяина, отчетливо видный мне в последнем свете уходящего дня.
— Нет, — невозмутимо произнес он наконец. — Задешево не отдам.
— Кого? — в изумлении воззрился на него Кеведо. — Эту бабенку?
— Свою шкуру.
После непродолжительного молчания — мне даже показалось, что поэт лишился дара речи, — он взглянул налево, потом направо, а потом пробормотал сквозь зубы фразу, общий смысл которой сводился к тому, что капитан, по всей видимости, спятил, ибо ни одна женщина не стоит того, чтобы рисковать из-за нее жизнью. Алатристе же двумя пальцами пригладил усы — и этим ограничился. Кеведо после четырех-пяти проклятий и богохульств пожал плечами:
— На меня можете не рассчитывать. С королями не дерусь.
Капитан поглядел на него, но и на этот раз ничего не сказал. Мы тем временем дошли до глинобитной ограды и за нею, на полпути от беседки с музыкантами к одному из ручьев, разглядели в отдалении открытый экипаж, запряженный парой крепких сытых мулов. Я не обратил бы на него внимания, если бы Алатристе вдруг не изменился в лице. Проследив за взглядом моего хозяина, я увидел в карете Марию де Кастро — она была одета для прогулки и чрезвычайно хороша. Рядом сидел ее муж — низенький, с пышными бакенбардами, улыбающийся и принаряженный: на нем был колет, отделанный золотой тесьмой, в руках — трость с набалдашником из слоновой кости, голову покрывала заломленная на французский манер изящная касторовая шляпа, которую он то и дело снимал, раскланиваясь направо и налево. По всему было видно, что он очень доволен собой, а еще больше — тем, какой фурор произвело их с женой появление.
— Ай да парочка, — насмешливо заметил Кеведо. — Баран да ярочка.
Капитан промолчал. Несколько стоявших поблизости матрон в широких черных баскиньях и просторных шерстяных накидках на манер монашеских, с длиннющими — зерен на полтораста — четками в руках оживленно зашушукались, обмахиваясь веерами и посылая в сторону кареты взоры, разящие не хуже берберийских стрел, тогда как траурно-чопорные супруги этих почтенных дам, изо всех сил стараясь сохранить важный вид, глядели со скрытым вожделением и закручивали кверху усы. Коляска с комедиантами приближалась, а дон Франсиско привел случай, отлично демонстрирующий изобретательность, остроумие и находчивость мужа Марии де Кастро: обнаружив во время представления в Оканье, что позабыл взять на сцену кинжал, которым по ходу пьесы должен был поразить соперника, он не растерялся, сорвал с себя накладную бороду, накинул ее тому на шею на манер удавки и начал якобы душить. В итоге под градом камней, которыми забросали актеров разгневанные горожане, всей труппе пришлось спасаться бегством.
— Большой затейник этот Рафаэль де Косар, — заключил Кеведо.
В этот миг коляска поравнялась с нами, и большой затейник, узнав дона Франсиско и моего хозяина, поклонился им с необычайной учтивостью, которая, как почудилось мне, поднаторевшему уже в тонкостях придворного обращения, щедро была сдобрена язвительной насмешкой. Я, как бы говорил он этим поклоном, плачу собственной супругой за свой колет и шляпу, а вы мне возмещаете убытки. Как сказал об этом тот же Кеведо:
Не тот рогатый, кто срывает куш, А тот, кто рад платить, неся убытки, За те объедки, что оставил муж[116].Что же касается взгляда и улыбки, которые жена комедианта Косара послала прямо капитану, то были они столь же красноречивы, но выражали совсем иное — так смотрят на сообщника, с которым многое связано и которому многое обещано. Вслед за тем Мария де Кастро не то чтобы прикрыла мантильей лицо, а скорее обозначила это движение, вовремя оборвав его — так все же было менее опасно, чем не сделать вообще ничего, — и я увидел, как мой хозяин снял шляпу и оставался с непокрытой голо вой, пока экипаж не скрылся в глубине аллеи. Потом надвинул шляпу, повернулся — и буквально наткнулся на горящий ненавистью взгляд дона Гонсало Москателя: опустив руку на эфес шпаги, тот смотрел на нас и в ярости кусал усы.
— Так… Явление четырнадцатое, — пробормотал дон Франсиско. — Вот тебя только и не хватало…
Мясник стоял у подножки собственной кареты, запряженной двумя серыми мулами, и опирался на открытую дверцу. На козлах сидел кучер, а внутри — сиротка-племянница, жившая у Гонсало в доме и просватанная за прокурора Сатурнино Аполо, воплощенную посредственность, который, помимо того, что, как и положено ему по должности, брал взятки — не от них ли проистекала его тесная дружба со скототорговцем? — вхож был и в литературные круги, где выдавал себя за поэта, отнюдь таковым не являясь, ибо ловок был лишь вытягивать деньги у добившихся успеха любимцев муз, безбожно льстя им и ведя себя на Парнасе, как в игорном притоне, где прихлебатели за малую толику от выигрыша подносят урыльник удачливому игроку, дабы он не вставал с места и не спугнул фортуну. Этот самый Сатурнино, неразлучный с Москателем, ввел его и за кулисы, что подало тому надежду на более тесное знакомство с Марией де Кастро. Прокурор тянул с него деньги за услуги, а в самом скором будущем рассчитывал и на приданое его племянницы. Такое уж у этого проходимца было Ремесло — жить за чужой счет, и дон Франсиско, как и весь Мадрид, от души презиравший сию гниду, заклеймил его в своем знаменитом сонете, кончавшемся так:
Давая фору в похоти макакам, Не пачкай грязью имя Аполлона, Смени патрона, называйся Каком[117].И все они — хорошенькая барышня на выданье, низкий негодяй, претендующий на ее руку и сердце, и дядюшка-мясник, не то что снедаемый, а дочиста обглоданный ревностью, непомерной, как он сам и все в нем, — казались бы не столько живыми людьми, сколько персонажами Лопе или Тирсо, если бы не одно обстоятельство: театр обретает успех, когда отражает творящееся на улице, ну, и улица, в свою очередь, нередко подражает увиденному на театре. А в том живописно-увлекательном, полном бурном страстей театре, коему смело уподоблю свою эпоху, мы, испанцы, ломали иной раз комедию, а порой переживали истинную трагедию.
— Ну уж этот возражать наверняка не станет, — пробормотал дон Франсиско.
Алатристе, который, сощурясь с отсутствующим видом, разглядывал Москателя, полуобернулся к поэту:
— Против чего возражать?
— А то вы не понимаете! Против того, чтобы улетучиться, узнав, что топчет королевский выпас.
Комментарий капитана свелся к негромкому хмыканью. На другой стороне аллеи блистала рас шитая пелерина французского покроя, горели киноварью чулки и перо на шляпе, сверкала на солнце длиннющая шпага с массивной рукоятью и вычурной гардой — окостенелый от нелепой важности и сознания своей значительности Москатель продолжал жечь нас взглядом. Племянница в наброшенной на темноволосую головку мантилье, с золотым распятием на груди сидела в коляске, занимая все сиденье своим кринолином.
— Вы не станете отрицать, — прозвучал вдруг рядом чей-то голос, — что она очень мила.
Мы обернулись. Неслышно подошедший сзади Допито де Вега улыбался нам, сунув руки за ременный пояс со шпагой, перебросив вдвое сложенный плащ через плечо, по-солдатски слегка сбив шляпу на затылок, чтобы не задеть повязку, все еще белевшую на лбу. Томный взор его был устремлен на племянницу Москателя.
— Только не говорите мне, ради всего святого, — воскликнул дон Франсиско, — что это она.
— Она и есть.
При этих словах даже Алатристе внимательно оглядел сына Лопе.
— А как относится к вашему ухаживанию дон Гонсало Москатель? — осведомился Кеведо.
— Да плохо относится, — с горечью ответил юноша. — Утверждает, что его честь превыше всего и прочая и прочая… Хотя пол-Мадрида знает, сколько он уворовывает на поставках мяса. Тем не менее твердит про честь и не поперхнется. Сами можете себе представить — предки, герб, родословная… Старая и нудная песня.
— Ну, если вспомнить, кто он сам и какая слав; идет о нем, этот самый Москатель высоко занесся.
— Как и все наши земляки, он чрезвычайно кичится древностью рода…
— Ах, друг мой, — философски заметил Кеведо, — этот дух неистребим.
— Но, черт возьми, пора бы уж ему выветриться! Вы бы послушали, что несет этот олух: можно подумать, что мы живем во времена Сида! Он поклялся выпустить мне кишки, если я не оставлю его племянницу в покое!
Дон Франсиско воззрился на сына Феникса с живейшим любопытством:
— Ну а вы что же?
— Это, сеньор де Кеведо, выше моих сил!
И он коротенько обрисовал ситуацию. Нет, это не увлечение и не прихоть. Он всей душой любит Лауру — ее зовут Лаура — Москатель и намерен жениться на ней, как только будет произведен в прапорщики. Беда в том, что ему, человеку, избравшему себе стезю военной службы, и незаконному сыну Лопе де Веги: драматург, хоть и был священником, пользовался славой неуемного волокиты, и это бросало тень на его семейство, — едва ли удастся получить от дона Гонсало согласие на брак.
— А вы убедить его пробовали?
— Еще бы! Ни в какую. Отказывает наотрез.
— Может, вам заколоть своего соперника, этого мерзопакостного Аполо?
— Это ничего не даст. Уложу одного — Москатель тотчас приищет ей другого.
Дон Франсиско, поправив очки, всмотрелся получше в пресловутую Лауру, а потом перевел взгляд на влюбленного юношу.
— Вы и в самом деле хотите на ней жениться?
— Жизнью своей клянусь! — твердо отвечал тот. — Но когда я отправился к сеньору Москателю изложить ему свои самые серьезные намерения, на улице повстречал двух молодчиков, нанятых, чтобы переубедить меня.
При звуках сей знакомой мелодии капитан встрепенулся. Поэт с любопытством вскинул бровь, ибо понимал толк в амурах и стычках.
— И что же?
Лопито скромно, как истинный рыцарь, пожал плечами:
— Не удалось. Я недурно обучен фехтованию да и повоевать успел… Да и потом с этими бродягами не так уж трудно было справиться. Тем более они не ожидали сопротивления. Короче говоря, удача мне улыбнулась, и поле боя осталось за мной. Однако дон Гонсало принять меня так и не захотел. А когда вечером я пришел к окошку моей красавицы и, чтобы уравнять шансы, прихватил с собой слугу, который, помимо гитары, нес щит и шпагу, нас поджидало уже четверо.
— Сколь предусмотрителен этот дон Гонсало!
— Он еще и в состоянии свою предусмотрительность оплачивать… Мой слуга лишился, бедняга, половины носа, и очень скоро нам пришлось удирать.
Мы все не сводили глаз с Москателя, которого сильно раздражали, во-первых, эти пристальные взгляды, а во-вторых — то, что так славно спелись двое его недругов, прежде вроде бы между собой незнакомых. Он еще больше подкрутил кверху зверские усищи, торчавшие, как два свясла, и прошелся взад-вперед, держась за шпагу с таким видом, словно еле-еле сдерживается, чтобы не изрубить нас в куски. Потом яростно задернул шторы в коляске, скрыв тем самым племянницу от наших взоров, отдал отрывистый приказ кучеру, вскочил на подножку, и экипаж помчался вверх по улице, распугивая людей почище разносчика оливкового масла.
— Собака на сене, — горестно заметил Допито. — Сам не ест и другим не дает.
Наступившая ночь застала меня за размышлениями о том, что всякую любовь можно назвать несчастной. Прислонясь к стене возле ворот Приоры, я вглядывался во тьму, где тонули и Парковый мост, и Аравакская дорога, петлявшая между рощицами. От близости реки Мансанарес и ручья Леганитос было так зябко, что не спасал и плащ, в который я кутался, заодно прикрывая кинжал, пристегнутый к поясу сзади, и шпагу на боку, однако я не шевелился, опасаясь привлечь внимание каких-нибудь праздношатающихся оболтусов, которые любят выбирать для своих развлечений такие вот места. В равной степени не устраивала меня встреча с вышедшим на промысел злодеем или с любопытным. И потому я стоял, плотно притулившись к стене рядом с входом на галерею, которая тянулась между монастырем Энкарнасьон, площадью Приора и зданием манежа, связывая северное крыло королевского дворца с городской окраиной. Стоял и ждал.
Да, я размышлял о любви, придя, как уже было сказано, к выводу о том, что счастливой любви нет на свете. И о непостижимом замысле Творца, наделившего женщин дивным даром околдовывать нас и увлекать в такие гибельные выси, где на кон ставят имущество, честь, свободу и жизнь. Вот взять, к примеру, меня — какого дьявола я, обвешанный оружием олух, торчу здесь в ночь-полночь, в самую глухую и опасную пору, чего ради рискую жизнью? Оттого, что синеглазая русокудрая барышня прислала мне две строчки торопливых каракулею «Если вы отыщете в своей душе… " и так далее. Дамы. Все они хороши, ни одна своего не упустит. Даже самая безмозглая из них способна нечувствительно обворожить тебя. Ни судейскому крючку, собаку съевшему на кляузах и тяжбах, ни самому прожженному стряпчему, ни придворному, поднаторевшему в интригах и дрязгах, искательствах и ласкательствах — никому, словом, не удастся сыграть на тщеславии мужчины, на его представлениях о рыцарстве, на его, наконец, скудоумии лучше, чем это делают женщины. И уж точно — никто не разденет его до нитки проворней, чем они. Вооружены превосходно. Мудрый, проницательный, всякие виды видавший дон Франсиско написал об этом не один десяток стихов. Вот, например:
Рапира — словно женщина: она Разит смертельней, коль обнажена.На монастырской колокольне зазвонили «анимас», и тотчас ей эхом откликнулись колокола церкви Святого Августина — ее купол вырисовывался в слабом лунном сиянии над очертаниями соседних крыш. Я перекрестился и, не замер еще в воздухе отзвук последнего удара, услышал скрип дверцы. Затаив дыхание и на всякий случай очень осторожно высвободив из-под плаща рукоять шпаги, повернулся туда, откуда донесся он, успел увидеть в освещенном проеме силуэт, стремительно выскользнувший наружу. Дверца тотчас захлопнулась. Я несколько смутился — передо мной стоял юноша или мальчик, быстрый в движениях, одетый в черное. Без плаща. Зато с недвусмысленно поблескивающим кинжалом у пояса. Не этого я ожидал — ну, то есть до 26 такой степени не этого, что я совершил единственно возможное и разумное, что мог сделать, оказавшись в этом месте в этот час: проворно выхватил шпагу и приставил острие к груди незнакомца.
— Еще шаг — приколю к стене.
И услышал смех Анхелики де Алькесар.
IV Улица Лос-Пелигрос
— Скоро придем, — сказала она.
Мы шли, ведомые лишь лунным свечением, в котором четко вырисовывались очертания крыш, и наши силуэты ложились на немощеную улицу, заваленную нечистотами и всяким мусором. Говорили вполголоса, и звук наших шагов гулко разносился в тиши квартала.
— Куда придем-то?
— Куда надо.
Оставив позади монастырь Энкарнасьон, мы оказались на маленькой площади Святого Доминика, над которой угрюмо громоздилась обитель отцов-инквизиторов. У фонтана никого не было, закрыты были палатки, торгующие фруктами и зеленью. Тускло мерцала в отдалении, на углу улицы Святого Бернарда, лампадка над образом Пречистой Девы.
— Ты знаешь, где таверна «У Пса»? — спросила Анхелика.
Я остановился, и, сделав еще несколько шагов, остановилась она. Свету было довольно, чтобы разглядеть ее мужское обличье — узкий колет, скрадывавший очертания девичьей фигуры, фетровый берет, спрятавший золотистые волосы, посверкивающий сталью кинжал на поясе.
— В чем дело?
— И представить себе не мог, что услышу эти слова из ваших уст.
— Боюсь, ты много чего не можешь себе представить. Успокойся. Тебе заходить туда не придется.
Я и вправду малость успокоился. В таверну «У Пса» даже мне соваться было бы небезопасно — это был приют проституток, бандитов и всяческих проходимцев. Притом, что квартал относился к числу вполне добропорядочных, злачное сие заведение, помещавшееся в узком переулочке, шедшем от Немецкой улицы к улице Сильвы, подобно было чирью, вывести который почтенным обывателям, несмотря на все протесты и жалобы, не удавалось.
— Так знаешь или нет?
Я ограничился кратким «да», не вдаваясь в подробности. Мне случалось там бывать вместе с капитаном Алатристе и доном Франсиско. Наш поэт черпал там материал для своих сатирических десятистиший, а кроме того, Пес — ибо именно таково было прозвище хозяина — подавал там питье, немцами именуемое глинтвейн, питье славное и дорогое, но, к сожалению, строжайше запрещенное законом, ибо недобросовестные кабатчики для крепости и дешевизны подбавляли в него квасцы, табак и прочую вредную для здоровья гадость. Тем не менее его продолжали изготовлять и разливать из-под полы, то бишь прилавка, а поскольку всякий запрет обогащает торговца, его нарушающего, то Пес брал — здесь уместней будет сказать не «брал», а «драл» — по двадцать пять мараведи за квартильо.
— А есть поблизости такое место, откуда можно за этой таверной наблюдать?
Я стал припоминать. Переулочек был темный, короткий, но извилистый, с полуразрушенной глинобитной стеной, так что ночью там появлялось несколько неосвещенных углов. Да, есть, сказал я, но беда в том, что подобные места давно уже облюбованы здешними «шкурами».
— Кем-кем?
— Потаскухами.
Я получал особенное, грубое удовольствие, произнося подобные слова, совершенно не предназначенные для ушей девицы благородного происхождения — они, казалось мне, позволяют, говоря военным языком, перехватить инициативу, прочно удерживаемую племянницей королевского секретаря. Анхелика де Алькесар, в конце концов, тоже не всеведуща. И нарядись она хоть в сто мужских колетов, привесь к поясу хоть сто кинжалов, все равно: в ночном Мадриде я — как рыба в воде, а она — нет. Шпага на боку у меня не для красоты.
— А-а… — протянула Анхелика.
Это придало мне новых сил. Да, я был влюблен. По уши. Но одно дело — одуреть от любви, и совсем другое — быть дурнем. И я тотчас доказал это, попросив:
— Скажите, что вы намерены делать и какую роль во всем этом отводите мне.
— Потом, — ответила она и решительно двинулась дальше.
Я не тронулся с места. И через минуту Анхелика остановилась, оглянулась через плечо.
— Если не скажете, дальше пойдете одна.
— Ты не посмеешь оставить меня здесь…
Юноша, в которого тьма и мужской костюм превратили Анхелику, с вызовом подбоченился, повернулся ко мне. Ход был за мной. Я сосчитал до десяти, сделал полуоборот налево и зашагал прочь. Шесть, семь, восемь шагов. Сердце в клочья, задавленное проклятье на устах. Она не удерживала меня, а повернуть назад гордость не позволяла.
— Постой, — послышалось из темноты.
И я остановился, переведя дух. Сзади зазвучали ее шаги, ее пальцы сжали мне руку ниже локтя. Я обернулся к ней, увидел в лунном свете ее глаза. Почувствовал ее запах — запах свежевыпеченного хлеба. Да, клянусь честью, от нее пахло свежим хлебом.
— Мне нужен провожатый.
— Почему именно я?
— Потому что другим я не доверяю.
Это звучало искренно. Это звучало лживо. Это звучало так или сяк, вероятно или неправдоподобно, но все дело в том, что мне плевать было, как это звучало. Анхелика де Алькесар была рядом. Совсем близко. Я мог бы дотронуться до ее руки. Прижаться щекой к ее щеке.
— Я должна выследить одного человека, — добавила она.
На мгновение я потерял дар речи. Зачем королевской фрейлине в ночном и опасном Мадриде выслеживать кого-то? Ради чего? Ради кого? Зловещий образ ее дядюшки возник передо мной. Анхелика де Алькесар — племянница дона Луиса, смертельного врага капитана Алатристе, и по вине этой едва расцветшей девушки три года назад я попал в застенки инквизиции и чуть было не угодил на костер.
— Ты, верно, считаешь меня совсем безмозглым.
Она промолчала. Во тьме смутно светился овал ее лица. Лунный свет дрожал в зрачках. Я понял — она придвигается ближе. Еще ближе. И вот теперь стоит так близко, что бедром я чувствую рукоять кинжала у нее на поясе.
— Однажды я сказала, что люблю тебя — помнишь? — прошептала она.
И поцеловала меня в губы.
Переулочек совсем потонул бы в непроглядной тьме, если б не освещенное окно таверны да не мутно чадящая масляная плошка, прилепленная к выступу стены возле входа. Все прочее было погружено во мрак, так что нам не составило труда раствориться в нем, притулившись к полуразвалившейся ограде какого-то заброшенного сада. Оттуда как на ладони видны были нам дверь и окно. В оконечности переулка, поближе к Немецкой улице, можно было разглядеть две-три фигуры — это вышли на свой трудный промысел гулящие девицы. Время от времени кучками и поодиночке появлялись в дверях таверны посетители. Изнутри доносились голоса и смех, долетал время от времени обрывок хмельной песни или гитарный перебор. Перед самым нашим укрытием остановился по нужде пьяный, перепугавшийся до смерти, когда я приставил кинжал ему меж глаз и попросил сгинуть сию же минуту. Бедняга решил, видно, что помешал людям, занятым плотскими утехами, и безропотно двинулся, пошатываясь, дальше. Анхелика де Алькесар рядом со мной давилась от смеха.
— Он подумал, что мы с тобой… — шепнула она. Судя по всему, огромное удовольствие доставляли ей и поздний час, и неподобающее место, и риск. Смею надеяться, что и я тоже. Ну, то есть не я, а мое общество. По дороге сюда мы увидали вдалеке ночной дозор — альгвасила и четверых стражников со щитами, шпагами и фонарем — и принуждены были свернуть, дабы разминуться с ними: во-первых, в моем возрасте носить оружие закон еще не позволял, так что шпага на боку могла мне выйти боком. Но гораздо серьезней было то, что мужской наряд Анхелики едва ли обманул бы зоркий глаз блюстителей порядка, и подобное происшествие, столь забавное и пикантное на театральных подмостках, в действительности могло бы возыметь самые неприятные последствия. Женщинам строжайшим образом было запрещено носить мужское платье, причем даже на театре, а исключение делалось лишь для актрис, исполнявших роли женщин незамужних, обесчещенных и оскорбленных — таких как Петронила и Томаса в «Саду Хуана Фернандеса» Тирсо, или Хуана в его же пьесе «Дон Хиль Зеленые Штаны», или Клавела в комедии Лопе «Француженка», а равно и им подобных, то есть тех, кто переодевался мужчиной ради защиты своей чести или, скажем, восстановления порушенного брака, но отнюдь не из прихоти, порочных склонностей или же развратных побуждений.
Не осталась в стороне и церковь, которая через королевских исповедников, епископов, священников и монахов — а их в нашем отечестве всегда было больше, чем блох в ослиной попоне, — из кожи вон лезла, спасала наши души, чтобы, не дай бог, не завладел ими дьявол; так что мужская одежда могла послужить отягчающим обстоятельством на следствии и решающим доводом за то, чтобы отправить женщину на костер. И Святейшая Инквизиция приложила руку к этому запрету, как прежде — и, черт возьми, как ныне, — мешаясь решительно во все дела нашей несчастной Испании.
Однако в ту ночь, когда на моем разостланном плаще сидели мы с Анхеликой де Алькесар во тьме перед заведением Пса и соприкасались иногда плечами, я размышлял не о несчастиях. Она глядела на двери таверны, а я — на мою спутницу, и временами, когда она шевелилась, масляная плошка, потрескивая и чадя, освещала ее профиль, белую кожу, две-три золотистых пряди, выбившихся из-под фетрового берета. Узкий колет и облегающие штаны делали ее похожей на юного пажа, но сходство мгновенно исчезало в тот самый миг, когда слабенькое пламя взвивалось повыше, освещая ее глаза — светлые, пристальные и решительные. Порой казалось, что она спокойно и скрупулезно изучает меня, проникая в самые потаенные глубины души. И всякий раз перед тем, как она снова поворачивалась лицом к таверне, красиво вырезанные губы ее чуть морщились в улыбке.
— Расскажи мне что-нибудь о себе, — неожиданно попросила она.
Я поставил шпагу между колен и некоторое время сидел молча, не зная, с чего начать. Потом заговорил. О том, как в первый раз увидал Анхелику — тогда еще почти дитя — на улице Толедо. О ручье Асеро, о застенках инквизиции, о позоре аутодафе. О письме, полученном во Фландрии. О том, как думал о ней, когда отбивали голландцев на Руйтерской мельнице и брали Терхейденский редут, и я бежал за капитаном Алатристе со знаменем в руках, уверенный, что вот сейчас меня убьют.
— Какая она, война?
Мне казалось, Анхелика внимательно следит за моим рассказом. За мной или за моими словами. И внезапно почувствовал себя взрослым. Почти старым.
— Грязная, — ответил я, не покривив душой. — Грязная и серая.
Медленно, как бы размышляя, она покачала головой. Потом сказала:
— Дальше, — и грязно-серый цвет войны отправился на какую-то дальнюю полку памяти. Упершись подбородком в навершие эфеса, я стал говорить о нас. О ней и о себе. О нашей встрече в севильском дворце, о засаде, в которую по ее милости попал я у Геркулесовых Столбов. О том, как впервые поцеловал ее, вскочив на подножку кареты, чтобы в следующее мгновенье схватиться с итальянцем Гвальтерио Малатестой. Да, примерно все это я ей и сказал. Никаких признаний и нежных чувств. Я всего лишь описал ей наши встречи, свою жизнь — там, где она пересекалась с ее жизнью, — и постарался при этом быть предельно сдержан. Эпизод за эпизодом, как запомнилось. И вовек не позабудется.
— Ты не веришь, что я тебя люблю? — неожиданно спросила она.
Наши взгляды встретились, и продолжалось это целую вечность — так мне, по крайней мере, показалось. И голова у меня пошла кругом, словно я хватил лишнего. Я открыл рот, сам не зная, что скажу. Или, быть может, чтобы поцеловать ее. Не так, как поцеловала она меня давеча на площади Святого Доминика — нет, чтобы впиться в ее губы и запечатлеть на них свой поцелуй, крепкий и долгий, похожий разом и на укус, и на ласку. Юная кровь взбурлила в моих жилах. В нескольких дюймах от своего лица я увидел ее губы — Анхелика улыбалась со спокойной уверенностью той, кто знает, и ждет, и обращает случайность в неизбежность, неотвратимую, как Удел человеческий. Словно бы все это было записано задолго до моего рождения в древней книге судьбы, словами которой владела эта девочка.
— Мне кажется… — начал я.
Но тут лицо изменилось: она стремительно перевела взгляд на двери таверны. Туда же взглянул и я. Запахивая плащи, надвигая шляпы, воровато пригибаясь, вышли двое. Один был в желтом колете.
Мы крались за ними по темному городу, следуя на расстоянии и стараясь ступать бесшумно и не терять из виду две темные фигуры. По счастью, те шли, не оборачиваясь, уверенно и споро: по Немецкой улице к улице Вероники, оттуда — к воротам Святого Мартина, а потом свернули на улицу Святого Людовика Французского. Там на миг задержались, почтительно поклонившись какому-то священнику, который в сопровождении причетника и служки с фонарем нес святые дары — позвали соборовать умирающего. В скудном свете мне удалось разглядеть незнакомцев: первый нахлобучил шляпу до самых глаз и скрыл свой желтый колет черным плащом. Он носил чулки и башмаки, а когда обнажил голову перед священником, оказался светловолос. Его спутник был в буром плаще, приподнятом сзади ножнами длинной шпаги, в шляпе, не украшенной пером, в сапогах; а еще раньше, когда он остановился в дверях таверны, под распахнувшимся плащом я разглядел толстый колет, а на поясе, помимо вышепомянутой шпаги, — пару отличных пистолетов.
— Предусмотрительные люди, — шепнул я Анхелике.
— А ты уж испугался?
Обидевшись, я замолчал. Двое мужчин продолжили свой путь, а мы — преследование. Свернули и, миновав ларьки и палатки, где торговали хлебом и вином, — об эту пору они были закрыты, и вокруг не было ни души, — вышли в квартал Святого Людовика, прямо к высокому каменному кресту, указывающему то место, где прежде были городские ворота. Здесь снова задержались и нырнули в нишу, чтобы не попасть под движущийся навстречу луч фонаря — вскоре выяснилось, что это торопливый муж, в тревоге ведя к родильнице повивальную бабку, освещает ей путь, — и снова зашагали, старательно выбирая самые темные улицы. Довольно долго мы шли в полумраке, мимо закрытых ставнями окон, вспугивали шарахающихся из-под ног котов, слышали время от времени «Поберегись!», после чего с верхних этажей летело на мостовую содержимое урыльника или помойного ведра, видели лампадки перед образами мадонн и святых. Из устья глухого переулка доносились звон и лязг стали — там, очевидно, шла ожесточенная схватка. Те, за кем мы следовали, на миг замедлили шаги, прислушались, но не заинтересовались и пошли дальше. Когда же минуту спустя до переулка добрались мы с Анхеликой, оттуда выскочил и бросился бежать, прикрывая плащом лицо, человек со шпагой в руке. В глубине переулка кто-то протяжно застонал. Дело было ясное: выясняли отношения двое соперников. Сунув в ножны шпагу, которую молниеносно обнажил при появлении человека в плаще, я хотел было поспешить на помощь раненому, но Анхелика схватила меня за руку:
— Это не наше дело.
— Но, может быть, он умирает…
— Все мы когда-нибудь умрем.
И с этими словами, увлекая меня за собой, она решительно направилась следом за двумя фигурами в плащах, исчезающими в полутьме. Да-с, именно таков был ночной Мадрид — темный, неверный и очень опасный.
…Наконец они вошли в дом, стоявший в самой высокой и самой узкой части улицы Лос-Пелигрос. А мы с Анхеликой оставались снаружи, не зная, что предпринять, пока она не предложила присесть под портиком в нише, полускрытой резным каменным столбом. Было свежо, и я снова предложил ей свой плащ, от которого она уже дважды отказывалась. На этот раз согласилась, но с тем условием, что мы оба укроемся им. Я набросил его на плечи ей и себе, для чего пришлось придвинуться друг к другу плотнее. Вы, господа, можете сами вообразить, каково мне было — вцепившись в эфес шпаги, я сидел совершенно ошалелый, и возбуждение не давало мне мыслить связно и последовательно. Анхелика же, как ни в чем не бывало, продолжала наблюдать за домом напротив и, хоть сохраняла наружное спокойствие и полное самообладание, удивительное для барышни ее лет и воспитания, мне передавалось ее напряжение. Соприкасаясь плечами, мы говорили вполголоса. Что мы тут делаем, она так и не сказала, всякий раз отвечая одно и то же: «Потом узнаешь».
Крыша портика загораживала луну, и лицо Анхелики было в темноте. Я ощущал тепло ее тела и, хоть чувствовал себя так, словно палач уже набросил мне петлю на шею, не обращал на это ни малейшего внимания: главное — Анхелика со мной, и я не согласился бы перенестись отсюда в самое распрекрасное, самое безопасное место на свете.
— Не то чтобы мне это было очень важно, — настаивал я, — но все же хотелось бы знать.
— О чем?
— О том, в какое новое безумство ты собираешься меня вовлечь.
В ее молчании мне почудился оттенок лукавства.
— Уже вовлекла, — весело заметила она.
— Именно это меня и тревожит: не знаю, куда иду.
— Скоро узнаешь.
— Не сомневаюсь… В последний раз нечто подобное я узнал, увидев вокруг себя полдесятка наемных убийц, а в предпоследний — когда очутился в подвале инквизиции.
— Я вас, сеньор Бальбоа, считала юношей отважным и мужественным … — сказала она и, резко сменив тон, спросила: — Ты что же — не доверяешь мне?
Я задумался. Вот так и поступает дьявол, мелькнуло у меня в голове. Он играет с людьми. Дергает за струны тщеславия, вожделения, страха. Добирается до самого сердца. Сказано ведь в Писании: «Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне…»[118] Дьявол — умен, ему даже нет необходимости лгать.
— Разумеется, не доверяю.
И тотчас услышал — она тихо засмеялась, потянув к себе полу плата, и с необыкновенной нежностью произнесла:
— Дурачок.
И поцеловала меня еще раз. Или, говоря точнее, мы с ней поцеловались — да не один раз, а много; и моя рука, обхватив ее плечи и не встречая сопротивления, бережно заскользила по ее шее, потом мягко проникла под бархат колета, отыскав девические груди. Губы мои щекотал тихий смех Анхелики, которая то податливо льнула ко мне, то — когда вожделение чересчур ударяло мне в голову — слегка отстранялась. И, клянусь вам, господа, чем хотите — если бы в ту минуту запылал передо мной огонь геенны, без малейших колебаний пошел бы я следом за Анхеликой туда, куда соизволила бы она повести меня, и, обнажив шпагу, защищал бы ее хоть от самого Люцифера. И рискнул бы даже — хотя чем уж тут рисковать — навеки погубить свою душу.
Внезапно она отпрянула. На улице показался один из тех, за кем мы следили. Я откинул назад плащ, приподнялся, чтобы лучше видеть. Человек стоял неподвижно, будто караулил или поджидал кого-то. Постоял — и начал прохаживаться из стороны в сторону, так что я испугался, как бы он не обнаружил нас. Но вот он устремил взгляд в глубину улицы. Я посмотрел туда же и увидел мужской силуэт — шляпа, плащ, шпага. Он приближался, держась середины мостовой, словно опасаясь тонувших во мраке стен, и чем ближе подступал к этому самому караульщику, тем медленней становились его шаги. Вот наконец эти двое сошлись. Что-то знакомое почудилось мне в походке и повадке вновь прибывшего, а особенно — движение, которым он откинул полу плаща, высвобождая рукоять шпаги. Цепляясь за каменную опору портика, я подался вперед, всмотрелся. И в лунном свете к неописуемому своему изумлению узнал капитана Алатристе.
Закутанный в плащ едва ли не до полей шляпы человек, который стоял посреди улицы, не обнаруживал ни малейшего намерения уступить дорогу или хоть сдвинуться с места. Так что Диего Алатристе, замедляя шаги перед тем, кто не давал ему пройти, закинул левую полу плаща за плечо, нащупал пальцами навершие эфеса. Отдал должное тому, что держится незнакомец на удивление спокойно и, главное, молчит. Если он пришел сюда один, то либо смел до безрассудства, либо в совершенстве знает свое ремесло, либо кое-что припас под плащом — пистолет, например. Впрочем, может быть и то, и другое, и третье разом. Нет, он не один, подумал капитан, где-то тут поблизости — еще люди, и это самое скверное. Вопрос в том, его ли поджидает незнакомец или кого еще. Впрочем, встреча у этого дома да в такой час отметает все сомнения. Но это не Гонсало Москатель — мясник выше ростом, шире в плечах, Да и притом не из тех, кто справляется со своими неприятностями сам. Может быть, наемный клинок? Но в какие же выси занесся этот головорез, если, зная, с кем придется иметь дело, решил справиться с Алатристе в одиночку?
— Нижайше прошу вашу милость, — промолвил меж тем предмет капитановых размышлений, — немного погодить. Дальше вам нельзя.
Алатристе удивился: хотя незнакомец прикрывал рот плащом, приглушенный голос его звучал все же достаточно внятно, чтобы оценить учтивую манеру и тон человека хорошо воспитанного.
— А кто это меня не пускает? — осведомился капитан.
— Тот, кто имеет право.
Это он зря, подумал Алатристе, проведя двумя пальцами по усам, а затем взялся за массивную бронзовую пряжку своего пояса. Продолжать беседу не было никакого смысла. Вопрос лишь в том, в большой ли компании явился сюда этот хлыщ. Капитан, не поворачивая головы, быстро скосил глаза налево и направо. Что-то во всем этом было не совсем обычное.
— Ладно, к делу, — сказал он, вытягивая из ножен шпагу.
Закутанный не шевельнулся — даже не распахнул плащ. Он стоял неподвижно и смотрел, как мягко играет лунный свет на лезвии обнаженного клинка.
— Я не хочу с вами драться.
Ага, он изменил обращение. То «ваша милость», то просто «вы». Чтобы так лезть на рожон, надобно очень хорошо знать Алатристе, либо повредиться в рассудке.
— Это почему же?
— Мне это не пристало.
Алатристе поднял шпагу и наставил ее на незнакомца.
— Хватит канителиться! Шпагу наголо!
Увидев клинок в непосредственной близости от своей груди, незнакомец все же отступил на шаг и распахнул плащ. Лицо его было затенено широким полем шляпы, однако оружие оказалось на виду. Капитан ошибся: не пистолет оказался под плащом, а два пистолета. Колет же, судя по всему, был двойным, то есть, собственно говоря, не колет, а дублет. Эспадачины таких не носят. Сосунок, подумал Алатристе, куколка моя нарядная, удалец недоделанный, куда ж ты лезешь, вот только возьмись за рукоять, всажу тебе под кадык пять дюймов стали, «мама» сказать не успеешь.
— Я не стану с тобой драться.
Ах, теперь уже с «тобой»! Это облегчает дело. Сам напрашивается. Он мне тычет, а я его ткну. Святое дело — приколоть наглеца, хоть мне и кажется, что его голос я когда-то слышал. Но если даже мы с ним встречались, это не дает ему права встревать в мои ночные дела, а стало быть, не спасет его шкуру. Ладно, нечего тянуть. Пора кончать.
Капитан надвинул шляпу ниже, отстегнул пряжку плаща, дав ему соскользнуть наземь. Сделал шаг вперед, левой рукой обнажив кинжал и не сводя глаз с пистолетов противника. Тот отступил еще немного и вдруг проворчал:
— Чтоб тебя черти взяли, Алатристе! Все никак не узнаешь?
Сказано было с высокомерным раздражением. Голос теперь звучал яснее, и капитан вроде бы признал его. По крайней мере, засомневался и удержал руку, уже готовую нанести разящий удар.
— Ваше сиятельство?!
— Оно самое.
Граф де Гуадальмедина собственной персоной стоял перед Алатристе, и тот, еще не успев спрятать в ножны шпагу и кинжал, попробовал осмыслить это неожиданное появление.
— А какого дьявола оно здесь забыло? — осведомился он наконец.
— Не хотел, чтобы ты осложнил себе жизнь. Вот, значит, к чему клонил тогда дон Франсиско, молча продолжал размышлять Алатристе. Теперь все ясно. И очень погано, разрази меня гром. Вот же несчастная судьба: как ни велик мир, а сойтись на узкой дорожке пришлось страшно сказать с кем. И вдобавок Гуадальмедина затесался. Посредничек. Сводник чертов.
— О моей жизни мне и заботиться.
— Тебе и твоим друзьям.
— Так почему же мне нельзя пройти?
— Почему, не могу сказать. Нельзя — и все.
Алатристе раздумчиво покачал головой, перевел взгляд на кинжал и шпагу. Мы — то, что мы есть, подумалось ему. Репутация обязывает. Она у нас одна.
— Меня ждут, — сказал он.
Альваро де ла Марка был невозмутим. Капитан знал, что граф очень недурно управляется со шпагой — крепко стоит на ногах, обладает должным проворством, ведет бой хладнокровно и с оттенком щегольского пренебрежения к противнику, как в последнее время вошло в моду у испанской знати. Тем не менее с Алатристе ему не справиться. Хотя… Ночное время и слепой случай могут уравнять шансы. А два пистолета — тем более.
— Место занято, — раздельно проговорил Гуадальмедина.
— Желаю сам в этом убедиться.
— Сначала тебе придется меня убить. Или мне — тебя.
Это прозвучало без вызова или угрозы, а как нечто вполне очевидное. Очевидное и неизбежное. Сказано было негромко и дружески-доверительно. Графу тоже ведь из себя не выпрыгнуть: доброе имя — свое и чужое — жизни дороже.
Алатристе произнес прежним тоном:
— Не нарывались бы вы, ваше сиятельство, на неприятности.
И сделал шаг вперед. Граф остался на месте — шпага в ножнах, пистолеты крест-накрест за поясом. Без сомнения, он умеет ими пользоваться всего несколько месяцев назад, в Севилье, Алатристе имел удовольствие видеть, как он, не говоря худого слова, в упор застрелил альгвасила.
— Ведь это всего лишь женщина, — настойчиво, проникновенно, по-свойски, сказал Гуадальмедина. — Таких в Мадриде сотни… Ну, надо ли губить свою жизнь из-за какой-то актриски?
— Да кто б ни была, — помолчав, ответил капитан, — не только в ней дело.
Гуадальмедина, словно заранее зная ответ, тяжело вздохнул. Потом обнажил шпагу и стал в позицию, левую руку сместив к поясу. Алатристе — делать нечего — поднял клинки, отчетливо сознавая, что после этого движения земля будет гореть у него под ногами.
Увидев, как незнакомец — издалека не разглядеть было его лица, которое он наконец-то открыл — выхватил шпагу, я сделал шаг вперед, но цепкие руки Анхелики удержали меня.
— Это не наше дело, — шепнула она. Обернувшись, я взглянул на нее так, словно она внезапно лишилась рассудка.
— Что ты такое говоришь?! Там… там — капитан Алатристе!
Она совершенно не удивилась и не ослабила хватку.
— И ты хочешь, чтобы он узнал, как мы за ним следим?
Мой порыв немного угас. В самом деле, что я скажу своему хозяину, если он спросит, зачем я оказался здесь в такую глухую пору?
— Если объявишься, то выдашь меня, — продолжала она. — Твой друг Салотристе… или как его там? — вполне способен уладить свои дела сам.
Да что же это происходит? — ошалело спрашивал я себя. Что здесь творится? И какое отношение имеем мы с капитаном ко всему этому? При чем тут Анхелика де Алькесар?
— И потом, ты же не можешь оставить меня одну…
В голове у меня был полнейший туман. Анхелика крепко вцепилась в мою руку и была так близко, что я чувствовал на лице тепло ее дыхания. Я терзался стыдом за то, что не кинулся на выручку Алатристе, но ведь бросить Анхелику или выдать ее присутствие тоже невозможно. Это — позор. Меня так и обдало жаром. Не сводя глаз с улицы, я прижался пылающим лбом к холодному камню. Когда этот закутанный в плащ человек выходил из таверны, за поясом у него я разглядел пистолеты. Будь ты хоть лучший в мире фехтовальщик, но от пущенной в упор пули не увернешься.
— Я должен идти.
— Не вздумай.
Теперь в голосе ее звучала уже не мольба, а предупреждение, но мысли мои были уже там, на улице, где противники, неподвижно постояв с обнаженными клинками в руках, наконец шагнули друг к другу и скрестили оружие. Вырвавшись из рук Анхелики, я выхватил шпагу и поспешил на помощь капитану.
Диего Алатристе услышал топот и сказал себе, что Гуадальмедина все-таки пришел сюда не один и подстраховался не только пистолетами, так что ближайшее будущее рисовалось в довольно мрачном свете. Следовало действовать без малейшего промедления, поговорка «поспешишь — людей насмешишь» в данном случае не годилась. Граф пятился, угрожая шпагой и стараясь улучить момент, чтобы взвести курок. Можно было не сомневаться — как взведет, так вскоре и спустит. К счастью для Алатристе, сделать это одной рукой было невозможно, и капитан полоснул шпагой над его головой, принуждая парировать удар и меж тем примериваясь, как бы вывести Гуадальмедину из строя да при этом не убить. Топот за спиной приближался, а с ним и развязка. Сделав финт кинжалом, он притворился, что отступает. Граф, что называется, купился, решил, что столь желанное мгновение пришло, опустил руку со шпагой, чтобы, не выпуская ее, взвести курок — и сейчас же получил в левую руку укол, от которого выронил пистолет, споткнулся и, поминая бога и черта, отлетел назад. Вроде бы не сильно задел, подумал Алатристе, слыша, что Гуадальмедина не стонет, а только бранится. Впрочем, для людей такого сорта это примерно одно и то же. Так или иначе, сводник-граф стремительной тенью, оживляемой блеском клинка, проворно метнулся обратно, и капитан понял, что покуда у него за поясом второй пистолет, добра не жди. Все! — решил он. Гуадальмедина тоже слышал раздающийся в переулке топот, но не воодушевился, а приуныл. Оглянулся, потеряв драгоценное время. А капитан, воспользовавшись этой заминкой, наметанным глазом оценил расстояние между ними, сделал обманное движение, целя противнику между ног и тем самым заставив сбитого с толку графа прикрыться, — и приготовился, уже не заботясь ни о здоровье, ни о жизни его, всадить лезвие, как бог на душу положит.
— Капитан! — крикнул я.
Ибо мне совсем не улыбалось попасть в темноте под горячую руку. Оба противника с воздетыми шпагами обернулись ко мне. Поднял свою шпагу и я, направив ее на неизвестного, и тот, будучи нежданно атакован с тыла, отпрянул в сторону, приготовясь — не сказать, чтоб очень ловко — отбить мой удар.
— Тьфу ты, пропасть! — вскричал он. — Зачем впутываешь мальца в эти дела?
Услышав его голос, я, можно сказать, обратился в соляной столп. Опустил шпагу, всмотрелся и наконец узнал графа Гуадальмедину.
— А и в самом деле, — спросил Алатристе, — ты здесь зачем?
Голос был режущий, как лезвие шпаги, и так же позванивал металлом. Меня вдруг бросило в жар — да так, что рубаха, плотно прилегавшая к телу, вмиг взмокла от пота. Голова пошла кругом.
— Я думал…
— Н-ну?
В смятении чувств я замолчал, не в силах пошевелить языком. Гуадальмедина наблюдал за нами удивленно, чтобы не сказать — оторопело. Сунув шпагу под мышку, он правой рукой ощупывал мякоть левой и морщился от боли.
— Спятил ты, Алатристе, — проговорил он.
Капитан же поднял руку с зажатым в ней кинжалом, как бы требуя время на размышления. Светлые глаза его из-под широкого поля шляпы пронзили меня, как два стальных острия.
— Что ты здесь делаешь?
Теперь я понял, что значит «убийственный тон», и, клянусь вам, господа, несколько оробел.
— За вами шел.
— Зачем?
Сглотнув слюну, я представил, как Анхелика, притаившись под портиком, издали наблюдает за мной. А может быть, она уже ушла?
— Я опасался, что вам подстроят засаду. — Голос мой мало-помалу обрел прежнюю твердость.
— Оба спятили, — веско заключил Гуадальмедина.
Однако в голосе его слышалось явное облегчение. Мой неожиданный приход позволил ему выйти из затруднительного положения, не поступившись честью и сохранив жизнь.
— Нам всем следует помнить о благоразумии, — добавил он.
— Что ваше сиятельство разумеет под благоразумием? — осведомился капитан.
Граф посмотрел на дом, остававшийся темным и безмолвным, и пожал плечами:
— Хватит на сегодня.
Эти слова были достаточно красноречивы. Я с горечью понял, что для него, для графа Альваро де ла Марка, дом на улице Лос-Пелигрос или то, из-за чего произошла стычка, были делом третьестепенным. Они с Диего Алатристе обменялись ударами, и это накладывало на обоих известные обязательства. Раз уж дошло до такой крайности, то схватку можно отсрочить, но ни в коем случае нельзя предать забвению. Дружба — тем более старинная — дружбой, но Гуадальмедина — вельможа, Алатристе же — простой солдат, у которого, кроме шпаги, ничего нет: ему, как гласит поговорка, и мертвым-то упасть некуда. Будь на месте графа другой человек, равный ему по положению, и сумей он подавить вполне естественное желание просто-напросто подослать к капитану полдюжины убийц, после происшествий сегодняшней ночи тот немедленно отправился бы ворочать веслом на галеры или кормить клопов в каталажке. Слава богу, Гуадальмедина был не таков. Не исключено, что он, как и его недавний противник, придерживался старинного правила, что клинок без нужды не вынимают, а без славы не вкладывают, и однажды начатое дело следует продолжить в подходящем месте и в спокойной обстановке, где ни тому, ни другому не надо будет беспокоиться ни о ком, кроме самих себя.
А капитан смотрел на меня, и глаза его мерцали во тьме. Потом очень медленно, словно бы пребывая в задумчивости, спрятал в ножны шпагу и кинжал. Молча переглянулся с Гуадальмединой и положил мне руку на плечо.
— Никогда больше так не делай, — промолвил он хмуро.
Его железные пальцы с такой силой сжали мое Плечо, что мне стало больно. Он наклонился совсем близко, у самых моих глаз оказался орлиный нос над густыми усами, пахнуло таким привычным запахом кожи, вина, железа. Я попытался высвободиться, но он держал крепко.
— Никогда больше не ходи за мной, — повторил он. — Никогда.
И все нутро мое скрутило от стыда и раскаянья.
V Вино из Эскивиаса
Худо мне стало на следующий день, когда, присев в дверях таверны «У Турка», я наблюдал за капитаном Алатристе. А он расположился за столом, имея перед собой кувшин вина, блюдо со свиной колбасой и книгу — если память мне не изменяет, «Жизнь оруженосца Маркоса де Обрегона» — которую за все утро так и не открыл. Колет его был расстегнут, сорочка распахнута на груди. Он сидел, привалясь к стене спиной, уставив зеленоватые глаза — от солнца они казались еще светлее — в одну точку, находящуюся где-то на улице Толедо. Я старался держаться поодаль, ибо терзался сильнейшим стыдом за свое вчерашнее бессовестное вранье, на которое подвигло меня то удивительное существо, та дама, барышня, девчонка — называйте как хотите, — которая умудрялась кружить мне голову до такой степени, что я сам не сознавал, что делаю. Как раз тогда мы с преподобным Пересом, из уважения к Алатристе принявшим на себя заботу о моем образовании, переводили некое место у Гомера, где Одиссея обольщают своим пением сирены — вот в таком примерно состоянии духа я находился. Ну, стало быть, все утро я старательно избегал встречи с хозяином, благо Каридад беспрестанно гоняла меня туда-сюда с поручениями: то за свечами, то за кремневой галькой, то ей трут понадобился, а потом послала в аптеку Фадрике Кривого за миндальным маслом, по возвращении же велела доставить преподобному корзину со свежевыстиранным бельем. И вот теперь, освободясь и пребывая в праздности, я шатался без дела на углу улиц Толедо и Аркебузы, глазел на катившиеся мимо кареты, на скрипучие телеги, доставлявшие разные товары на Пласа-Майор, на вьючных мулов, на осликов, верно служивших водоносам и оставлявших горы навоза на скверно вымощенной улице, по которой текли струи грязной воды. Временами я поглядывал на капитана и всякий раз видел его в задумчивой неподвижности. Дважды, правда, поднимал он глаза на Каридад, в фартуке и с засученными рукавами сновавшую по своему заведению, и вновь, не произнося ни слова, углублялся в свои думы.
Я уже упоминал, кажется, что отношения ее с Диего Алатристе переживали не лучшие времена. На жалобы и упреки капитан ответствовал хмыканьем, а чаще молчанием, когда же добрая женщина чересчур, по его мнению, повышала голос, он брал шляпу, шпагу, плащ и шел прогуляться. Воротясь однажды с такой прогулки, он обнаружил сундучок со своими скудными пожитками у подножья лестницы. Алатристе некоторое время глядел на него, затем поднялся к хозяйке, притворил за собой дверь, и доносившиеся из-за нее сварливые вопли хоть и не скоро, но стихли. Вслед за тем он без колета появился на галерейке, тянувшейся над патио, и велел мне втащить сундучок обратно. Приказание я исполнил, и все вроде бы устаканилось — ночью через тонкую стенку было слышно, как Непруха заливается, будто сучка в течке, — но прошло еще дня два, и вновь глаза у нее стали красные и опухшие от слез, и дела пошли прежним порядком, который продолжался до той ночи, когда капитан столкнулся на улице Лос-Пелигрос с графом Альваро де ла Маркой. Признаюсь, мы с хозяином предполагали, что последуют громы и молнии, но и вообразить себе не могли, какие события грянут. В сравнении с тем, что нас ожидало, ссоры с Каридад Непрухой были детским лепетом, мелодичным и нежным.
Как раз в тот миг, когда капитан Алатристе протянул руку за кувшином, свет заслонила чья-то коренастая фигура — широкие плечи, обтянутые коротким плащом, и голова в шляпе.
— Здравствуй, Диего.
По своему обыкновению и несмотря на ранний час, лейтенант альгвасилов Мартин Салданья являл собой ходячую витрину лучших оружейников Толедо и Бискайи. По складу души и по должности он не доверял даже собственной тени, легшей сейчас на стол капитана, так что имел при себе пару пистолетов миланской работы, шпагу, кинжал и еще один кинжал. Дополняли эту коллекцию колет из грубой замши и торчавший из-за пояса жезл — знак его звания.
— Уделишь мне минутку для разговора?
Алатристе окинул его долгим взглядом и перевел глаза туда, где на полу у стены, обвитые ременным поясом, лежали его собственные шпага и кинжал.
— Как желаешь разговаривать — по-дружески или как блюститель закона?
— Не нарывайся, Диего.
Капитан рассматривал нависшее над столом бородатое лицо, покрытое шрамами, которые происхождение имели то же, что и его собственные. Борода эта, сколько ему помнилось, наполовину скрывала рубец на щеке, полученный лет двадцать назад, когда лезли на стены Остенде. На память о том дне и Алатристе носил на лбу, над левой бровью, отметину.
— Уделю, — ответил он.
Пройдя под аркадами улицы Толедо, они поднялись к Пласа-Майор, причем оба молчали как на допросе: один не спешил выкладывать припасенное, а другой не горел желанием поскорее узнать, в чем дело. Алатристе застегнул колет, надел шляпу с потрепанным и линялым красным пером, а свернутый плащ перекинул через руку. Шпага, висевшая на левом бедре, время от времени позванивала, ударяясь о рукоять бискайца.
— Дело довольно тонкое… — начал наконец Салданья.
— Это у тебя на лбу написано.
Значительно переглянувшись, оба двинулись дальше, огибая плясавших в тени галерей цыганок. Площадь, окруженная высокими зданиями, крытыми свинцовыми пластинами в форме ромбов — на крыше Панадерии они были вызолочены и ослепительно сияли на солнце, — бурлила: мелочные торговцы, разносчики, гуляющие, телеги и ящики с фруктами и овощами, зарешеченные — от воришек — ларьки с хлебом, бочки с вином, еще неразбавленным, если верить выкрикам продавцов, лавочники на пороге своих заведений и лотошники, бродящие под сводами. Над громоздящимися на мостовой горами гнилой зелени, соседствующей с кучами навоза, звенящим роем вились мухи, вплетая свое жужжание в неумолчные крики зазывал, расхваливающих свой товар. Яйца только из-под курочки, молоко утреннего надоя, дыни, сладкие как мед, фиги, тающие во рту, свежайшая зелень. Приятели приняли вправо, сторонясь торговцев, заполонивших все пространство до самой улицы Империаль.
— Даже не знаю, как сказать, Диего…
— Коротко и ясно.
Салданья со всегдашней неторопливостью снял шляпу и провел ладонью по лысому темени.
— Мне поручили предостеречь тебя.
— Кто?
— Это все равно. Важно другое: к предостережению этому стоит прислушаться, хотя бы потому, что оно исходит от человека, забравшегося очень высоко. Речь идет о твоей жизни или свободе.
— Ой, напугал.
— Хватит дурачиться. Я говорю серьезно.
— Ну а тебе-то что до всего этого?
Лейтенант надел шляпу, рассеянно ответил на приветствие нескольких стражников, болтавших на галерее, пожал плечами:
— Послушай меня, Диего. Есть у тебя — причем твоей заслуги в этом ни капли — друзья, без которых ты давно бы уж валялся с перерезанным горлом в канаве или парился в тюряге… Нынче с утра пораньше много было разговоров об этом. Кое-кто припомнил твои недавние подвиги в Кадисе или где ты там был… Уж не знаю, как ты отличился, и знать не хочу, однако клянусь тебе чем хочешь — если бы за тебя не заступились, сегодня я пришел бы не один, а с усиленным нарядом латников… Ты следишь за моей мыслью?
— А как же.
— Намерен и впредь встречаться с этой бабенкой?
— Не знаю.
— Ты, видно, задался целью вывести меня из терпения!
Некоторое время шли молча. Когда поравнялись с кондитерской Гаспара Санчеса, Салданья остановился и вытащил из кармана запечатанную сургучом записку:
— Ладно же. Читай!
Алатристе повертел записочку в руках, потом сломал печать, развернул лист и, узнав почерк, спросил приятеля не без яду:
— Давно ли ты, Мартин, в сводни подался?
Лейтенант сердито нахмурился:
— Прикуси язык! Читай!
И Алатристе прочел:
Я буду Вам очень признательна, если впредь Вы избавите меня от своих посещений. Примите и проч.
М. де К— Я полагаю, — промолвил Салданья, — что после событий прошлой ночи ты не очень удивлен.
Алатристе снова сложил записку:
— А что ты знаешь об этом?
— Да кое-что знаю. Вот, например, что решил попастись на королевском лужке. И что едва не прикончил своего друга.
— Быстро, однако, распространяются слухи.
— Такие — не ходят, а летают.
К ним приблизился сборщик пожертвований с колокольчиком, протянул было для целования образ Святого Власия, вознес хвалу Деве Марии, встряхнул кружкой, однако, наткнувшись на свирепый взгляд Салданьи, понял свой промах и поспешил удалиться.
— Думаю, это письмецо все разрешит, — задумчиво проговорил капитан.
Салданья, ковыряя в зубах, ответил с явным облегчением:
— Надеюсь. Если нет, ты — покойник.
— Для этого меня надо сначала убить.
— За этим дело не станет. Вспомни графа де Вильямедиану, которому выпустили кишки в четырех шагах отсюда… И многих других.
Произнося это, он рассеянно следил за несколькими дамами у двери кондитерской — в окружении дуэний и служанок с корзинками они лакомились фруктами в сиропе, сидя за винными бочками, заменявшими столы.
— В конце концов, — добавил он вдруг, — не забывай, что ты всего лишь отставной солдат. Птичка-невеличка.
Алатристе рассмеялся — сквозь зубы и невесело:
— Да, такой же, каким и ты был когда-то.
Салданья выдохнул откуда-то из самого нутра и повернулся к Алатристе:
— Ты сам сказал: «… был когда-то». Мне повезло. И потом, я чужих кобыл не объезжаю… — и, слегка смутясь, отвел глаза.
Дело было в том, что у него-то как раз все обстояло совсем наоборот: злые языки утверждали, будто свой жезл альгвазила он получил благодаря жене, водившей нежную дружбу с важными людьми. Одного, по крайней мере, шутника, распространявшегося на сей счет, Салданья убил.
— Давай сюда письмо.
Алатристе, уже собиравшийся убрать записку, удивился:
— Оно мое.
— Уже нет. Велено было забрать, как прочтешь. Я думаю, хотели, чтобы ты собственными глазами убедился — ее почерк, ее подпись.
— И что же ты будешь с ней делать?
— Сожгу.
И потянул листок к себе. Капитан разжал пальцы. Салданья огляделся, заметил образ Пречистой Девы, повешенный набожным аптекарем в окне рядом с чучелом летучей мыши и высушенной ящерицей. Он подошел и, поднеся записку к огоньку лампадки, поджег.
— Она знает только то, что ей нужно знать, и муж ее тоже, — сказал лейтенант, возвращаясь к Алатристе с тлеющим листком в руке. — Полагаю, написано было под диктовку.
Оба молча смотрели, как догорает бумага. Потом Салданья растер пепел сапогом.
— Король у нас — еще молоденький, — сказал он, как бы объясняя этой фразой очень многое.
Алатристе пристально уставился на него и ответил не сразу:
— Молоденький, но — король.
Салданья снова нахмурился, взялся за рукоять пистолета, поскреб седоватую бороду.
— Знаешь, что я тебе скажу, Диего?.. Порой я очень тоскую по тем временам, когда дерьмо, в котором вязли мы, было фламандского происхождения.
Дворец графа де Гуадальмедины высился на углу улиц Баркильо и Алькала, неподалеку от монастыря Святого Герменегильда. Двери были открыты, так что Алатристе беспрепятственно прошел в обширный вестибюль, где его встретил привратник в ливрее — капитан давно знал этого старого слугу.
— Я хотел бы видеть господина графа.
— Вашей милости назначено? — с чрезвычайной учтивостью спросил слуга.
— Нет.
— Сейчас справлюсь, сможет ли его сиятельство принять вашу милость.
Слуга удалился, а капитан принялся расхаживать взад-вперед у забранного решеткой окна, выходящего в ухоженный и пышный сад: деревья фруктовые и декоративные, цветочные клумбы, увитые плющом мраморные купидончики и античные статуи. Тем временем Алатристе по мере сил постарался привести себя в порядок — поправить чистый и свежий воротник, тщательнее застегнуть крючки колета. Он понятия не имел, какой прием окажет ему Гуадальмедина, но надеялся, что извинения его будут приняты. Графу ли не знать, что Алатристе — человек осмотрительный и без крайней нужды шпагу не обнажает, а если прошлой ночью действовал иначе, то, значит, имел на то причины. Но и сам капитан, обдумывая свое вчерашнее поведение, не вполне был уверен, что правильно обошелся с графом, который, как ни крути, исполнял свой долг, причем — так же неукоснительно и ревностно, как это делал когда-то сам Алатристе на поле брани. Король есть король, думал он, хоть король королю и рознь. И каждый верноподданный сам решает, по совести или льстясь на интересы, чем и как служить ему. Если Гуадальмедина озолотился монаршими милостями, то и он, Диего Алатристе-и-Тенорио, получал свое — пусть не в срок, не сполна и в совершенно недостаточном количестве — за службу в солдатах этого самого короля, его отца и деда. Так или иначе, граф, несмотря на свое знатное происхождение и высокое положение, на голубую кровь и дарования придворного, остается человеком дальновидным и верным. Да, вчера они обменялись ударами, но не капитан ли спас ему жизнь в погибельном деле при Керкенесе, и не к нему ли обратился сразу после происшествия с англичанами? А когда заварилась каша с инквизицией, разве Гуадальмедина не доказал доброе свое отношение к Алатристе, подтвердив его впоследствии в истории с золотом короля? А кто через дона Франсиско предупредил, что Мария де Кастро стала новой прихотью Четвертого Филиппа? Все это — суть узы, которые, как надеялся капитан, расхаживая взад-вперед в ожидании, сумеют спасти их привязанность друг к другу. Хотя отнюдь не исключается, что в графе взыграют гонор и оскорбленное самолюбие. Дело еще сильнее осложняется тем, что задета, помимо аристократической спеси, и рука пониже локтя. Короче говоря, Алатристе был готов принять все, что заблагорассудится Гуадальмедине, — даже получить от него несколько дюймов стали там и тогда, где и когда угодно будет графу.
— Его сиятельство не желают видеть вашу милость.
У Диего Алатристе пресеклось дыханье — он застыл, взявшись за рукоять шпаги. Слуга указывал на Дверь.
— Ты ничего не перепутал?
Привратник пренебрежительно мотнул головой. Прежнюю обходительность будто смыло.
— Велели вашей милости проваливать по добру по здорову.
Сколь ни гордился капитан своей выдержкой, он не совладал с горячей волной, стремительно прихлынувшей к лицу от такого беспримерного унижения. Еще мгновение он глядел на слугу, будто стараясь определить степень его тайного злорадства, потом глубоко вздохнул, одолел искушение оттрепать его ножнами шпаги, нахлобучил шляпу, повернулся на каблуках и вышел на улицу.
Как слепой — потому что красноватый туман бешенства застилал глаза, — он шел вверх по улице Алькала, и древние стены оглашались приглушенной бранью, где имя Христово поминалось всуе и в окружении неподобающих слов. Он шел шагом размашистым и скорым, не разбирая дороги, едва не налетая на прохожих, однако негодующие возгласы тех, кого капитан едва не сбивал с ног — один даже схватился за шпагу — замирали на устах при взгляде на его лицо. Таким манером он добрался до улицы Карретас и остановился перед таверной, на двери которой мелом было выведено: «Вино из Эскивиаса».
В тот же вечер он убил человека — едва ли не первого, кто подвернулся под руку. В таверне, переполненной завсегдатаями — такими же пьяными, как и сам Алатристе, — вдруг стало очень тихо. Капитан бросил на залитый вином стол несколько монет и, пошатываясь, вышел наружу. А следом двинулся этот задиристый малый, гулявший в кабаке с двумя приятелями себе под стать: это он начал нарываться на ссору первым наполовину вытащил из ножен шпагу, многословно и грубо придравшись к тому, что Алатристе якобы смотрит на него слишком пристально, а еще ни одной каналье ни в Испании, ни в Новом Свете подобная наглость не сходила с рук. Выйдя на улицу, капитан, прижимаясь правым плечом к стенам домов, двинулся к улице Махадерикос, в темноту и подальше от нескромных глаз, а когда услышал вдогонку за собой шаги, выхватил шпагу, резко обернулся и нанес удар. Он не стал в позицию, не отсалютовал противнику, и тот, пропоротый насквозь, осел наземь, не успев даже вскрикнуть. Дружки его кинулись бежать. «Убийство, — кричали они, — держи убийцу!» Алатристе — он все еще держал в руке шпагу — вывернуло наизнанку рядом с трупом. Потом он вытер о плащ убитого клинок, вложил его в ножны и, прячась во тьме, побрел на улицу Толедо.
Три дня спустя мы с доном Франсиско пересекли Сеговийский мост, направляясь в Каса-де-Кампо, где их величества отдыхали, поскольку погода благоприятствовала: король охотился, королева же делила свой досуг между чтением, прогулками и музицированием. Карета перевезла нас на левый берег, и, оставив позади скит Анхеля и начало дороги на Сан-Исидро, покатила к садам, окружавшим летнюю резиденцию испанского монарха. С одной стороны тянулись густые сосновые рощи, с другой, отделенный от нас Мансанаресом, виднелся во всем своем великолепии Мадрид: бесчисленные колокольни соборов и монастырей, стена, возведенная на месте старинных арабских укреплений, и над всем этим внушительная громада королевского дворца — Алькасара — с его Башней Золота, вздымающейся, подобно корме галеона, над нешироким ложем реки с зелеными берегами в белых пятнышках — это прачки сушили белье, развесив его по кустам. Я так искренне восторгался этим прекрасным зрелищем, что дон Франсиско понимающе улыбнулся:
— Пуп земли, средоточие вселенной. Надолго ли — не знаю.
В ту пору мне не под силу было оценить его мудрую проницательность. Юнцу моих лет, завороженному открывшейся картиной, невозможно было и вообразить, что могущественная бескрайняя империя, после получения обширного португальского наследства теперь включавшая в себя и Западные Индии, и Бразилию, и Фландрию с Италией, и владения в Африке, и Филиппинские острова, и земли в отдаленных Восточных Индиях, начнет крошиться на куски и сжиматься в размерах, как только людей из железа сменят люди из глины, неспособные своим честолюбием, дарованиями и шпагами поддерживать столь крупное предприятие. Да, во времена моего отрочества, из коего я уже выходил, Испания, выкованная славой и зверством, светом и тьмой, еще сохраняла прежнее величие.
И в то утро мы с доном Франсиско де Кеведо, выйдя из кареты, оказались в непосредственной близости от красноватого здания, выстроенного в итальянском вкусе с портиками и лоджиями, перед которым гарцевал на бронзовом скакуне Филипп Третий, отец нынешнего нашего короля. Там-то, за спиной у него, в прелестной тополевой рощице, окружавшей великолепный трехъярусный фонтан, и приняла дона Франсиско наша государыня, сидевшая под навесом в окружении своих придворных дам и доверенной челяди, включая, конечно, и шута Гастончика. Изабелла де Бурбон выказала поэту милостивое благоволение, пригласив его вместе помолиться: был как раз полдень, час «ангелюса», и над всем Мадридом плыл перезвон колоколов, — я же с непокрытой головой стоял поодаль. Затем ее величество усадила Кеведо подле себя, и они продолжительное время беседовали о том, как подвигается работа над пьесой «Шпага и кинжал», несколько стихов из коей дон Франсиско прочел наизусть, сообщив, что они родились сегодня ночью, хотя это, по моим сведениям, не соответствовало действительности, ибо таких строк у него имелся изрядный запас. Немного тревожило дочь Генриха Наваррского лишь то обстоятельство, что комедия должна была идти в Эскориале, чья угрюмо-величественная атмосфера скверно действовала на веселый нрав француженки: она всячески избегала появляться в этом мрачном и темном замке, выстроенном некогда Филиппом Вторым, дедом ее супруга. Но по иронии судьбы, через восемнадцать лет после описываемых мною событий, нашей королеве пришлось упокоиться — полагаю, против собственной воли — в одной из усыпальниц этого самого Эскориала.
Анхелику де Алькесар я в свите королевы не заметил. И покуда Кеведо со свойственным ему остроумием развлекал фрейлин, я прогулялся по саду, восторгаясь нарядными мундирами бургундских гвардейцев, назначенных в тот день нести караул. Потом, довольный больше, чем король — новой податью, подошел к балюстраде, откуда открывался чудесный вид на виноградники и старый Гвадаррамский тракт, полюбовался садами Буитреры и Флориды, в это время года особенно пышными и зелеными. Воздух был чист и свеж, а из леса, начинавшегося недалеко от дворца, доносился отдаленный собачий лай, перемежаемый ружейными выстрелами: это наш обожаемый государь — все придворные поэты, включая Лопе и Кеведо, угощали нас его пресловутой меткостью так часто, что она в зубах навязла — оповещал, скольких кроликов выгнали на него егеря, скольких куропаток, перепелов и фазанов спугнули. Если бы Четвертый Филипп за свою бессмысленно долгую жизнь ухлопал столько же еретиков, басурман и французов, сколько перебил безобидной дичи — о, клянусь честью, не тем бы сейчас пахло в Европе!
— Ага, вот и он! Тот, кто оказался способен бросить даму в глухую полночь одну посреди улицы и удалиться со своими дружками.
Я обернулся — и разом потерял присутствие духа вместе с самой возможностью дышать. Перед мной стояла Анхелика де Алькесар. Не стану повторяться и говорить, как хороша она была. Свет мадридского неба делал ее глаза, насмешливо устремленные на меня, еще синее. Я вам так скажу — они были смертоносно прекрасны.
— Вот бы не подумала, что идальго может так себя вести.
Локоны вдоль щек, просторная юбка из красного муара, короткий лиф с изящным льняным воротником, поблескивающие на груди золотая цепочка и изумрудное распятие. Лицо, обычно матово-бледное, чуть порозовело. Она выглядит сейчас старше, мелькнуло у меня в голове. Почти взрослая женщина.
— Мне очень совестно, что пришлось оставить тебя тогда одну… — начал я. — Но пойми…
Она отмахнулась, как бы говоря: когда это было! Некоторое время рассматривала пейзаж. Потом покосилась на меня:
— Все кончилось хорошо?
Спрошено было легко и будто мимоходом, как о чем-то незначащем.
— Более или менее.
Послышался журчащий смех фрейлин, окружавших королеву и Кеведо. Дон Франсиско наверняка сказал что-нибудь удачное и стяжал заслуженные лавры.
— Этот твой капитан… как его?.. Бахвалатристе… Нахалатристе?.. малоприятный субъект, да? Ты из-за него вечно влипаешь в неприятности, так ведь? Держался бы подальше.
Уязвленный, я выпрямился. Как посмела она произнести эти слова?
— Он — мой друг.
Облокотись о балюстраду, она негромко засмеялась. От нее веяло ароматом меда и роз. Приятный запах, ничего не скажешь, но я предпочел бы другой, как в ту ночь, когда мы целовались. При этом воспоминании мурашки побежали у меня по коже. Запах свежего хлеба.
— Ты бросил меня на улице, — сказала Анхелика.
— Бросил… Чем мне искупить свою вину?
— Сопровождать меня, когда будет нужно.
— Ночью?
— Да.
— И ты снова будешь в мужском платье?
Она взглянула на меня как на слабоумного:
— Не в этом же виде разгуливать мне по ночному Мадриду?
— О проводах и провожатых можешь забыть… — вырвалось у меня.
— Как ты груб! Не забудь — ты у меня в долгу.
Она вновь окинула меня пристальным — да не пристальным, а просто стальным, режущим не хуже клинка, пробирающим до печенок — взглядом. Что ж, мне стесняться было нечего — хорошо промытые волосы, опрятные черные штаны и колет, кинжал сзади на поясе. Быть может, это и дало мне сил выдержать ее взгляд.
— Бессердечный, — повторила она, надувшись как ребенок, которого несправедливо лишили лакомства. — Я вижу, тебе милее общество этого… как его?.. капитана Нахалатристе.
— Я ведь уже сказал: это — мой друг.
Она презрительно скривила губы:
— Ну еще бы! Старая песня — Фландрия, боевое братство, шпаги, пьянки, гулящие девицы… Какие вы, мужчины, скоты!
В этом предосудительном перечне я расслышал какую-то странную ноту — Анхелика словно бы сетовала, что в ее жизни нет ничего подобного.
— И позволь тебе сказать, — добавила она, — что с таким другом и врага не надо.
Я воззрился на нее в изумлении:
— А ты — кто?
Она прикусила губу, будто и впрямь размышляла над ответом. Потом чуть склонила голову, не спуская с меня глаз:
— Я тебя люблю.
От нее не укрылось, что при этих словах я затрепетал. Анхелика улыбнулась, как наверное, улыбался Люцифер до того, как был свержен с небес.
— И если ты — не подлец, не дурак и не позер, этого должно быть достаточно.
— Не знаю, кто я, но вот ты легко доведешь меня до костра или до гарроты.
Анхелика засмеялась, с деланной скромностью сложив руки на поясе своей широкой юбки, с которого свисал перламутровый веер. Я глянул на ее губы, вырезанные так изящно и четко, и подумал: «К Дьяволу все!» Свежий хлеб, розы и мед. Оголенная шея. Я впился бы в эти уста, но вокруг, к сожалению, были люди.
— Не думай, пожалуйста, — сказала она, — что это сойдет тебе с рук. Прежде чем события приняли угрожающий оборот, случилось происшествие, которое хоть сейчас вставляй в комедию Лопе. Дело началось в трактире Леона: капитан Алонсо де Контрерас, по обыкновению словоохотливый, милый, хотя и малость фанфаронистый, сидел развалясь напротив винной бочки, на которую сложили мы свои плащи, шпаги и шляпы. В число сотрапезников входили дон Франсиско де Кеведо, Лопито де Вега, мой хозяин и я, подавали нам в тот день капиротаду[119] и мясной салат-сальпикон. Угощал Контрерас — по случаю получения наконец некоего пособия или пенсиона, который казна задолжала ему с давних пор или, как выразился сам Контрерас, «со времен взятия Трои». Беседа постепенно коснулась поистине неодолимых препон, чинимых мясником счастью своей племянницы и Лопито: узнав, что сын нашего Феникса состоит в дружбе с капитаном Алатристе, Москатель вконец озверел. Юный вояка поведал нам, что видится со своей избранницей урывками, когда она в сопровождении дуэньи отправляется за покупками или слушает дневную мессу в церкви Лас-Маравильяс, где он имеет возможность смотреть на нее издали, склонив колени на своем разостланном плаще, и лишь изредка ему удается приблизиться к Лауре и — это уж подлинно милость небесная! — предложить ей в собственной пригоршне святой воды, дабы девица осенила себя крестным знамением. Хуже всего, что Москатель, которому втемяшилось в башку выдать племянницу за гнусного прокурора Сатурнино Аполо, предложил ей на выбор: либо с ним под венец, либо в монастырь. Шансы заполучить Лауру — такие же примерно, как найти себе невесту в константинопольском серале. Вдобавок времена тревожные: не еретики нагрянут, так турки наскочат, а если Лопито придется вернуться в свой полк для исполнения священного долга королю, чего следует ожидать со дня на день, Лаура будет потеряна навсегда. И, как рассказал нам под конец бедный юноша, он проклял батюшкины комедии: там почему-то всегда находится множество хитроумных выходов из любого затруднительного положения, а вот в жизни — ни-ни, ни один не годится.
Это замечание подвигло капитана Контрераса высказать смелую идею:
— Да чего ж проще? — заявил он, громыхнув под столом сапогами. — Похитить и обвенчаться! Нечего нюни разводить! Вы солдат или кто?
— Легко сказать «похитить», — грустно ответствовал Лопито. — Москатель по-прежнему платит нескольким головорезам, чтобы они охраняли дом.
— Несколько — это сколько?
— Когда я в последний раз попытался дать ей серенаду, ко мне вышли четверо.
— И что же — толковые ребята? Дело свое знают?
— Я предпочел не проверять.
Контрерас молодецки закрутил ус и обвел всех присутствующих взглядом, задержавшись на Алатристе и доне Франсиско:
— Чем враг сильней, тем больше наша слава! Какого вы мнения на сей счет, сеньор де Кеведо?
Поэт поправил очки и нахмурил чело, ибо его положение при дворе не позволяло принимать участие в вооруженном налете и похищении, но как было признаться в этом в присутствии Контрераса, Диего Алатристе и сына Лопе?
— Боюсь, — ответил он, смиряясь с неизбежностью, — что придется подраться.
— Каким сонетом на эту тему вы нас порадуете!
— Как бы не порадовали меня — очередной ссылкой.
Что же касается капитана Алатристе, сидевшего, локти на стол, перед кувшином вина, то взгляд, коим он обменялся с Контрерасом, был вполне красноречив: у таких людей, как мой хозяин, кое-что определяется, так сказать, особенностями их ремесла.
— А юноша что скажет? — осведомился Контрерас.
Я почти обиделся и, считая себя человеком в высшей степени ушлым и дошлым, на манер Алатристе провел двумя пальцами по еще не существующим в ту пору усам:
— Юноша не скажет ничего, а будет драться!
Эта звонкая фраза снискала мне одобрительные улыбки мужей, препоясавших чресла, и внимательный взгляд капитана.
— Отец узнает — убьет, — застонал Лопито. Контрерас громоподобно расхохотался:
— Ваш достопочтенный отец знает толк в похищениях! Наш Феникс всегда был не промах по части интрижек!
Последовало неловкое молчание, и каждый поспешил сунуть нос или ус в свой кубок. Смутился и сам Контрерас, до которого только теперь дошло, что Лопито, хоть наш гений сразу признал его своим сыном — плод незаконной любви, итог одной из таких ют интрижек. Сам он, впрочем, и не подумал обидеться, ибо лучше, нежели кто-нибудь другой, был осведомлен об особенностях своего престарелого родителя. Несколько раз прихлебнув вина и дипломатически прокашлявшись, Контрерас заговорил вновь:
— Хуже нет, чем рассусоливать! Мы люди военные, а? Разве не так? А военные — значит отважные, прямые, вокруг да около не ходим, вола не вертим! Вот, помню, однажды на Кипре…
И он завел довольно долгий рассказ о бранной славе. По завершении его сделал еще глоток, вздохнул, объятый сладкой тоской воспоминаний, и обратил взор на Лопито:
— Так-то вот, мой мальчик… А теперь скажи-ка мне — ты и вправду намерен сочетаться с этой барышней узами законного брака, быть с ней в горе и радости, пока смерть не разлучит и так далее?
Тот выдержал его взгляд:
— Я буду верен ей до гроба и даже после!
— Так много от тебя не требуется… Дай бог, чтоб дотянул земной срок — это и так нелегко. Стало быть, ты ручаешься мне и этим господам своим честным словом?
— Клянусь жизнью!
— Тогда больше и толковать не о чем! — Контрерас удовлетворенно хлопнул ладонью по столу. — Осталось только найти, кто окрутит и вокруг алтаря проведет. Есть у тебя такой?
— Моя тетушка Антония — настоятельница обители Святого Иеронима. Она с удовольствием примет нас. А монастырский капеллан падре Франсиско — духовник Лауры и добрый знакомый сеньора Москателя.
— Если прикормить — станет ручным? Обвенчает вас?
— Вне всякого сомнения.
— Ну, а что Лаура? Готова она к такому камуфлету?
За неимением иных доказательств пришлось довольствоваться утвердительным ответом Лопито. Мы выпили за благоприятный исход нашего предприятия, после чего дон Франсиско де Кеведо по своему обыкновению скрепил тост стихами, удивительно подходящими к случаю, хоть на этот раз принадлежали они перу Лопе де Веги:
И самая трусливая девица В тот миг, когда ей полюбить случится, Лишь в этот миг, а раньше — ни-ни-ни! Своей готова честью поступиться, А также честью всей своей родни.Выпили и по этому поводу тоже, а потом — еще, еще и еще, пока, наконец, после восьмого или десятого тоста капитан Контрерас, слегка осоловев от выпитого, но еще сильней укрепясь в своем намерении, призвал всех придвинуться поближе и, используя стол как рельефную карту местности, а бутылками с бокалами изображая участников операции, вполголоса изложил диспозицию в подробностях немыслимых, но продуманных столь тщательно, словно не дом на улице Мадера предстояло нам брать, а овладевать, по крайней мере, столицей Алжира городом Оран.
Дома с двумя выходами — а именно в таком проживал дон Гонсало Москатель — ненадежны. Истина сия подтвердилась двое суток спустя, когда мы, участники заговора — капитан Контрерас, дон Франсиско де Кеведо, Диего Алатристе и ваш покорный слуга — закутавшись до самых глаз в плащи, собрались невдалеке от парадного крыльца и, прячась в тени соседнего портика, наблюдали за тем, как музыканты при свете фонаря, который держал один из них, занимают свои места под окнами искомого дома, расположенного на углу улиц Мадера и Луна. Наш план был дерзок и по-военному прост: серенада, переполох, более чем вероятная драка и отход к задним дверям. Помимо тактических хитростей, не были оставлены в небрежении и приличия. Поскольку Лаура Москатель не могла ни выбрать себе мужа, ни самовольно покинуть дом, похищение, а вслед за ним — немедленное венчание, были единственным способом переупрямить несговорчивого мясника. К назначенному часу предупрежденные Лопито настоятельница и капеллан, чью буколическую щепетильность удалось поколебать с помощью известной суммы в четверных дублонах, будут ожидать в монастырской часовне, куда и надлежит доставить невесту для проведения надлежащего таинства.
— Славное будет дело, небом клянусь! — придушенно бормотал капитан Контрерас.
Он, без сомнения, вспоминал свою грозовую молодость, когда подобными делами занимался часто. Капитан стоял, прислонясь к стене, между Алатристе и Кеведо, закутанными в плащи так, что виднелись одни глаза. Я вел наблюдение за улицей. Чтобы хоть немного успокоить дона Франсиско и соблюсти приличия, все решено было представить так, будто мы вчетвером, проходя по улице, случайно оказались на месте происшествия. Даже бедные музыканты, нанятые Лопито де Вегой, не подозревали, что должно случиться. Им заплатили и сказали, что надо, мол, в одиннадцать вечера дать серенаду под окном некой дамы — притом вдовы. Музыкантов было трое — гитара, лютня, бубен — а самому юному из них перевалило за пятьдесят. Тут как раз они забряцали струнами, а тот, который держал бубен, завел без предупреждения знаменитое:
В Италии тебя я повстречал, Во Фландрии я до смерти влюбился, В Испанию влюбленным устремился, В Мадриде наконец в любви открылся…Стихи, как сами можете судить, были более чем так себе, однако распевались в Мадриде на всех углах. Впрочем, осталось неизвестным, как там дальше развивались события в этой балладе, потому что по завершении первого куплета в окнах показался свет, послышалась замысловатая брань дона Гонсало Москателя, а потом в дверном проеме возник и он сам: в руке шпага, а на устах — клятвенное обещание сейчас же зарезать как каплунов, и музыкантов, и тех, кто их нанял, ибо не ко времени затеяли они услаждать слух почтенных граждан. Мясника сопровождал — надо полагать, серенада прервала дружеский ужин — прокурор Сатурнино Аполо, вооруженный длинной шпагой, а щит заменивший крышкой от большого глиняного кувшина. Одновременно с ними еще четверо со зверскими, насколько можно было разглядеть в полутьме, рожами выскочили из ворот и набросились на музыкантов, так что те — не пито, ни едено — оказались под градом оплеух и зуботычин.
— Наш черед, — молвил капитан Контрерас, предвкушая удовольствие.
И мы вышли из-под портика, делая вид, что сию минуту вывернулись из-за угла и увидели перед собой побоище, причем дон Франсиско философически бормотал себе под нос:
Молись, юнец: «Кривая, вывези Навстречу счастью моему», Девчонку удержать на привязи Не удавалось никому.Несчастные музыканты были уже притиснуты к стене наемными молодцами, инструменты их разбиты в щепки, а дон Гонсало, схватив с земли фонарь и высоко подняв его над головой, подступил к бедолагам со шпагой в другой руке и грозно вопрошал, кто, как, где, когда и сколько заплатил им за то, чтобы принесла их нелегкая не в добрый час? В этот самый миг, нахлобучив шляпы на брови, а лица прикрывая плащами, мы выдвинулись к месту происшествия, и капитан Контрерас громовым голосом осведомился о причине такого столпотворения и выразил пожелание, чтобы всякая шваль и мразь, загородившая улицу, так что нет возможности пройти, немедленно убралась к чертовой бабульке. Не знаю насчет бабушки, но не иначе как сам внучек ее в тот вечер дернул Москателя, в свете фонаря оглядывавшего волчьи морды своих головорезов, свиное прокурорское рыло и перекошенные ужасом физиономии музыкантов, оказать сопротивление. А потому он, явно не узнавая никого из нас, в крайне неучтивой манере посоветовал дону Алонсо де Контрерасу не лезть не в свое дело, а идти своей дорогой или, если угодно, — в задницу, ибо в противном случае он, беря в свидетели всех святых, сколько ни есть их в календаре, отрежет ему уши. Вы сами понимаете, господа, что подобное нелицеприятное высказывание как нельзя лучше отвечало нашим намерениям. Капитан Контрерас расхохотался в лицо Москателю и с полнейшим спокойствием отвечал, что, хотя он не ведает причины потасовки, но решительно не согласен, чтобы над ним производили вышеуказанное действие, и со своей стороны рекомендует своему собеседнику, если уж так неймется, отрезать уши потаскухе, произведшей его на свет. Произнеся эту диатрибу и не переставая хохотать, он сверкнул шпагой, умудрившись при этом не открыть лица. В тот же миг Алатристе, вытянувший свой клинок из ножен, нанес один удар малому, стоявшему ближе прочих, а другой — почти тем же движением, успев, однако, повернуть шпагу плашмя — Москателю, который выронил фонарь и отпрянул, как если бы его укусил тарантул. Оказавшийся на земле фонарь потух, во тьме мелькнули тени порскнувших, как зайцы, музыкантов, показалось жало кинжала, и началась форменная Троя.
Бог свидетель, все шло как по писаному. По замыслу устроителей следовало изловчиться и, дабы не омрачать бракосочетание, никого не убить, но задержать Москателя и его присных на срок, достаточный для того, чтобы в сумятице и с помощью дуэньи, оценившей свое благоволение не дороже, чем капеллан — свое расположение, Лопито де Бега успел проникнуть в дом через заднюю дверь, вывести Лауру, усадить ее в ожидавший невдалеке экипаж и доставить в часовню при обители иеронимиток. И у черного хода все шло именно так, а у парадного крыльца в кромешной тьме кипела меж тем схватка. Москатель и его головорезы по причинам очевидным щадить противников не собирались и орудовали шпагами всерьез — прокурор со своим щитом держался несколько позади, одушевляя соратников, — но такие мастера фехтования, как капитан Контрерас, дон Франсиско и Диего Алатристе, ухитрялись искусно парировать их выпады, отвечая лишь ударами плашмя. Да и я не подкачал. Мне достался один из молодцов Москателя — его тяжелое и неровное дыхание слышалось в звоне и лязге стали. Мы дрались почти вслепую и нос к носу, что отнюдь не располагало к фехтовальным изыскам, так что я, вспомнив один из уроков, преподанных мне капитаном Алатристе в пору нашего возвращения из Фландрии на борту «Хесуса Насарено», сделал вид, что отступаю, переложился, обманул его ложным финтом, заскочил ему за спину и молниеносно полоснул клинком — судя по звуку, я рассек противнику подколенные сухожилия. Припадая на раненую ногу и оглашая местность чудовищной бранью, он поспешил убраться прочь, я же, крайне довольный собой, оглянулся в пылу боевого задора по сторонам, ища, кому бы пособить, ибо драться вчетвером против шести — дело нелегкое. Чтобы не задеть в свалке своего, мы договорились произносить вполголоса слова «херес, херес», избрав этот сорт вина в качестве пароля и отзыва. Однако военное счастье перешло на нашу сторону, прокурор, получив укол в ляжку, покинул боевые порядки, а дон Франсиско, который закрывал лицо полой плаща, чтоб не узнали, вывел из строя того, с кем дрался.
— Херес, — молвил поэт, отходя в сторонку, и слово это в его устах означало теперь что-то вроде: «Ну, довольно на сегодня, хорошенького понемножку».
Что же касается Контрераса, то ему достался достойный противник, так что некоторое время дрались они на равных, все дальше спускаясь вниз по улице, пока наконец капитан не обратил его в бегство. Один из приспешников Москателя валялся на мостовой — как потом узналось, он вытянул самый скверный жребий: выпад, сделанный Алатристе в первое мгновение боя, оказался роковым, и бедолага трое суток спустя причастился святых тайн, а через неделю преставился. Покончив с ним и ранив Москателя в руку, мой хозяин, по-прежнему прикрывая лицо, теснил его, нанося удары плашмя, а мясник, чью воинственность как рукой сняло, пятился к дверям и во всю мочь звал на помощь, крича: «Караул! Убивают! » Под конец он свалился наземь, и Алатристе довольно долго охаживал его по ребрам, и за этим занятием застал его вернувшийся капитан Контрерас.
— Херес, херес, — поспешил сказать он, когда мой хозяин, обернувшись на звук его шагов, выставил шпагу.
Распростертый на земле Москатель громко стонал, в окнах соседних домов замелькали свечи, стали высовываться головы разбуженных суматохой обывателей. Кто-то уже требовал позвать стражу.
— А не пора ли нам уматывать, пока не сцапали? — мрачно осведомился дон Франсиско.
Дельное предложение было принято, и мы поспешили прочь, довольные содеянным не меньше, чем если бы получили патент на командование полком. Капитан Контрерас, промолвив: «Молодцом, сынок», дал мне дружеского тумака. Капитан Алатристе, в последний раз пнув поверженного Москателя, спрятал шпагу в ножны. И мы двинулись по улице под ликующий хохот Контрераса, пока не остановились на привал в таверне на Немецкой улице.
— Клянусь бородой Магомета, — воскликнул дон Алонсо. — Я так не веселился со дня взятия Негропонте, когда велел повесить десяток англичан.
Лопито де Вега и Лаура Москатель обвенчались четыре недели спустя в монастыре Святого Иеронима, однако дядюшка на таинстве не присутствовал: он разгуливал по Мадриду — рука в лубках, четырнадцать швов на физиономии, — всем рассказывая, что подвергся нападению бандитов из шайки какого-то Хереса. Не было в церкви и нашего Феникса. Свадьбу сыграли скромную, посаженными отцами и свидетелями были дон Франсиско, капитан Контрерас, мой хозяин и я. Лопито в ожидании производства в чин поселился с молодой женой в недорогих меблированных комнатах на площади Антона Мартина. Счастье их длилось три месяца. Потом нагрянувшая на Мадрид страшнейшая жара отравила воздух, заразила воду, и Лауру, постигнутую гнилой горячкой, невежественные лекари уморили очистительными и кровопусканиями. Безутешный вдовец с разбитым сердцем вернулся в Италию. Таков был печальный финал сей увлекательной истории, а вывод, сделанный мною, сводится к следующему: время уносит все, вечное счастье же существует лишь в воображении поэтов да на театральных подмостках.
VI Король умер — да здравствует король!
Анхелика де Алькесар вновь назначила мне свидание у Приорских ворот. «Мне опять нужен провожатый». Сказать, что я согласился на это без внутреннего сопротивления, будет неправдой, но и ни единой секунды я не сомневался в том, что пойду. Анхелика отравила мне кровь не хуже перемежающейся лихорадки. Когда она оказывалась рядом, когда я целовал ее губы, прикасался к ее коже, читал в ее глазах обещания большего, рассудок мой затуманивался. Однако и в чаду влюбленности умудряясь сохранять крохи благоразумия, я принял кое-какие меры предосторожности, так что когда из скрипнувшей дверцы выскользнула проворная тень, я был, что называется, во всеоружии — старый капитанов колет из толстой сыромятной кожи, подогнанный мне по размеру шорником с улицы Толедо, шпага — на левом бедре, на поясе сзади — кинжал, На плечах — бурый плащ, на голове — черная, с узкими полями и высокой тульей шляпа без ленты и пера. Кроме того, при сборах на эту встречу изведено было немало воды и мыла, а также в очередной раз сбрит пушок на щеках и под носом, что с недавних пор проделывалось регулярно, ибо, имея перед глазами недосягаемый образец в виде Алатристе, я уповал, что от такого обращения и мои умопостигаемые усы когда-нибудь обретут впечатляющую густоту и пышность. Признаюсь, забегая вперед, что так никогда этого и не добился, ибо природа одарила меня скудной растительностью на лице. Перед выходом я погляделся в Непрухино зеркало и увиденным остался доволен, а по дороге, проходя мимо каждого фонаря или плошки, любовался своей тенью на мостовой. Черт возьми, сейчас самому смешно. Но, господа, будьте снисходительны к самообольщениям младости.
— Куда на этот раз? — спросил я.
— Хочу тебя кое-чему научить, — отвечала Анхелика. — Пополнить твое образование.
Не следует думать, что слова эти хоть сколько-нибудь меня успокоили. Такому тертому юноше, как я, было известно, что полезные знания приобретаются ценой одного-двух ребер, а то и кровопусканьицем, не цирюльником произведенным. Вот я и приготовился к худшему. Решил, так сказать, смиренно принять свой удел. Ну, не то чтобы уж совсем смиренно — ужас мешался в моей душе с нежностью. Говорю же, я был очень молод и очень влюблен.
— Вижу, тебе по вкусу пришлось мужское платье, — сказал я.
Ибо наружность Анхелики и ошеломляла, и завораживала меня. Как я уже говорил, по традиции, берущей начало в итальянской комедии и в творениях Ариосто, женщина, переодетая мужчиной во имя славы или для преодоления любовных неурядиц, нередко появлялась на театральных подмостках, но в обычной жизни ее почти невозможно было встретить — я, по крайней мере, не то что не видал, а даже и не слыхал о таких. И после моего замечания она скорее в духе Марфизы, нежели Брадаманты[120], — о, как скоро, на свое несчастье, я узнаю, до какой крайности может довести ее не столько любовь, сколько ненависть, — Анхелика тихо, словно бы отвечая своим мыслям, засмеялась, придвинулась совсем близко и, щекоча мне ухо губами — от чего я тотчас покрылся гусиной кожей, — спросила:
— Может быть, ты хочешь, чтобы я бродила по ночному Мадриду в баскинье и кринолине?
А я, бедняга, не успел поцеловать ее, потому что она отстранилась, повернулась и зашагала прочь. Я двинулся следом. На сей раз идти пришлось недалеко. Миновав монастырь Марии Арагонской, по каким-то пустырям добрались почти в полной тьме до садов Леганитос, где меня тотчас до костей пробрала — и плащ не спас — сырость, поднимавшаяся от ручья. Анхелика же в своем наряде пажа, вроде бы не страдая от холода, очень уверенно и решительно направлялась к ей одной ведомой цели. Когда я останавливался, чтобы оглядеться, она, не дожидаясь меня, шла дальше, и мне ничего не оставалось, как, бросая по сторонам оробелые взгляды, нагонять ее. Она была с непокрытой головой, берет свой держала за поясом — на случай непредвиденной встречи — и золотисто-пепельные волосы ее светились в ночи путеводной звездой. О, знать бы, что путь вел прямо в пропасть…
Вокруг, шагов на пятьсот, царила тьма. Диего Алатристе остановился, осмотрелся, как предписывало ремесло, по сторонам. Ни души. В сотый раз нащупал в кармане вдвое сложенную записку:
Вы заслуживаете того, чтобы я объяснилась и простилась с Вами. Будьте в одиннадцать вечера на Минильясском тракте. Первый дом.
М. де КОн долго сомневался. Когда же приспело время идти, выпил — да на этот раз не вина, а водки, — чтобы не промерзнуть вечером до костей. Потом, навьючив на себя привычную сбрую — и еще нагрудник из буйволовой кожи — двинулся к Пласа-Майор, а оттуда — к площади Святого Доминика, а там свернул на улицу Леганитос, тянувшуюся до самой городской черты. И вот теперь стоял в предместье: налево — мост, направо — изгороди садов, — оглядывая терявшуюся во мраке дорогу. Первый дом, равно как и все прочие, был едва виден. В этих обсаженных деревьями домиках с огородами жили только летом. Тот, который интересовал Алатристе, лепился к стене разрушенного монастыря — крыша давно обвалилась, и уцелевшие колонны подпирали теперь купол звездного неба.
В отдалении залаяла собака, ей отозвалась другая. Потом все смолкло. Алатристе провел двумя пальцами по усам, снова оглянулся и двинулся вперед. На подходе к дому заученным движением закинул за плечо левую полу плаща, высвобождая рукоять шпаги. Правила игры были ему хорошо знакомы. Прежде чем принять решение и выйти на улицу, он целый вечер размышлял, сидя на своем топчане и вперив взгляд в висевшее на гвозде оружие. Самое забавное, что о желании речь не шла. То есть, честно говоря, он и в эту минуту продолжал желать Марию де Кастро, но не это погнало его в ночь, и не потому, что не совладал капитан со своим вожделением, стоял он сейчас, держа руку на эфесе шпаги, нюхая воздух, как кабан, почуявший присутствие охотника со сворой собак. Нет, дело тут не в желании. «Топчешь королевский выпас», сказали ему Гуадальмедина и Мартин Салданья. Он имеет на это право, так ему захотелось. Он всю жизнь защищал королевские выпасы от посягательств, чему порукой — его рубцы и шрамы. А в койке с бабой не то важно, король ты или пешка, а совсем другое.
Дверь была не заперта. Капитан медленно приоткрыл ее, вошел и оказался в темной прихожей. Совсем не исключено, что здесь, милый друг, и подохнешь. Нынче же ночью. Он вытащил кинжал, Улыбнулся кривовато, по-волчьи и, держа клинок перед собой, осторожно двинулся вперед, ощупывая свободной рукой голые стены. Где-то впереди слабенько мерцал огарок, освещая прямоугольный проем двери. Гнусное место для драки, подумал капитан, узко и отступать некуда. Однако сделал еще несколько шагов. Ибо совать голову в пасть льва по-прежнему доставляло ему какое-то извращенное наслаждение. Даже в этой несчастной Испании, которую он когда-то любил и которую теперь во всеоружии опыта глубоко презирал, даже в этой стране, где по сходной цене можно приобрести и почести, и любовь, и отпущение всех грехов оптом, остается такое, чего не купишь. И он знает, что это такое. С какой-то минуты его, Диего Алатристе-и-Тенорио, старого солдата и наемного убийцу, нельзя сковать золотой цепью, сунутой едва ли не мимоходом в севильском дворце. И в конце концов, даже при самом скверном раскладе взять с него, кроме жизни, нечего.
— Мы на месте, — сказала Анхелика.
По узкой тропинке, петлявшей меж деревьев, мы вышли к небольшому саду, окружавшему развалины монастыря, просматривавшегося напролет. Между колоннами мерцал огонек. Добра это не сулило, и я благоразумно замедлил шаг.
— И что это за место?
Анхелика не ответила. Она тихо стояла рядом со мной, всматриваясь в это слабое свечение. Я слышал ее прерывистое дыхание. Поколебавшись мгновение, шагнул было вперед, но она придержала меня за руку. Я повернул к ней голову — профиль ее был обведен каемкой тусклого света.
— Подожди, — шепнула она.
Куда девалась ее прежняя лихость? Так и не отпуская моей руки, она двинулась через этот запущенный и одичавший сад — сухие ветки хрустели у нас под ногами.
— Легче ступай, — посоветовал я чуть слышно. Войдя под свод колонн, мы снова остановились.
Свет был ближе, и теперь яснее виднелось бесстрастное лицо моей спутницы.
— Ты меня еще любишь? — все еще тяжело дыша, вдруг спросила она.
Я воззрился на нее разинув рот и в полной растерянности.
— Конечно.
Тогда она взглянула на меня — и так пристально, что я вздрогнул. Мерцающий огонек отражался в синих глазах, и, богом клянусь, она была так прекрасна, что я окаменел, полностью лишившись способности рассуждать здраво.
— Что бы там ни было, помни — и я тебя люблю.
И поцеловала меня. О нет, то был не дружеский «чмок» — губы ее медленно и крепко приникли к моим губам. Потом так же медленно она отстранилась, не сводя с меня пристального взора, и указала на руины обители:
— Помоги тебе бог!
— Бог? — переспросил я, вконец сбитый с толку.
— Ну, или сатана, если тебе это больше нравится.
И отступила, растворяясь во мраке. А на развалинах я увидел капитана Алатристе.
Признаюсь, что струсил. Страх на меня напал, как Сарданапал. Я еще не знал, в чем именно ловушка, но был уверен — я попался. И мой хозяин тоже. Я двинулся к нему со стыдом и тоской и крикнул, сам не зная, зачем:
— Капитан! Засада!
Остановившись с кинжалом в руке возле прилепленной к полу свечи, он удивленно поднял на меня глаза. Я обнажил шпагу, оглянулся по сторонам, отыскивая прячущихся врагов.
— Какого черта… — начал капитан.
В этот миг — не раньше и не позже — ну точь-в-точь, как в комедиях Лопе, отворилась дверь и, привлеченный нашими голосами, возник на руинах обители молодой и хорошо одетый человек. Свернутый плащ перекинут через руку, из-под шляпы выбиваются рыжеватые волосы, шпага в ножнах, а на плечах — желтый колет, памятный мне и знакомый. Впрочем, знаком мне был не только колет, но и лицо этого кабальеро. И мне, и Алатристе. Мы его видели раньше — видели на всякого рода торжествах и церемониях, на Калье-Майор и в Прадо, а в последний раз это было совсем недавно — в Севилье. Этот надменный австрийский профиль красовался на золотых дукатах и серебряных реалах. Это был…
— Король! — воскликнул я, сорвав с себя шляпу, готовый пасть ниц, преклонить колени и решительно не зная, что мне делать со шпагой наголо.
Его величество, наш государь Филипп Четвертый, был, казалось, растерян не меньше нашего, но оправился моментально. Выпрямился, вздернул с обычной своей надменностью голову, молча обратил к нам взор. Капитан Алатристе — при взгляде на него мне внятен стал смысл выражения «как громом поражен» — успел, тем не менее, кинжал спрятать в ножны, а голову, наоборот, — обнажить,
Я только собрался последовать его примеру, как из тьмы донеслась такая знакомая рулада тирури-та-та. И кровь, как говорится, застыла у меня в жилах.
— Вот радость-то нежданная, — проговорил Гвальтерио Малатеста.
Возникший из тьмы, он сам казался ее воплощением, неким сгустком мрака — в черном с головы до ног, с колючим блеском в глазах, сверкающих наподобие полированных агатов. Я заметил, что после приключений на палубе «Никлаасбергена» он прибавил к коллекции своих шрамов еще один безобразный рубец, задевший правое веко, отчего этот глаз немного косил.
— Трое голубков — да в одном силке, — прибавил итальянец с довольным видом.
Рядом послышался металлический з-з-зык — капитан Алатристе обнажил шпагу и направил острие в грудь Малатесты. По-прежнему пребывая в полнейшей растерянности, я тоже поднял свою. Итальянец сказал «трое», а не «двое». Филипп Четвертый обернулся и взглянул на него — и, хотя лицо нашего государя оставалось непроницаемо-величавым, я понял, что вновь прибывший — не из его свиты.
— Перед вами король, — с расстановкой промолвил мой хозяин.
— Вижу, что король, — с полнейшей невозмутимостью отвечал итальянец. — А раз король — нечего таскаться по бабам в такую поздноту.
К чести юного нашего монарха должен сказать, что держался он сообразно своему высочайшему положению: за шпагу не хватался, чувств своих, каковы бы те ни были, не обнаруживал и взирал на все происходящее бесстрастно, хладнокровно и отстраненно, словно пребывая где-то вдалеке от этой грешной земли со всеми ее опасностями, которые вроде бы не имели к его августейшей особе ни малейшего отношения. Где же наш Гуадальмедина, спросил я себя, ему сейчас самое время быть здесь, поскольку оберегать своего царственного спутника есть его святая обязанность. Но вместо графа из тьмы выступили и стали приближаться, беря нас в кольцо, совсем другие люди: при свете огарка я разглядел, что наружностью и повадками они подстать скорее итальянцу, нежели Альваро де ла Марке — лица закрыты полами плащей или тафтяными масками, шляпы надвинуты до самых глаз, походочка с развальцем и явственный перезвон стали, покуда еще скрытой. Род их деятельности не вызывал ни малейших сомнений, но даже подумать страшно, сколько надо было заплатить, чтобы эти головорезы решились на такое. Вот они замкнули крут, и все то, что брякало, теперь сверкнуло.
Капитан Алатристе опомнился. Шагнул к королю, который при его приближении утратил малую толику своего хладнокровия и опустил руку на эфес. Мой хозяин, не обращая на это внимания, повернулся к Малатесте и прочим, и клинок его со свистом разрезал воздух, словно проведя запретную черту.
— Иньиго, — позвал он.
Я занял место рядом с ним и повторил его движение. На мгновение встретился глазами с владыкой полумира и прочел в них нечто похожее на благодарность. Впрочем, подумалось мне, мог бы, в сущности, открыть рот да облечь ее в слова. Семеро туже стягивали кольцо вокруг нас. Похоже, мелькнуло у меня в голове, наша с капитаном песенка спета. А если все пойдет, как сейчас идет, и государю нашему тоже крышка.
— Ну, поглядим, поглядим, чему ты научился, юноша, — глумливым тоном молвил Малатеста.
Левой рукой я обнажил кинжал и стал в позицию. На побитом оспой лице итальянца застыла гримаса злобной насмешки, а косящий глаз еще больше усиливал это впечатление.
— С-старые счеты, — прошипел он, сопроводив последнее слово хриплым смешком.
Тут они все скопом и разом бросились на нас. И в этот миг во мне взыграла отвага. Безнадежная, конечно. Но все же не хотелось, чтоб зарезали как теленка. И потому я встал потверже, приготовясь защищать свою честь и жизнь. Годы — и те, что были у меня за плечами, и тот, что был тогда на дворе — приучили меня всегда быть готовым к схватке и близости смерти, а чуть раньше ли, чуть позже придет она — невелика, в сущности, разница. Прожито, конечно, маловато, но ненамного меньше, чем положено. Ну, не повезло, что ж поделать. И покуда я отбивал удары, все мелькала у меня где-то в голове беглая мыслишка: хорошо бы великому Филиппу тоже вытащить шпагу да пойти с короля, ибо, в конце-то концов, не о его ли августейшей шкуре идет сейчас дело. Но времени проверить, сбылось ли мое пожелание, не было. Удары слева и справа так и сыпались на мою шпагу, кинжал и кожаный колет, а краем глаза я видел, что и капитан Алатристе сдерживает, не отступая и на пядь, не меньший натиск. Вот один из его противников, с бранью отлетев назад, выронил шпагу и зажал руками распоротый живот. В этот самый миг рубящий удар обрушился мне на плечо, но, по счастью, толстая кожа смягчила его. Я невольно попятился и, отражая выпады, каждый из которых мог бы стать для меня роковым, споткнулся. Упал навзничь, стукнулся затылком о капитель поваленной колонны — и провалился во тьму.
В сознание мало-мало проникал чей-то голос, настойчиво зовущий меня по имени. Надо было очнуться, но не хотелось — одолела какая-то истома, и так хорошо было пребывать в этом полузабытьи, где не было ни прошлого, ни будущего, ни воспоминаний, ни тревог. Но голос приблизился, зазвучал теперь у самого уха, и проснувшаяся боль пронизала меня от затылка до самого копчика.
— Иньиго… — повторил голос моего хозяина.
Я вскинулся в испуге, припомнив блеск стали, свое падение и тьму, которой заволокло все последующее, — и застонал: затылок будто стянут был железным обручем, и череп, казалось, вот-вот лопнет. Открыл глаза и увидел в нескольких дюймах от себя усы, орлиный нос, зеленоватые глаза капитана Алатристе, с тревогой устремленные на меня.
— Можешь двигаться?
Я кивнул, отчего голову заломило совсем уж невыносимо, и капитан, поддерживая, помог мне подняться. Руки его оставляли кровавые отпечатки на моем колете. Я начал ощупывать себя, но раны не обнаружил. Зато заметил, что у Алатристе рассечено бедро.
— Здесь не только моя кровь.
Он указал на распростертое тело короля, лежавшего у подножия колонны. Желтый колет был располосован, и, уползая во тьму, поблескивал под ним кровяной ручеек.
— Он… что?.. — начал я и запнулся, не в силах выговорить ужасное слово.
— Да.
Я был слишком ошеломлен, чтобы в полной мере оценить, как теперь бы сказали, «масштаб катастрофы». Повертел головой и никого не обнаружил. Не было даже того головореза, которого свалил капитан при самом начале схватки. Он исчез, сгинул, растворился в ночи вместе с Гвальтерио Малатестой и прочими.
— Надо уходить, — сказал капитан.
Я подобрал с земли шпагу и кинжал. Король лежал лицом вверх, глаза были открыты, светлые волосы слиплись от крови. Величественного в нем теперь было мало. А в каком покойнике — много?
— Он хорошо дрался, — признал капитан.
Он тащил меня туда, где в темноте угадывался сад.
— А мы-то? Нас почему оставили в живых? — растерянно допытывался я.
Алатристе посмотрел по сторонам. Я заметил, что в руке у него шпага.
— Мы им еще пригодимся. В качестве козлов отпущения. — Он на миг замедлил шаги и добавил задумчиво: — Могли бы, конечно, и нас убить, но до этого не дошло. — Он мрачно обернулся на труп. — Прикололи кого надо — и смылись.
— А при чем тут Малатеста?
— Пусть меня забьют в колодки, как беглого раба, если я знаю.
С улицы послышались голоса. Капитан крепче сжал мое плечо, вонзив в меня свои железные пальцы.
— Пожаловали.
— Они вернулись?
— Да нет, это не они. Другие… Но от этого не легче.
Он все дальше уводил меня из пятна света.
— Беги, Иньиго.
Я замялся, смутился. Мы были уже почти у самого сада, и я не мог разглядеть в темноте лицо своего хозяина.
— Беги во весь дух. И помни: что бы ни случилось, сегодня ночью тебя здесь не было. Понял? Вообще никогда не было.
Продолжая колебаться, я хотел спросить: «А с вами что будет?». Но не успел. Увидав, что я не повиновался ему немедленно, капитан дал мне такого пинка, что я отлетел шагов на пять прямо в сорняки.
— Беги! — повторил он. — Живо!
А переулочек, выводящий к развалинам монастыря, уже горел огнями факелов и фонарей, гудел голосами, звенел железом. «Именем короля! » — донеслось оттуда. И волосы мои встали дыбом оттого, что там отдавали приказы именем убитого короля.
— Беги!
И, клянусь жизнью, я рванул вперед. Это, знаете ли, разные вещи — бегать и убегать. Если бы впереди разверзлась пропасть, я перемахнул бы ее. Ничего не видя от страха, я мчался в зарослях, проскакивал мимо деревьев, перепрыгивал через изгороди и заборы, шлепал по воде ручья, пока не оказался в безопасности, вдали от проклятых руин, и тогда рухнул наземь, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, легкие раздулись наподобие кузнечных мехов, а в затылок и виски вонзаются тысячи игл. Вне себя от ужаса думал я о том, какая судьба постигла капитана Алатристе.
Припадая на раненую ногу, он в поисках дороги добрался до ограды. Давали себя знать усталость и рассеченное бедро — рана была неглубокая, но продолжала кровоточить, а главное было в том, что воспоминание о человеке, который бездыханным валялся сейчас в монастыре, лишало капитана последних сил и бодрости. Казалось бы, от страха должны были крылья на ногах вырасти. Ничего подобного — душу окутывали мрак и уныние, самая что ни на есть черная меланхолия, и думалось только об одном: «Вот какой фортель выкинула со мной сука-судьба».
Сквозь ветви капитан видел, как на руинах мелькают фонари и факелы, мечутся из стороны в сторону тени. Завтра, когда станет известно о случившемся, вся Европа содрогнется, весь мир ахнет.
Он попытался перелезть через ограду локтей пять высотой и дважды срывался, поминая сквозь зубы божью мать. Слишком болела нога.
— Вот он! — раздалось за спиной.
Алатристе, крепко сжимая в руке шпагу, медленно обернулся, готовясь принять неизбежное. Через заросли одичавшего сада к нему приближались четверо. Первым шел граф де Гуадальмедина с подвязанной рукой, за ним — Мартин Салданья и двое альгвасилов с факелами. По развалинам монастыря сновали и перекликались другие — и было их немало.
— Именем короля ты арестован.
От этих слов у капитана Алатристе ощетинились усы. «Какого короля?» — чуть было не спросил он. Посмотрел на графа, который, не обнажив шпагу и подбоченившись, разглядывал его с пренебрежением, которого раньше не замечалось. А рука на перевязи была, без сомнения, памятью о встрече на улице Лос-Пелигрос. Еще один должок.
— Я тут ни при чем, — проговорил Алатристе.
Никто не принял его слова всерьез. Мартин Салданья с жезлом за поясом, со шпагой в одной руке и маленьким пистолетом — в другой, сказал:
— Сдавайся или убью.
Капитан на мгновение задумался. Он знал, какая участь ждет цареубийц — замучают до полусмерти, а потом четвертуют. Это его не устраивает.
— Убивай, — ответил он.
Вглядываясь в обросшее бородой лицо человека, которого до нынешней ночи считал другом — что ж, ему довольно часто приходилось терять друзей, — он уловил в поведении Салданьи кратчайшую заминку. Лейтенант достаточно хорошо знал Алатристе, чтобы смекнуть — на своих ногах, но в цепях ему отсюда уходить не захочется. Быстро переглянулся с графом, который чуть заметно мотнул головой, что означало: он нам нужен целым и по возможности невредимым, мы ему развяжем язык.
— Разоружить его, — приказал Гуадальмедина.
Оба альгвасила шагнули вперед. Алатристе предостерегающе поднял шпагу. Изделие миланских оружейников в руке Мартина Салданьи смотрело ему прямо в живот. Я могу достать его, мелькнуло в голове у капитана. Если повезет — прямо поверх ствола. Конечно, есть риск получить пулю в живот, а это хуже, чем в голову, дольше мучиться. Но другого выхода нет.
Салданья меж тем о чем-то размышлял и наконец решил обнародовать итог этих размышлений:
— Послушай-ка, Диего, что я тебе скажу…
Алатристе взглянул на него с удивлением. Это прозвучало как некое вступление, а его старый фламандский однополчанин ораторствовать был не склонен, тем паче — в таких вот обстоятельствах.
— Не рыпайся… — добавил тот, помолчав.
— Почему?
Салданья несколько задумался. Потом поднял шпагу и ее крестовиной поскреб себе бороду.
— Так уж не терпится на тот свет? Дело в том, что…
Гуадальмедина резко прервал его:
— Все объяснения — потом!
Алатристе в замешательстве прислонился спиной к изгороди. Что-то у них не то. Лейтенант, по-прежнему наставив на него дуло миланской игрушки, хмуро посмотрел на графа:
— Потом будет поздно.
Альваро де ла Марка, размышляя, наклонил голову. Потом изучающе оглядел обоих и, похоже, в чем-то убедился. Перевел глаза на Салданью и со вздохом произнес:
— Это был не король.
В левое окошко кареты на холмах, будто подмявших под себя окрестные сады и Мансанарес, виднелась громада королевского дворца. Проехали через мост, освещаемый полудюжиной факелов в руках пеших стражников. Один из альгвасилов, сидевших на козлах, держал аркебузу с дымящимся фитилем. Гуадальмедина и Салданья расположились напротив капитана Алатристе, а тот не знал, верить ли ему своим ушам.
— … месяцев восемь назад, заметив его необыкновенное сходство с королем, решили мы использовать его как двойника, — говорил граф. — Они ровесники, глаза одного цвета, и рот в точности такой же… Его звали Хинес Гарсиамильян. Актер из Пуэрто Лумбрераса. Малоизвестный. Несколько дней он заменял Филиппа во время недавней поездки в Арагон… Когда до нас дошли сведения, что сегодня ночью что-то затевается, решили — пусть-ка исполнит его роль еще раз. Он знал, что это опасно, однако не отказался… Оказался верным и отважным подданным нашего государя.
— И за его верность с отвагой расплатились с ним щедро, — скривился Алатристе.
Гуадальмедина поглядел на него молча и с досадой. В свете факелов капитан видел его аристократический профиль — эспаньолка, подстриженные усы. Человек другой породы, обитатель иных миров. Здоровой рукой он поддерживал раненую, чтобы уберечь ее от толчков.
— Он сам так решил. — В голосе Гуадальмедины не чувствовалось особенной скорби: что значила гибель комедианта по сравнению с жизнью его величества? — Ему сказано было не вылезать, покуда мы не сможем защитить его. Однако он дожидаться не стал и сыграл свою роль до конца, — тут граф с осуждением покачал головой. — Думаю, что это был его звездный час.
— Хорошо сыграл, — заметил Алатристе. — Держался с достоинством и дрался молча… Не уверен, что король вел бы себя так же…
Мартин Салданья, не спуская глаз с арестованного, слушал молча, опустив заряженный пистолет на колени. Гуадальмедина стянул перчатку и, похлопывая ею по штанам тонкого сукна, стряхивал с них пыль.
— Я тебе не верю, Алатристе, — сказал он. — По крайней мере, не вполне верю. Не исключаю, что, как ты говоришь, имелись следы борьбы и убийц было несколько… Но кто поручится, что ты не был с ними заодно?
— Мое слово.
— А еще?
— Вы, ваше сиятельство, хорошо меня знаете.
Перчатка замерла в воздухе. Гуадальмедина негромко рассмеялся:
— Да вот недавно выяснилось, что совсем не знаю.
Капитан поглядел на него пристально. До сих пор ни одному человеку, усомнившемуся в его правдивости, не удавалось прожить столько, чтобы успеть повторить эти слова. Потом он повернулся к Салданье:
— Ты тоже не веришь моему слову?
Мартин не разомкнул уста, а лишь взглядом показал: не его это дело — верить или не верить. Комедиант убит, король жив, а ему, лейтенанту Салданье, приказано взять Алатристе под стражу и доставить куда надо. И думает он о том, как бы получше выполнить это поручение. А споры лучше оставить для судей, инквизиторов и богословов.
— В свое время все разъяснится, — молвил Гуадальмедина, натягивая перчатку. — Так или иначе, тебя ведь просили держаться подальше.
Капитан поглядел в окно. Карета уже миновала парковый мост и катилась вдоль стены к южной части дворца.
— Куда вы меня везете?
— В Кабальерисас, — ответил граф.
Алатристе, встретившись глазами с бесстрастным взглядом Салданьи, отметил, что лейтенант перехватил пистолет покрепче, и дуло теперь направлено ему в грудь. Старый крокодил, подумал он, знает, чего от меня можно ждать. Знает и то, что граф дал маху, сказав, куда мы направляемся. Кабальерисас — ее называли также и Живодерней — маленькая, примыкающая ко дворцу тюрьма, где сидят обвиняемые в оскорблении величества. Мрачное место, где правосудие не ночевало, куда надежда не заглядывала. Не бывали там и судьи с адвокатами. И арестанты там не столько сидят, сколько висят на дыбах, а писцы заносят на бумагу каждый их крик. Двух допросов довольно, чтобы сделать из человека паралитика.
— Сподобился, значит.
— Вот именно, — кивнул граф. — Сподобился. Теперь у тебя будет время все объяснить.
Семь бед — один ответ, подумал Алатристе. И в тот же миг, воспользовавшись тем, что карету тряхнуло на выбоине и наставленное на него дуло чуть сдвинулось в сторону, резко подался вперед и ударил Салданью головой. Хрустнул сломанный нос. Сейчас же густо хлынула кровь, заливая лейтенанту бороду и грудь. И вот уже выхваченный у него из руки пистолет прижат ко лбу Гуадальмедины.
— Вашу шпагу, — сказал Алатристе.
Граф только открыл рот, чтобы позвать на помощь конвойных, как Алатристе ткнул его стволом в лицо. Если убью их, мне это ничем не поможет, подумал он. Перевел взгляд на Салданью, убедился, что тот слегка оглушен, как бык, которого хватили обухом в темя. Еще раз сильно ударил Альваро де ла Марку, который одной рукой не мог защищаться, и граф повалился головой вперед на пол кареты. Черта лысого вам, а не в Кабальерисас, пробормотал Алатристе. Окровавленный Салданья мутно глядел на него.
— Рад был тебя повидать, Мартин, — сказал капитан.
Выдернул у него из-за пояса второй пистолет и, держа его в правой, а шпагу — в левой, пинком распахнул дверцу, выскочил из кареты. Хоть бы подпорченная нога меня не подвела, подумал он. Стражник на запятках уже орал во всю глотку, что арестованный пытается бежать. Позабыв про дымящийся фитиль аркебузы, он рвал из ножен шпагу Алатристе выпалил в упор, и вспышка вырвала из тьмы перекошенное ужасом лицо. Капитан ощущал, как пахнет фитиль в аркебузе его напарника, и понимал: мешкать нельзя. Отшвырнул разряженный пистолет, схватил второй, взвел курок и в тот миг, когда уже хотел было снять стражника, сидевшего на козлах рядом с кучером, увидел — к нему, выставив шпагу, бежит еще один. Надо было выбирать. Он прицелился, выстрелил, и бегущий свалился. Капитан кинулся к обочине, кубарем скатился по откосу туда, где слышался плеск воды. Двое бросились вдогонку, а с козел кареты сверкнуло и грохнуло — над головой просвистела пуля, сгинувшая где-то во тьме. Алатристе поднялся — лицо и руки были ободраны ветками в кровь — собираясь бежать дальше, хотя нога болела нестерпимо, но тут увидел еще двоих. Тяжело дыша, спотыкаясь, путаясь в кустарнике, они спускались по склону и кричали: «Стой! Стой! Именем короля!» Отступать, имея на плечах неразбитого неприятеля, — дело гиблое, и потому Алатристе повернулся к ним, держа шпагу наготове, и когда передний приблизился, выжидать не стал, а бросился на него и, сделав выпад, глубоко вонзил клинок ему в грудь. Преследователь вскрикнул и упал. Второй благоразумно замедлил шаги. От дороги приближались еще несколько человек с факелами. Алатристе снова кинулся в темноту, петляя между деревьями, спускаясь все ниже, пока не услышал совсем близко плеск воды. Зашумел прибрежный камыш, и тотчас капитан почувствовал под сапогами вязкий ил. По счастью, от недавних дождей вода в Мансанаресе поднялась. Он сунул шпагу в ножны, сделал еще несколько шагов и, погрузившись по плечи, поплыл по течению.
Так он добрался до островков, а от них повернул к Устью, вышел, чавкая по глине, на берег неподалеку от Сеговийского моста. Здесь немного посидел, переводя дух, стянул носовым платком кровоточащее бедро и, стуча зубами от холода в насквозь мокрой одежде — шляпу и плащ он давно потерял где-то, — кружным путем, чтобы миновать караульных у Сеговийских ворот, двинулся к городу. Медленно поднялся на холм Святого Франциска, откуда по ручью, который использовали как акведук, можно было незаметно пробраться в Мадрид. Сейчас, рассудил он, когда за ним снарядили тучу альгвасилов, в таверну Непрухи идти нельзя ни в коем случае, заведение Хуана Вигоня также исключается. Искать убежища в церкви — даже если он прибегнет к покровительству преподобного Переса и спрячется у отцов-иезуитов — бессмысленно: на тех, кто убивает королей, юрисдикция Святого Престола не распространяется. Укрыться можно только в тех кварталах, куда в такой час представители власти не суются, да и днем если заходят, то не иначе как целой оравой. И Алатристе, ища приюта, прокрался до площади Себада, а оттуда, выбирая самые узкие закоулки, торопясь поскорее оставить позади улицы Эмбахадорес и Месон-де-Паредес, выбрался к фонтану Лавапьес, вокруг которого разместились таверны, постоялые дворы и бордели, пользовавшиеся в Мадриде самой дурной славой. Хорошо бы притаиться в укромном месте и обдумать все случившееся: внезапное появление Гвальтерио Малатесты на развалинах монастыря спутало все карты, — да вот беда: нечем было заплатить за постой, ибо в карманах у него не было даже пресловутой блохи на аркане. Он перебирал в голове имена друзей, пытаясь угадать, кто из них, когда завтра за голову его объявят награду, не польстится на тридцать сребреников. Обуреваемый этими черными мыслями, он побрел назад, на улицу Комадре, где через каждые несколько шагов, в дверях, освещенных изнутри коптилками и плошками, стояли, правя свое прискорбное ремесло, гулящие девицы. И вдруг Алатристе замедлил шаги и воскликнул про себя: «Нет, есть бог на небе! И он не взирает бесстрастно, как слепая судьба или дьявол играют людьми, будто в кегли!» К сему обнадеживающему выводу пришел Алатристе, увидев, что у входа в таверну, облапив весьма непринужденно свою даму, надвинув берет на самые брови, густые и сросшиеся, стоит не кто иной, как Бартоло Типун.
VII Постоялый двор «Орленок»
Дон Франсиско де Кеведо сбросил плащ и шляпу на табурет, с досадой расстегнул ворот. Новости, принесенные поэтом, были самые отвратительные.
— Гиблое дело, — проговорил он, отцепляя шпагу. — Гуадальмедина даже слышать ни о чем не хочет.
Я поглядел в окно. Над крышами домов по улиц« Христа-Младенца грозно нависали, заволакивая мадридское небо, серые тучи, и от этого все становилось еще более зловещим. Дон Франсиско проводил два часа во дворце Руадальмедины, пытаясь убедить графа в невиновности Алатристе, и ничего не добился. Даже если капитан стал жертвой заговора, ответил Альваро де ла Марка, побег из-под стражи усугубляет его вину. Не говоря уж о том, что двоих стражников он убил, а третьего искалечил. Сломанный нос лейтенанта Салданьи не в счет. И удары, нанесенные самому графу, — тоже.
— Итог таков, — завершил свой рассказ Кеведо. — Алатристе будет схвачен и повешен.
— Они ведь были друзьями! — негодующе вскричал я.
— Какая дружба выдержит такое испытание? Тем более что вся история до чрезвычайности путаная и темная…
— Вы-то хоть верите ему от начала до конца? — не выдержал я.
Поэт расположился в ореховом кресле — том самом, где сиживал, бывало, приходя к нему в гости, покойный герцог де Осуна, — у стола, заваленного бумагами и гусиными перьями. Там же стояли медный чернильный прибор, песочница и табакерка. Заметил я и несколько книг, и среди них — томики Сенеки и Плутарха.
— Не верил бы — не пошел бы к Гуадальмедине.
Он вытянул скрещенные ноги, упершись каблуком в старый плетеный коврик, покрывавший пол. Рассеянно взглянул на лист бумаги, до половины исписанный его разборчивым и стремительным почерком. Я еще прежде успел прочесть первое четверостишие:
Поистине могу лишь благом счесть я От благ, мной незаслуженных, отказ. И внятен мне остереженья глас, Сулящий не богатство, но бесчестье.Я прошел туда, где под картиной, изображавшей пожар Трои, мерцали зеленым стеклом дверцы поставца, в котором дон Франсиско держал вино, достал бутылку и наполнил бокал почти доверху. Кеведо взял щепотку табака и поднес ее к носу. Курить он не любил, а вот нюхать это зелье, доставляемое из Индий, пристрастился.
— Я не первый день знаю твоего хозяина, — продолжал он. — Диего упрям как черт, ему легче сдохнуть, чем отказаться от намерения… Но я никогда не поверю, что он может поднять руку на своего государя.
— Граф тоже давно знает капитана, — жалобно сказал я, протягивая ему бокал.
Дон Франсиско дважды отхлебнул и покивал:
— Да, конечно. И я ставлю свои золотые шпоры против пуговицы, что Гуадальмедина тоже не сомневается — Алатристе тут ни при чем. Но он чересчур сильно ущемил его гордость испанского гранда — продырявил ему руку на улице Пелигрос, врезал прошлой ночью стволом пистолета по морде… Прежде чем смыться, оставил отметину на память. Вельможе такое стерпеть нелегко. Не так, понимаешь ли, больно, как обидно.
Он сделал еще глоток и, поигрывая табакеркой, окинул меня долгим взглядом.
— Хорошо хоть, тебя капитан успел отправить оттуда.
И снова задумчиво воззрился на меня. Потом отставил табакерку и глотнул еще вина.
— Как тебя вообще угораздило за ним увязаться?
Ответ мой был разом и сбивчив, и уклончив — невнятный лепет о мальчишеском любопытстве, о вкусе к приключениям и тому подобное. Я уже знал в ту пору, что оправдывающийся всегда говорит слишком много, и переизбыток доводов — много хуже благоразумного молчания. С одной стороны, стыдно было признаваться, что я дал заманить себя в ловушку зловредной маленькой женщине, которую, вопреки всему, продолжал любить до умопомрачения. С другой, я считал: все, что касается Анхелики де Алькесар — это мое и только мое дело. И справляться мне — и никому больше, а поскольку Алатристе ушел от погони и был в безопасности — мы получили от него тайную весточку через надежного человека, — то объяснения могли и подождать. Самое важное теперь было держать его подальше от палача.
— Расскажу, что узнаю, — пообещал я. Застегнул колет, надел берет. Набросил на плечи грубошерстный плащ, потому что по оконным стеклам уже ползли первые капли дождя. Дон Франсиско внимательно наблюдал, как я прилаживаю кинжал.
— Смотри, чтоб «хвоста» не было…
Вчера в таверне «У Турка» альгвасилы допрашивали меня, пока, прибегнув к самой беззастенчивой брехне, я не сумел убедить их, что понятия не имею о случившемся в Минильясе. Мало проку было им и от Каридад — ни бранью, ни угрозами, по счастью, не приведенными в исполнение, они ничего от нее не добились. Но никто — и, разумеется, я тоже — не поведал трактирщице истинную причину того, почему капитан подался в бега. Добрая Непруха пребывала в уверенности, что в ходе какой-то стычки имеются убитые: подробностей она не знала.
— Не беспокойтесь, ваша милость. Начинается дождь, и я проскользну незаметно.
На самом же деле пугали меня не блюстители порядка, не служители правосудия, а те, кто сплел этот заговор — они-то и должны были следить за мной. Я уж было собирался проститься с Кеведо, когда тот вдруг воздел указательный палец, будто внезапно осененный какой-то идеей. Затем поднялся, подошел к конторке у окна и достал из ящика шкатулку.
— Передай Диего — я сделаю все, что будет в моих силах… Как жаль, что уж нет с нами бедного дона Андреса Пачеко, герцог Мединасели отправлен в ссылку, а адмирал де Кастилья впал в немилость… Все трое хорошо ко мне относились и были бы нам сейчас более чем полезны.
Услышав такое, я опечалился. Его высокопреподобие монсеньор Пачеко был главным представителем Священного Трибунала в Испании, и ему подчинялся даже Трибунал Инквизиции, председателем коего был наш с капитаном старинный недруг — зловещий доминиканец Эмилио Боканегра. Что же касается дона Антонио де ла Серды, герцога де Мединасели — со временем он станет ближайшим другом Кеведо и моим покровителем — то он из-за своего по-юношески вспыльчивого нрава отдалился от двора после того, как попытался освободить своего слугу из тюрьмы, едва ли не взяв ее приступом. А падение адмирала де Кастильи объяснялось причинами высокой политики: во время недавней поездки в Арагон адмирал, не смирив гордыни, повздорил с герцогом Кардоной из-за того, кому на устроенном в Барселоне приеме сидеть ближе к его величеству. Наш государь воротился оттуда несолоно хлебавши, то есть не добыв у несговорчивых каталонцев ни гроша. В ответ на его просьбу дать денег на фламандскую кампанию те ответили, что беспрекословно отдадут королю что угодно, включая жизнь и честь, словом, все, что не стоит денег, ибо деньги есть наследство души, а душа принадлежит одному господу богу. Постигшее адмирала несчастие всем сделалось очевидно в страстной четверг, когда на церемонии омовения рук полотенце Филиппу Четвертому подавал не Кастилья, род которого из поколения в поколение имел эту привилегию, а вовсе маркиз де Личе. Публично униженный адмирал не стерпел и попросил у короля позволения удалиться. «Я — первый дворянин этого королевства», — заявил он, позабыв, что говорит с первым монархом мира. И просьба его была уважена — да так, что получил он больше, чем рассчитывал: приказано ему было вплоть до особого распоряжения при дворе не появляться.
— Кто же у нас остается?
Дон Франсиско воспринял слова «у нас» как должное.
— Кое-кто есть, но, конечно, жидковаты будут против генерального инквизитора, испанского гранда и королевского друга… Впрочем, я испрошу аудиенцию у Оливареса. Он, по крайней мере, терпеть не может мнимостей и видимостей. Смотрит в корень, видит суть.
Мы посмотрели друг на друга без особенной надежды. Потом Кеведо извлек из шкатулки кошель, отсчитал восемь дублонов — примерно половину того, что там было — и протянул их мне со словами:
— Пригодятся. «Дивной мощью наделен дон Дублон…»
Сколь счастлив мой хозяин, мелькнуло у меня в голове, что такой человек, как дон Франсиско, связан с ним узами верной дружбы. Ибо в нашей мерзостной Испании даже самые закадычные друзья предпочитали расточать слова и удары шпагой, нежели что-либо более существенное. А эти пятьсот двадцать восемь реалов были в звонкой монете червонного золота: на одних был отчеканен крест истинной веры, на других — профиль его католического величества, нынешнего нашего государя, на третьих — изображение покойного короля Филиппа Третьего. Да будь на них хоть басурманский полумесяц — все равно они превосходно сгодились бы, чтобы ослепить своим блеском завязанные глаза Фемиды и снискать нам ее покровительство.
— Передай Диего: мне очень жаль, что не могу дать больше, — проговорил дон Франсиско, пряча шкатулку на место, — но я в долгах как в шелках… Налоги за дом, откуда не в добрый час выставил я этого кордовского содомита, высасывают из меня по сорок дукатов и по полведра крови… Скоро обложат податями даже бумагу, на которой пишу… Ладно. Скажешь ему, чтоб в город носу не высовывал. Мадрид для него сейчас опаснее чумы. Впрочем, пусть служит ему неким утешением мысль о том, что не влипни он в такую передрягу, не мог бы зваться капитаном Алатристе. Всему своя цена. Недаром сказано:
Платить за все сполна — весьма полезный навык Иначе ты — дурак и скупердяй вдобавок.Я невольно улыбнулся. Мадрид опасен для моего хозяина, а мой хозяин — для Мадрида, мелькнула в голове высокомерная мысль. Да, на него идет охота, но одно дело — травить зайца, и совсем другое — гнать волка. Так что еще поглядим, кто кого. Я увидел, что и дон Франсиско улыбается:
— Хоть, может быть, опаснее всего сам Алатристе, — насмешливо промолвил он, будто прочитав мои мысли. — А? Как ты считаешь? Гуадальмедине и Салданье крепко попало, двое стражников — на том свете, а третий — на полдороге туда, и все это сделано так проворно, что «Отче наш» прочесть не поспеешь. — Он взял бокал и загляделся на струи дождя, бившие в оконное стекло. — Черт возьми, просто бойню устроил…
Он замолчал, рассеянно уставившись на бокал с вином. Затем поднял его, обратясь в сторону окна и словно чокаясь с кем-то невидимым. Я понял: Кеведо пьет за здоровье капитана.
— У него в руке не шпага, а та штука, которой Смерть орудует… — договорил он.
Господь бог без устали поливал дождем каждую пядь сотворенной им земли, когда я двигался от Лавапьес по улице Компаньии, завернувшись в плащ, нахлобучив шапку, ища под крышами и у стен домов защиты от воды, низвергавшейся на меня так, словно голландцы взорвали у меня над головой все свои плотины и дамбы. И хоть вымок я до нитки и вяз в грязи по щиколотку, однако шагов не уторапливал, а, скрытый завесой ливня, хлеставшего по лужам с силой мушкетного залпа, время от времени оборачивался через плечо, проверяя, не увязался ли кто за мной. Так я добрался до улицы Комадре, перескочил через глинистый поток, разлившийся у дверей постоялого двора, в последний раз огляделся по сторонам и вошел, отряхиваясь как мокрый пес.
И меня сразу обдало смешанным ароматом винной кислятины, опилок и грязи. Постоялый двор «Орленок» считался в Мадриде одним из самых злачных мест. Хозяин его, прежде известный и даже знаменитый как ловкий и удачливый домушник, с замечательной умелостью управлявшийся с самыми мудреными запорами, утомясь под старость от своих трудов, остепенившись и открыв это заведение, куда всегда можно было сдать на хранение или продать любую краденую вещь, получил звучное имя Барыга. В просторном, темном и снабженном несколькими выходами помещеньице имелось не менее двадцати номеров-каморок, а в общей зале, насквозь пропитанной чадом и дымом, давали поесть и выпить за очень небольшие деньги. Все это, вместе взятое, притягивало сюда воров и разнообразное мадридское отребье, не любившее дневного света и огласки. Здесь постоянно сновали взад-вперед темные личности с подозрительными свертками и узлами. Скокари и щипачи, «коты» и фармазоны, бакалаврихи панели и доктора крапленых карт — всяческий сброд чувствовал себя здесь как грачи на гумне или как стряпчий на процессе. Служители правосудия сюда не совались, отчасти по природному нежеланию лезть вон из кожи, а отчасти — стараниями Барыги, человека исключительной ловкости и опытности, большого мастера своего дела, который известную толику доходов направлял на умасливание и подмазывание блюстителей порядка. Кроме того, зять его служил в доме маркиза дель Карпио, и по всему вышеизложенному приют в «Орленке» был делом таким же верным, как древнее право церковного убежища. Все бывавшие тут относились к сливкам преступного сообщества и все вмиг становились слепы, глухи и немы — никто никого не называл ни по имени, ни по фамилии, никто ни на кого не смотрел, и даже невинное пожелание доброго вечера могло обойтись человеку очень дорого.
Бартоло Типун сидел недалеко от очага, где тлели дрова и в подвешенных котелках что-то булькало, и на пару с приятелем топил кручину в объемистом кувшине вина. Вполголоса ведя беседу, он краешком глаза наблюдал за соседним столом, где его подружка, опустив мантилью на плечи, обговаривала с клиентом условия предоставления своих услуг. Когда я подошел к очагу и стал пристраивать над ним насквозь мокрый плащ, от которого тотчас повалил пар, Типун не подал виду, что узнал меня. Он продолжал свой рассказ, и вскоре я понял, что речь идет о недавней встрече с каким-то альгвасилом, причем встреча эта окончилась не убийством и не тюрьмой.
— Ну, так вот, — докладывал Бартоло Типун своим неповторимым кордовским говорком, — прихожу это я к ихнему главному, сую ему два дуката так просто, будто это два перуанских медяка, и, зажмурив левую гляделку, говорю: «Клянусь этими двадцатью заповедями, что я не тот, кого вы ищете».
— А кто был этот главный? — поинтересовался собутыльник.
— Берругете-Кривой.
— Сволочь первостатейная. Но дело с ним иметь можно…
— Именно так! Без лишних слов взял деньги…
Какое-то время еще длилась эта увлекательная беседа, полная словечек и выражений, от которых дон Луис де Гонгора, наверно, упал бы в обморок. Затем Бартоло Типун наконец соизволил узнать меня, отставил кувшин, с очень недовольным видом поднялся, потянулся и зевнул, разведя ручищи и разинув пасть, где при этом обнаружилась нехватка примерно полудюжины зубов, а потом вразвалку двинулся к двери. Он мало изменился: наружность была такая же свирепая, по-прежнему брякало и звякало на каждом шагу все, чем он был обвешан, все тот же замшевый колет нараспашку и полурасстегнутые штаны. В общем, доблести в нем было столько, что мало никому бы не показалось. Мы сошлись на галерее, где шум дождя надежно глушил наши голоса.
— «Хвоста» не привел? — осведомился удалец.
— Нет.
— Точно?
— Как бог свят.
Он одобрительно кивнул, почесывая свои густые брови, сросшиеся на лбу, покрытом шрамами и рубцами. И, ничего больше не говоря, зашагал по галерее, сделав мне знак следовать за собой. Я не видел Бартоло после приснопамятной истории с захватом золота Индий, лежавшего в трюме «Никлаасбергена», когда благодаря капитану он сумел отвертеться от галер и получить помилование, а помимо того — изрядную сумму, которая позволила ему вернуться в Мадрид и возобновить свои труды на стезе сутенерства. Несмотря на могучее сложение и звероподобный вид — надо, кстати, отдать ему должное: на Сан-лукарской отмели он показал себя молодцом и резал людей очень исправно, — Типун особого вкуса в таких смертоубийственных забавах не находил. И свирепость его была скорее показная и напускная и требовалась лишь для того, чтобы наводить ужас на простаков, так что поговорка относительно молодца и овец была будто про него сложена. Вопреки своему тупоумию — из пяти гласных в памяти его запечатлелись лишь две или три — а может быть, именно благодаря ему, Бартоло сумел раздобыть для своей потаскушки постоянное место на улице Комадре и стать на паях с прежним хозяином содержателем борделя, где следил также за порядком, ретиво исполняя обязанности вышибалы. Дела его, стало быть, шли недурно. И то, что он при нынешнем своем довольно завидном положении согласился помочь Алатристе, весьма возвышало его в моих глазах, ибо Типун изрядно рисковал: заработать он на этом ничего бы не заработал, а вот потерять, если бы кто-нибудь донес на него куда следует, мог очень многое. Но с того самого дня, как они познакомились в мадридской каталажке де ла Вилья, этот малый относился к капитану с такой необъяснимой и неколебимой, беззаветной или, если угодно, собачьей верностью, какой я больше не встречал ни у кого из тех, кто имел дело с моим хозяином, будь то однополчане или здешние знатные господа. Напротив — сколько было среди них бездушных злодеев, к коим я причисляю и настоящих врагов. Видно, появляются время от времени особые люди, отличные от живущих рядом, а может быть, они не то чтобы столь уж отличны от всех прочих, а просто неким образом могут воплотить в себе свою эпоху, оправдать ее и обессмертить, а окружающие сознают или чуют это и по ним сверяют свои поступки. Вероятно, Диего Алатристе был одним из таких людей. Так или иначе, я ручаюсь, что всякий, кто сражался бок о бок с ним на войне, пребывал в его безмолвном обществе, искал одобрения в его зеленовато-льдистых глазах, оказывался связан с ним какими-то особыми узами. Я бы даже так сказал: сумев снискать его уважение, каждый начинал больше уважать себя.
— … так что делать нечего, — подытожил я. — Только ждать, пока развиднеется.
Капитан выслушал меня внимательно и молча. Мы сидели с ним за столом, колченогим и заляпанным спермой свечей, посреди которого красовались блюдо с остатками вареной требухи, кувшин вина и краюха хлеба. Бартоло Типун, скрестив на груди руки, высился поодаль. Слышно было, как барабанит по кровле дождь.
— И когда же Кеведо увидится с Оливаресом?
— Неизвестно. Но в любом случае через несколько дней в Эскориале будут играть «Кинжал и шпагу». Дон Франсиско обещал взять меня с собой.
Капитан провел рукой по лицу, настоятельно требовавшему вмешательства бритвы. Он похудел и осунулся. На нем были штаны из скверной замши, штопаные шерстяные чулки, сорочка без воротника под расстегнутым колетом. Вид был, прямо скажем, непрезентабельный, однако в углу стояли только что почищенные солдатские сапоги, а новая портупея, обвитая вокруг лежавшей на столе шпаги, была недавно насалена. Типун купил ему у старьевщика плащ, шляпу и ржавый кинжал с крючьями на рукояти, и он теперь, наточенный и сверкающий, лежал под подушкой на развороченной постели.
— Тебя сильно трясли? — осведомился Алатристе.
— Ничего особенного, — пожал я плечами. — Удалось отбрехаться — никто не заподозрил.
— А Непруху?
— То же самое.
— Как она?
Я поглядел на лужу, натекшую под моими шнурованными башмаками.
— Ну вы же сами знаете — плачет-заливается и честит вас на чем свет стоит. Клянется всем святым и спасением души, что когда вас будут вешать, она станет в первом ряду. Но это пройдет, — улыбнулся я. — В глубине души она нежней горлицы.
Бартоло Типун с понимающим видом склонил голову. Было видно, что ему очень желательно высказаться насчет ревности, нежности и прочих бабьих штук, но он сдерживается, ибо слишком уважает моего хозяина, чтобы лезть в разговор.
— А что слышно о Малатесте?
При упоминании этого имени я дернулся на табурете.
— Ни гласа, ни воздыхания.
Капитан задумчиво гладил усы, время от времени пытливо поглядывая на меня, как будто хотел прочесть на моем лице то, о чем я не сказал словами.
— Сдается мне, я знаю, где его найти, — сказал он.
Я подумал, что это — чистейшее безумие.
— Не надо рисковать.
— Ладно, посмотрим…
— … сказал слепой, — дерзко подхватил я.
Алатристе вновь окинул меня изучающим взглядом, хоть я и сам досадовал на себя за чересчур длинный язык. Краем глаза заметил, что и Бартоло Типун смотрит на меня с укоризной. Однако не таково было положение дел, чтобы капитан мог разгуливать по улицам. Прежде чем предпринять какие-нибудь телодвижения, следовало дождаться вестей от дона Франсиско. Я же, со своей стороны, должен был срочно переговорить с одной из юных королевских фрейлин, которую безуспешно выслеживал уже несколько дней кряду. В числе того, что я скрыл от своего хозяина, были горчайшие воспоминания о том, что Анхелика де Алькесар заманила меня в ловушку. Да, конечно, но эта ловушка никогда бы не захлопнулась без самоубийственно упорного содействия капитана. Мне должно было бы хватить мозгов, чтобы предвидеть подобный оборот событий, но когда тебе идет семнадцатый год, ты один на всем свете кажешься себе героем.
— Тут — надежно? — спросил я Типуна, чтобы сменить тему.
Его лицо перекосилось улыбкой щербатой и свирепой.
— Как у Христа за пазухой. Легавые сюда не суются. А если кто вдруг и явится, то врасплох никого не застанет. Внизу, на улице, есть надежные люди, они в случае чего успеют предупредить… Будет время смыться.
Алатристе в продолжение этого монолога не спускал с меня глаз
— Нам надо поговорить, — произнес он наконец.
Бартоло Типун провел костяшками пальцев по бровям и стал откланиваться.
— Ну, вы потолкуйте, а я, если больше нечем услужить вам, капитан, пойду, с вашего разрешения, распоряжусь по хозяйству, погляжу, удалось ли Мариперес обратать да обработать клиента. Сами знаете — под хозяйским присмотром и куры лучше несутся.
Типун уже открыл дверь — в сером воздухе галереи четче вырисовался его силуэт, — но задержался на миг:
— Вот еще что… и, надеюсь, вы на меня не обидитесь… В наше время ни за что не угадаешь, когда притянут к разделке, да сведут в подвал, да попросят выложить все без утайки и стеснения… А инструменты у них такие, что и немой запоет… Но, по крайнему моему разумению, знать и запираться — это одно, а молчать, потому что не знаешь, — совсем иное… И это гораздо предпочтительней. Потому я лучше пойду.
— Мудро рассудил, Бартоло, — одобрил его философию капитан. — Сам Аристотель не выразился бы лучше.
Бартоло почесал в затылке:
— С доном Аристотелем не сидел, а потому не умею вам сказать, смог бы он снести близкое знакомство с сестрицами дыбой и «кобылой», не вымолвив ни единого словечка для протокола… А заплечных дел мастера попадаются до того дошлые — мы-то с вами знаем, капитан, — что у них и каменная статуя чакону спляшет. Порой в такой раж входят, что хоть беги… Оттуда, правда, не сбежишь.
С этими словами он удалился, притворив за собой дверь. Тогда я вытащил из кармана и положил на стол кошелек, переданный мне доном Франсиско.
Алатристе с отсутствующим видом сложил золотые вкучку.
— А теперь рассказывай.
— Что вам угодно услышать от меня?
— Мне угодно знать, что ты в ту ночь делал на Минильясской дороге.
Я сглотнул. Поглядел на лужу у себя под ногами. Перевел глаза на капитана. Я был ошеломлен, как героиня комедии, обнаружившая мужа без света, зато с любовницей.
— Да вы сами знаете… Шел за вами следом.
— Зачем?
— Я беспокоился, как бы…
И замолк. Лицо у моего хозяина стало такое, что язык у меня прилип к гортани. Зрачки его, прежде расширенные — в комнате было полутемно — сузились до размеров шпажного острия и пронизывали меня насквозь. Мне уже приходилось видеть такое прежде, и я знал, что человек, на которого Диего Алатристе смотрел так, уже через мгновение валялся на полу в луже собственной крови. Мудрено ли, что я сдрейфил?
А потому глубоко вздохнул и рассказал все. От и до.
— Я люблю ее.
Как будто это может служить оправданием! Капитан давно уже стоял у окна, глядя, как льет на улице дождь.
— Сильно?
— Невозможно выразить словами!
— Ее дядюшка — королевский секретарь.
Я понял смысл этих слов, содержавших в себе скорее предостережение, нежели упрек. А значили они, что мы вступаем в область предположений и догадок: вне зависимости от того, был ли Луис де Алькесар в курсе дела — Малатеста выполнял его поручения прежде, — вопрос в том, использовал ли он свою племянницу намеренно, как приманку, или же вместе со своими сообщниками решил воспользоваться обстоятельствами? Так сказать, вскочить на подножку уже тронувшейся кареты.
— А сама она — фрейлина королевы, — добавил Алатристе.
И это была тоже подробность немаловажная. Внезапно вспомнив последние слова Анхелики, я постиг их тайный смысл и похолодел от ужаса. Совершенно нельзя было исключить, что наша государыня донья Изабелла де Бурбон имела непосредственное отношение к этому заговору. Королева не перестает быть женщиной. И ревность не чужда ей так же, как последней судомойке.
— Все равно не понимаю, зачем было вовлекать во все это тебя? — вслух рассуждал капитан. — Хватило бы и одного меня…
— Не знаю… — отвечал я. — Больше работы для палача. Но вы правы: если в это дело впутана королева, то без ее придворной дамы дело не обошлось.
— Может быть, ее хотят впутать…
Я растерянно поднял на него глаза. Затем подошел к столу и уставился на горку золотых монет.
— Тебе не приходило в голову, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы навлечь подозрения на королеву?
Рот у меня открылся сам собой. И в самом деле — такую возможность нельзя было отвергнуть.
— В конце концов, она не только обманутая жена, но и француженка… Вообрази, как могли бы развиваться события: король убит, Анхелика бесследно исчезла, ты схвачен вместе со мной и под пыткой признаешься в том, что вовлекла тебя в это дело менина ее величества.
Я, оскорбленный в лучших чувствах, прижал руку к сердцу:
— Никогда бы я не выдал Анхелику.
Капитан только усмехнулся — устало и всезнающе.
— И все же допустим такое.
— Это исключено. Вспомните, как инквизиция добивалась, чтобы я дал показания на вас.
— Помню.
Он не сказал больше ни слова, но я знал, о чем он думает. Отцы-доминиканцы — одно, а королевская юстиция — совсем другое. Бартоло Типун знал, о чем говорил, остерегаясь попасть в руки к тамошним мастерам дознания. Я обдумал подобную интригу и нашел ее вполне возможной. Потолкавшись на ступенях Сан-Фелипе, послушав, о чем толкуют капитановы друзья, я знал последние новости: распря между кардиналом Ришелье и нашим графомгерцогом Оливаресом очень скоро должна была раскатиться грохотом барабанов на полях Европы. Никто не сомневался, что как только лягушатники, которых господь подсудобил нам в соседи, покончат со своими еретиками-гугенотами, засевшими в Ла-Рошели, они примутся за нас. А мы — за них. В этих обстоятельствах заговор королевы выглядел правдоподобно. И в любом случае сыграл бы кое-кому на руку. Ибо кое-кто на дух не переносил Изабеллу де Бурбон — вот, скажем, Оливарес со всей своей кликой и женой в придачу — и мечтал поскорее стравить нас с французами. Мечтателей таких хватало и внутри страны, и за ее пределами — в число их входили и англичане, и венецианцы, и турки, и даже сам Папа Римский. Антииспанская интрига, в центре которой стоит сестра французского короля, — более чем правдоподобно. А кроме того, это объяснение отвлекает от других, быть может — истинных.
— Ну ладно, — сказал капитан, поглядев на свою шпагу. — Думаю, пора нанести визит.
Это был выстрел вслепую: ведь минуло почти три года. Однако попытка — не пытка. Алатристе — плащ насквозь пропитался водой, поля шляпы намокли и обвисли — внимательно изучал дом. По забавному совпадению он располагался совсем неподалеку от его нынешнего укрытия. А впрочем, никакое это не совпадение — просто в этом мадридском квартале были самые дешевые и скверные таверны, кабачки и гостиницы. А где один нашел прибежище, туда и другой прибежит.
Капитан огляделся. Полупрозрачная завеса ливня скрывала площадь Лавапьес с фонтаном посередине.
— Улица Примавера, — насмешливо пробормотал он. Нельзя сострить ядовитей — уж такая «примавера», что дальше ехать некуда: утопает в грязи, по которой несутся потоки дерьма. А вот и дом — бывшая гостиница «У ландскнехта»: на окнах развевается на манер саванов штопаное белье, вывешенное на просушку еще до того, как хлынул дождь.
Битый час капитан вел наблюдение и вот наконец решился. Пересек улицу и через арку попал во двор, пропахший конским навозом. Никого. Только мокрые куры рылись в земле под галереями, а когда Алатристе поднялся по скрипучей деревянной лестнице, толстый кот, уже доедавший задушенную мышь, обратил к нему свой бесстрастный котовий взор. Капитан дернул пряжку плаща, набухшего влагой и ставшего втрое тяжелей. Снял и шляпу — обвисшие поля закрывали обзор. Тридцать ступенек привели его на самый верх, и там он остановился и напряг память. Вроде бы — последняя дверь по коридору направо. Подошел и прислушался. Ни звука. Только стонали голуби, спрятавшись под дырявой застрехой. Капитан спустил на пол шляпу и плащ, вытащил оружие, за которое не далее как сегодня днем отдал Бартоло Типуну десять эскудо — почти новый пистолет с длинным стволом и украшенной золотой насечкой рукоятью с инициалами неведомого владельца. Убедился, что пистолет хорошо смазан и замок не отсырел. Взвел курок. «Щелк», — сказал тот. Крепко держа оружие в правой руке, левой Алатристе распахнул дверь.
Да, все как тогда. Под окном, поставив у ног бельевую корзину, сидела и шила та же самая женщина. Корзина покатилась по полу, когда женщина вскочила при появлении незнакомца и открыла рот, чтобы закричать. Однако не успела — оплеухой Алатристе отшвырнул ее к стене. Лучше одна затрещина для начала, сказал он себе, чем много — в конце, когда она опомнится. Самое лучшее — сразу напугать и сбить с толку. И во исполнение своего намерения он схватил женщину за горло, потом зажал ей рот и, поднеся пистолет к виску, прошипел:
— Пикнешь — убью.
На ладони он ощущал ее влажное дыхание, а дрожь ее притиснутого к стене тела передавалась ему. Алатристе оглянулся. Комната изменилась — та же убогая мебель, та же выщербленная посуда на столе, покрытом грубой холстиной, но теперь в ней было прибрано и чисто. Появились рогожная циновка на полу и медная жаровня. Кровать, отделенная занавеской, была застелена свежим бельем, а в котелке над очагом что-то варилось.
— Где он? — спросил капитан, чуть отодвинув ладонь от ее губ.
Еще один выстрел навскидку. Быть может, она не имеет никакого отношения к человеку, которого он ищет, однако это — единственная ниточка. Чутье охотника подсказывало ему, что этой женщиной стоит заняться. Правда, он видел ее давно и всего нескольких мгновений, но запомнил, какую тоску и тревогу выражало тогда ее лицо, какой страх испытывала она — не за себя, а за безоружного и беспомощного человека, которому грозила опасность. Что ж, со злой насмешкой вспомнил капитан свои тогдашние мысли, в конце концов, и змеи ищут себе компанию. И спариваются.
Женщина молчала, испуганно скосив глаза на пистолет. Молодая, простенькая, недурно сложена, пряди черных волос небрежно сколоты на затылке и падают на лоб. Не красавица, но и не страшилище. В рубашке, оставлявшей на виду голые руки, в баскинье из дешевого сукна, в шерстяной шали, соскользнувшей сейчас с плеч на пол. От нее пахло едой, варившейся в котелке, и едва ощутимо — потом.
— Где? — повторил Алатристе.
Испуганные глаза перекатились в его сторону, но рот, из которого вырывалось тяжелое дыхание, был сомкнут. Под своим локтем капитан почувствовал, как поднимается и опадает ее грудь. Он снова обвел комнату взглядом и нашел то, что искал, — следы присутствия мужчины: черная пелерина на гвозде, сорочки, вывалившиеся из корзины, два выстиранных и недавно накрахмаленных воротника. Это еще ни о чем не говорит. Дело женское, дело житейское, один ушел, другой пришел.
— Когда вернется?
Она по-прежнему молчала, следя за ним глазами, полными ужаса. Но вот в них сверкнула искорка понимания. Кажется, она меня узнала, подумал капитан, по крайней мере — поняла, что ей от меня вреда не будет.
— Я отпущу тебя, — промолвил он, сунув пистолет за пояс и достав кинжал. — Но если крикнешь или попробуешь сбежать — приколю как свинью.
В этот час игорный дом Хуана Вигоня был, как всегда, полон — шулера вперемежку с новичками, прихлебатели, желающие получить мзду от удачливых игроков. Сам хозяин поспешил мне навстречу, едва я перешагнул порог.
— Видел? — спросил он вполголоса.
— Рана его затянулась. Здоров, велел кланяться.
Отставной кавалерийский сержант, получивший увечье под Ньипортом, удовлетворенно кивнул. С моим хозяином его связывала давняя и прочная дружба. Как и прочих завсегдатаев таверны «У Турка», его тревожила судьба капитана Алатристе.
— А что Кеведо? Он был во дворце?
— Делает, что может. Но может не много.
Вигонь только вздохнул в ответ на эти мои слова. Равно как и дон Франсиско, и преподобный Перес, и аптекарь Фадрике Кривой, он ни на миг не поверил слухам, гулявшим по городу. Но ни к кому из друзей Алатристе не мог обратиться за содействием, ибо опасался навлечь на них большие неприятности. Покушение на цареубийство — обвинение столь серьезное, что нести его лучше в одиночку, тем паче, что в конце пути отчетливо вырисовывается плаха.
— Он здесь, — сообщил содержатель.
— Один?
— Нет. С ним герцог де Сеа и какой-то португальский дворянин.
Как предписывали правила, я отстегнул и протянул ему свой кинжал, а Вигонь отдал его охраннику у дверей. У вспыльчивых и заносчивых мадридцев оружие так легко вылетало из ножен, что особым эдиктом входить с ним в игорные и веселые дома было запрещено. Тем не менее зеленые столы часто обагрялись кровью.
— Он в духе?
— Граф выиграл сто эскудо, так что, я думаю, жизнью доволен. Однако поторопись: я слышал, что они собираются переместиться в заведение с девочками и там будут ужинать.
Он ласково потрепал меня по плечу и отошел. Старый кавалерист исполнил долг дружества, известив о приходе Гуадальмедины. После разговора с капитаном я думал-думал и наконец придумал план, который мог появиться на свет только от полнейшей безнадежности. Однако другого не было. Потом я мотался под дождем по городу, посещая друзей и расставляя сети, и вот теперь, вымокший и усталый, пришел туда, где должен был обложить зверя — ни в королевском дворце, ни в особняке Гуадальмедины подобное было бы немыслимо. Ломая голову так и эдак, я все же решил идти до конца, даже если это будет стоить мне свободы или этой вот самой сломанной головы.
Я пересек игорную залу, залитую желтоватым светом больших сальных свечей, горевших по стенам. За шестью столами шла игра — мелькали карты, сыпались кости, сверкали монеты. Слышались радостные восклицания и горестная брань, и у каждого стола ловкие мухлевщики, мастера передерга и крапа, бессовестно дурачили ближнего, высасывая из него денежки, — в зависимости от того, во что играли, — то постепенно, малыми порциями, то обрушивая проигрыш ему на голову, как удар молнии, и оставляя бедолагу с пустыми трюмами:
Будь проклято, бубновое отродье! Анафема тебе, исчадье ада! Еще сто лет лежало бы в колоде! Так нет! Пришло, когда тебя не надо! Что делать мне с тобою на руках?! Что делать? — Оставаться в дураках.Альваро де ла Марка эти строки к себе отнести не мог. Ибо наделен был зорким глазом и ловкой рукой и в совершенстве знал все шулерские приемы, так что любому мог дать сто очков вперед — хотя так много и не требовалось: довольно было и двадцати одного, выпадавшего с завидной частотой. Впрочем, сейчас, не присаживаясь к столу, граф играл в кости — играл и выигрывал, и потому был оживлен и весел. И конечно, по всегдашнему своему обыкновению, — наряден: коричневый колет, расшитый золотым стеклярусом, широченные штаны, сапоги с отворотами, а за перевязь сунуты были надушенные мускусом перчатки. С ним вместе, помимо португальского дворянина, упомянутого Вигонем, — вскоре выяснилось, что это молодой маркиз де Понталь, — был и герцог де Сеа, внук герцога де Дермы и зять адмирала де Кастильи, весьма родовитый юноша, которому вскоре суждено было обрести славу отважнейшего воина на полях Италии и Фландрии, а потом с честью сложить голову в рейнских долинах. Протискавшись меж тех, кто играл, кто глазел и кто надеялся поживиться выигрышем, я скромно стал у стола и дождался, когда граф, выбросив две кости по шести очков каждая, поднимет глаза. Заметив меня, он принял вид удивленный и недовольный и с нахмуренным челом вернулся к игре, однако я оставался в прежней позиции, положив себе не трогаться с места, пока не добьюсь своего. В очередной раз встретившись с Гуадальмединой глазами, я подал ему знак и чуть отстранился в надежде, что если приветливости не дождусь, то хоть на любопытство рассчитывать могу. И это подействовало, хоть и не сразу. Граф сгреб со стола выигрыш, несколько монеток сунул прихлебателям, а остальное ссыпал в кошелек. И направился ко мне. По дороге кивнул разносчику, и тот сейчас же подал ему бокал вина. Богатому каждый рад услужить.
— Вот не ожидал тебя тут встретить, — холодно сказал Гуадальмедина, сделав глоток.
Мы прошли в отдельную комнатку, предоставленную Хуаном в наше распоряжение. Без окон, а всей обстановки — пара стульев и стол, на котором горела свеча. Я закрыл за собой дверь и привалился к ней спиной.
— Выкладывай, только покороче.
Он глядел на меня не без опаски, и от того, как держался он и говорил, меня охватила глубокая печаль. Как же сильно, думалось мне, должен был обидеть его капитан, если граф позабыл, что под Керкенесом тот спас ему жизнь, что мы взяли на абордаж «Никлаасберген» только по дружбе с ним и исполняя свой долг перед королем. Забыл и то, как однажды ночью в Севилье мы дрались плечом к плечу против своры стражников. Но я тут же заметил, что на лице у него — лиловатые следы еще не сошедших кровоподтеков, а правая рука, проколотая на улице Лос-Пелигрос, слушается его не вполне, и уразумел: у каждого есть свои резоны делать то, что он делает. Или не делает. И у Альваро де ла Марки имелись веские основания держать зло на капитана Алатристе.
— Есть кое-что такое, что вашему сиятельству надобно знать, — сказал я.
— Кое-что? Моему сиятельству надобно знать очень многое. Дай срок…
Конец фразы потонул в вине, которое граф прихлебнул, и потому слова эти приобрели оттенок не то зловещий, не то угрожающий. Гуадальмедина так и не присел, будто обнаруживая намерение поскорее покончить с разговорами, и держался все так же отчужденно: в одной руке — бокал, другая — изящно уперта в бок. Я поглядел в это породистое лицо, обрамленное завитыми волосами, украшенное изящно выстриженными усиками и светло-русой эспаньолкой. Перевел взгляд на выхоленные белые руки с перстнями на пальцах — за один такой перстенек можно выкупить пленного у алжирских пиратов. Другой мир, подумалось мне, другая Испания: власть и деньги неразлучны с обитателями ее от зачатия до отпевания. Да, на месте графа де Гуадальмедины я бы тоже не смог взглянуть кое на что иными глазами. Следовало, однако, попытаться, чтобы он сделал это. В пороховницах моих оставался последний заряд.
— Дело в том, — сказал я, — что в ту ночь я тоже был там.
Темнело. За окном по-прежнему лил дождь. Диего Алатристе, пребывая в каменной неподвижности у стола, глядел на женщину, сидевшую на стуле; руки у нее были скручены за спиной, рот заткнут кляпом. Капитану не слишком-то нравилось то, что он сделал с нею, но иного выхода не было: если расчет его верен, и сюда явится именно тот, кого он ждет, будет непростительной оплошностью допустить, чтобы женщина могла двигаться или кричать.
— Где тут свет зажечь? — спросил он.
Женщина не шевельнулась и только смотрела на него. Алатристе поднялся и стал шарить в стенном шкафу, вскоре отыскав огарок свечи и несколько лучинок. Он запалил одну об угольки, тлеющие в очаге, у которого сохли его плащ и шляпа. Заодно сдвинул подальше котелок — содержимое его и так выкипело наполовину. Потом поднес горящую лучинку к фитилю свечки, стоявшей на столе. Налил себе миску этого пахучего варева, а верней — жаркого из баранины с турецким горохом, перепревшего и обжигающе горячего. Справился, запивая вином, собрал горбушкой хлеба подливку. Покончив с этим, взглянул на женщину. За три часа она не попыталась вымолвить ни слова.
— Тебе нечего бояться, — солгал капитан, — я всего лишь поговорю с ним.
Все это время он провел с толком: пытался убедить себя, что поступил правильно и зашел по верному адресу. Помимо пелерины, сорочек и накрахмаленных воротников, которые могли бы принадлежать кому угодно, в сундучке он обнаружил пару прекрасных пистолетов, стеклянную пороховницу и мешочек с пулями, отточенный как бритва кинжал, кольчужную рубаху, кое-какие бумаги с явно зашифрованными записями. Нашлись еще и две книги, и теперь, зарядив пистолеты и сунув их за пояс, а ствол Типуна положив перед собой на стол, капитан с любопытством перелистывал их. Поскольку одна оказалась изданной в Венеции «Естественной историей» Плиния в итальянском переводе, капитан на миг сильно усомнился в том, что ее владелец и человек, которого он поджидает — это одно и то же лицо. Вторая же была по-испански, и при взгляде на заглавие он не смог сдержать улыбку. «Политика Бога, правление Христа», называлась она и сочинил ее дон Франсиско де Кеведо-и-Вильегас.
За дверью послышались шаги, и ужас вспыхнул в глазах женщины. Диего Алатристе взял со стола пистолет и, стараясь ступать так, чтобы половицы не скрипели, встал у косяка. Дальнейшее прошло как по писаному, с ошеломительной отчетливостью: дверь отворилась и, отряхивая мокрые плащ и шпагу, через порог шагнул Гвальтерио Малатеста. В тот же миг капитан мягко приставил ему пистолет к виску.
VIII О книгах и убийцах
— Она тут совершенно ни при чем, — сказал Малатеста.
Положив на пол кинжал и шпагу, он ногой оттолкнул их от себя. Снова поглядел на женщину со связанными руками и кляпом во рту.
— Это мне все равно, — ответил капитан, не отводя дуло от головы итальянца. — Я банкую.
— Что ж, валяй. Ты и женщин убиваешь?
— Иногда приходится, если вмешиваются. Как, полагаю, и тебе.
Малатеста задумчиво покивал. Побитое оспой лицо — от шрама на веке правый глаз чуть косил — оставалось невозмутимым. Потом он поднял голову и посмотрел на капитана. Свеча на столе тускло озаряла его зловещую черную фигуру. Но свежеподстриженные усики дернулись от едва заметной улыбки.
— Второй раз уже навещаешь меня здесь.
— Второй — и последний.
Малатеста немного помолчал.
— Тогда у тебя тоже был пистолет в руке. Помнишь?
Алатристе помнил. Та же самая убогая конура, кровать, а на кровати — раненый итальянец со змеиным взглядом. «Повезет — поспею на тот свет как раз к ужину», — сказал он тогда.
— Я часто жалел впоследствии, что не пустил его в ход.
Жестокая улыбка стала шире. Малатеста как бы говорил ею: «Тут мы с тобой сходимся. Выстрел ставит точку, а сомнения — многоточия». Узнающим взглядом итальянец окинул пистолеты, которые капитан нашел в сундучке и сунул за пояс.
— Зря ты разгуливаешь по Мадриду, — с многозначительно мрачной заботой сказал Малатеста. — Слышал я, что шкура твоя не стоит ни гроша.
— От кого же ты это слышал?
— Не помню. Люди говорят.
— Подумай лучше о себе.
Малатеста снова покивал, как бы признавая своевременность и ценность совета. Затем покосился на женщину, которая испуганно поглядывала то на одного, то на другого.
— Немного беспокоит меня, любезный мой капитан, что если ты не разнес мне череп в тот миг, когда я переступил порог, значит, надеешься что-то выведать.
Алатристе промолчал. Некоторые вещи подразумеваются сами собой.
— Понимаю, понимаю твое любопытство, — добавил, немного подумав, итальянец. — И быть может, смогу удовлетворить его без ущерба для себя.
— Почему выбрали именно меня? — осведомился капитан.
Малатеста чуть развел руками, словно говоря: «А почему бы и нет?», затем вопросительно взглянул на кувшин с вином, прося позволения промочить горло. На это капитан ответил столь же безмолвным отказом.
— По нескольким причинам, — продолжал Малатеста, смиряясь с тем, что придется сносить жажду. — У тебя давние счеты со многими — не только со мной… И потом, твоя интрижка с этой актриской… — Тут он лукаво улыбнулся. — Можно ли было упустить возможность представить дело как ревность и месть отвергнутого любовника? Особенно если у него шпага так легко вылетает из ножен… Очень жаль, что нам подставили двойника.
— Ты знал, кто перед тобой?
Итальянец горестно прищелкнул языком, сокрушаясь, как истинный мастер своего дела, что допустил столь досадный недосмотр.
— Думал, что знал. А оказалось, что — ничего подобного.
— Надо сказать, ты высоко занесся…
Малатеста воззрился на капитана с насмешливым недоумением:
— Высоко или низко, король или ферзь — мне на это глубоко наплевать. Король для меня хорош в карточной колоде, а бог — чтобы поминать его вкупе с душой и матерью. Очень славно, что прожитые годы заставляют тебя думать о главном. Все очень просто. Всему — своя цена. Разве ты рассуждаешь иначе? Ах, ну да… Я и позабыл, что ты солдат. Таким, как ты, необходимо талдычить что-нибудь про короля, святую веру, отчизну и прочая. Без этих слов вы с места не сдвинетесь. Диковато звучит, а? В наше-то время, с вашей-то историей…
Говоря все это, Малатеста не спускал глаз с капитана, будто ожидая от него ответа, но так и не дождавшись, прибавил:
— Так или иначе, твои верноподданнические настроения не помешали тебе соперничать с его католическим величеством… Puttana Eva!
Он замолчал и тотчас высвистал свою обычную руладу. Словно бы не замечая, что к виску его по-прежнему приставлен пистолет, он с рассеянным видом обвел взглядом свое обиталище. Рассеянность эта, впрочем, была деланной: Алатристе видел, что итальянец все заметил и ничего не упустил. Стоит мне хоть на миг ослабить бдительность, подумал он, как эта тварь тотчас кинется на меня.
— Кто тебе платит?
Хохот, скрипучий и сиплый, заполнил комнату:
— Не тронь святого, капитан. Людям нашего с тобой ремесла такие вопросы не задают.
— Луис де Алькесар принимает в этом участие?
Малатеста бесстрастно хранил молчание. Потом, взглянув на книги, которые перелистывал Алатристе, спросил:
— Вижу, заинтересовался кругом моего чтения?
— Скорее удивился. Знал, что ты сволочь, но что такая просвещенная — для меня открытие.
— Одно другому не помеха.
Малатеста поглядел на женщину, замершую на стуле. Небрежно прикоснулся к шраму на правом веке:
— Книги способствуют пониманию. Разве не так? В них можно найти оправдание тому, что предаешь, что врешь… Даже тому, что убиваешь.
Не переставая говорить, он оперся рукой о стол. Алатристе предусмотрительно сделал шаг назад и стволом пистолета показал, чтобы итальянец сделал то же самое.
— Слишком много говоришь. И все не о том, что мне нужно.
— Как быть? У нас в Палермо свои правила.
Он покорно отстранился от стола и скосил глаз на поблескивающий в свете огарка ствол.
— Как поживает мальчуган?
— Твоими молитвами. Скоро он будет здесь.
Итальянец улыбнулся ему как сообщнику, хотя его улыбка больше напоминала вымученную гримасу.
— Значит, тебе все же удалось оставить его в стороне… Поздравляю. Толковый паренек. И ловкий. Жаль, что ты направил его не по той дорожке… Кончит, как ты да я. Мне, впрочем, сдается, что я-то к месту назначения уже приплыл…
В этих словах не было ни жалобы, ни протеста. Вывод напрашивался словно бы сам собой. Малатеста вновь окинул женщину взглядом — на этот раз более долгим — и повернулся к Алатристе:
— Жаль, — с безмятежным спокойствием сказал он. — Очень жаль. Я бы очень хотел обстоятельно потолковать обо всем этом в другом месте, со шпагой в руке. Плохо верится, что ты предоставишь мне такую возможность.
Глаза его смотрели пытливо и одновременно насмешливо.
— А потому плохо верится, что ты мне этой возможности не дашь. Так ведь?
Ни на миг не теряя хладнокровия, он продолжал улыбаться, меж тем как глаза его неотрывно следили за капитаном.
— Тебе никогда не приходило в голову, — вдруг сказал он, — что мы с тобой очень похожи?
Ну да, подумал капитан, разница лишь в том, что я еще поживу. И, побуждаемый этой мыслью, он крепче стиснул рукоять пистолета, точнее направил дуло и приготовился спустить курок. И в движениях этих Малатеста прочел свой приговор не хуже, чем по бумаге: лицо его окаменело, и улыбка застыла на губах.
— Что ж, увидимся в аду, — сказал он.
В этот самый миг женщина — руки ее были скручены за спиной, глаза вылезли из орбит, а крик, отчаянный и свирепый, был заглушен кляпом — вскочила со стула и головой вперед кинулась на Алатристе. Тот успел отпрянуть — ровно настолько, чтобы избежать удара, — и невольно выпустил итальянца из-под прицела. Но для Гвальтерио Малатесты даже самое краткое мгновение решало очень многое, ибо способно было нарушить хрупкое равновесие между жизнью и смертью. И покуда капитан, сторонясь упавшей у его ног женщины, снова наводил пистолет, Малатеста смахнул со стола свечу, ввергнув комнату во тьму, и бросился на пол, силясь дотянуться до своего оружия. Выстрел, грянувший у него над головой, разбил оконное стекло, а вспышка высветила блеск уже обнаженного клинка. Матерь божья, пронеслось в голове Алатристе, он уйдет. Или, чего доброго, меня пристукнет.
На полу ворочалась и скулила женщина. Алатристе перепрыгнул через нее, бросил разряженный пистолет, одновременно обнажая шпагу. И как раз вовремя, чтобы несколько раз ткнуть острием еще не успевшего вскочить Малатесту — в темноте, а значит, наугад. Три выпада подряд попали в пустоту, а затем откуда-то сзади и не издалека последовал ответный удар, который распорол колет и въелся бы в мясо, если бы капитан не крутанулся на месте. Стул, с грохотом откинутый в сторону, помог капитану найти противника и устремиться к нему с вытянутой шпагой — и вот наконец-то она со звоном скрестилась с клинком итальянца. Конец тебе, подумал Алатристе, левой рукой нашаривая за поясом пистолет. Но Малатеста, видно, не хотел получать пулю в упор и потому успел перехватить и удержать руку капитана. Они боролись молча и ожесточенно, обхватив друг друга, не тратя сил на брань и угрозы, так что слышалось только тяжелое, хриплое дыхание. Если он сумеет подобрать кинжал, я могу считать себя покойником, подумал Алатристе, и, позабыв про пистолет, потянулся было за своим бискайцем. Итальянец догадался о его намерении и, отчаянным усилием сбив капитана с ног, навалился сверху. Они покатились по полу под грохот падающей мебели и звон разбитой посуды. Шпаги здесь помочь не могли нисколько. Алатристе сумел наконец высвободить левую руку, вырвал из ножен кинжал и несколько раз подряд яростно ткнул им куда попало. Первый удар рассек на итальянце колет, второй пришелся в воздух, а потом скрипнула и отворилась от неистового пинка дверь, за которой, мелькнув на мгновенье в светлом прямоугольнике проема, силуэт Малатесты скрылся.
Я был счастлив. Дождь перестал, над городскими крышами разгорался сияющий день — солнце во все небо, а на небе ни облачка, — когда вместе с доном Франсиско вышли мы из ворот дворца. Пересекли площадь, проталкиваясь сквозь густую толпу любопытных, собравшихся здесь еще до рассвета и удерживаемых на почтительном расстоянии копьями дворцовой стражи. Мадридский народ — любопытный, говорливый, простодушно преданный своим государям, всегда готовый забыть о собственных тяготах и получающий извращенное наслаждение при виде роскоши, в которой купаются его владыки, — радостно сновал по эспланаде в чаянии лицезреть их величеств, чьи экипажи стояли у южного крыла. Предполагаемый выезд привел в движение не только народные упования, но и сонм придворных обоего пола и всех рангов, а равно и легион челяди, так что в Эскориал должен был тронуться целый кортеж. Отправлялась туда же, если уже не прибыла к месту, и труппа Рафаэля де Косара в полном составе, включая, разумеется, и Марию де Кастро, ибо первое представление комедии Кеведо «Кинжал и шпага» должно было состояться в начале будущей неделе в садах дворца-монастыря. Да, возвращаясь к королевскому кортежу или, как говорилось в те времена, — поезду, скажу, что все царедворцы соперничали друг с другом в роскоши, не обращая ни малейшего внимания на соответствующие эдикты, и на плитах эспланады слепили глаза раззолоченные кареты с гербами на дверцах, били копытами откормленные мулы и породистые кони, мелькали пышно расшитые ливреи, ибо и тот, кто мог, и тот, кто нет, тратили последние свои деньги, чтобы выглядеть истинными аристократами. И, по обыкновению, на этой сцене, в декорациях притворства и мнимости играли патриции и плебеи, кичась кровью готов, из кожи вон вылезая, чтобы перещеголять ближнего знатностью и древностью рода. Ибо, как сказал Лопе:
Да пусть меня отправят на костер, Коль мы не разживемся миллионом, По грошику взимая с тех, кто «доном» Стал звать себя с весьма недавних пор.— Не перестаю удивляться, — молвил дон Франсиско, — что ты сумел убедить Гуадальмедину.
— Я не убеждал его. Он сам убедился, услышав от меня, как обстояли дела на самом деле. Выслушал — и поверил.
— Поверил, оттого что хотел поверить. Он знает Алатристе и, стало быть, понимает, на что тот способен, а на что не пойдет никогда на свете. Одно дело — натворить глупостей из-за женщины, и совсем другое — поднять руку на короля.
Мы шли меж гранитных колонн к парадной лестнице. У нас над головами невысокое еще солнце освещало капители в античном стиле и двуглавых орлов, изваянных на арках, и золотые лучи скользили по Двору Королевы, где многочисленные придворные ожидали выхода их величеств. Дон Франсиско, то и дело снимая шляпу, учтивейшим образом раскланивался со знакомыми. Поэт был облачен в черный шелковый колет с крестом на груди, опоясан парадной шпагой с позолоченным эфесом. Я тоже приоделся как мог и прицепил сзади свой неизменный кинжал. Дорожный мешок, где лежали будничное платье и две смены белья, приготовленные Непрухой, слуга положил в экипаж, где вместе со слугами маркиза де Личе должен был ехать и я. Поэт, которому отведено было место в карете самого маркиза, отозвался об этой чести в свойственном ему духе:
Мне средь вельмож сидеть не внове: Какая, право, чепуха! Попивши благородной крови, Облагородится блоха.— Граф знает, что Алатристе ни в чем не виноват, — сказал я, когда мы вновь отошли в сторонку.
— Ну, разумеется, знает, — отвечал поэт. — Но легко ли простить обиду и проколотую руку? А тут еще и его величество замешалось… Однако теперь у Гуадальмедины есть возможность решить дело по совести.
— Но ведь от него многого и не требуется! Надо всего лишь устроить встречу с графом-герцогом.
Дон Франсиско огляделся по сторонам и понизил голос:
— Это, по-твоему, не много? Тем паче что всякий придворный ищет прежде всего выгоды для себя. Это ведь не просто история о том, как не поделили бабу… Когда вмешается Оливарес, дело примет совсем иной оборот. Алатристе — полезнейший свидетель, способный разоблачить заговорщиков. Они знают, что он никогда не заговорит под пыткой… Или хотя бы имеют веские основания так считать.
Тут снова кольнуло меня раскаянье. Ни Гуадальмедине, ни Кеведо я не рассказал об Анхелике. Знал о ней только Алатристе, и ему было решать, выдавать ее или нет. Но не я же произнесу перед посторонними имя той, кого я вопреки всему и рискуя навеки погубить свою душу, продолжал любить до самозабвения.
— Беда в том, что Алатристе после того шума, который вызвал его побег, не может как ни в чем не бывало появиться здесь. По крайней мере, пока не переговорит с Оливаресом или Гуадальмединой… Но до Эскориала семь лиг[121].
Я сам — разумеется, за деньги Кеведо — нанял доброго коня с тем, чтобы завтра на рассвете капитан выехал из Мадрида и к вечеру оказался в Эскориале. Конь, порученный попечению Бартоло Типуна, будет ждать под седлом у скита Анхеля, на той стороне сеговийского моста.
— Быть может, вам, дон Франсиско, стоило бы на всякий случай поговорить с графом. Мало ли что может случиться…
Кеведо положил руку на грудь — туда, где ящерицей распластался крест Сантьяго.
— Мне? И думать забудь. Я умудрился остаться в стороне и притом не лишиться дружбы, которой удостаивал меня твой хозяин. Зачем же в последнюю минуту все портить? Ты и сам превосходно справился.
Он поклонился проходившим мимо знакомым, закрутил ус и опустил левую руку на эфес:
— И вел себя, должен тебе сказать, как мужчина. Это был смертельно опасный номер, и ты доказал, что не трус.
Я ничего не ответил, оглядываясь по сторонам, ибо имелась у меня и своя собственная причина прокатиться в Эскориал.
Мы уже подходили в этот миг к широким ступеням лестницы, возвышавшейся между Двором Короля и Двором Королевы, и там, на площадке, где под огромным гобеленом, изображавшим нечто аллегорическое, замерли со своими алебардами четверо немецких гвардейцев, стояло в ожидании выхода их величеств самое избранное общество во главе с Оливаресом и его женой. Оглядев их, Кеведо пробормотал себе под нос:
Ты видишь, как венец его искрится, Как, ослепляя, рдеет багряница? Так знай, внутри он — только прах смердящий[122].Я обернулся к нему. Да, я уже кое-что знал о мире и о дворе, и в ушах еще звучали строки о короле и его блохе.
— Как же вы при этом, сеньор поэт, — улыбаясь, проговорил я, — отправляетесь в Эскориал в карете маркиза де Личе?
Дон Франсиско окинул меня бесстрастным взором, а потом, быстро оглядевшись по сторонам, дал мне легкую затрещину:
— Попридержи язык, нахальный мальчишка! Всему свое время. Лучше вспомни две замечательные стихотворные строчки — мои, между прочим! «.. А нежный слух терзать язвительною правдой — в занятье сем, мой друг, опасностей не счесть…»
И тем же размеренным тоном продекламировал концовку этого сонета: О, юность дерзкая! Внемли, пойми, услышь! Оставя злому зло, ты стать почтешь за благо Не соучастником — но очевидцем лишь.Но, каюсь, дерзкой юности, то бишь мне, было уже не до предостережений. В раззолоченной нарядной и душистой толпе показалась голова шута Гастончика, который знаками указывал мне на заднюю лестницу, предназначенную для дворцовой обслуги. И, подняв глаза, я увидел за резными гранитными перилами галереи золотистые локоны Анхелики де Алькесар. Письмо, написанное мною накануне, дошло до адресата.
— Полагаю, ты должна мне что-то сказать.
— Ничего я не должна. Тем более что и времени нет — ее величество вот-вот спустится.
Опершись на перила, она наблюдала за суетой внизу. И глаза ее в то утро были столь же холодны, как и ее речи. Куда девалась та пылкая девчонка в мужском платье, которую я лишь вчера, кажется, держал в своих объятьях?
— На этот раз ты зашла слишком далеко. Ты, и твой дядюшка, и все, кто измыслил эту затею.
С рассеянным видом перебирая ленты, украшавшие лиф ее бархатного платья с парчовыми цветами на подоле, она ответила:
— Не возьму в толк, о чем вы, сударь. И уж тем более — при чем тут мой дядюшка?
— О чем? О засаде на Минильясской дороге! — с досадой вскричал я. — О человеке в желтом колете. О покушении на…
Она ловко зажала мне рот, и от прикосновения ее пальцев к моим губам я затрепетал, и это не укрылось от нее.
— Ты, видно, бредишь, — с улыбкой произнесла она.
— Если все это обнаружится, тебе несдобровать.
Анхелика взглянула на меня с любопытством: чего, мол, беспокоишься?
— Не могу себе представить, что ты назовешь имя дамы не там, где надо.
Как по книге, читала она мысли, проносившиеся в моей голове. Я гордо выпрямился:
— За меня можешь не опасаться! Но в это дело вовлечено еще много людей.
Она сделала вид, что не понимает моего намека.
— Это ты, наверно, про своего друга Нахалатристе?
Я промолчал и отвел глаза. Ответ она увидела у меня на лице и с презрением сказала:
— Я считала тебя благородным человеком.
— Я таков и есть.
— И еще я думала — ты меня любишь.
— Люблю.
В раздумье она прикусила нижнюю губу. Глаза ее казались хорошо отшлифованными сапфирами — тепла в них было примерно столько же.
— Ну что — ты уже продал меня кому-нибудь?
В этих словах слышалось такое презрение, что я потерял дар речи. И не сразу сумел прийти в себя и возразить. Не воображай, хотел сказать я, что скрою все это от капитана. Но слова мои были заглушены грянувшими в эту минуту трубами — на верхней площадке парадной лестницы показалась августейшая чета. Анхелика обернулась и подобрала подол.
— Мне надо идти… — Она торопливо что-то обдумывала. — Быть может, мы еще увидимся.
— Где?
Чуть поколебавшись, она как-то странно взглянула на меня — странно и так пронизывающе, что я почувствовал себя совершено голым.
— Дон Франсиско де Кеведо берет тебя с собой в Эскориал?
— Да.
— Вот там и увидимся.
— Как я найду тебя?
— Ты глуп. Я сама тебя найду.
Это звучало не столько обещанием, сколько угрозой. Или и так, и эдак одновременно. Я глядел ей вслед, и, обернувшись она послала мне улыбку. Боже милосердный, в очередной раз подумал я, как она прекрасна! И как ужасна… Пройдя колонны, Анхелика двинулась вниз, вслед за королем и королевой, которые уже спустились по лестнице и теперь принимали приветствия Оливареса и остальных. Затем все вышли на улицу, и я поплелся за ними, предаваясь самым черным мыслям и горестно припоминая стихи, что дал мне однажды переписать преподобный Перес:
В обман поверив, истины страшиться, пить горький яд, приняв его за мед, несчастья ради, счастьем поступиться, считать блаженством рая тяжкий гнет, — все это значит: в женщину влюбиться; кто испытал любовь, меня поймет[123].А на улице сияло солнце, и, черт возьми, зрелище открывалось волшебное. Король, который галантно вел королеву под руку, надел в тот день костюм для верховой езды, затканный серебряной ниткой и перепоясанный красным тафтяным кушаком, прицепил, натурально, шпагу и шпоры в знак того, что он, юный и искусный наездник, часть пути проделает в седле, рыся у кареты ее величества. А за каретой этой, запряженной шестеркой великолепных белых коней, двинутся четыре других, где разместятся двадцать четыре фрейлины и камеристки. На площади Филиппа и Изабеллу первым приветствовал папский легат кардинал Барберини, собравшийся в Эскориал в компании с герцогами де Сессой и де Македой, а за ним уже — все прочие. Их величества взяли с собой дочь, инфанту Марию-Евгению — крошку нескольких месяцев от роду несла на руках кормилица, — брата и сестру короля — инфантов дона Карлоса и донью Марию, ту самую, за которую безуспешно сватался принц Уэльский, — а также кардинала-инфанта дона Фернандо, архиепископа Толедского, будущего генерала и наместника Фландрии: это под его началом мы с капитаном Алатристе спустя несколько лет будем резать протестантов и шведов при Нордлингене. Из приближенных короля особенно выделялся граф де Гуадальмедина в необыкновенно изысканном французском кафтане. Чуть поодаль стоял и дон Франсиско де Кеведо с Оливаресовым зятем маркизом де Личе, который славился тем, что во всей Испании не было человека безобразней его, но при этом женат был на одной из первых придворных красавиц. И вот, когда монархи, кардинал и вельможи расселись по своим экипажам, и их, высоким стилем выражаясь, колесничие щелкнули бичами, и кортеж тронулся в сторону Санта-Марии-ла-Майор и к Пуэрта-де-ла-Вега, народ, придя в полнейший восторг от всего происходящего, принялся рукоплескать без передышки, так что ликующие клики достались даже на долю тому тарантасу, где вместе с челядью маркиза де Личе пристроился и я. Ибо в бессчастной нашей отчизне народ готов был ликовать по любому поводу.
…По соседству, в старом «Лазарете арагонцев», прозвонили к ранней заутрене. Диего Алатристе уже проснулся и лежал с открытыми глазами на своем топчане; затем сел, зажег свечу и принялся натягивать сапоги. Времени было достаточно, чтобы до рассвета поспеть к скиту Анхеля, но в его положении пересечь весь Мадрид и перейти на другой берег Мансанареса — это, знаете ли, дело нелегкое. Тут лучше прийти на час раньше, чем на минуту позже. Так что, обувшись, капитан налил воды в лохань, умылся, погрыз ломоть хлеба, чтобы заморить червячка, и довершил туалет — влез в нагрудник из буйволовой кожи, пристегнул к поясу шпагу и кинжал, рукоять которого обмотана была тряпкой, чтобы не звенела об эфес, и во исполнение той же задачи шпоры не прицепил, а спрятал до поры в карман. За пояс сзади заткнул два пистолета Гвальтерио Малатесты — трофеи достопамятного гостевания на улице Примавера, — еще накануне тщательно вычищенные, смазанные и заряженные. Набросил на плечи плащ, скрыв им стволы, нахлобучил шляпу, огляделся — не забыл ли чего? — дунул на свечу и вышел на улицу.
Было холодно, и он поплотней завернулся в плащ. Сообразив во тьме, куда идти, капитан вскоре оставил позади улицу Комадре и вышел на угол Месон-де-Паредес. Там, у фонтана Кабестрерос, на мгновение замер, ибо ему почудились какие-то шорохи, а потом двинулся дальше и мимо закрытых по раннему времени дубильных и кожевенных мастерских выбрался туда, где в свете фонаря, горевшего со стороны площади Себада, возвышалась мрачная громада новой скотобойни, которую можно было найти и в самом кромешном мраке по запаху тухлятины. Он уже огибал бойню, когда вновь и теперь уже без всякого сомнения услышал за спиной шаги. Либо кому-то оказалось с ним по пути, либо кто-то идет следом. Предполагая худшее, Алатристе вжался в нишу, сбросил плащ, передвинул один из пистолетов вперед и обнажил шпагу. Так постоял минутку, сдерживая дыхание и прислушиваясь, пока не убедился, что шаги приближаются. Снял шляпу, чтоб не выдать себя, осторожно высунулся из своего укрытия и заметил медленно надвигающийся силуэт. Может быть, просто совпадение, мелькнуло у него в голове, но береженого бог бережет. А потому вновь надел шляпу, стиснул шпагу и, когда пешеход поравнялся с ним, выскочил из ниши.
— Чтоб тебя разорвало, Диего!
Меньше всего в этот час и в этом месте ожидал капитан Алатристе увидеть перед собой Мартина Салданью. Лейтенант альгвасилов — или скорее тень, наделенная его зычным голосом, — испуганно шарахнулся назад, обнажив шпагу, причем быстрей, чем можно об этом рассказать. 3-з-зык, — просвистел, покидая ножны, клинок, тускло блеснув во тьме, и Салданья с проворством, которое, как сказал наш великий комедиограф, «достигается упражнением», принял оборонительную позицию. Алатристе, пощупав ступней, убедился, что почва — ровная и гладкая, прижался к стене левым плечом, защищая эту сторону туловища. Таким образом, он мог свободно действовать правой, тогда как лейтенанту это, наоборот, помешало бы.
— Не скажешь ли мне, каким ветром занесло тебя сюда? — осведомился Алатристе.
Салданья медлил с ответом, пошевеливая из стороны в сторону вытянутым вперед клинком. Без сомнения, он опасался, что давний его приятель применит старинный трюк, которого и сам не чурался: продолжая говорить, предпримет атаку. Это отвлекает внимание — пусть хоть на мгновение, но и мгновения вполне достаточно, чтобы получить дюйма три толедской стали в грудь.
— Х-х-ху… рмы поесть не хочешь ли? — вопросом на вопрос ответил он.
— И давно ты за мной следишь?
— Со вчерашнего дня.
Алатристе призадумался. Если это правда, у лейтенанта было времени в избытке, чтобы наглухо обложить заведение Барыги и вломиться туда с десятком стражников.
— Отчего же ты в одиночестве?
Салданья вновь помолчал, словно бы подыскивая слова.
— Я не по службе, — наконец проговорил он. — Частным образом.
Капитан оглядел широкоплечий приземистый силуэт.
— Пистолеты при тебе?
— Не все ль тебе равно? Я же тебя не спрашиваю, чем ты богат сегодня. Наше дело решим на шпагах.
Голос его звучал гнусаво — должно быть, сказывался сломанный нос. Алатристе счел вполне разумным, что лейтенант воспринимает как свое личное дело и его побег из кареты, и убитых стражников. Это в духе Салданьи — разобраться с обидчиком самому, с глазу на глаз.
— Сейчас не время, — ответил капитан.
На это альгвасил с расстановкой и тоном спокойного упрека ответил:
— Мне… кажется, Диего… ты забыл… с кем разговариваешь.
Поглядывая на то, как тускло мерцает перед ним полоска стали, Алатристе в нерешительности поднял было и вновь опустил свою шпагу.
— Не хочется мне с тобою драться. Как-никак представитель закона…
— Ничего, сегодня я не взял с собою жезл.
Алатристе в досаде прикусил губу: сбывались его худшие подозрения: дальше лезвия своей шпаги Салданья его не пропустит.
— Послушай, — предпринял он последнюю попытку. — Давай договоримся. Сейчас не могу… Мне предстоит сегодня одна очень важная встреча…
— А я на твои встречи плевать хотел. Плохо, что наша с тобой последняя встреча оборвалась на середине.
— Ну забудь ты про меня хоть на сегодня. Обещаю вернуться и все объяснить тебе.
— Засунь себе свои объяснения…
Алатристе со вздохом провел двумя пальцами по усам. Они с Салданьей слишком хорошо знали друг друга. Стало быть, делать нечего. Он стал в позицию, а лейтенант отступил на шаг. Было темно — клинки, однако, различить можно. Почти так же темно, меланхолически подумал Алатристе, как в ту ночь, когда этот самый Мартин Салданья, Себастьян Копонс, Лопе Бальбоа, он сам и еще пятьсот испанцев осенили себя крестным знамением, выскочили из траншеи и полезли по земляному валу на бастион «Конь» в Остенде. Вернулась половина.
— Ну, давай, — сказал он.
Зазвенели, столкнувшись, лезвия шпаг. Алатристе знал, с кем имеет дело: они и воевали бок о бок и часто фехтовали в шутку на деревянных рапирах: Салданья был человек умелый — несуетлив да проворен. Капитан начал бурный натиск, надеясь первым же выпадом задеть его, но противник, чуть отступив, чтобы открыть себе пространство для маневра, немедленно провел ответный удар — простой и прямой. Теперь пришлось попятиться капитану, и стена, прежде прикрывавшая его, теперь мешала ему, сковывая движения. Кроме того, он на миг потерял из виду блеск вражеского клинка. Развернувшись на месте, он яростно рубанул наотмашь и тотчас увидел летящую сверху шпагу Салданьи. Отбил, отпрянул, мысленно выругался. Конечно, темнота уравнивает шансы и победа становится делом случая, но все же он, Алатристе, владеет шпагой лучше своего противника, и надо просто измотать его. Все дело в том, сколько времени для этого понадобится и не случится ли так, что вопреки намерению лейтенанта свести с ним счеты один на один, какой-нибудь патруль услышит шум схватки, и орава стражников поспешит на выручку своему начальнику.
— Любопытно, кому отдаст твоя вдова жезл альгвасила? — осведомился Алатристе, делая два шага назад, чтобы перевести дух и оторваться от противника.
Он знал, что Салданью вывести из равновесия невозможно, покуда не затронута его жена. Но если затронут — берегись. Злые языки утверждали, что и должность свою, и чин он получил благодаря тому, что жена была снисходительна к домогательствам неких третьих лиц, так что стоило лишь намекнуть на это, как бешенство застилало лейтенанту глаза. Надеюсь, думал Алатристе, так случится и на сей раз. Поудобней перехватив шпагу, он сделал финт, чуть отстранился — удостовериться, что его обидные слова произвели требуемое действие, — и отметил, что клинки столкнулись с особенной яростью. Стало быть, он на верном пути.
— Бедняжка, — продолжал он. — Воображаю, как она будет убиваться. Но траур ей пойдет, так что утешители найдутся…
Салданья промолчал, но задышал чаще, а когда его неистовый выпад не достиг цели, наткнувшись на подставленное лезвие, выругался сквозь зубы.
— Р-рогач, — спокойно сказал Алатристе и подождал.
Вот теперь сработало. Он не столько видел, сколько угадывал в темноте, руководствуясь высверком клинков и топотом, что противник потерял голову, а вместе с нею — и фехтовальный навык, и ослеплен злобой. А потому стал покрепче и, не препятствуя неистовому натиску Салданьи, дал ему выполнить половину маневра, а вслед за тем, почувствовав, что лейтенант должен приставить левую ногу, — развернул кисть так, что пальцы оказались снаружи, и сделал выпад.
Тотчас высвободил лезвие и, вытирая его полой плаща, смотрел, как оседает наземь размытая темнотой фигура. Спрятал шпагу в ножны и опустился на колени рядом с тем, что было мгновение назад его другом. Как ни странно и неведомо почему, он не испытывал ни угрызений совести, ни жалости. Только глубокую усталость и желание выматериться в полный голос. Ах, будь оно все проклято. Он навострил уши. Салданья дышал — слабо и неровно, но капитану не понравилось, что при каждом выдохе слышалось бульканье и едва уловимое посвистыванье. Значит, задето легкое. Нарвался, дурья башка…
— Будь ты неладен… — вырвалось у него. Вытащил из рукава чистый платок и попытался заткнуть рану. Два пальца глубины, определил он. Заправил в нее край платка, чтобы унять кровотечение.
Потом, не обращая внимания на стоны Салданьи, развернул и приподнял его. Ощупал спину, но не нашел выходного отверстия и не выпачкал пальцы кровью.
— Мартин! Ты слышишь меня?
В ответ не раздалось, а прошелестело чуть слышно:
— Да…
— Постарайся не кашлять и не шевелиться.
Он опустил раненого на землю, подложив ему под голову свернутый плащ — чтобы голова была повыше, а не то кровь хлынет горлом, и Салданья захлебнется.
— Что со мной? — спросил тот, и последнее слово потонуло в нехорошем влажном кашле.
— Ты понял, что я говорю? Будешь кашлять — изойдешь кровью.
Альгвасил слабо кивнул и замер — лица не видно, только посвистывал воздух в пробитом легком. Через мгновение, когда Алатристе, нетерпеливо оглядевшись по сторонам, сказал ему, что должен уйти, тот вновь кивнул.
— Постараюсь кого-нибудь прислать к тебе… Священника хочешь?
— Чушь… не мели…
— Тем лучше. — Алатристе поднялся на ноги. — Значит, выживешь. Не впервой.
— Не впервой.
Алатристе уже сделал несколько шагов прочь, когда раненый подозвал его. Он вернулся и вновь стал на колени.
— Ну чего тебе, Мартин?
— Ты ведь… сам так не думаешь… А?
Алатристе стоило немалого труда разлепить пересохшие, будто склеившиеся губы, и каждое слово причиняло боль.
— Ну, ясно, не думаю.
— Сукин ты… сын…
— Ты ведь не первый день меня знаешь, Мартин.
Казалось, все силы Салданьи собрались в этот миг в пальцах — так крепко и цепко ухватили они руку Алатристе.
— Ты… хотел взбесить меня… Да?
— Да.
— И это… была… всего лишь… уловка?
— Разумеется.
— По… божись.
— Богом всемогущим клянусь.
Пробитая грудь Салданьи мучительно содрогнулась от приступа кашля. Или смеха.
— Я… так и знал… Сукин ты сын… Я так и знал.
Алатристе снова поднялся, запахнул плащ. Теперь, после схватки, когда схлынул жар, ему вдруг стало зябко — перед рассветом всегда холодает. А впрочем, может, и не в рассвете дело.
— Удачи тебе, Мартин.
— И тебе… тоже… капитан Алатристе…
Если не считать того, что где-то в отдалении заливались собаки, ночь была безмолвна — стих даже ветер, слегка шевеливший листвой на деревьях. Диего Алатристе одолел последний пролет Сеговийского моста и на миг остановился возле прачечных. Вода в Мансанаресе после недавних дождей вздулась, затопила берег. Позади осталась темная громада Мадрида, с высот нависавшего над рекой, вонзавшего в небо шпили своих колоколен и верхушку башни Алькасара: наверху — черный бархат небосвода, будто шляпками обойных гвоздиков, утыканный звездами, внизу, за городскими стенами — редкие и тусклые огни.
Сырость пропитала его плащ, когда, убедившись, что все в порядке, капитан зашагал к скиту. После того как, пряча лицо, он постучал в двери ближайшего дома, сунул в приоткрывшуюся щель дублон и велел привести хирурга к раненому, что лежит напротив скотобойни, Алатристе нигде больше не задерживался. Сейчас, уже в двух шагах от цели, он во избежание новых недоразумений вытащил один из пистолетов, взвел курок и взял на прицел стоявшего возле скита человека. На щелчок тревожным заливистым ржаньем отозвался конь, а голос Бартоло Типуна осведомился, он ли это.
— Он самый, — ответил Алатристе.
Типун со вздохом облегчения спрятал шпагу в ножны. Сказал, что очень рад видеть капитана целым и невредимым, и передал ему поводья, прибавив, что этот караковый жеребец хорошо смотрится, а еще лучше слушается узды и шпор, хоть и забирает самую малость вправо. Несмотря на это, такой конь впору маркизу — или самому китайскому императору, или любой персоне самого высшего разбора.
— Холка не потерта, спина не сбита, так что скачи хоть на край света. Я поглядел — подкован на все четыре и на совесть. Седло и подпруга в порядке… Вам понравится.
Алатристе похлопал коня по теплой, крепкой, длинной шее, и тот игриво мотнул головой, раздул ноздри и фыркнул, обдав капитанову руку теплым влажным дыханием.
— Если не гнать его галопом, — продолжал Бартоло Типун, — свободно покроет восемь-десять лиг. Одно время он принадлежал андалусийским цыганам, а они — наипервейшие лошадники на всем белом свете и клячу бы держать не стали… Но если все же загоните, то на почтовой станции в Галапагаре смените его на свежего коня, ибо оттуда дорога все время в гору идет…
— Я вижу, ты мне и провианту припас?
— Взял на себя такую смелость: тут коврига хлеба, головка овечьего сыру, оковалок копченого мяса и бурдючок с альборокским.
— Наверно, хорошее, — заметил Алатристе.
— Оно из таверны Лепре, и этим все сказано.
Алатристе тщательно проверил узду, удила, подтянул в обрез подпругу, подогнал стремена. Потом достал из кармана и протянул Типуну два золотых.
— Держи. Ты делом доказал, что по праву принадлежишь к сливкам воровской братии.
Тот расхохотался:
— Клянусь саваном моего дедушки, капитан, мне нравится такая работа! И делать-то ничего не пришлось! Задаром получаю. Не надо было даже губить христианские души, как тогда в Санлукаре… И, поверьте, мне очень жаль, что не смог заработать как полагается человеку с моими дарованиями… Закис я от тихой жизни. Иногда нападает охота встряхнуться — не все ж кормиться трудами неправедными моей подопечной…
— Кланяйся ей от меня. Дай ей бог уберечься от французской хворобы, что доконала твою Бласу Писорру, земля ей пухом.
Алатристе угадал в темноте, что Бартоло Типун осенил себя крестным знамением:
— Главный Хозяин — я разумею Господа нашего — не попустит.
— Что же касается того, что ты закис, — прибавил Алатристе, — то это беда поправимая. Не торопись, случай представится. Жизнь коротка, искусство — вечно.
— В искусстве, капитан, я смыслю немного, а вот насчет второго, слава святому Роху… Сами знаете про долг, про платеж и кто кого чем красит… Так вот, я зла не забываю, а добро помню. В этом смысле я надежней четырехдневной малярии — приду в срок, на минутку не запоздаю. Только свистните.
Алатристе, присев на землю, пристегивал шпоры:
— Излишне предупреждать тебя, что мы с тобой не виделись и вообще друг друга не знаем, — проговорил он, возясь с пряжками. — И что бы там со мной ни было, в этом отношении можешь быть спокоен.
Бартоло снова расхохотался:
— Само собой разумеется. Если даже вас, избави бог, зацапают и покатают на кобыле не кордовского завода, все равно не проболтаетесь.
— Как знать, как знать…
— Не скромничайте. Весь Мадрид готов присягнуть, что вы — настоящий идальго, из тех, кого петь не заставишь ни под какой тамбурин с лютней… Так же верно, как тот доход, который я желал бы получать с моей куколки. Звука от вас не добьются!
— Может, все-таки позволишь мне разок пискнуть, когда уж очень припечет?
— Ну, хорошо. Писк и визг — плата за риск. Но это — не в счет.
Обменявшись рукопожатием, они распрощались. Алатристе натянул перчатки, сел в седло и по тропинке, вившейся вдоль берега Мансанареса, тронул коня шагом, бросив поводья, чтобы тот сам отыскивал путь в темноте. Проехав мостик через Меаке, по которому кованые копыта процокали слишком, на капитанов вкус, звонко, он углубился в прибрежные рощи, чтобы избежать встречи со стражниками, и, придерживая шляпу, стегаемую низко нависающими ветвями, выбрался спустя небольшое время на склон Араваки, повернул коня так, чтобы рокот реки слышался сзади, под звездами продолжил путь через угрюмые заросли, редевшие по мере приближения к берегу. Здесь и почва была светлей, что позволяло различать дорогу. Алатристе переложил один пистолет в седельную кобуру, поплотней запахнул плащ, пришпорил коня, пустив его крупной рысью в рассуждении оказаться как можно скорее как можно дальше.
Бартоло Типун оказался прав: жеребец и в самом деле натягивал правый повод туже, чем левый, но оказался, хоть и резов, да не норовист, а по-хорошему покладист и послушен. Это было очень кстати, ибо Алатристе при всем желании не мог бы счесть себя искусным наездником. В седле сидел крепко, локтями не болтал, за гриву не хватался, стремян на галопе не терял, умел менять аллюры — ну и владел, помимо того, простейшими приемами вольтижировки, потребными для кавалерийского боя. При всем при том до настоящего мастерства ему было как до луны. Так уж сложилась его жизнь, что он либо шагал по Европе в строю испанских пехотных полков, либо плавал по Средиземноморью на галерах королевского флота, и чаще всего с лошадьми ему приходилось иметь дело, когда на фламандских равнинах или берберийском побережье под отрывистые сигналы труб и барабанный бой летела на него, уставя окровавленные пики, неприятельская конница. Короче говоря, капитану Алатристе привычней было вспарывать лошадям брюхо, нежели забираться им на спину.
Миновав старый постоялый двор Сереро — темный и запертый, — он рысью одолел склон Араваки и там сразу же ослабил шенкеля, пустив коня по гладкой дороге, обсаженной редкими деревьями, а не по темным, напоминающим огромные пруды, посадкам пшеницы и ячменя. Как и ожидалось, предрассветная стужа пробирала до костей, и капитан похвалил себя за то, что поддел под плащ колет из буйволовой кожи. На горизонте стала проклевываться заря, и тьма из черной сделалась серой, когда конь и всадник проехали без остановки мимо Лас-Росас. Алатристе не стал выезжать на широкий и оживленный тракт, а, добравшись до развилки, свернул на конную тропу. Пошли пологие подъемы и спуски, поля сменились сосновыми и дубовыми рощами, и в одной такой дубраве капитан, спешившись, устроил привал и отдал дань угощению Бартоло. Зарю он встретил, сидя на разостланном плаще, жуя ломоть сыра и запивая его вином, покуда конь щипал травку. Затем снова — ногу в стремя, зад в седло, и — вдогонку за собственной удлинившейся тенью, которую первые розоватые лучи протянули по земле. Лигах в трех от Мадрида, когда солнце стало греть капитану спину, дорога круто пошла в гору, а место сосен заняли широколиственные дубровы, где сновали кролики, и порой мелькали оленьи рога. То были королевские заказники, и тех, кто осмеливался поохотиться в них, ждали плети и галеры.
Мало-помалу стали встречаться и люди: навстречу попались погонщики мулов, а потом — обоз, везший в Мадрид вино. Ближе к полудню капитан пересек мост через Ретамар, где скучающий стражник взял со всадника мостовую пошлину, ни о чем не спросив и даже не взглянув на него. Дальше местность изменилась — начались откосы и кручи, дорога запетляла меж зарослями цветущего дрока, оврагами и утесами, гулким эхом множившими цокот копыт. Опытным глазом осмотрев окрестности, Алатристе пришел к выводу, что они самим богом созданы были бы для разбойников, если бы за такого рода деятельность в угодьях короля не полагалась смертная казнь. А потому рыцари большой дороги предпочитали грабить проезжающих в нескольких лигах дальше, там, где начиналась Старая Кастилия. Приняв в расчет, что опасаться ему более всего следует не разбойников, капитан еще раз проверил, не отсырел ли замок пистолета, висевшего в седельной кобуре под рукой — той, что держала поводья.
IX Кинжал и шпага
Надо признаться, что я пребывал в унынии. И было отчего. Граф де Гуадальмедина собственной персоной явился за мной, и теперь мы скорым шагом шли под сводчатыми арками Эскориала. Когда граф вырос в дверях кабинета и велел мне следовать за собой, дон Франсиско де Кеведо, которому я помогал перебелять кое-какие стихи его комедии, только и успел послать мне многозначительный взгляд, призывая тем самым быть осмотрительным. А теперь Альваро де ла Марка, не скрывая раздражения, шел передо мной, изящно потряхивая епанчой, наброшенной на одно плечо, и уперев левую руку в навершие шпаги. Нетерпеливые шаги его гулко отдавались в восточной галерее двора. Таким порядком миновали мы караульное помещение и по маленькой лесенке поднялись этажом выше.
— Жди здесь, — бросил мне Гуадальмедина.
Он исчез за дверью, оставив меня в обширном и угрюмом зале, сложенном из плит серого гранита и не украшенном ни коврами, ни картинами, ни гобеленами, и этот голый холодный камень, обступая со всех сторон, вселил в меня трепет. Он усилился, когда граф появился снова, сухо буркнул:
— Заходи, — и я, ступив четыре шага, оказался на широкой галерее: потолок и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены, а из меблировки имелись только письменный стол с чернильным прибором на нем и кресло. Девять окон, выходивших во внутренний двор, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть висевшее на дальней стене полотно, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, причем все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Тогда, впервые оказавшись в так называемой «Галерее Сражений», я не в силах был себе представить, до какой степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании — громкие победы при Игуруэле, Сен-Кантене и Терсере, — равно как и весь остальной дворец, станут мне привычны и знакомы, когда много лет спустя стану я сперва лейтенантом, а потом и капитаном старой гвардии нашего государя Филиппа Четвертого. Но в тот миг Иньиго Бальбоа, шагавший рядом с графом де Гуадальмединой, был всего лишь оробелым юнцом, решительно неспособным оценить художественные достоинства полотен, украшавших галерею. Все пять моих чувств обострились до предела, когда в дальнем конце ее, у крайнего окна, я заметил человека внушительного вида, рослого и широкоплечего, с подстриженной бородкой и густейшими, распушенными на концах усами. На нем был орехового цвета парчовый кафтан с вышитым на груди зеленым крестом Алькантары, а крупная, величественная голова сидела, казалось, прямо на плечах, ибо шея едва выступала из-под накрахмаленного круглого воротника. Когда я приблизился, человек этот наставил на меня, точно черные дула двух аркебуз, глаза, в которых светился ум и читалась угроза. В те дни, о коих я веду речь, эти глаза внушали ужас всей Европе.
— Вот этот мальчик, — молвил Гуадальмедина.
Граф-герцог Оливарес, первый министр и фаворит нашего короля, еле заметно кивнул, по-прежнему держа меня под прицелом своих глаз. В одной руке он держал исписанный лист бумаги, в другой — чашку шоколада.
— Когда прибудет этот Алатристе? — осведомился он у графа.
— Полагаю, к заходу солнца. Я велел ему присутствовать на спектакле.
Оливарес слегка подался вперед. Прозвучавшее из его уст имя моего хозяина окончательно вогнало меня в столбняк
— Тебя зовут Иньиго Бальбоа?
Не в силах вымолвить ни слова, я лишь кивнул, в то же время пытаясь привести в порядок свои мысли, пребывавшие в полном смятении. Граф-герцог, время от времени прихлебывая шоколад, читал документ, кое-какие места произнося вслух:
— «… родился в Оньяте, Гипускоа… отец погиб во Фландрии… состоит в услужении у Диего Алатристе-и-Тенорио, больше известном как капитан Алатристе… Был мочилеро в Картахенском полку… Taк, участие в боевых действиях… Аудкерк, Руйтерская мельница, Терхейден, Бреда…» — и перед каждым новым фламандским названием вскидывал на меня глаза, пытаясь совместить столь богатый послужной список с моей очевидной юностью. — «А до этого, в шестьсот двадцать третьем году, проходил по делу… так… аутодафе на Пласа-Майор…» Помню, — сказал он, ставя чашку на край стола и оглядывая меня внимательней. — История с инквизицией.
Не больно-то умиротворяло то, что каждый виток твоей короткой биографии занесен на бумагу. И воспоминание о Священном Трибунале душевному спокойствию не способствовало. Но последовавший вопрос растерянность мою превратил в настоящую панику:
— Что там случилось в Минильясе?
Я покосился на Гуадальмедину, и тот ответил мне успокаивающим взглядом:
— Расскажи его светлости все как было. Он в курсе дела.
Но я никак не мог решиться. В игорном доме Хуана Вигоня я поведал графу обо всех происшествиях той злосчастной ночи, взяв с него слово, что он никому не передаст мой рассказ, пока не переговорит с капитаном Алатристе. Но тот еще не прибыл. Гуадальмедина, царедворец до мозга костей, вел нечистую игру. Или прикрывал себе спину.
— Я ничего не знаю о капитане, — пролепетал я.
— Дурака не валяй! — вспылил граф. — Ты был там с Алатристе и еще одним человеком, который там и остался. Расскажи его светлости все, что видел! Ну?
Я повернулся к Оливаресу, который всматривался в меня с пугающей пристальностью. Этот человек, державший на плечах могущественнейшую на земле империю, одним росчерком пера мог двинуть армии через моря и горы, а перед ним, трепеща как палый лист, стоял я. И собирался сказать «нет». И вот собрался:
— Нет.
Министр моргнул от неожиданности.
— Ты что — с ума сошел? — вскричал Гуадальмедина.
Оливарес не сводил с меня глаз, но теперь в них, пожалуй, преобладало любопытство: он был не столько разгневан, сколько позабавлен.
— Клянусь жизнью, я заставлю тебя!.. — Гуадальмедина шагнул ко мне.
Оливарес остановил его мановением левой руки — легким, но властным. Потом снова проглядел бумагу, сложил ее вчетверо и спрятал в карман.
— А почему, собственно, «нет»?
Сказано было почти ласково. Я обвел взглядом окна и видневшиеся в них печные трубы, торчавшие над голубоватой черепицей крыш, освещенных уже клонившимся к закату солнцем. Пожал плечами и не сказал ни слова.
— Черт возьми! — загремел Гуадальмедина. — Я развяжу тебе язык!
Граф-герцог снова остановил его. Взгляд Оливареса, казалось, шарит по самым потаенным уголкам моей души.
— Ну, естественно, — произнес министр наконец. — Он же твой друг.
Я кивнул. И, мгновение спустя, Оливарес тоже склонил голову:
— Понимаю.
Он прошелся по галерее, остановился перед одной из фресок между окнами: испанская пехота, ощетинясь пиками, сгрудившись вокруг знамени с косым Андреевским крестом, наступала на врага. Это ведь я там изображен, мелькнула у меня в голове горькая мысль. Я, черный от пороховой гари, с клинком в руке, охрипший от крика «Испания!» И рядом — капитан Алатристе. Что бы там ни было, но мы там были. Я заметил, что Оливарес проследил мой взгляд и прочел мои мысли. Тень улыбки смягчила его каменные уста.
— Верю, что твой хозяин невиновен, — сказал он. — И порукой в том — мое слово.
Я напряженно и пытливо вглядывался в его внушительную фигуру. Нет, иллюзиями я себя не тешил. Слава богу, прожил достаточно, чтобы не обманываться и ясно сознавать: нежданная снисходительность самого могущественного человека Европы — то есть всего мира — это не что иное, как тончайший расчет, столь необходимый тому, кто все свои немалые дарования как одержимый употребляет на одно дело — превратить свою страну в великую католическую державу, защитить ее с суши и с моря от англичан, французов, голландцев, турок и вообще от всех, ибо испанская империя столь обширна, что никто на всем белом свете не мог бы преследовать свои интересы, не ущемляя наших. И еще я понимал, что тем же ровным голосом Оливарес, сочти он это нужным или выгодным, прикажет четвертовать меня, и это взволнует его столь же сильно, как если бы он одним щелчком прихлопнул докучную муху. Я, Иньиго Бальбоа, был ничтожной пешкой на той шахматной доске, на которой Гаспар де Гусман, граф-герцог Оливарес, разыгрывал сложную и мудреную партию; ставкой же было его влияние и положение фаворита. Лишь с течением времени, когда по прошествии многих лет довелось мне поближе познакомиться с этим человеком, я смог убедиться, что всемогущий любимец нашего государя Филиппа Четвертого, в случае надобности без колебаний шедший на любые жертвы, никогда не отдавал даже самой незначительной фигуры, не уверившись со всей непреложностью, что это может быть ему полезно.
Ну, как бы то ни было, но в тот день в Галерее Сражений мне предстоял трудный выбор. И я его сделал — пусть и со стесненным сердцем. Ведь, в конце концов, Гуадальмедина ссылался на мои уже произнесенные слова, и следовало всего лишь повторить их. И никто бы меня за это не казнил. Ну а все остальное, включая и роль, сыгранную в заговоре Анхеликой де Алькесар, — это совсем другое дело. Гуадальмедина не мог рассказать то, чего не ведал, я же готов был лучше сдохнуть, чем выговорить имя своей дамы перед Оливаресом — такие уж тогда, в пору моей младости, были у меня понятия о рыцарской чести.
— Дон Альваро де ла Марка сказал вашей светлости сущую правду… — начал я.
И в этот миг в ушах у меня прозвучал вопрос, заданный фаворитом при самом начале аудиенции, и мне стало ясно, что приезд капитана Алатристе в Эскориал — отнюдь не тайна. По крайней мере и Оливарец и Гуадальмедина о нем осведомлены. А вот желательно было бы узнать, кто еще, кроме этих двоих? И достигло ли это известие — а такие, как оно, не приходят, а прилетают — ушей наших врагов?
Когда овраги и утесы снова сменились дубняком и дорога стала прямой и ровной, лошадь захромала. Алатристе спешился, поочередно осмотрел копыта и обнаружил, что подкова на левом заднем потеряла два гвоздя-ухналя и оттого болтается. Бартоло Типун не озаботился тем, чтобы положить в седельную сумку запасные, так что пришлось укрепить подкову подручными средствами, то есть с помощью камня вколотить оставшиеся поплотнее. Черт его знает, надолго ли этого хватит, но до ближайшей венты было не более лиги. Капитан снова влез в седло и, стараясь не слишком гнать коня и поглядывая время от времени, держится ли прилаженная подкова, продолжил путь. Почти час он медленно ехал, покуда справа, перед еще заснеженными вершинами Гуадаррамы, не появилась гранитная колокольня и крыши полудюжины домиков. Это местечко называлось Галапагар. Дорога огибала его, и на перекрестке, у почтовой станции, Алатристе снова спешился. Велел позвать кузнеца, оглядел других лошадей в стойлах, заметив, что еще две под седлами привязаны снаружи, и присел под навесом харчевни. Рядом играла в карты компания погонщиков Мулов, возле них, глядя на игру, пристроился какой-то малый в крестьянском платье, но при шпаге, и священник со слугой — они приехали на двух мулах, навьюченных чемоданами и узлами, — ели тушеные свиные ножки, то и дело отгоняя кружившихся над тарелками мух. Капитан, слегка прикоснувшись к шляпе, поздоровался со священником.
— Спаси вас господь, — с набитым ртом отвечал тот.
Служанка принесла вина. Алатристе сделал несколько жадных глотков, вытянул ноги, пристроив сбоку шпагу, и стал наблюдать за работой кузнеца. Потом взглянул, высоко ли солнце, и произвел кое-какие расчеты: до Эскориала оставалось около двух лиг пути, и это значило, что на отдохнувшей и заново подкованной лошади — если Чаркон и Ладрон не слишком разлились и обе речонки удастся переехать вброд — к вечеру можно будет добраться до места. Капитан удовлетворенно допил вино, положил на стол монету, оправил шпагу и поднялся, собираясь направиться к кузнецу, уже завершавшему работу.
— Прошу прощения…
Он не заметил бородатого человека, в эту самую минуту вышедшего наружу, и едва не столкнулся с ним. Приземистый и чрезвычайно широкоплечий, он был одет в точности как тот, что наблюдал за игрой: голову покрывал суконным беретом, наподобие тех, что в ходу у охотников, на ногах же носил гамаши. Лицо его было Алатристе незнакомо. Короткая шпага на кожаной перевязи, приличных размеров нож за поясом. Не то браконьер, не то, наоборот, лесник. Он слегка кивнул в ответ на извинение капитана и внимательно оглядел его, причем даже направляясь к коновязи, Алатристе чувствовал этот взгляд и чем-то он ему не понравился, вызвав смутное подозрение. Расплачиваясь с кузнецом под жужжанье слепней, он незаметно, краешком глаза покосился на незнакомца. Тот сидел под навесом и продолжал неотрывно глядеть на капитана. Уже вдев носок в стремя и занося правую ногу над седлом, он перехватил взгляд, которым обменялись эти двое, и взгляд этот ему сильно не понравился. Одна компания, подумал капитан, и не по мою ли душу они явились сюда? Чем-то он привлек их внимание, а вот чем именно — понять не мог, и ни одно из возможных объяснений тут не годилось.
Обернувшись через плечо — не тронулись ли те следом, — Алатристе дал коню шпоры и продолжил путь в Эскориал.
— Таких декораций нигде в мире не найти, — сказал дон Франсиско.
Мы с ним сидели в нише под гранитными аркадами и наблюдали, как в великолепных садах Эскориала идет подготовка к спектаклю. А сады, и вправду поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, где лепетала вода. Защищенные от порывов северного ветра фасадом самого дворца-монастыря, по стенам которого на шпалерах вились жасмин и шиповник, они прелестными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду пруд, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато-серо-синими громадами подступали горы, а на востоке далеко, до самого Мадрида, тянулись необозримые пастбища и королевские леса.
Стрела любви — такая штука — Нельзя последствий всех учесть: Ты, выпустив ее из лука, Свою же поражаешь честь.До нас долетал голос Марии де Кастро, репетировавшей начало второго действия. Слов нет — голос у нее от природы был сладчайший в Европе, а муж придал ее искусству декламации особый блеск, ибо хоть в этом отношении не оставлял ее своими заботами. Время от времени грохот молотков — рядом собирали и ставили декорации — заглушал звучные стихи, и тогда Косар требовал тишины, потрясая свернутой в трубку рукописью дона Франсиско, величественно, как архиепископ Льежский или великий князь Московский: манерой поведения этих господ он овладел на подмостках. Пьесу собирались играть на свежем воздухе, под открытым небом. И для этой цели сколачивали сцену и натягивали парусиновый навес, чтобы защитить от зноя или дождя августейших особ и самых почетных гостей. Говорили, будто графу-герцогу Оливаресу его затея должна была обойтись в десять тысяч эскудо.
Эти стихи, конечно, не могли бы составить предмет гордости дона Франсиско, но, как он сам шепнул мне, стоили они ровно столько, сколько за них заплатили. Не говоря уж о том, что подобные игровые вирши неизменно приходились по вкусу всем зрителям — от его величества до последнего конюха, не исключая и мушкетеров сапожника Табарки. И по мнению Кеведо, если уж наш Феникс позволял себе, чтобы сорвать аплодисменты публики, звонкую рифмованную пустышку под занавес или, что называется, на уход, отчего бы и ему отказываться от такого? Ибо, говорил он, важно не то, что подобные, на скорую руку сляпанные стишки недостойны его таланта, а то, что они придутся по нраву королю, королеве и королевским гостям. И главное — графу-герцогу Оливаресу, который был всему дела голова, а верней — кошелек.
— Скоро прибудет капитан, — внезапно проговорил Кеведо.
Я поглядел на него с благодарностью — поэт продолжал думать о моем хозяине. Однако дон Франсиско оставался невозмутим и ничего не прибавил к сказанному. Я тоже ни на миг не забывал о капитане Алатристе, особенно — после непрошеной аудиенции с Оливаресом, — но свято верил, что вот приедет капитан, объяснится с Гуадальмединой, и все разъяснится и уладится. Что же до его отношений с прекрасной комедианткой — она в этот миг спросила воды, и Косар торжественно понес ей стакан, — то едва ли они продолжатся в столь рискованных обстоятельствах. Вслед за тем мысли мои обратились на другое, и я подивился тому, с какой естественностью держала себя Мария де Кастро в Эскориале. Вот, стало быть, куда может занестись высокомерная и самоуверенная женщина, если пользуется расположением короля или другой высокой особы — притом, что ни о каком соседстве королевы и актрисы и речи идти не могло: комедианты попадали в сады Эскориала только на репетиции, и никто из них не жил во дворце. Уже поползли слухи о том, что Четвертый Филипп ночью побывал у Марии, и на этот раз не помешал ему никто, включая мужа, поскольку было известно, что Косар, когда надо, спит беспробудным сном. Можно было не сомневаться, что все эти толки и сплетни достигли ушей королевы, но дочка Генриха Наваррского получила воспитание, достойное настоящей принцессы, а потому умела принимать неприятности как нечто неотъемлемое от ее статуса. Изабелла де Бурбон была образцом знатной дамы и зерцалом королевы — оттого-то народ так любил и почитал ее. Никто не видел слез унижения и ревности, пролитых ею в одинокой спальне из-за неутолимой похотливости венценосного супруга, который, в общей сложности, как гласила молва, наплодил за жизнь двадцать три ублюдка. И, мне сдается, непобедимое отвращение, питаемое Изабеллой к посещениям Эскориала — впрочем, не за горами день, когда она принуждена будет остаться там навсегда, — объяснялось не только тем, что не по нраву ей, живой и веселой, была его величавая мрачность, но и воспоминанием об интрижке Филиппа с Марией де Кастро, чья победа оказалась недолговечной, ибо переменчивый наш государь вскоре предпочел ей другую актрису — шестнадцатилетнюю Марию Кальдерон. Надо сказать, испанского монарха всегда сильнее привлекали женщины низкого происхождения — комедиантки, всякие там судомойки, служанки, трактирщицы, — нежели высокородные дамы, но к чести его и не в пример Франции, где фаворитки обретали настоящую власть, он всегда сохранял благопристойность и ни одну из своих возлюбленных ко двору не допускал. Старокастильское ханжество, вступив в союз с чопорной строгостью бургундского этикета, вывезенного императором Карлом из Гента, не потерпело бы, чтобы пропасть между величием их монархов и простонародьем была преодолена. И потому по прихоти нашего государя — никто не смеет садиться на королевского коня, никто не вправе наслаждаться женщиной, некогда бывшей королевской наложницей, — сии последние принуждены были удаляться в монастырь, равно как и дочери, прижитые в незаконном сожительстве. Это дало повод одному из придворных остроумцев сочинить стишки, начинавшиеся так:
С тобой, прохожий, удивленье делим, И как же не дивиться: этот дом Король сперва назначил быть борделем, Господнею обителью — потом.Так что эти вот вышеприведенные обстоятельства вкупе с безудержной расточительностью — маскарады, празднества, иллюминации и фейерверки шли бесконечной чередой, — неслыханным казнокрадством, непрестанными войнами и скверным правлением дают вам представление, господа, о нравственном облике тогдашней Испании, еще могущественной и грозной, но неуклонно катящейся к чертовой матери. Имелся король — существо, хоть и исполненное самых благих намерений, но вялое и решительно неспособное исполнять монарший долг, а потому за сорокачетырехлетнее свое царствование постоянно вверявшее бразды правления в чужие руки, ответственность же, натурально, перекладывавшее на чужие плечи, — который распутничал и охотился, истощая своими развлечениями казну, а тем временем от нас откладывались Русильон и Португалия, восставали Каталония, Сицилия и Неаполь, плела заговоры андалусийская и арагонская знать, и наши полки, не получавшие жалованья и по этой причине голодавшие и бунтовавшие, но верные былой славе, продолжали молча и бестрепетно гибнуть, предоставляя Испании обращаться в «в золу и в землю, в пепел, дым и прах»[124], как замечательно выразился в концовке своего сонета — не в обиду сеньору де Кеведо будь сказано — дон Луис де Гонгора.
Тем не менее я помнил слова, сказанные мне капитаном Алатристе под Аудкерком, когда поднялся мятеж в нашем Картахенском полку: «король есть король», — и знал, что судьба послала мне в государи Филиппа Четвертого, и другого не дано. Люди моего времени и моей породы видели только то, что воплощал он в себе. Выбирать не приходилось. По этой причине я дрался за него и хранил ему верность до самой его кончины во всех своих, выражаясь пышно и книжно, ипостасях — и в неискушенной младости, и во всезнающе-трезвой зрелости, и потом, когда на место пониманию пришло сострадание, а я в чине капитана гвардии, видя, как превращается Филипп в преждевременно одряхлевшего рамолика, согнутого под невыносимым бременем разочарований, поражений, угрызений совести, сломленного ударами судьбы и крахом государства, сопровождал его в Эскориал, где, не размыкая уст, проводил он долгие часы в обиталище теней, в пантеоне, упокоившем останки его славных предков — тех королей, чье великое наследство он с такой редкостной бездарностью промотал. На его и наше несчастье слишком много Испании выпало ему на долю. Не по плечу оказалась ноша. Не к масти козырь.
Да, он попал в засаду самым что ни на есть дурацким образом, но предаваться самобичеванию было поздно. Решив принять неизбежное, Диего Алатристе всадил шпоры в бока своему коню, и тот бросился в ручей, взметнув тучу брызг. Двое всадников, скакавших в угон, были все ближе, но гораздо больше капитана тревожили те двое, что вынырнули из густых зарослей на другом берегу, и с самыми недвусмысленными намерениями ринулись наперерез.
Капитан оценил положение. Опасность он почуял еще в ту минуту, когда, покинув почтовую станцию, спускаясь по склону и уже различая вырисовывающуюся вдалеке громаду Эскориала, вдруг заметил, что двое конных за ним скачут. В одно мгновение он узнал их — те самые, что сидели в харчевне. Он прибавил рыси, надеясь оторваться и уйти в ближний лес. Появление еще двоих спутало ему карты. Он столкнулся с тем, что в регулярной кавалерии называется «полевой дозор», который разъезжает по местности, поджидая неприятеля. И у капитана не было ни малейших сомнений в том, что неприятель этот — он.
Его жеребец, едва не оступившись на скользком каменистом дне ручья, все же устоял и выбрался на берег, шагов на двадцать опережая тех, кто на размашистой рыси вынырнул из леса. Наметанный глаз Алатристе заметил все: густоусы, одеты как охотники или лесники, вооружены пистолетами и шпагами, а у одного поперек седла — аркебуза. Удалые ребята. Оглянувшись, он увидел, как по склону мчится парочка из харчевни. Все было ясно как божий день. Придержав коня, капитан взял повод в зубы, выхватил из-за пояса пистолет, взвел курок. Потом вырвал из седельной кобуры второй и его тоже привел в рабочее состояние. Ему непривычно было драться в конном, так сказать, строю, но пешему против четырех всадников не выстоять. Да и не все ли равно, подумал он, пешим ли, конным или под чакону, — драться придется. Получив от самого себя столь сомнительное утешение, капитан приподнялся на стременах, когда первая пара была всего лишь в нескольких шагах, и прицелился, успев еще увидать смятение на лице переднего. С такого расстояния трудно промахнуться, однако лошадь шарахнулась, и пуля прошла мимо. Увидев вспышку, услышав грохот, всадник с аркебузой поднял своего коня на дыбы, закрываясь от выстрела. То же сделал и его напарник. Алатристе сделал вольт, разряженный пистолет сунул в кобуру, готовый к действию — перебросил в правую руку. Хотел было вонзить шпоры и подобраться еще ближе, чтобы не промазать вторично, но конь был не приучен к бою — испугавшись грома и огня, он прянул и понес. Капитан, оказавшийся спиной к противнику, не смог прицелиться и с проклятьем рванул повод так яростно, что чуть не вылетел из седла, когда конь припал на передние ноги. Когда же седок обуздал его, то был уже с обеих сторон окружен и взят на прицел. Алатристе заметил еще, как двое из харчевни, вспенивая воду ручья, выбираются на берег с обнаженными шпагами в руках. Его, впрочем, заботило оружие огнестрельное, которым угрожали ему с флангов. Поручив себя сатане, он вскинул пистолет и в упор выпалил в того, кто подоспел первым, — и на этот раз попал: всадник повалился на круп, а потом соскользнул вниз, одной ногой запутавшись в стремени. Пряча разряженный пистолет и выхватывая шпагу, капитан увидел наведенное дуло и над ним — два глаза, ни чернотой, ни пристальностью дулу этому не уступающие. Вот, пожалуй, и все, мелькнуло у него в голове. Он поднял шпагу, стараясь хоть в последнем усилии дотянуться до своего убийцы и прихватить его с собой, но с удивлением заметил, что дуло передвинулось ниже, и в следующее мгновение на его колет брызнули кровь и мозг из размозженной головы коня, рухнувшего замертво. Алатристе слетел и покатился по склону до самого берега. Попытался привстать, но все плыло перед глазами и ноги не слушались, так что он вновь припал к земле, прижавшись щекой ко влажному мху. Пропади все пропадом, спина болела так, словно он сломал себе хребет. Глазами он поискал свою шпагу, но увидел только ноги в высоких сапогах со шпорами. Последовал зверский удар в лицо, и капитан потерял сознание.
Беспокоиться я начал вскоре после «ангелюса», когда дон Франсиско мрачно сообщил мне, что капитан Алатристе к условленному часу не прибыл и граф де Гуадальмедина теряет терпение. Весь во власти дурного предчувствия, я вышел и уселся на парапет восточного крыла, откуда можно было видеть дорогу на Мадрид. И просидел там, пока не скрылось за край окрестных гор солнце, в последнюю минуту заволоченное уродливыми темно-серыми тучами. Тогда, вконец обескураженный, я направился на поиски поэта, оказавшиеся совершенно тщетными. Собрался было пройти дальше во дворец, но гвардейцы-часовые не пропустили меня в главный двор, ибо в ротонде их величества со своими гостями наслаждались музыкой. Попросил вызвать ко мне графа Альваро де ла Марку, однако и тут потерпел полнейшее фиаско — сержант, начальник караула, сообщил мне, что в данную минуту это решительно невозможно и следует дождаться окончания музыкального вечера, а глаза не мозолить. Наконец один из знакомых дона Франсиско, встреченный мною у подножия лестницы, сообщил, что Кеведо, скорее всего, ужинает в своей любимой таверне, расположенной невдалеке от Эскориала. Я покинул дворец, прошел через арку, свернул налево и направился в указанное заведение.
Оно оказалось небольшим и весьма приятным, было ярко освещено множеством сальных свечей, а стены, сложенные из того же гранита, что и дворец, украшены вязанками чеснока, окороками и гроздьями колбас. Трактирщик прислуживал, а его жена колдовала у очага. За столом сидели дон Франсиско де Кеведо, Мария де Кастро и Рафаэль де Косар. Когда в ответ на вопросительный взгляд поэта я мотнул головой, он нахмурился и пригласил меня разделить с ними трапезу, прибавив:
— Кажется, вы знаете моего юного друга.
Они и в самом деле знали меня. Особенно — Мария. Прекрасная комедиантка послала мне улыбку, а муж повел рукой с преувеличенной любезностью, таившей насмешку: как же, мол, не знать нам слугу капитана Алатристе. Они только что расправились с блюдом жареной форели — дело было в пятницу, — но от предложенных мне остатков я отказался, ибо от волнения, наверное, в желудке у меня было как-то неспокойно, и ограничился тем, что обмакнул ломтик хлеба в вино. А вину в тот вечер, если судить по красным глазам и заплетающемуся языку Рафаэля де Косара, должное воздавалось, быть может, чересчур усердно. Хозяин приволок новый кувшин, на этот раз — сладкого «Педро Хименес». Мария де Кастро в амазонке зеленого сукна, отделанной по вороту, манжетам и подолу фламандскими кружевами, тянувшими по самым скромным подсчетам эскудо на пятьдесят, изящно потягивала вино маленькими глоточками, дон Франсиско пил в свою меру, зато Косар — так, словно его терзала неутолимая жажда. Все трое продолжали обсуждать подробности грядущего представления и то, как следует произносить тот или иной стих, а я дожидался возможности остаться с Кеведо наедине. Несмотря на мои тягостные думы, я вовсю пользовался случаем повнимательней рассмотреть женщину, из-за которой мой хозяин стал на дороге у короля, и дивился тому хладнокровию, с каким откидывала она, смеясь, голову, чуть пригубливала вино, поправляла коралловые серьги в прелестных ушах, переводила взгляд с дона Франсиско на мужа, а с мужа — на меня: особый, ей одной присущий взгляд, от которого каждый мужчина чувствовал себя избранным, предпочтенным и единственным в мире. Разумеется, мои мысли тотчас обратились к Анхелике де Алькесар, и я спросил себя: а в самом ли деле Марии небезразлична судьба капитана Алатристе да и самого короля, или же, напротив, в тех шахматах, которыми играют подобные ей женщины — а может, и вообще все женщины, — короли, офицеры и пешки суть не стоящие внимания фигурки: круг действия их строго очерчен, а когда надобность минет, их просто смахивают с доски? И, продолжая размышлять, я пришел к выводу, что Мария де Кастро, Анхелика и прочие могут быть смело уподоблены солдатам, воюющим в чужой и враждебной стране, населенной мужчинами, и ведут они себя примерно так же, как я вел себя во Фландрии: мародерствуют и грабят, используя как оружие собственную красоту, а чужие страсти и пороки — как огнеприпасы. Да, они — на войне, где выжить дано лишь самым отважным и жестоким и где ход времени будет неизменно одерживать над ними верх. И кто бы сказал тогда, глядя на Марию де Кастро во всем блеске ее юной прелести, что по прошествии всего нескольких лет мой хозяин, — по другим, не имеющим отношения к нашей истории делам — придя навестить ее в дом призрения Пресвятой Девы Аточеской, увидит, как былая красавица, преждевременно одряхлевшая и обезображенная французской болезнью, закрывает лицо, стыдясь того, во что превратилась. А я, притаясь за дверью, подсмотрю, как Алатристе, прощаясь, склонится к ней и, несмотря на ее сопротивление, подняв покрывало, запечатлеет на ее запавших губах последний поцелуй.
…В этот миг трактирщик, подойдя к актрисе, негромко произнес несколько слов.
Мария кивнула, погладила руку мужа и, зашумев юбками, поднялась.
— Доброй ночи, — сказала она.
— Проводить? — рассеянно спросил Рафаэль де Косар.
— Не нужно. Меня ждут приятельницы… Придворные дамы.
Глядясь на себя в зеркальце, она чуть-чуть нарумянила щеки. Косар заметил, как мы с доном Франсиско многозначительно переглянулись: мол, знаем мы этих дам да и валетов с королями тоже, — но лицо его оставалось бесстрастным, как маска.
— Я прикажу отвезти тебя, — сказал он жене.
— Не надо, — отвечала та очень непринужденно. — За мной уже прислали карету.
— Позволь узнать, где ты будешь?
Косар с миной глубочайшего безразличия ко всему на свете склонился над бокалом. Жена, пряча зеркало в плетеную серебряную сумочку, послала ему беглую очаровательную улыбку:
— Да здесь, неподалеку. Во Фреснеде, кажется… Не жди меня, ложись спать.
Она снова улыбнулась, набросила на плечи и голову мантилью, подобрала подол и, движением руки остановив галантного стихотворца, который собирался проводить ее до дверей, вышла. Супруг даже не шелохнулся: сидя в расстегнутом колете, он держал в ладонях бокал и смотрел на него с отсутствующим видом, причем губы его под усами, соединенными с бакенбардами, кривились странной усмешкой. Если эта обворожительная бестия удалилась одна, подумал я, а ее благоверный, чье лицо перекосилось такой неприятной гримасой, предпочел общество дона Педро Хименеса, то едва ли отсюда она отправилась читать молитвы, на сон грядущие. Мимолетный, но очень значительный взгляд, посланный доном Франсиско из-под сдвинутых бровей, подтвердил мою догадку. Фреснеда — так назывался охотничий дворец короля, располагавшийся в полулиге от Эскориала, в конце длинной тополиной аллеи. Ни королева, ни ее придворные дамы сроду там не бывали.
— Ну что ж, пора, пожалуй, и нам… — сказал поэт. Косар, не шевелясь, по-прежнему рассматривал свой бокал. Усмешка обозначилась отчетливей, и выражение лица стало зловещим.
— Куда спешить?.. — пробормотал он.
Косар был сейчас совсем не похож на того человека, которого я знал прежде — как будто вино обнаружило в нем закоулки, пребывавшие во тьме даже при ярком свете театральных люстр.
— Предлагаю тост, — вдруг сказал он, вскинув голову. — За здоровье малютки Филиппа!
Я покосился на него с тревогой. Даже такой знаменитости следовало бы поостеречься и быть поосмотрительней в речах. Да, нынче вечером мы видели совсем другого Косара, и очень мало общего было у него с тем искрометно-остроумным комедиантом, каким представал он на подмостках. Дон Франсиско в очередной раз переглянулся со мной, поспешно налил себе еще вина и тотчас выпил. Я заерзал на стуле. Но Кеведо пожал плечами, как бы говоря: что уж тут поделаешь? Ход был за Алатристе, а он не появился. Ну а что касается нашего собутыльника — суди сам… Вот уж подлинно: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
— Как там сказано в вашем замечательном сонете? — спросил Косар. — Ну, в этом… про нимфу? Про Дафну?.. «Небесный ювелир, в багрец одетый…» Помните?
Дон Франсиско пристально и очень внимательно поглядел на него из-под очков, где вспыхивали огоньки свечей, и ответил:
— Не помню.
И закрутил ус. По этому движению можно было судить, что ему не понравилось увиденное. Да мне и самому мерещилось в манере Косара такое, о чем прежде и помыслить было нельзя: его переполняла какая-то сдерживаемая, но явная и тяжкая злоба, совсем не вязавшаяся с тем, каков он был или казался.
— Нет? А вот я помню… — Он воздел палец. — Постойте, как там…
И чуть заплетающимся языком, но со всеми приемами декламации и поставленным актерским голосом прочитал:
Коль в кошелек Юпитер обратится, То, чтобы дождь собрать весьма доходный, Охотно юбку задерет девица…[125]Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы распознать подобные иносказания, и мы с доном Франсиско в который уж раз переглянулись. Косара, однако, наше беспокойство ничуть не смущало. Посмеиваясь сквозь зубы, он поднял бокал и отпил вина.
— Ну а эти вот? Начинаются так: «Рога твои… та-та-та… что-то там… увесисты, развесисты, ветвисты…» Тоже не помните?
Дон Франсиско с тревогой оглянулся, словно отыскивая путь к отступлению:
— Первый раз слышу такое.
— Да ну? Не скромничайте, сеньор Кеведо. Эти весьма известные стихи принадлежат вашему перу. А все вестовщики и сплетники в один голос утверждают, будто посвящены они вашему покорному слуге…
— Глупости какие. Вы лишнего выпили, сеньор де Косар.
— Выпил, не спорю. Зачем отрицать очевидное? Но память на стихи у меня отменная… Судите сами:
…Нет для желанья моего препон, не зря на голове ношу корону, и, дабы прихоти не нанести урону, я прихоть тотчас возвожу в закон.…Не зря же, черт возьми, я — первый актер Испании! А теперь мне, сеньор поэт, пришли на ум другие и не менее замечательные стихи… Ну, те, что начинаются со слов: «Гремящий на бесптичье соловей…»
— Сколько я знаю, автор неизвестен.
— Так-то оно так, но молва дружно приписывает его вам.
Кеведо, который не переставал озираться, начал злиться по-настоящему. По счастью, посетителей больше не было, а трактирщик отошел в дальний угол. И Косар прочел:
А мне на тех властителей, что стражей Германскою отгородясь, карать И миловать хотят, мечтая даже У Мойр неумолимых отобрать Их право перерезать нитку пряжи… На них мне, и не только мне: нас — рать…Стихи эти и в самом деле принадлежали перу дона Франсиско, хоть он и открещивался как мог, а верней — бежал, как черт от ладана. Сочиненные в те времена, когда при дворе он оказался не ко двору, они в списках расходились по всей Испании, и Кеведо, хоть умри, ничего не мог с этим поделать. Но теперь, когда чаша его терпения переполнилась — отчасти и оттого, что бокал опустел — он позвал хозяина, расплатился и, не скрывая досады, двинулся к дверям, оставя за столом Косара.
— Через два дня он будет играть перед королем… — нагнав поэта в дверях, сказал я. — Вашу, между прочим, пьесу.
Дон Франсиско, все еще мрачный как туча, обернулся. Но потом беспечно прищелкнул языком:
— Не о чем беспокоиться! Наболтал спьяну… К утру вино выветрится, Косар проспится — и все забудет.
Он завязал шнуры своей черной пелерины и немного погодя добавил:
— Клянусь Святым Рохом, вот бы не подумал, что у этого слизняка там, где у прочих — честь, еще что-то есть.
Я бросил прощальный взгляд на круглую фигуру комедианта, который был известен всем как человек веселый, остроумный и совершенно бесстыжий. Все это лишний раз доказывало, что чужая душа — потемки. В справедливости этого речения мне в самом скором времени суждено было убедиться еще раз.
— Приходило ли вам в голову, что он, быть может, ее любит?
Эти необдуманные слова выговорились будто сами собой, и едва они сорвались с моих уст, как я тотчас залился краской. Кеведо, прилаживая шпагу на перевязь, на мгновение отвлекся от своего занятия и взглянул на меня с неподдельным любопытством. Потом хмурые морщины на лбу у него медленно разгладились: он улыбнулся — так, словно мои слова навели его на какую-то мысль. Надвинул шляпу, и мы вышли на улицу. Лишь сделав несколько шагов, дон Франсиско кивнул, как бы придя к некоему выводу.
— Да уж, мой мальчик, никогда ничего не узнаешь наперед, — пробормотал он. — Никогда. Ничего.
Посвежело, и звезды спрятались. Ветер гонял опавшую листву. Когда пришли ко дворцу и назвали пароль, ибо уже пробило десять, о капитане никто ничего сообщить нам не мог. По мнению графа де Гуадальмедины, высказанному в ходе краткой беседы с доном Франсиско, — «а черт его знает, куда он запропастился». Сами понимаете, эти слова спокойствию моему не способствовали, как ни старался поэт урезонить меня, уверяя, что семь лиг — расстояние изрядное, что Алатристе задержался из-за какого-нибудь непредвиденного дорожного обстоятельства, не говоря уж о том, что он мог пуститься в путь ближе к вечеру, дабы не нарваться на неприятности, и в любом случае сумеет постоять за себя. И наконец я не столько согласился, сколько дал себя убедить, заметив, впрочем, что и собеседник мой, при всем своем красноречии, не слишком верит тому, что говорит. Но делать было нечего — мы могли только ждать, ничего другого нам не оставалось. Дон Франсиско ушел по своим делам, а я снова отправился за ворота дворца, намереваясь провести там в ожидании новостей всю ночь. Пройдя меж колоннами патио, куда выходили двери дворцовых кухонь, и оказавшись перед узкой, плохо освещенной и почти скрытой в толстых стенах лестницей, я вдруг услышал хрусткий шелест шелка, и сердце мое замерло. Еще не было прошептано мое имя, еще не успел я обернуться к выросшей во тьме фигуре, а уже знал — это Анхелика де Алькесар, и она ждет меня. Так началась самая блаженная, самая ужасная ночь в моей жизни.
X Приманка и западня
Диего Алатристе — руки его были связаны за спиной — с трудом привстал и подполз к стене, сел, привалившись к ней лопатками. Голова болела — сказывалось, верно, падение с лошади и жестокий удар в лицо — так, что поначалу он решил: «Готово дело, я ослеп, оттого так темно». Но потом, с трудом оглядевшись по сторонам, заметил розоватую полоску света из-под двери и вздохнул с облегчением. Ночь, вот и темно. Или его бросили в подвал. Он попробовал пошевелить распухшими пальцами и едва не вскрикнул — казалось, тысяча иголок вонзилась в тело. Чуть погодя, когда боль стихла, капитан попытался восстановить ход событий. Стало быть, он выехал из Мадрида. Остановился на почтовой станции подковать коня. Попал в засаду. Что было потом? Потом выстрел — и почему-то не в него, а в лошадь. Это не промах и не случайность. Люди, которые гнались за ним, ремесло свое знают и делают, что сказано.
Не своевольничают: несмотря на то, что он в упор свалил одного из них, не поддались вполне естественному побуждению расквитаться. Это капитан понимал отчетливо — сам такой, того же поля ягода. Вопрос, значит, в том, кто же всю эту музыку заказал. Кому он понадобился живым — и зачем?
Словно бы в ответ, распахнулась дверь, и яркий свет полоснул Алатристе по глазам. На пороге возникла черная фигура: в одной руке — фонарь, в другой — бурдюк с вином.
— Добрый вечер, капитан, — сказал Гвальтерио Малатеста.
Что-то в последнее время часто стали встречаться, подумал Алатристе, и каждый раз в дверях. Только теперь он сам перетянут шпагатом, как кровяная колбаса, а итальянец вроде бы не торопится. Малатеста подошел поближе, склонился над ним, осветил фонарем и сказал тоном оценщика нелицеприятного и беспристрастного:
— Хорош.
Алатристе, поморгав, убедился, что левый глаз у него заплыл и не открывается. Все же ему удалось рассмотреть рябое лицо итальянца — шрам над правым веком напоминал о схватке на борту «Никлаасбергена».
— Ты тоже недурен.
Подстриженные усики встопорщились улыбкой едва ли не сочувственной.
— Прошу прощения за доставленные неудобства, — сказал Малатеста, проверяя, насколько туга веревка. — Сильно режет?
— Прилично.
— И мне так кажется. У тебя сейчас не руки, а прямо баклажаны какие-то.
Он повернулся к двери, позвал кого-то, и через порог шагнул человек. Алатристе узнал его — тот самый бородатый крепыш, с которым он чуть не столкнулся на почтовой станции. Малатеста приказал ему немного ослабить путы, а покуда тот выполнял поручение, приставил кинжал к горлу капитана, чтоб не вздумал воспользоваться представившейся возможностью. Когда они вновь остались вдвоем, он спросил:
— Пить, наверно, хочешь?
— Чертовски.
Малатеста, спрятав кинжал в ножны, поднес к губам Алатристе сосок бурдюка, при этом очень внимательно разглядывая капитана. При свете фонаря капитан тоже видел устремленные на него глаза — черные и твердые, как полированные агаты.
— Ну, теперь выкладывай, с чем пришел.
Итальянец улыбнулся, как бы призывая к христианскому смирению и приятию неизбежного. В подобных обстоятельствах это было малоутешительно. Затем почесал в ухе, будто прикидывая, какое действие произведут его слова, и наконец ответил:
— Укладывайся в дорогу.
— Тебе, что ли, поручено спровадить меня?
Малатеста пожал плечами в том смысле, что не все ли, мол, равно, а вслух сказал:
— Да наверно…
— И кем же?
Малатеста медленно, не сводя глаз с капитана, мотнул головой и ничего не ответил. Потом встал, поднял с пола фонарь и, уже направляясь к дверям, уронил:
— Врагами ты обзавелся уже давненько…
— Кем еще, кроме тебя?
Послышался сиплый смешок:
— А я тебе не враг, капитан Алатристе. Я — твой противник Разницу понимаешь? Противник тебя уважает, даже если убивает в спину. Враги — дело другое… Враг презирает тебя, даже если душит в объятиях и поет тебе осанну.
— Хватит разглагольствовать. Зарежешь меня как собаку.
Малатеста, уже собиравшийся захлопнуть за собой дверь, помедлил, склонил голову набок. Он словно раздумывал, надо ли что-нибудь отвечать на это. Потом прибавил:
— Насчет собаки — это, конечно, звучит грубовато. Но по сути — верно.
— Сволочь ты.
— Держи себя прилично. Вспомни, как ты недавно заявился ко мне в гости… Может, послужит тебе утешением то, что юдоль земную ты покидаешь в хорошей компании.
— Это кого же ты имеешь в виду?
— Угадай.
Покуда капитан соображал, сколько будет дважды два, итальянец терпеливо и благопристойно ждал у двери.
— Не может быть! — наконец высказался Алатристе.
— Мой соотечественник, некто Данте Алигьери, уже высказался по этому поводу, — ответил итальянец. — Примерно так «Росаfavilla granfiamma seconda"[126].
— Неужели опять король?
На этот раз Малатеста не ответил. Лишь улыбнулся пошире, глядя на ошеломленного капитана.
— Меня это нимало не утешает, — пробормотал тот.
— Могло быть хуже. Это я тебя имею в виду. А так — вот-вот попадешь в анналы.
Алатристе пропустил это замечание мимо ушей.
— Иными словами, кто-то хочет выбросить короля из колоды… И сделать это моими руками?
В подвале снова раздался сиплый смех итальянца.
— Я ничего вам не говорил, сеньор капитан… Но если что-то и может доставить мне удовольствие в тот миг, когда я буду отправлять вас к праотцам, — так это твердая уверенность, что никто не упрекнет меня в убийстве человека невинного или слабоумного…
— Я люблю тебя, — повторила Анхелика.
Темнота скрывала ее лицо. Я постепенно приходил в себя, будто просыпаясь от сладостного сна, но при этом сознание оставалась ясным. Руки Анхелики все еще обвивали меня, и она была так близко, что мне казалось — мое сердце стучит и колотится об ее полуобнаженное, шелковисто-гладкое тело. Я открыл рот, чтобы сказать, что и я ее люблю, но с губ моих слетел лишь истомленно-блаженный стон. Теперь уже ничто на свете не сможет разлучить нас, мелькнуло в отуманенной голове.
— Мальчик мой… — сказала она.
Глубже зарывшись лицом в ее растрепавшиеся волосы, я проскользил пальцами вдоль нежного изгиба ее бедра и прильнул губами к ямке меж ключиц — к тому месту, где расходилась шнуровка полураскрытой сорочки. Ночной ветер завывал в печных трубах, грохотал по крыше, а здесь, среди смятых простынь, царил глубокий покой. Все осталось снаружи, а здесь были только наши сплетенные юные тела и эти гулкие, мало-помалу затихавшие удары сердца. Внезапно, словно бы в неком озарении, я понял, что проделал весь долгий путь из Оньяте в Мадрид, через подвал инквизиции к фламандским полям, а оттуда — в Севилью и Санлукар, пережил столько испытаний и чудом уцелел посреди стольких опасностей для того лишь, чтобы стать мужчиной и оказаться этой ночью в объятиях Анхелики де Алькесар. Своей ровесницы, назвавшей меня сейчас «мальчик мой». Женщины, обладавшей, казалось, таинственной способностью управлять моей судьбой.
— Теперь ты должен будешь на мне жениться, — прошептала она. — Когда-нибудь…
Сказано это было разом и серьезно, и насмешливо, и странно подрагивавший голос приводил на память шелест листьев на ветке. Я сонно кивнул, и она поцеловала меня в губы. Но откуда-то издалека, из самых глубин сознания пробивала себе путь на поверхность какая-то пока еще смутная мысль, похожая на отдаленный шум ветра в ночи. Я пытался ухватить ее, эту мысль, но руки Анхелики, но губы ее мешали мне. Охваченный беспокойством, я шевельнулся. Так бывало под Бредой, когда в поисках пропитания мы забредали в расположение неприятеля, и умиротворение пейзажа с пологими всхолмлениями зеленых лугов, рощицами, каналами и ветряными мельницами вдруг, в одно мгновение, вдребезги разбивалось топотом кавалерийского разъезда, вылетающего на тебя из-за пригорка. Мысль вернулась, и на этот раз стала отчетливей. Отзвук, неясный очерк… Ветер вдруг взвыл, ударил в ставни — и я ухватил ее. Сверкнуло, обожгло и высветило. Капитан! Конечно же, капитан!
Высвободившись из рук Анхелики, я рывком приподнялся. Капитан Алатристе не явился к назначенному сроку, а я валяюсь в постели, погруженный в глубочайшее из забвений.
— Что с тобой? — спросила она.
Не ответив, я соскочил на холодный пол и стал в темноте нашаривать одежду.
— Куда ты?
Нащупал рубашку. Подобрал штаны и колет. Анхелика, ни о чем уже не спрашивая, тоже спрыгнула с кровати. Она хотела удержать меня, и я злобно отшвырнул ее. Мы сцепились, но вот, застонав от ярости или от боли, она упала на кровать. Мне было все равно. В ту минуту я напрочь утратил возможность что-либо чувствовать — кроме жгучего бешенства к самому себе, отступнику и дезертиру.
— Будь ты проклят! — вскричала она.
Я снова начал шарить по полу, отыскивая башмаки. Наткнулся на пояс и, уже затягивая его, понял, что он непривычно легок Ножны кинжала были пусты. Куда, к дьяволу, он запропастился? — подумал я. Где же он?.. — собирался я задать этот дурацкий вопрос, который от произнесения вслух не стал бы умнее, но в этот миг спину мне обожгла острая боль и резкий холод, а тьма вдруг наполнилась множеством светящихся точек, похожих на крошечные звездочки. Я вскрикнул — отрывисто и негромко. Хотел было обернуться и ударить в ответ, но силы мне изменили, и я упал на колени. Анхелика, схватив меня за волосы, заставила запрокинуть голову. Я ощущал струящуюся по спине кровь, а потом — прикосновение ледяной стали к своему горлу, и подумал с отчетливостью, которой сам поразился: она сейчас зарежет меня, как барашка. Или кабанчика. Мне случалось читать о какой-то волшебнице, жившей в древности и обращавшей мужчин в свиней.
Анхелика, по-прежнему держа кинжал у моей шеи, за волосы, рывками, подтащила меня к кровати, повалила на нее вниз лицом. Потом вскарабкалась сверху, оседлала, стиснув коленями поясницу и продолжая крепко держать меня за волосы. Отвела наконец лезвие от горла, и я почувствовал — прильнула губами к этой кровоточащей ране, лаская языком ее края, целуя, как раньше целовала мои губы.
— Как я рада, — прошептала она, — что еще не убила тебя.
Снова полоснул по глазам яркий свет. Вернее сказать — по правому глазу: левый был закрыт таким кровоподтеком, что казалось: веки налиты свинцом, будто кости, употребляемые нечистыми на руку игроками. На этот раз от двери к нему приближались две фигуры. Он глядел на них, по-прежнему сидя на полу, привалясь к стене и со 26 скрученными за спиной руками — он так и не сумел их высвободить, несмотря на все усилия, от которых в кровь ободрал себе запястья.
— Узнаешь? — раздался резкий голос.
И теперь, когда фонарь осветил вошедшего, Алатристе тотчас узнал его — узнал и при всей своей немалой выдержке невольно вздрогнул. И кто бы, раз увидав, позабыл эту тонзуру во всю макушку, это бескровное лицо с запавшими щеками аскета, эти глаза, горящие огнем неистового фанатизма, это черно-белое одеяние доминиканцев? Кого угодно ожидал здесь встретить капитан, но только не падре Эмилио Боканегру, председателя трибунала инквизиции.
— Ну все, — сказал он. — Теперь мне точно крышка.
Послышался сипловатый смешок — Гвальтерио Малатеста, державший фонарь, оценил капитанову реплику. Инквизитору, однако, чувство юмора было не присуще. Глубоко сидящие глаза впились в арестанта:
— Я пришел тебя исповедать.
Алатристе ошеломленно поднял глаза на итальянца, но Малатеста на этот раз воздержался от каких бы то ни было комментариев. Судя по всему, дело обстояло серьезно. Уж куда серьезней.
— Ты — продажная тварь, наемный убийца, — продолжал меж тем монах. — За свою презренную жизнь ты многократно попрал каждую из заповедей Христовых и все их разом. Теперь пришла пора держать ответ.
Капитан, к собственному удивлению сохранивший хладнокровие, сумел пошевелить языком, который при упоминании исповеди прилип у него к гортани.
— Ладно. Держу.
Доминиканец поглядел на него бесстрастно, будто не слыша этих слов.
— Господь в неизреченной милости своей дает тебе возможность искупления. Ты сможешь спасти свою душу, хотя для этого и придется много сотен лет провести в чистилище. Через несколько часов ты обратишься в орудие божьего промысла, подобное мечу Иисуса Навина… От тебя зависит, пойдешь ли ты на это с сердцем, затворенным для Божьей благодати, или примешь это с доброй волей и чистой совестью… Понимаешь?
Алатристе пожал плечами. Одно дело — лишиться головы, и совсем другое — позволить, чтобы ее забивали подобной чушью. Он не понимал, хоть убейте — за этим, впрочем, задержки не будет, — какого Дьявола принесло сюда этого остервенелого монаха.
— Я понимаю только, что сегодня вроде не воскресенье. Так что хорошо бы обойтись без проповедей…
Эмилио Боканегра немного помолчал, не сводя глаз с арестанта. Потом наставительно воздел костлявый перст:
— Очень скоро все узнают, что наемный клинок по имени Диего Алатристе, воспылав ревностью, которую пробудила в нем новоявленная Иезавель, освободил Испанию от монарха, не достойного носить ее венец… В руках Господа, избравшего тебя своим орудием, и такое отребье, как ты, послужит правому делу.
Глаза доминиканца сверкали. До Алатристе только теперь дошел смысл всех этих мудреных иносказаний. Он, стало быть, — меч Иисуса Навина. Или, по крайней мере, войдет в качестве такового в историю.
— Пути господни неисповедимы, — из-за спины монаха добавил Малатеста, убедившись, что капитан наконец уразумел.
Прозвучало это убедительно, уважительно и ободряюще. Но для тех, кто знал итальянца так, как знал его Алатристе, в его словах заключался чистейший цинизм. Помалкивал бы лучше. Доминиканец полуобернулся к Малатесте и не успел еще взглянуть на него, как тот осекся. В присутствии падре Эмилио даже итальянец не осмеливался зубоскалить.
— А отправляет меня по этим путям полоумный монах, — со вздохом промолвил капитан.
И тотчас голова его мотнулась в сторону от звонкой пощечины.
— Придержи язык, мерзавец. — Падре Эмилио держал руку на весу, угрожая новым ударом. — Повторяю: это для тебя единственная возможность спастись от вечного проклятия.
Капитан снова взглянул на доминиканца, чувствуя, как горит щека от оплеухи. Он был не из тех, кто подставляет вторую. От бессильной ярости перехватило дыхание, свело нутро. До сей поры никто и никогда не осмеливался бить его по лицу. Никто. Никогда. Он, не задумываясь, отдал бы жизнь, сколько бы там ее ни оставалось, продал бы душу дьяволу за то, чтобы руки хоть на одно мгновение оказались свободны. Малатеста, по-прежнему выглядывавший из-за плеча инквизитора, не позволил себе ни смешка, ни реплики. Оплеуха не вызвала в нем злорадства. Таких людей, как они с капитаном, по роже не хлещут. Убить — убивайте на здоровье: это издержки ремесла. А вот унижать не стоит.
— И кто же еще завязан на этом деле? — осведомился Алатристе, немного придя в себя. — Кроме, разумеется, Луиса де Алькесара… Королей ведь так просто, за здорово живешь, не режут. Нужен наследник. А наш государь еще не обзавелся потомством мужского пола.
— Престол перейдет к старшему в роду, — очень спокойно ответил монах.
Ах, вот оно что, подумал капитан, кусая губы. Стало быть, престолонаследником станет инфант дон Карлос, средний сын Филиппа Третьего. Говорили, будто природа одарила его скупо, и что при слабом уме и дряблой воле умелый духовник будет вертеть им как захочет. Нынешний король при всем своем распутстве был человек набожный, но — не в пример покойному батюшке, вокруг которого вечно толклись монахи, — клириков к себе не приближал. По совету Оливареса он держал Рим на почтительном расстоянии, благо понтификам ли было не знать, что испанская пехота — это последний оплот католического мира, сдерживающий натиск протестантской ереси. И, подобно своему первому министру, юный монарх выказывал расположение к иезуитам — выказывать-то выказывал, но открыто его не высказывал, ибо это было непросто и неудобно в краю, где сто тысяч особ духовного звания оспаривали друг у друга власть над душами и церковные привилегии. Где последователей Игнатия Лойолы ненавидели доминиканцы, заправлявшие в трибуналах инквизиции, а тех, в свою очередь, терпеть не могли францисканцы и августинцы, и все они объединялись, когда надо было оттяпать у светских и судебных властей толику могущества. И в этой борьбе, подпитываемой фанатизмом, гордыней и тщеславием, не последнюю роль играли превосходные отношения ордена Святого Доминика с инфантом доном Карлосом. И ни для кого не было секретом, что и он благоволил к братьям-инквизиторам до такой степени, что избрал себе духовника из их среды. Если темно-красное, да в кувшин налито, припомнил Алатристе старинную шутейную загадку, значит, вино. Ну, в крайнем случае — кровь.
— Если инфант впутается в это дело, — сказал он вслух, — он опозорит свой титул.
Поднаторевший в казуистической риторике церковных диспутов, падре Эмилио отмахнулся от него, как от докучливой мухи:
— Правая рука не ведает порой, что делает левая. Главное, чтобы Господь Всемогущий не пребывал в небрежении чад своих. На том стоим.
— Дорого будет стоить такое стояние. И вашему преподобию, и этому итальянцу, и Алькесару-секретарю, и самому принцу. Не сносить вам головы.
— Кстати, о голове… — флегматично заметил Малатеста. — Ты бы лучше о своей позаботился.
— А еще лучше, — припечатал инквизитор, — о спасении души. Ну что — будешь исповедоваться?
Капитан прижался затылком к стене. Известное дело, двум смертям… и так далее, но смешно и жутко, что помирать придется в роли цареубийцы. Диего Алатристе поднял руку на священную особу божьего помазанника. Не хотелось бы, чтобы так вспоминали его немногочисленные друзья в таверне или в траншее. Впрочем, еще хуже было бы окончить жизнь в богадельне для увечных воинов или побираясь на церковной паперти. Надо надеяться, что Малатеста сработает чисто и быстро. Они же не станут рисковать тем, что капитан, угодив в застенок, разговорится под пыткой.
— Я лучше дьяволу исповедаюсь. Это мне привычней.
Итальянец внезапно зашелся придушенным смехом, оборвавшимся от свирепого взгляда падре Эмилио. Тот долго изучал лицо Алатристе и наконец, качнув головой, словно выносил не подлежащий обжалованью приговор, выпрямился и оправил сутану:
— Что ж, так и будет. Скоро встретишься с ним лицом к лицу.
И вышел, сопровождаемый Малатестой, который нес фонарь. Дверь захлопнулась за ними, и стало темно как в могиле.
Недаром говорят, что во сне, который служит нам и отдохновением и остережением, мы готовимся к тому, чтобы опочить навсегда. Никогда еще истина эта не представлялась мне такой непреложной, как в тот миг, когда я, весь в смертной испарине, очнулся от своего забытья, вышел из беспамятства, населенного образами, пробудился от кошмарного сна. Голый, я по-прежнему лежал вниз лицом на кровати, и спина болела просто адски. Была еще ночь. Любопытно узнать — та же самая или следующая. Дотянувшись до раны, я обнаружил перевязку. Осторожно двигаясь в темноте, убедился, что один. Внезапно всплыли в памяти недавние события — дивные и чудовищные. И тотчас я подумал о том, какая судьба постигла капитана Алатристе.
Шатаясь от слабости, сцепив зубы, чтобы не стонать, я отыскал свою одежду. Всякий раз, когда приходилось наклоняться, голова у меня шла крутом, и я боялся снова грохнуться без чувств. Я был уже почти полностью одет, но тут за дверью раздались голоса, в щели мелькнула полоска света. Наступил на кинжал, и он брякнул по полу. Я замер, но — ничего, обошлось. Осторожно вложил оружие в ножны. Потом зашнуровал башмаки.
Голоса стихли, шаги стали удаляться. Свет под дверью замерцал, постепенно становясь ярче. Я прижался к стене так, чтобы оказаться между ней и дверью, открывшейся и впустившей в комнату Анхелику де Алькесар со свечой в руке. Шерстяная шаль на плечах, волосы подобраны и сколоты на затылке. Очень спокойно, не вскрикнув от удивления, не промолвив ни единого слова, она оглядела пустую кровать. И, почувствовав, что я — за спиной, стремительно обернулась. В красноватом свете я увидел ее глаза — их ледяная синева была подобна остриям стальных клинков и поистине завораживала меня. Она открыла рот, чтобы крикнуть или что-то сказать. Но я не мог позволить ей подобной роскоши — выяснение отношений было не к месту и не ко времени. От удара, что пришелся по щеке, замутилась нестерпимая пристальность этого почти гипнотического взгляда: Анхелику отбросило назад. Еще катилась по полу выроненная свеча, и фитилек еще горел, когда я снова сжал кулак — клянусь вам, что безо всяких душевных терзаний, — и ударил во второй раз, теперь в висок. Она без чувств рухнула на кровать. Ощупью, потому что свеча погасла, я приложил ладонь ко рту Анхелики — косточки пальцев у меня ныли не меньше, чем располосованная спина, — и убедился: дышит. Это немного меня успокоило. Теперь можно действовать. Оставив чувствования до лучших времен, я добрался до окна. Распахнул. Слишком высоко. Метнулся к двери, осторожно открыл ее и оказался на площадке лестницы. Опять же ощупью дошел до узкого коридора, освещенного прилепленным к стене огарком. Покрытый ковром пол, дверь, пролет еще одной лестницы. На цыпочках я прокрался мимо двери и был уже на второй ступеньке, когда в доносящемся до меня разговоре прозвучало вдруг имя моего хозяина.
Господь бог или сатана иногда направляют нас в нужную сторону. Я вернулся, приник ухом к двери. По ту сторону ее вели разговор, по крайней мере, двое, и разговор у них шел об охоте — зайцы, олени, егеря. При чем тут капитан? — изумился я. Потом прозвучало еще одно имя — Филипп. И сказано было, что он к сроку окажется где надо. Имя короля произнесли бесстрастно, но дурное предчувствие вмиг охватило меня. И то, что комната Анхелики была совсем рядом, позволило связать концы с концами. Я стоял перед дверью в покои ее дядюшки, королевского секретаря Луиса де Алькесара. Потом упомянули рассвет и Фреснеду. От потери крови, а может быть, от того, что в голове моей с непреложной ясностью возникла картина, у меня подогнулись ноги. Воспоминание о человеке в желтом колете свело воедино все кусочки этой мозаики. Мария де Кастро намеревалась провести эту ночь во Фреснеде. А тот, с кем намечалось ее свидание, должен был чуть свет отправиться на охоту в сопровождении всего двоих егерей. А упомянутый в разговоре Филипп был не кто иной, как его величество король Испании Филипп Четвертый.
Опершись о стену, я попытался собрать разбредающиеся мысли. Набрал полную грудь воздуху, будто черпал из него силы, которые мне, без сомнения, понадобятся. Хорошо бы, чтоб рана не начала кровоточить. Первым, к кому я хотел обратиться за помощью, был, разумеется, дон Франсиско, и я осторожно начал спускаться по ступеням. Но в отведенной поэту комнате его не оказалось. Я вошел, зажег свечу, увидел заваленный бумагами и книгами стол, несмятую постель. Тогда я подумал о графе де Гуадальмедине и через патио направился в то крыло, где помещались покои кавалеров свиты. Как я и предполагал, там мне заступили путь, и уже известный мне часовой сообщил, что и не подумает будить его сиятельство в такой час, даже если мавры высадились или земля перевернулась. Я предпочел не настаивать, ибо довольно уже имел дела со стражниками и часовыми и знал, что убеждать этих толстомясых густоусых старослужащих олухов — что горохом об стенку. Никакая сила в мире не могла бы поколебать их каменное безразличие, зиждущееся на уставе караульной службы: сказано никого не пускать — они никого и не пустят, а осложнять себе жизнь в их обязанности не входит. Толковать с ними о заговорах на жизнь короля было то же, что о лунных кратерах, а вот загреметь под арест можно было очень даже просто. Тогда я осведомился, есть ли у них чем писать, и, разумеется, получил отрицательный ответ. Тогда я вернулся в комнату дона Франсиско, схватил перо и быстро накатал две записки — ему и Гуадальмедине. Запечатал сургучом, надписал сверху их имена, ту, что предназначалась поэту, оставил у него на столе, а другую отнес на пост.
— Передадите графу, как только проснется. Дело идет о жизни и смерти.
Не думаю, чтобы они мне поверили, однако записку все же взяли. Мой знакомец посулил, что вручит ее, как только увидит кого-нибудь из слуг. Тем и пришлось мне удовольствоваться.
Последняя и утлая надежда была на таверну. Быть может, дон Франсиско решил немного добрать и сейчас сидит там, выпивая и сочиняя, а если хмель свалил — устроился на ночлег в верхних комнатах, чтобы не тащиться на веселых ногах во дворец. Так что я и направился в «Каньяду Реаль» под черным, беззвездным небом, которое лишь чуть-чуть начинало светлеть на востоке. Зуб на зуб у меня не попадал от холодного ветра, приносящего с гор пригоршни капель, и благодаря ему в бедной моей голове малость прояснело, хотя было по-прежнему непонятно, как быть и что делать. Подгоняемый тревогой, я все ускорял шаги. Образ Анхелики стоял у меня перед глазами, и, поднеся к носу ладонь, еще хранившую аромат ее кожи, я вдохнул его и тотчас вздрогнул, все вспомнил — и в полный голос проклял сучью свою судьбу. Спина болела неописуемо.
Таверна была закрыта. Висевший под притолокой фонарь бросал дрожащий свет. Я несколько раз стукнул в дверь и, не дождавшись ответа, предался горестным думам. Время истекало неумолимо.
— Пить уже поздно, — раздался поблизости чей-то голос. — Или еще рано.
Я резко обернулся. В смятении чувств я не заметил на каменной скамье под каштаном закутанного в плащ человека без шляпы, пристроившего рядом шпагу и большую оплетенную бутыль. Это был Рафаэль де Косар.
— Я ищу сеньора де Кеведо.
Косар пожал плечами, повел вокруг себя туманным взором:
— Вы же с ним вместе ушли. А где он сейчас — не знаю.
Язык у него немного заплетался. Если комедиант всю ночь накачивался, подумал я, можно представить, в каком он сейчас состоянии.
— Что же вы здесь делаете? — спросил я.
— Пью. Размышляю.
Я подошел и присел рядом, отодвинув шпагу. Вид мой был таков, что хоть пиши с меня аллегорию отчаянья.
— В такую холодную ночь? Погода не располагает к размышлениям на свежем воздухе — чересчур свежо.
— Жар души спасает. — Он странновато хихикнул. — Это славно, а?.. Жар внутри, рога снаружи. Как это там?..
И с лукавым видом продекламировал, время от времени прикладываясь к бутыли:
Дела идут, и мы живем — не тужим, Тогда как все вокруг поражены: Возможно ль быть своей подружки мужем И сутенером собственной жены?Я заерзал на скамейке. И не только от холода.
— Мне кажется, сеньор Рафаэль, вы приняли немного лишнего…
— Кто знает, что для человека лишнее, а что ему необходимо?
Поскольку я не нашелся, что на это ответить, мы некоторое время сидели молча. В свете фонаря капли воды на лице и волосах Косара блестели, как иней. Комедиант вдруг всмотрелся в меня повнимательней:
— Тебя, кажется, тоже томит какая-то забота?
Видя, что я не отвечаю, он протянул мне бутыль.
— Не такая помощь мне нужна, — понуро отвечал я.
Он значительно, с философским глубокомыслием покивал, оглаживая свои германского образца бакенбарды. Потом поднес горлышко к губам, и раздалось звонкое бульканье.
— От вашей супруги нет вестей?
Он мрачно и мутно покосился на меня, не опуская бутылку. Пристроил ее рядом на скамью и, вытирая усы тылом ладони, ответил:
— У моей супруги — своя жизнь. В этом есть и определенные выгоды, и кое-какие неудобства.
Он открыл рот и поднял палец, явно намереваясь снова что-то прочесть. Но мне было совсем не до стихов.
— Ее хотят использовать против короля, — сказал я.
Косар замер с открытым ртом и воздетым перстом.
— Не понимаю…
И это прозвучало почти как мольба о том, чтобы и дальше ничего не понимать. Но меня, что называется, достали — и он со своим винищем, и холод, и грызущая мне спину боль.
— Заговор, — сказал я нетерпеливо. — Потому я искал дона Франсиско.
Он заморгал, и глаза его из мутных сделались просто испуганными.
— Мария-то здесь при чем?
Я не сумел удержаться от презрительной гримасы:
— Это приманка. А ловушка сработает на рассвете, когда король в сопровождении всего двух егерей пойдет на охоту… Его хотят убить.
Под ногами у нас глухо брякнуло стекло — бутыль упала на землю, но ивовая оплетка не дала осколкам разлететься
— Матерь божья, — сказал комедиант. — А мне казалось — это я напился…
— Я трезв, как стеклышко у вас под ногами, и говорю чистую правду.
— Ну а если даже и так… Мне-то какое дело до короля, дамы или валета?
— Повторяю вам — они хотят впутать вашу жену. И капитана Алатристе.
Услышав это имя, Косар засмеялся тихонько и недоверчиво. Я взял его за руку и заставил пощупать мою спину. Пальцы его наткнулись на перевязку, и я увидел, как он переменился в лице:
— Кровь течет!
— Еще бы ей не течь! Не прошло и трех часов, как меня пырнули кинжалом.
Он вскочил, вот уж точно — как ужаленный. Я остался сидеть, наблюдая, как он бегает перед скамьей взад-вперед.
— Настает день праведного возмездия… — бормотал он вроде бы про себя. — Все решит добрый клинок.
Но вот Косар наконец остановился. Разбушевавшийся ветер все сильнее трепал полы его плаща.
— Филиппа, говоришь?
Я кивнул.
— Убить короля… — продолжал он. — Клянусь сам не знаю чем, это забавно… Прямо как в комедии!
— В трагикомедии, — вставил я.
— Это, юноша, зависит от точки зрения.
И внезапно меня осенило:
— У вас есть карета?
Он был сбит с толку и, слегка пошатываясь, уставился на меня:
— Ну разумеется. Стоит на площади. Кучер дрыхнет, забравшись внутрь. Я велел ждать и заплатил. И еще послал ему пару бутылок вина…
— Ваша жена уехала во Фреснеду.
Растерянность сменилась недоверчивостью:
— И дальше что? — спросил он не без опаски.
— До Фреснеды — почти лига пути. Мне не дойти. А карета домчит мигом.
— А зачем тебе туда?
— Чтобы спасти короля. И может быть, — донью Марию.
Он захохотал — довольно принужденно, должен заметить — и тотчас оборвал смех. Задумался, покачивая головой. И наконец, театрально завернувшись в плащ, продекламировал:
Я не подам ни повода, ни виду, Я буду сам — и следствие, и суд. Я отомстить сумею за обиду Чуть раньше, чем ее мне нанесут.— Моя жена сама о себе позаботится, — очень серьезно проговорил он. — Пора бы уж тебе это знать.
И с той же серьезностью — без шпаги, которая по-прежнему была прислонена к скамье, — Косар изобразил салют, парад, рипост. Странный человек, подумал я, затейливый человек. Весьма затейливый. Он вдруг поглядел на меня и улыбнулся. И улыбка его, и выражение глаз плохо вязались с тем, какая молва шла об этом благодушном рогоносце. Но размышлять было некогда.
— Тогда подумайте о короле, — настойчиво сказал я.
— А чего о нем думать?.. — Изящным движением он вложил в ножны воображаемую шпагу. — Клянусь бородой прадедушки, я не стану возражать, если кто-нибудь покажет ему, что кровь у него — того же цвета, что и у нас, грешных…
— Он — король Испании. Наш властелин.
Мои слова не произвели особого впечатления. Косар стряхнул с плеч дождевые капли, плотнее запахнул плащ.
— Вот что я скажу тебе, мой мальчик. Я каждый день встречаюсь с ними на сцене — то с императорами, то с Сулейманом Великолепным, то с самим Тамерланом. А время от времени даже играю их… И случалось мне по ходу пьесы делать такое, о чем не пишут в книгах. Так что у меня короли, живые или мертвые, священного трепета не вызывают.
— Но ваша жена…
— Да забудь ты про мою жену раз и навсегда!
Он снова глянул на разбитую бутыль, на минутку замер, сморщив лоб. Потом прищелкнул языком и с любопытством уставился на меня:
— Намереваешься отправиться во Фреснеду один? А где же наша гвардия? Где доблестная пехота? И могучий флот? Где они все, мать их так?..
— Во Фреснеде будут и гвардейцы, и свита. Если успею предупредить.
— Так в чем же дело? Дворец — в двух шагах. Валяй, предупреждай.
— Не пускают. Ночь.
— А если во Фреснеде тебя просто зарежут? Заговорщики уже могут быть там.
Я задумался. Косар ерошил свои бакенбарды.
— В «Сеговийском ткаче» я играл Бельтрана Рамиреса, — вдруг сказал актер. — Он спасает жизнь королю:
За ним ступайте; выясните, кто Над грудью августейшею клинок Предательский осмелился занесть…И выжидательно уставился на меня. Я коротко кивнул. Не аплодировать же, в самом-то деле?
— Это Лопе? — осведомился я, чтобы хоть что-нибудь сказать.
— Нет. Мексиканец Аларкон. Знаменитейшая комедия. Огромный был успех. Мария играла донью Анну под сплошной гром оваций. А я… ну, да что там говорить.
Он помолчал, вспоминая о рукоплесканиях — или о жене.
— Да… Там я спасал короля. Действие первое, сцена первая. Отбивал его у двух мавров. Я, кстати, очень недурно владею шпагой, ты знаешь об этом? По крайней мере, бутафорской… При моем ремесле все на свете надо уметь… В том числе и фехтовать.
Он мечтательно зажмурился.
— А что? Это будет забавно… Юный монарх спасен первым актером Испании. А что касается Марии…
И вдруг осекся. Взгляд его уплыл в неведомые дали.
— Над грудью августейшей… — пробормотал Косар еле слышно.
Продолжая покачивать головой, он еще что-то говорил, но я уже не мог разобрать ни слова. Быть может, декламировал. Внезапно лицо его просияло — улыбка великодушная и героическая осветила его. Он дружески хлопнул меня по плечу:
— В конце концов, не все ли равно, какую роль играть?
XI Охота
Когда сняли вымокшую от дождя повязку, Диего Алатристе увидел чахлый серый свет и тяжелые темные тучи. Связанными руками он протер глаза — левый еще побаливал, но веки открывались. Осмотрелся. Его везли сюда на муле — и рядом слышался перестук лошадиных копыт, — а потом довольно долго вели пешком, и он немного согрелся, ибо ни плаща, ни шляпы на нем не было. Но все равно его колотил озноб. И вот теперь капитан стоял в перелеске, среди вязов и дубов. На западной оконечности неба, что проглядывало сквозь листву, истаивала ночная тьма, и, наводя еще большую тоску на Алатристе и его спутников, неустанно сеялся мелкий противный дождик из тех, что, однажды начавшись, заряжают надолго.
Тирури-та-та. На знакомую руладу он обернулся. Гвальтерио Малатеста, завернувшись в черный плащ, до самых глаз надвинув шляпу, оборвал свист и скорчил гримасу, которую можно было принять и за насмешку, и за приветствие.
— Замерз, капитан?
— Не без того.
— И проголодался, наверно?
— Сильно.
— Ничего, утешайся тем, что для тебя скоро все кончится, а нам еще предстоит обратный путь.
И указал на своих спутников: то были люди, схватившие Алатристе у ручья, — только теперь их стало на одного меньше. Бородатые, зловещие видом, они были одеты непритязательно и удобно, на манер охотников или лесников, и обвешаны неимоверным количеством всякого колющего, режущего и стреляющего добра, от которого добра не жди.
— Самая отборная мразь, — угадывая мысли капитана, произнес Малатеста.
Где-то вдали запел охотничий рожок, и четверо убийц, многозначительно переглянувшись, устремили взоры в ту сторону, откуда донесся этот сигнал.
— Побудешь здесь еще немного, — сказал итальянец.
Один из его молодцов двинулся через кусты на звук рожка, а двое остальных усадили Алатристе на мокрую землю и принялись связывать ему ноги.
— Разумная предосторожность, — пояснил Малатеста. — Отнеси ее на счет своих дарований. Тебе должно быть это лестно.
Поврежденный глаз его немного слезился, когда итальянец — вот как сейчас — глядел пристально.
— Я-то полагал, — медленно ответил капитан, — что наши с тобой дела мы решим один на один.
— Но, помнится, в тот день, когда ты навестил меня без приглашения, едва ли я мог рассчитывать на снисхождение.
— По крайней мере, руки у тебя были свободны.
— Это так. Но оказать тебе такую же услугу я не могу. Дело зашло слишком далеко, и слишком много поставлено на кон.
Алатристе понимающе кивнул. Тот, кто спутывал ему ноги, теперь намертво затянул хитроумные узлы.
— А эти скоты знают, во что они встряли?
Помощники Малатесты и глазом не моргнули.
Один, кончив дело, счищал с колен грязь. Второй проверял, не отсырел ли порох на полке заткнутого за пояс пистолета.
— Конечно, знают. Мы давно знакомы. Это вместе с ними я был на Минильясском тракте.
Алатристе попробовал шевельнуть руками и ногами. Ничего не вышло. Сделано было на совесть. Хорошо хоть, на этот раз руки ему связали не за спиной, а спереди, чтобы он не свалился с седла.
— Ну и как же ты намерен выполнить поручение?
Итальянец достал пару черных перчаток и теперь неторопливо натягивал их. Капитан заметил, что кроме пистолета, шпаги и кинжала, у него еще и нож за голенищем.
— Ты, я полагаю, осведомлен о страсти этой… гм… личности к охоте? На зорьке. В сопровождении не более чем двух егерей. А здесь в изобилии водятся и олени, и зайцы. Какое раздолье для стрелка, не знающего промаха, для неутомимого охотника! И кому же неизвестно, что наш… гм… герой забывает обо всем на свете, выслеживая дичь. Кажется невероятным: ведь обычно он сама невозмутимость, моргает — и то через раз, смотрит поверх голов… А вот поди ж ты — преображается и при виде этой самой дичи-добычи совершенно шалеет.
Он пошевелил растопыренными пальцами, проверяя, ловко ли сели перчатки. Потом удостоверился, что шпага легко ходит в ножнах.
— А повадился кувшин по воду ходить… — произнес он со вздохом, — тут ему и голову сломить.
И на мгновение замер — словно погрузился в глубокую думу. Потом очнулся, сделал своим молодцам знак, и те, подняв капитана за руки и за ноги, привязали его к стволу дуба.
— Неудобно, но уж придется потерпеть малость. Мы знали, что сегодня ночью он приедет сюда развлечься с… Да ты сам уже понял. Надежные люди сделали так, что сопровождают его только двое доверенных егерей. Я хочу сказать — они пользуются нашим доверием. Это они минуту назад оповестили нас сигналом рожка, что все идет как было предусмотрено, и зверь уже рядом.
— Ювелирная работа, — отозвался Алатристе. Малатеста поблагодарил за похвалу, прикоснувшись к полю влажной от дождя шляпы.
— Надеюсь, высокородная наша особа в преддверии утех исповедалась. — Рябоватое лицо скривилось. — Мне-то, сам понимаешь, глубоко наплевать, но, говорят, он — человек набожный. Вот и хорошо — неприятно помирать в состоянии смертного греха…
Сильно позабавленный этими соображениями, итальянец взглянул вдаль, словно высматривая добычу в чаще, и расхохотался, упершись рукой в эфес.
— Прелесть что такое, — проговорил он со зловещим ликованием. — А иначе отправился бы прямиком в преисподнюю.
Наслаждаясь этой мыслью, он еще некоторое время улыбался.
Потом перевел глаза на капитана:
— А вот ты, я считаю, правильно сделал, что не стал устраивать сегодня таинство покаяния… Услышав нашу с тобой откровенную исповедь, любой духовник отрекся бы от сана, сочинил бы не очень-то назидательную новеллу[127] и заработал бы денег больше, чем Лопе де Бега новой комедией.
Алатристе, сколь ни бедственно было его положение, невольно согласился:
— Падре Эмилио Боканегра — плохое подспорье тому, кто желает уйти на тот свет с чистой совестью.
Снова раскатился сухой и сиплый смех итальянца:
— Тут я с тобой полностью согласен. Я тоже предпочел бы хвост и копыта, нежели тонзуру и распятие.
— Ты отвлекся.
— Отвлекся? — Малатеста глядел на него, соображая, о чем речь. — Ах да! Ну, стало быть, охотник и дичь… Я-то думал, ты уже сам дорисовал себе остальное: появляется зайчик или там олень, наш герой углубляется в чашу, егеря отстают… И тут — бац! Откуда ни возьмись, ревнивый соперник А ведь известно — «… одним лишь взором ревность убивает»[128]. И неосторожный охотник очень мило нанизывается на шпагу.
— Это, надо полагать, ты возьмешь на себя?
— Ну еще бы! Как можно отказаться от такого удовольствия? Потом мы тебя развязываем, предварительно положив рядом твою шпагу, кинжал и прочее… А верные егеря, прибыв с небольшим опозданием на место разыгравшейся трагедии, получат, по крайней мере, возможность отомстить за короля, если уж не сумели спасти его…
— Ну понятно… — Алатристе посмотрел на свои связанные руки и ноги. — В рот, закрытый глухо, не влетит муха. Мертвый не проболтается.
— Ваша милость, досточтимый сеньор капитан, да кому же в Мадриде неведома ваша несравненная доблесть? Кто удивится, услышав, что вы дрались как лев и пали с честью? Узнав, что вы за бесценок отдали свою драгоценную жизнь, многие были бы вне себя от горчайшего разочарования.
— А ты?
— Но я-то знаю, чего ты стоишь. В Минильясе ты убил одного из моих людей, вчера ухлопал другого. Так что, Вакхом клянусь, можешь отправляться на тот свет со спокойной совестью.
— Да я не об этом спрашиваю! Что ты собираешься делать потом?
Малатеста самодовольно погладил усы:
— А-а… Предстоит самое приятное, что есть в нашем ремесле, — исчезнуть. Вернусь в Италию — благо будет с чем. Отчизну я покинул налегке.
— Как жаль, что здесь тебе не всадили унцию свинца в одно место — сразу потяжелел бы.
— Спокойствие, капитан! — Итальянец ободряюще улыбнулся. — Все будет хорошо.
Алатристе прижался затылком к стволу. Дождевая вода бежала по спине, сорочка под колетом вымокла насквозь, штаны были выпачканы грязью и глиной.
— У меня к тебе просьба, — проговорил он.
— Черт побери… — Малатеста смотрел на него с непритворным удивлением. — Что я слышу? Чтоб ты — да с просьбой? Неужто очко заиграло?
— Насчет Иньиго. Можно ли сделать так, чтобы он остался в стороне?
Итальянец некоторое время бесстрастно вглядывался в него. Потом тень сочувствия скользнула по его лицу.
— Насколько мне известно, он и так в стороне. Не при делах, так сказать. Но то, как обернется, от меня не зависит. Ничего не могу обещать.
В это время один из подручных итальянца, прятавшийся в кустах, вылез и помахал Малатесте, показывая ему направление. Тот вполголоса отдал распоряжения двум другим. Первый стал рядом с капитаном — пистолет за поясом, шпага на боку, пальцы на рукояти ножа. Второй направился к наблюдателю.
— А насчет мальчугана, капитан… Он — хорошей породы. Ты можешь им гордиться. И, клянусь тебе, если он сумеет отвертеться, я буду просто счастлив.
— Надеюсь, отвертится. И когда-нибудь убьет тебя.
Малатеста, уже двинувшийся за своими людьми, медленно обернулся, и его угрюмый взгляд скрестился со взглядом Алатристе.
— Может быть. В конце концов убьют и меня. Когда-нибудь. А тебя — сегодня.
Мелкий дождь швырял в лицо водяную пыль. Под серым небом, вдоль черных тополей, тянувшихся по обе стороны дороги, пара мулов во весь опор несла карету во Фреснеду. Вожжи держал и кнутом размахивал сам Рафаэль де Косар, ибо кучер оказался мертвецки пьян и спал сейчас поперек сидений. Комедиант был ненамного трезвей, но необходимость двигаться, освежающее действие холодного дождя и какая-то смутная решимость, овладевшая сеньором Рафаэлем в последнюю минуту, рассеяли винные пары. Понукая мулов криками и щелканьем кнута, он гнал их едва ли не галопом, так что я с долей беспокойства спрашивал себя, что это — мастерство возницы или безрассудство пьяного? Так или иначе, карета просто летела. Пристроившись на козлах рядом с Косаром, цепляясь за что попало и рискуя сверзиться при очередном толчке, я зажмуривался всякий раз, когда мой колесничий лихо вписывался в крутой поворот дороги, или когда ошметки грязи из-под копыт и колес прыгавшей по выбоинам кареты летели мне в лицо.
Покуда я раздумывал, что скажу или сделаю во Фреснеде, позади осталось свинцовое пятно пруда, полускрытого деревьями, а впереди, в отдалении, показалась ступенчатая, во фламандском стиле, крыша охотничьего дворца. Дорога раздваивалась: налево виднелась дубовая роща, и, глянув туда, я заметил мула и четырех верховых коней. Указал на них Косару, и тот осадил мулов столь резко, что один припал на передние ноги, едва не вывалив седоков. Я соскочил с козел первым, с настороженным вниманием озирая местность. Наступающий рассвет с трудом пробивался сквозь мрачные тяжелые тучи. Может, все напрасно, грызла меня мысль, и явившись к охотничьему дворцу, мы просто даром потратим время? Покуда я терзался сомнениями, Косар решил за нас обоих: он спрыгнул с облучка, причем угодил прямехонько в огромную лужу, поднялся, отряхиваясь, но тотчас, споткнувшись о собственную шпагу, упал вторично. Выпрямился, ругаясь на чем свет стоит. На перемазанном грязью лице горели глаза, мутная вода ручьями текла с бакенов и усов. Несмотря на безобразную брань, казалось, будто по каким-то неведомым причинам все происходящее доставляет ему истинное удовольствие.
— За дело! — вскричал он. — И горе тем, кто станет на пути!
Скинув епанчу, я схватил шпагу кучера — благо тот, свалившись от толчков на пол кареты, продолжал блаженно похрапывать. Шпага, по правде сказать, была дрянная, но выбирать не приходилось, а с нею и со своим кинжалом я все же мог считать себя вооруженным. Как говаривал во Фландрии капитан Брагадо, на военном совете самонадеянность губительна, но в действии — пользительна. А я как раз действовал.
— Гляну, как там и что, — сказал я, показав на лошадей, привязанных к деревьям. — А вы тем временем ступайте к дому и попросите помощи.
— Еще чего! Да ни за что на свете не пропущу такой оказии! Вместе — значит вместе.
Косар совершенно преобразился — даже голос звучал иначе. Любопытно было бы знать, какую роль играет он сейчас. Внезапно он подошел к карете и принялся будить кучера, хлеща его по щекам так, что мулы испуганно запрядали ушами.
— Проснись, болван! — взывал он с властностью владетельного герцога. — Ты нужен Испании!
Спустя несколько минут все еще одурелый кучер — я полагаю, он подозревал, что хозяин его повредился в рассудке, — щелкнул кнутом и погнал мулов во Фреснеду, дабы поднять там тревогу. Судя по всему, он не отличался особенной сообразительностью, и потому, чтобы не запутать его вконец, приказы ему был отданы самые простые — добраться до охотничьего домика, кричать как можно громче, а людей привести как можно больше. Потом, дескать, все объясним.
— Если останемся живы, — драматическим тоном добавил Косар.
Вслед за тем он величаво закинул за плечо полу плаща и решительно двинулся вглубь перелеска. Но, сделав четыре шага, запутался о шпагу и ничком растянулся в грязи.
— Богом клянусь! — пробубнил он, зарывшись носом в грязь. — Если кто-нибудь еще раз меня толкнет, я того изувечу!
Помогая ему встать на ноги и почиститься, я с долей отчаянья думал о том, как хорошо было бы, чтобы кучер сумел убедить и привести к месту действия людей. Или чтоб капитан Алатристе, где бы он ни был, справился своими силами. Ибо если все зависит только от нас с Косаром, Испания останется без короля, как я остался без отца.
Снова послышался рожок. Диего Алатристе, сидевший у подножья дуба, заметил, как человек, оставленный охранять его, поднял голову и оглянулся на звук. Это был тот самый бородач, приземистый и широкоплечий, с которым капитан столкнулся на почтовой станции в Галапагаре. Судя по всему, он относился к тем, кто болтать не любит: как поставил его Малатеста перед уходом, так он и стоял под дождем, сейчас припустившим сильней. Стоял и мок, ибо кроме навощенной накидки, иной защиты у него не было. Богом создан для таких дел, подумал Алатристе, ибо мог оценить его лучше, чем кто-либо иной. Человек, которому говорят: оставайся здесь, здесь убивай и сам здесь умри — и он все исполнит без рассуждений и пререканий. Человек, который может стать героем, если пойдет брать на абордаж турецкую галеру или штурмовать фламандский редут, а не случится подходящей войны — убийцей. Где проходит водораздел, не враз поймешь: все зависит от того, какие кости вытряхнет ему судьба из своего стаканчика, какую карту сдаст — червовую ли двойку, бубнового ли туза.
Когда замер звук рожка, бородач почесал в затылке и глянул на пленника. Потом подошел вплотную, окинул ничего не выражающим взглядом и вытащил нож. Алатристе, сложив связанные руки на коленях, откинув голову, не сводил глаз с отточенного лезвия. Он чувствовал, как неприятно засосало под ложечкой. Должно быть, сказал он себе, Малатеста все продумал как следует, поручив задание своему подчиненному. Вот уж не думал он так окончить жизнь — в грязи, связанным по рукам и ногам… Прирежут как кабанчика, а потом на века ославят как цареубийцу. О, чтоб вас всех…
— Дернешься — приколю, — бесстрастно предупредил бородач.
Алатристе смаргивал с ресниц капли дождя. Да нет, как видно, на уме у них что-то другое. Вместо того, чтобы полоснуть его ножом по горлу, наемник рассек веревки на ногах.
— Вставай, — сказал он, для убедительности сопроводив свои слова пинком.
Покуда капитан выпрямлялся, тот ни на миг не выпускал его из поля зрения и держал клинок наготове — то есть у самой шеи.
— Шагай, — снова наемник пнул его.
Алатристе все понял: зачем им убивать его сейчас — ведь потом придется тащить туда, где произойдет их встреча с королем, и оставлять к тому же следы на раскисшей глинистой земле. Пусть на своих ногах доберется до места двойной казни. С каждым шагом истекали время и жизнь. И все же он решил попробовать. Последняя попытка. Что ему терять? Он и так уже, можно считать, убит и в землю зарыт. А вдруг?
— Пощади! — вдруг закричал он, припав на одно колено.
Шедший позади бородач вздрогнул от неожиданности.
— Пощади!
Обернувшись, капитан успел увидеть его презрительно сузившиеся глаза. «Я думал, ты покрепче будешь», — говорил этот взгляд.
В следующее мгновенье страж понял свою ошибку. Но было уже поздно — клинок чуть повернулся в сторону, и Алатристе, бросившись бородачу в ноги, с размаху двинул его плечом в живот. Толчок, едва не вывихнувший ему руку, достиг цели — противник потерял равновесие, свалился в грязь, а капитан, сцепив в замок связанные руки, изо всех сил двинул его по лицу, круша носовые хрящи и разбивая губы. Наемник попытался ударить его ножом, но, по счастью, то был здоровенный охотничий нож с длиннющим лезвием — короткий обоюдоострый кинжал тотчас бы вспорол капитану брюхо. Но поскольку они барахтались на земле, плотно обхватив друг друга, у бородача не было возможности размахнуться как следует, и острие соскальзывало с задубелой плотной ткани. Капитан сумел прижать коленом руку с ножом, стиснуть ладонями горло, а большими пальцами надавить на глазные яблоки противника. Тут уж миндальничать не приходилось и церемониться было некогда — шел бой без правил, — и Алатристе сжимал стражу горло изо всех сил, считая про себя: пять… десять… пятнадцать… и когда дошел до восемнадцати, бородач захрипел и обмяк Дождь быстро смыл кровь с лица и ладоней капитана, когда, уже не встречая сопротивления, он выхватил нож из разжавшегося кулака, сунул под бороду, нажал — и пригвоздил противника к земле. Так он держал его некоторое время, навалившись всей тяжестью и чувствуя, как содрогается и бьется под ним поверженный враг, пока, наконец, со свистящим усталым вздохом, слетевшим уже не с его губ, а из перерезанного горла, тот не окостенел. Тогда Алатристе перекатился на спину, подставив лицо дождю, перевел дыхание. Выдернул лезвие из раны, зажал роговую рукоять между колен и перерезал веревку, стягивавшую запястья, умудрившись не вскрыть себе вены. При этом заметил, как дернулась и задрожала нога бородача. Забавно, подумал он, хоть и не впервые мог наблюдать это явление: человек уже мертв, а тело еще противится смерти.
Он снял с трупа все, что могло пригодиться — шпагу, нож, пистолет. Шпага оказалась хороша, саагунской работы, хоть и покороче тех, к которым он привык. Не теряя времени, капитан вооружился. Лезвие охотничьего ножа было в две пяди длиной, рукоять сделана из оленьего рога. Кинжал, конечно, предпочтительней, но ничего, сойдет и это. От пистолета после того, как его поваляли в грязи, проку должно быть немного, однако Алатристе все же заткнул его за пояс, заметив, что теперь, когда схлынул жар схватки, руки дрожат от холода. Бросил прощальный взгляд на мертвеца: ноги больше не дергались, и лужица крови напоминала сильно разбавленное вино — дождь не унимался. Одежда на бородаче вымокла насквозь и вывозилась в грязи, так что от холода не спасет, и потому капитан, ограничившись одной лишь навощенной накидкой, набросил ее себе на плечи.
Из кустов донесся какой-то шорох. Алатристе обнажил шпагу, с удовольствием ощутив ее привычную и успокаивающую тяжесть. Теперь, подумал он, поговорим на равных.
Я обратился в соляной столп. Передо мной со шпагой в руке, с убитым в ногах и с густым слоем грязи на щеках стоял капитан Алатристе. Казалось, он только что вылез из фламандских болот или — еще чего доброго — вернулся с того света. Оборвав мои радостные восклицания, он устремил взор на Рафаэля де Косара, который, шлепая по лужам и ломая ветки, трещавшие, как пистолетные выстрелы, в этот миг возник у меня за спиной.
— Черт… — сказал мой хозяин, пряча шпагу в ножны. — А этому здесь что надо?
Я пустился в объяснения, стараясь не быть слишком многословным, но капитан, недослушав, сделал полуоборот налево и двинулся прочь, словно внезапно утратил всякий интерес к тому, по каким причинам оказался на лесной поляне прославленный комедиант.
— Предупредил?
— Вроде бы… — промямлил я, с беспокойством вспоминая непроспавшуюся физиономию кучера.
— Вроде или предупредил?
Капитан большими шагами двигался меж кустов. Я поспевал следом, слыша за собой, как Косар бормочет сквозь зубы какую-то невнятицу — не то читает стихи, не то ругается. Время от времени Алатристе, остановившись, чтобы сообразить, куда идти дальше, оборачивался и бросал на комедианта мрачный взгляд.
Неподалеку раздался звук рожка — мне показалось, что я слышал его издали еще до встречи, — и мы замерли под дождем. Капитан прижал палец к губам, поочередно оглядел Косара и меня. Потом вскинул ко мне руку, повернутую ладонью вниз — этот безмолвный сигнал, которым мы пользовались еще во Фландрии, означал: «Жди! Иду на разведку», — и, осторожно ступая, скрылся меж деревьев. Мы с актером укрылись под деревом. Косар, пребывая в полнейшем восхищении от этих условных знаков и от того, что попал чуть ли не на всамделишную войну, начал было что-то говорить, но я зажал ему рот. Он понимающе кивнул, глядя на меня с большим почтением, чем прежде, и стало ясно, что никогда больше не услышать мне от него ни «малыша», ни «мальчугана». Я улыбнулся ему, а он — мне. Глаза комедианта сияли от восторга. Я оглядел его — кургузенький, измазанный грязью, вымокший до нитки… И эти его немецкие бакены, соединенные с усами. И рука на эфесе. У него был на удивление боевой вид. Есть такие люди — кажутся неказистыми и миролюбивыми, а потом вдруг прыгнут и ухо тебе откусят. До сих пор — уж не знаю, благодаря ли вину или еще чему, — Косар, казалось, ни на миг не испытал страха. Он играл роль — лучшую роль в своей жизни — и наслаждался острыми ощущениями.
Капитан появился так же бесшумно, как исчез. Взглянул на меня и снова вскинул руку, но теперь — ладонью вверх и растопырив все пять пальцев. Пятеро, мысленно перевел я. Большой палец ткнул вниз. Врагов. Алатристе провел ладонью от правого плеча к левому бедру, как бы изображая перевязь, а затем поднял указательный палец. Офицер. Большой палец вверх. Свой. И тут я понял, что имелось в виду. Красная перевязь служила в полках испанской пехоты знаком различия. А в этом лесу носить высокий чин мог только один человек.
Диего Алатристе снова появился на краю лесной опушки, спрятался за деревом. В двадцати шагах от него, в зарослях дрока, окружавших высоченный дуб, стоял молодой человек с охотничьим ружьем в руках. Он был строен и рыжеват, облачен в зеленое сукно, на голове имел узкополую шапочку с козырьком, на ногах — выпачканные грязью гамаши, на руках — перчатки, за поясом — длинный нож. А шпаги при нем не было. Напряженно выпрямившись и немного задрав голову, он стоял неподвижно, слегка выставив одну ногу вперед. Казалось, этой позой он сдерживает пятерых людей, взявших его в полукольцо.
Из-за шума дождя и расстояния до Алатристе лишь изредка доносились отдельные слова. Юный охотник, впрочем, хранил молчание, а говорил только и исключительно Гвальтерио Малатеста, чьи черные плащ и шляпа блестели от дождя. Он же был единственным, кто держал шпагу в ножнах: все остальные убийцы, двое из которых носили платье придворных егерей, уже обнажили клинки и сужали круг.
Алатристе стряхнул с плеч накидку. Пистолету он не доверял — осечка в такой сырости была более чем возможна, — а потому взялся за рукояти шпаги и ножа, наметанным глазом прикидывая, сколько шагов отделяет его от этой живописной группы. С досадой понял, что на рыжеватого юношу рассчитывать нечего: тот продолжал стоять неподвижно, как статуя, держал ружье в опущенных руках и взирал на окружавших его убийц так безразлично, словно замыслы их не имели к нему ни малейшего касательства. Алатристе заметил даже, что, по охотничьему обычаю, он прикрывает замок ружья полой своего зеленого кафтана, чтоб вода не попала, и если бы не проливной дождь, не грязь под ногами и не пятеро головорезов, можно было бы подумать, что он позирует Диего Веласкесу для очередного портрета. Капитан скорчил гримасу, долженствовавшую обозначать не то восхищение, не то презрение. Да, вероятно, это храбрость, подумал он. Но глупости и чудовищной бургундской спеси — еще больше. Что ж, пусть послужит ему горьким утешением, что даже перед лицом смертельной опасности король, из-за которого он сейчас поставит на кон собственную жизнь, не утратил величия.
А какого дьявола, продолжал размышлять Алатристе, мне лезть в это дело? Почему я должен гибнуть из-за этого малого, который не желает пальцем пошевелить ради своей защиты, будто воображая, что сию минуту ему на помощь с неба высадятся ангелы или гвардейские стрелки выскочат из-за деревьев с боевым кличем «Бог и Испания!»? Ох уж эти венценосцы… Пороки рождения, недостатки воспитания… Самое забавное, что и в самом деле в кустах прячется гвардия — он, да Иньиго, да Косар. И еще — тень комедиантки Марии, словно бы витающая в дождевых каплях… Конечно, всегда отыщется придурок, готовый пожертвовать жизнью для спасения короля… Капитан вздрогнул от ярости. Богом или чертом клянусь, будет только справедливо, если этот щеголь, питающий такое пристрастие к безопасным забавам и чужим женам, получит по заслугам. Гуадальмедины здесь нет, и таскать для него каштаны из огня некому. Черт бы его взял! Пусть заплатит цену, которую рано или поздно придется заплатить всем и каждому. И — наличными, Гвальтерио Малатеста векселей не принимает.
— Ваше величество, позвольте ружье.
Эти слова итальянца отчетливо донеслись до слуха Алатристе, который, по-прежнему притаясь за деревом, созерцал все происходящее со злорадным любопытством. Что может сделать король? Да ничего не может: нож не в счет, шпаги при нем нет, и в самом лучшем случае дело сведется к одному выстрелу, да и то — если ружье заряжено и порох не отсырел.
— Давайте сюда ружье, — нетерпеливо повторил один из приспешников Малатесты и, занося шпагу, сделал шаг вперед.
И тут Филипп Четвертый повел себя довольно неожиданно. Все так же бесстрастно, нимало не изменившись в лице, он чуть наклонил голову, рассматривая свое ружье, о котором словно бы только сейчас вспомнил, — причем как о чем-то совершенно малозначащем. Постояв еще мгновение в неподвижности, взвел курок, вскинул ружье к плечу. Потом с леденящей кровь невозмутимостью свалил наступающего на него убийцу выстрелом в лоб и в упор.
Вот теперь пора! — подумал капитан, выскакивая из-за дерева. За такого короля и помереть не жалко.
Выстрел послужил сигналом к атаке. Следуя последним капитановым наставлениям, мы с Косаром зашли во фланг людям Малатесты и, стоя на противоположной оконечности этой полянки, видели, как мой хозяин покинул укрытие и выскочил на открытое пространство со шпагой в одной руке, с ножом — в другой. Тогда я тоже выхватил свой клинок и бросился вперед, не удосужившись проверить даже, решил ли Косар идти до конца и следует ли он за мной. Но тотчас за спиной у меня раздались его вопли:
— Именем короля! Ни с места! Клади оружие, сдавайся! Кому сказано?!
Матерь божья, подумал я. Только этого и не хватало. Итальянец и его присные услыхали крики и шлепанье наших ног по лужам — и повернулись в сильном удивлении. Последнее, что я помню отчетливо, было лицо обернувшегося к нам Малатесты. В ярости он отдал своим приказ, с быстротой молнии обнажил шпагу, и в струях дождя мелькнули воздетые клинки остальных. А позади неподвижно стоял и взирал на нас король с еще дымящимся ружьем в руках.
— Именем короля! — продолжал неистово орать Косар: ни дать ни взять — лев рыкающий.
При этом всерьез рассчитывать на него не приходилось, так что мы с капитаном дрались вдвоем против четверых. Ушами хлопать некогда. И потому, оказавшись перед одним из егерей, я стремительно полоснул его по руке, заставив выронить шпагу, а сам, с проворством белки обогнув его, напал на второго. Тот держался чуть позади, выставив клинок. Моля бога о том, чтобы не поскользнуться в грязи, я выхватил левой рукой кинжал. Бог, наверное, услышал — я удержался на ногах, сделал нырок и, оказавшись у самых колен противника, снизу вверх всадил не менее трех пядей стали ему в живот, а когда отвел назад локоть, извлекая лезвие, егерь повалился навзничь, и на лице у него было написано такое глубочайшее изумление, словно он думал, что с сыном его матери ничего подобного произойти не может. Но меня в этот миг беспокоил уже не он, а тот, кого я обезоружил. Шпагу я выбил, но кинжал-то остался, и потому я поспешно развернулся, готовясь отразить его атаку. Однако он уже схватился с Косаром, едва отбиваясь левой рукой — правая повисла плетью — от града ударов и пятясь под натиском комедианта.
Пока бой складывался в нашу пользу. Но рана, оставленная кинжалом Анхелики, болела нестерпимо, и я всерьез опасался, что от моих резких движений она откроется, и я просто зальюсь кровью, как освежеванный поросенок. Обернувшись посмотреть, не нужна ли моя помощь Алатристе, который в этот самый миг выдергивал клинок из груди своего противника — тот согнулся вдвое, и кровь ручьем текла у него изо рта — я заметил, что черный и прямой Гвальтерио Малатеста перебросил шпагу из руки в руку, выхватил пистолет и, не более доли секунды поколебавшись, на кого направить дуло, выбрал все же короля, стоявшего в четырех шагах от него. Я был слишком далеко и потому мог лишь беспомощно наблюдать, как мой хозяин, высвободив наконец застрявший меж ребер клинок, пытается броситься на линию огня. Но и он бы не успел. Я видел, как Малатеста, вытянув руку, наводит пистолет, а король, глядя прямо в лицо своему убийце, швыряет на землю ружье, складывает руки на груди, желая, вероятно, и в смертный час выглядеть достойно.
— Мне! Мне эту пулю! — крикнул капитан.
Итальянец и бровью не повел, продолжая целиться в короля. Вот он нажал на спуск, и сухо щелкнул колесцовый замок.
Осечка.
Порох отсырел.
Диего Алатристе стал между королем и итальянцем. Никто и никогда еще не видел Малатесту в такой растерянности. Будто не веря собственным глазам, он недоуменно покачивал головой, вертя в руке бесполезный пистолет.
— Ведь рядом стоял… — бормотал он.
Но вот он опомнился. Взглянул на капитана так, словно впервые видел или забыл о его существовании, и мрачная усмешка чуть искривила его губы.
— Рядом стоял… — с горечью повторил он. Потом пожал плечами и, отшвырнув пистолет, переложил шпагу в правую руку.
— Ты все испортил.
Он отстегнул пряжку плаща, чтобы не сковывал движения. Не сводя глаз с капитана, показал подбородком на короля:
— Неужто и вправду считаешь, что эта овчинка стоит выделки?
— Давай, — сухо ответил капитан.
Прозвучало это как: «Давай займемся нашими с тобой делами», и своей шпагой Алатристе показал на шпагу итальянца. Малатеста посмотрел на клинки, перевел взгляд на короля, словно прикидывая, имеется ли какая-нибудь возможность довести начатое до конца. Снова пожал плечами, тщательно оправляя на них мокрый плащ и как бы намереваясь завернуться в него.
— Спасайте короля! — продолжал вопить Рафаэль де Косар, все еще возившийся со своим противником.
Малатеста взглянул на него с выражением иронической покорности судьбе. Потом улыбнулся. Капитан, заметив, как метнулись искры жестокости в его угрюмых глазах, как мелькнула на рябоватом лице белоснежная опасная улыбка, сказал себе: «У этой змеи жало еще не вырвано». И, повинуясь внезапно осенившей его догадке, отпрянул как раз вовремя, чтобы увернуться от плаща, брошенного итальянцем ему на шпагу. И все же самую малость промедлил, и тяжелая от дождевой воды ткань сковала его движения. Перед глазами вспыхнула сталь. Малатеста будто выбирал, куда нанести удар, но потом обогнул капитана и устремился к Филиппу.
На этот раз властелин Старого и Нового Света отступил на шаг. Капитан заметил в его голубых глазах беспокойство — ну, наконец-то! — и августейший лик с оттопыренной габсбургской губой на этот раз чуть дрогнул в ожидании неминуемого удара. Да уж, понял Алатристе, нелегко сохранить невозмутимость, когда черными глазами Малатесты совсем в упор глядит на тебя смерть. Но все же того выигранного мгновенья, когда он предугадал замысел, хватило — сталь звонко лязгнула о сталь, отбив выпад, казавшийся роковым. Клинок итальянца скользнул вдоль лезвия капитановой шпаги, совсем немного не дотянувшись до царственного горла.
—Porca Madonna! — выругался Малатеста.
Потом повернулся и с непостижимой стремительностью исчез меж деревьев.
Я наблюдал за этим издали, сознавая свою беспомощность, потому что все произошло так стремительно, что и «Отче наш» до половины не дочитаешь. Но когда Малатеста кинулся бежать, а капитан повернулся к королю удостовериться, что он не ранен, я, разбрызгивая лужи, со шпагой в руке помчался вдогонку за итальянцем, пригнувшись и прикрываясь от стегавших по лицу веток. Расстояние сокращалось — я был юн и легок на ногу, так что вскоре стал настигать его. Он вдруг обернулся, увидел, что я один, и остановился, с трудом переводя дыхание. Дождь хлестал так свирепо, что грязь у меня под ногами, казалось, вскипала.
— Погоди-ка малость, — сказал Малатеста, для вящей убедительности подкрепив свои слова движением руки со шпагой.
Я в нерешительности замедлил шаги. Быть может, капитан последовал за мной, но в настоящую минуту мы с итальянцем были наедине.
— Хватит на сегодня, — прибавил он.
И снова двинулся прочь — спиной вперед, не сводя с меня глаз. Тут я заметил, что он прихрамывает и, когда наступает на правую ногу, морщится от боли. То ли его ранило, то ли ушибся, когда бежал по лесу. Он промок насквозь, был очень грязен и смертельно утомлен. Шляпа где-то слетела, длинные мокрые волосы слиплись на лбу и щеках. Я подумал, что усталость и хромота уравняют наши возможности.
— Не стоит… — проговорил Малатеста, угадывая мои мысли.
И проковылял еще немного. Чертовски болела спина, но боевой задор был весь при мне. Я сделал шаг, потом другой. Итальянец покачал головой, как бы укоризненно. Потом улыбнулся, немного отступил, сдерживая гримасу боли, и стал в позицию. Кончики наших клинков соприкоснулись. Я был предельно осторожен и искал способ как-нибудь подобраться к нему. Он, старый пес, ограничивался только защитой. Но даже и так, не предпринимая ответных атак, Малатеста владел оружием несравненно лучше меня, и мы оба это знали. Однако я был как во хмелю, глух к доводам рассудка и помнил только одно: он — передо мной, а у меня в руке — шпага.
Вот он приоткрылся, словно бы ненамеренно, но, почувствовав подвох, я не атаковал, а, держа шпагу так, что чашка приходилась на уровень глаз, чуть пошевеливал локтем из стороны в сторону и искал брешь в его обороне — истинную брешь, а не ловушку. Дождь все лил, я старался не поскользнуться, памятуя, что это равносильно гибели.
— Э-э, мальчуган, ты стал благоразумен.
Малатеста улыбался, но я знал — он дразнит меня, так сказать, выманивает из норки. И потому не поддавался. Время от времени, не сводя с него глаз, рукой, державшей кинжал, я смахивал дождевые капли со лба.
За спиной у меня послышался голос, выкрикивавший мое имя. Капитан. Я отозвался. Из-под прилипших прядей глаза итальянца быстро перекатились справа налево и обратно. Он искал выход. И тогда я стрелой кинулся на него.
О-о, как блистательно владел оружием этот мерзавец! Как стремителен, как точен он был. Без малейшего усилия парировав выпад, который всякого другого на его месте пробил бы насквозь, итальянец с полнейшим хладнокровием нанес ответный удар. Если бы не больная нога, на которую он не мог по-настоящему опереться, он рассек бы мне лицо со лба до подбородка. Но и так шпага моя отлетела на несколько шагов. Прикрываться от него одним кинжалом было бы совершенно зряшной затеей. Я даже и не пытался, а застыл на месте, вероятно, сильно напоминая загнанного зайца и ожидая, когда последует следующий выпад — завершающий, окончательный и смертельный. Но тут Малатеста болезненно скривился, яростно простонал, неверными шагами отпрянул назад, приволакивая поврежденную ногу.
И упал. Потом приподнялся и сел в грязи. Шпага в руке, богохульство на устах. Какое-то мгновение мы смотрели друг другу в глаза: я — ошалело, он — растерянно. Дурацкое, надо признать, получилось положение. Опомнившись наконец, я метнулся за своей шпагой, отлетевшей в сторону, к подножью дерева, а когда подобрал ее, Малатеста, по-прежнему сидя, вдруг взмахнул рукой, в воздухе со свистом мелькнуло подобие стальной молнии — и в пяди от моей головы задрожал глубоко вонзившийся в ствол дерева кинжал.
— Это тебе на память, мальчуган.
Я направился к нему с намерением заколоть на месте, и, прочитав это намерение в моих глазах, он отшвырнул свою шпагу, откинулся назад, опираясь на локти.
— Не везет мне сегодня.
Осторожно приблизившись, я кончиком шпаги поворошил его одежду, проверяя, не припрятал ли он еще какого оружия. Потом приставил острие к тому месту где находится сердце. Мокрые, прилипшие к щекам волосы, лиловатые круги под глазами — Малатеста будто сразу постарел на несколько лет и выглядел безмерно измученным.
— Не надо… — с неожиданной мягкостью проговорил он. — Предоставь это ему.
Малатеста глядел мне за спину — туда, где смыкались ветви деревьев. В этот миг послышалось чавканье сапог по грязи, и рядом со мной, отдуваясь и тяжело дыша, возник капитан Алатристе. Стремительно и молча он бросился на итальянца, схватил его за волосы и, отложив в сторону шпагу, приставил к его горлу огромный охотничий нож.
Мысли у меня в голове неслись как угорелые. Но было их немного. Я вспомнил суровый вид графагерцога Оливареса, враждебный тон Гуадальмедины и ту августейшую особу, которую мы оставили на опушке под охраной Косара. Без свидетельства Малатесты нам с капитаном слишком много придется объяснять, и есть опасения, что не на все вопросы найдутся у нас ответы. Осознав это, я ужаснулся. И удержал руку своего хозяина:
— Он мой пленник, капитан.
Алатристе вроде и не слышал. Лицо его, словно высеченное из гранита, выражало непреклонную решимость. Потемневшие глаза были сделаны, казалось, из того же вещества, что и нож у него в руке. Я видел, как вздулись на ней вены, как напряглись мускулы. Еще мгновение — и она вонзит клинок в горло итальянцу.
— Капитан!
Я попытался вклиниться между ними. Алатристе резко отстранил меня, занес левую руку для оплеухи. Глаза вонзились в меня не хуже стального лезвия.
— Он сдался мне! Он мой пленник!
Все это, вместе взятое, напоминало кошмарный сон — грязная и мокрая прогалина, дождь, без устали сыплющийся сверху, частое дыхание капитана, бурно вздымающаяся грудь Малатесты… Алатристе нажал сильней. Если бы я не удерживал его руку изо всех сил, нож пошел бы своим путем.
— Кто-то должен будет объяснить правосудию, что здесь произошло! — стараясь, чтобы голос мой звучал как можно убедительнее, сказал я.
Алатристе не сводил глаз с Малатесты, который откинул голову, насколько это было возможно, и стиснул зубы в ожидании последнего удара.
— Я не хочу, чтобы нас с вами замучили до смерти пытками!..
И видит бог, это было воистину так! Я заметил, что слова мои произвели наконец нужное действие, смысл их мало-помалу доходил до капитана — он весь как-то обмяк, хотя пальцы его еще крепко сжимали роговую рукоять ножа. Малатеста оказался сообразительней:
— Пропади ты пропадом! — воскликнул он. — Дай ему убить меня!
Эпилог
Альваро де ла Марка, граф де Гуадальмедина, протянул капитану Алатристе кувшин:
— Тебе, должно быть, самое время промочить горло.
Капитан принял его. Мы сидели на ступенях колоннады во Фреснеде, оцепленной вооруженными до зубов гвардейцами. Снаружи дождь барабанил по накрытым парусиной трупам четырех наемников, убитых в лесу. Пятого, с рассеченной головой и еще двумя ранами — Косар постарался, — полуживым унесли на носилках. Гвальтерио Малатесте был оказан особый почет: мы видели, как он, скованный по рукам и ногам, удалялся под крепкой охраной верхом на печальном муле. Когда его погасшие глаза в последний раз взглянули на меня и на Алатристе так, словно он видел нас впервые в жизни, я вспомнил слова, сказанные им в лесу. И в самом деле, ему лучше было бы умереть, подумал я, представляя, каким пыткам подвергнут его, чтобы вытянуть все, что он знает о заговоре.
— И еще мне думается, — добавил граф, чуть понизив голос, — что я должен тебя простить.
Он только что вернулся из королевских покоев, где имел долгую беседу с Филиппом. Мой хозяин, ничего не ответив, омочил усы в вине. Выглядел он не очень авантажно, а верней — совсем неважно: растрепанный, усталый, перемазанный грязью, насквозь промокший, исхлестанный колючими ветками. Вот он вскинул на меня льдисто-зеленоватые глаза и тотчас перевел взгляд на Косара, сидевшего чуть в стороне с одеялом на плечах и с блаженной улыбкой на устах: лицо комедианта было крест-накрест расцарапано, лоб рассечен, а под глазом светился отличный кровоподтек. Ему тоже поднесли вина, с которым он справился безо всякой посторонней помощи, влив в себя, между прочим, три кувшина, так что распирало его не только от гордости. Время от времени Косар икал, взревывал: «Да здравствует король!», рычал как лев или начинал невпопад декламировать целые монологи из «Перибаньеса и командора Оканьи»[129]. Несшие караул гвардейские стрелки глядели на него оторопело и шепотом спорили между собой, напился комедиант или просто спятил на радостях.
Капитан протянул мне кувшин, и я как следует приложился к нему, прежде чем вернуть. Вино уняло колотивший меня озноб. Я взглянул на Гуадальмеди ну — как всегда, вылощенный и элегантный, небрежно подбоченясь, он стоял перед нами несколькими ступеньками выше. Пробудившись поутру и прочитав мою записку, граф с двадцатью стрелками прибыл на место происшествия к шапочному разбору — король, целый и невредимый, сидел на камне под огромным дубом на краю опушки, Малатеста со связанными за спиной руками лежал лицом вниз в грязи, а мы с капитаном пытались привести в чувство Косара, раненного в голову его противником, которому, впрочем, досталось сильней. Стрелки, не желая разбираться, что к чему, а равно — искать правых и виноватых, вознамерились пощекотать нас шпагами и были уже совсем готовы прикончить меня и капитана — причем Гуадальмедина словечка не вымолвил в нашу защиту, — если бы его величество лично не внес ясность в этот вопрос, расставив все на свои места. «Эти господа, — сказал король, — с риском для собственной жизни и выказав немалую доблесть спасли меня». После высочайшего вмешательства никто уже не смел нас тронуть, и даже Гуадальмедина сменил гнев на милость. Вот потому мы и сидели теперь, окруженные стражей, на ступенях колоннады и попивали вино, покуда наш государь пребывал в своих покоях. Все возвращалось на круги своя. Уж не знаю — к добру ли, к худу.
Щелкнув пальцами, Альваро де ла Марка велел подать еще вина, а когда слуга принес кувшин, с улыбкой обратился к моему хозяину:
— За сегодняшнее дело, Алатристе! За короля и за тебя!
Он выпил и тотчас протянул сверху вниз затянутую в перчатку руку, то ли желая помочь капитану подняться и произнести ответную здравицу, то ли для рукопожатия. Однако тот остался сидеть как сидел, поставив кувшин на колени и будто не замечая протянутой руки. Глаза его были устремлены на четыре мертвых тела, лежащие в ряд под дождем.
— Ты, может быть… — начал Гуадальмедина.
И тотчас осекся, и улыбку будто стерли с его губ. Взглянул на меня, но я отвел глаза. Он постоял минутку, рассматривая нас, потом очень медленно поставил кувшин на пол, повернулся и пошел прочь.
Я молчал, сидя рядом со своим хозяином, слушая, как стучит дождь по черепичной крыше, — и наконец пробормотал:
— Капитан…
Одно слово. Я знал — этого достаточно. Жесткая рука легла мне на плечо, потом ласково потрепала меня по шее.
— Мы живы, — произнес он, помолчав.
Я вздрогнул от холода и от воспоминаний. Но помнил я не только о том, что произошло сегодня в лесу.
— Что с ней будет теперь? — тихо спросил я. Капитан не обернулся ко мне.
— С ней?
— С Анхеликой.
Какое-то время он не разжимал губ. Задумчиво глядел на дорогу, по которой увезли Гвальтерио Малатесту на свидание с палачом. Потом качнул головой и сказал:
— Нельзя же всегда оставаться в выигрыше.
Тут вокруг раздались голоса, воинственно зазвенело оружие, затопали тяжелые шаги. Стрелки в блестящих от дождя кирасах уже сидели в седлах. К воротам подъехала карета, запряженная четверкой рыжих коней. Снова появился Гуадальмедина — на этот раз в изящнейшей, расшитой драгоценностями шляпе, — сопровождаемый еще несколькими придворными кавалерами. Скользнув по нам взглядом, граф отдал распоряжения. Снова грянули команды, заржали лошади, и нарядные стрелки выровняли строй. Из дома вышел король. Гетры он сменил на сапоги, каскетку с козырьком — на шляпу, зеленое сукно охотничьего костюма — на расшитый золотом синий бархат, — и прицепил к поясу шпагу. Косар, капитан и я поднялись. Все обнажили головы, кроме Гуадальмедины, который, как испанский гранд, пользовался привилегией оставаться в присутствии монарха в шляпе. Филипп Четвертый, глядя поверх голов, бесстрастный и отчужденный — в точности как в лесочке, когда выпалил в лоб наемному убийце, — прошел мимо, не удостоив нас взглядом, сел в карету, подъехавшую к самым ступеням. Но в тот миг, когда Гуадальмедина уже собирался убрать подножку и закрыть дверцу, король тихо сказал ему что-то. Мы видели, как Альваро де ла Марка наклонил голову, ловя эти слова и не обращая внимания на дождевые струи, хлеставшие сверху. Потом сдвинул брови и кивнул.
— Алатристе! — позвал он.
Я обернулся к хозяину, растерянно глядевшему на Гуадальмедину и короля. Вот он двинулся к ним, выйдя из-под купола колоннады на дождь. Голубые глаза Филиппа, водянистые и холодные, как у рыбы, обратились к нему.
— Верните ему шпагу! — приказал граф.
Появился сержант со шпагой и всей причитающейся ей сбруей. На самом деле то была не капитанова шпага, а та, которую он позаимствовал у заколотого бородача. Алатристе, еще более растерянный, подержал ее в руке, потом медленно опоясался ею. Вновь поднял голову. Резко очерченный профиль с крючковатым носом над густыми усами, с которых стекали капли дождя, делал его как никогда похожим на ловчего сокола — птицу хищную и недоверчивую.
— Мне? эту пулю… — проговорил Филипп, словно размышляя вслух.
Я недоумевал недолго: тотчас вспомнилось, что когда Малатеста взял короля на прицел, именно эти слова выкрикнул мой хозяин, который теперь со спокойным любопытством смотрел на его величество, будто спрашивая себя, что за всем этим воспоследует.
— Дайте ему вашу шляпу, Гуадальмедина, — потребовал король.
Воцарилась тишина. Наконец граф повиновался, хоть и не слишком охотно — а кому, спрошу я, охота мокнуть? — и передал капитану свою великолепную шляпу, украшенную фазаньими перьями и брильянтами на ленте.
— Наденьте ее, капитан Алатристе, — приказал Филипп.
Впервые за все время знакомства увидел я своего хозяина в полнейшем замешательстве. Еще мгновение он растерянно вертел шляпу в руках.
— Наденьте, — настойчиво повторил король.
Капитан кивнул, хотя по-прежнему ничего не понимал. Посмотрел на его величество, перевел взгляд на Гуадальмедину, потом — на шляпу. Потом — только что не пожав плечами: мол, воля ваша — надел ее.
— Вы никогда не сможете похвастаться этим, — предупредил король.
— Понимаю, — ответил Алатристе. Нескончаемую минуту безвестный отставной солдат и властелин полумира глядели друг другу в глаза. По каменному лицу капитана скользнула мимолетная усмешка.
— Я желаю вам удачи, капитан… Если вас когда-нибудь захотят повесить или удавить гарротой, обратитесь к королю… Отныне и впредь вы получаете право быть обезглавленным как идальго и кабальеро.
Так в то дождливое утро во Фреснеде сказал внук великого Филиппа Второго. Потом Гуадальмедина вскочил в карету, поднял подножку, захлопнул дверцу, кучер щелкнул бичом, и экипаж, оставляя колесами глубокие борозды в грязи, выкатился из ворот, сопровождаемый кавалерийским эскортом и восторженным ревом Косара, который в истинном или показном приливе воодушевления вопил:
— Да здравствует король! Многая лета нашему государю! Боже, благослови Испанию, цитадель истинной веры! Испанию, мать вашу и нашу… благослови!
Потрясенный, я двинулся к хозяину. Тот смотрел вслед удаляющемуся кортежу. Роскошная шляпа никак не вязалась с его видом — капитан был грязен, рван, дран. Как, впрочем, и я. Став с ним рядом, я заметил, что он посмеивается — сдержанно, чуть ли не про себя. Почувствовав мое присутствие, обернулся ко мне, прижмурил глаз, снял шляпу и протянул мне ее полюбоваться.
— Слава тебе, господи, — вздохнул я. — Хоть за брильянты эти чего-нибудь да выручим.
Капитан долго разглядывал переливающиеся камушки, украшавшие ленту. Потом мотнул головой и, снова покрыв ее шляпой, ответил:
— Подделка.
Приложение
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ИЗ «ПЕРЛОВ ПОЭЗИИ,
СОТВОРЕННЫХ НЕСКОЛЬКИМИ
ГЕНИЯМИ ТОГО ВРЕМЕНИ»
Напечатано в XVII веке без выходных данных.
Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
Дон Франсиско де Кеведо
Сатурнино Аполо, судейскому
Сонет
Вонючий стряпчий, мерзкий крючкотвор, Крючок твой не упустит ни дублона. Король жулья, ты впрямь достоин трона, Пиявка, кровосос, мошенник, вор! Твое перо — заржавленный топор, Бесчинствует в глухом лесу закона, И так довольно от тебя урона, А тут ты Музу вывел на позор. Отстойник слов, навозной кучи лоно, На деньги падок, до разврата лаком, Поэзию бесчестишь упоенно, Давая фору в похоти макакам, Не пачкай грязью имя Аполлона, Смени патрона, называйся Каком[130].Дон Луис де Гонгора
О мимолетности красоты и быстротечности жизни
Сонет
Пока руно волос твоих течет, Как золото в лучистой филиграни, И не светлей хрусталь в изломе грани, Чем нежной шеи лебединый взлет, Пока соцветье губ твоих цветет Благоуханнее гвоздики ранней И тщетно снежной лилии старанье Затмить чела чистейший снег и лед, Спеши изведать наслажденье в силе, Сокрытой в коже, в локоне, в устах, Пока букет твоих гвоздик и лилий Не только сам бесславно не зачах, Но годы и тебя не обратили В золу и в землю, в пепел, дым и прах[131].Феликс Лопе де Вега Карпьо
О наслаждениях и противоречиях, порождаемых любовью
Сонет
Терять рассудок, делаться больным, живым и мертвым стать одновременно, хмельным и трезвым, кротким и надменным, скупым и щедрым, лживым и прямым. Все позабыв, жить именем одним, быть нежным, грубым, яростным, смиренным, веселым, грустным, скрытным, откровенным, ревнивым, безучастным, добрым, злым; в обман поверив, истины страшиться, пить горький яд, приняв его за мед, несчастья ради, счастьем поступиться, считать блаженством рая тяжкий гнет, — все это значит, в женщину влюбиться; кто испытал любовь, меня поймет[132].Заключение
Дон Артуро Перес-Реверте, препроводив нам пятый том «Приключений капитана Алатристе» под названием «Кавалер в желтом колете», испрашивает дозволения выпустить свою книгу в свет. Не усмотрев в его сочинении, равно как и в четырех предыдущих, ничего оскорбляющего святую веру, приличия и добропорядочность, считаем приятным долгом отметить, что сие мастеровитое произведение, создатель коего в очередной раз подтвердил присущую ему одаренность, содержит множество здравых и полезных суждений, в которых при занимательности изложения и живости повествования заключены наиважнейшие и основополагающие постулаты житейской мудрости. Не изобилуя рассуждениями теологического или метафизического свойства, сей труд, несомненно, поспешествует просвещению юношества, ибо язык его восхитит красноречивого, увлекательность сюжета привлечет любопытного, точность подробностей удовлетворит ученого, предостережения обрадуют благоразумного, тогда как сдобренная известной горечью наглядность преподанных в нем уроков вкупе с неоспоримостью выводов сослужит добрую службу читателю, могущему, без сомнения, извлечь из сочинения дона Артуро столько же пользы, сколько и удовольствия.
Исходя из всего вышеизложенного, мы не усматриваем препятствий к выходу книги в свет, и, по нашему мнению, запрашиваемое разрешение может быть дано.
Мадрид,
октября десятого дня
в лето господне две тысячи третье.
Луис Альберто де Прадо-и-Куэнка,
Секретарь Совета Кастилии.
VI. Корсары Леванта
Посвящается Хуану Эславе Галану и Фито Косару — в память Неаполя, где мы не познакомились, и добычи, не нами награбленной.
I. Берберийское побережье
Подобная травля — всегда дело долгое, но эта, телом Христовым клянусь, слишком уж затянулась, никак не способствуя умиротворению духа: весь вчерашний вечер, всю лунную ночь напролет и целое утро сегодня мчались мы, норовя ухватить добычу за хвост, по неспокойному морю, хлеставшему наотмашь тяжкими оплеухами волн, так что содрогался хрупкий костяк нашей галеры. Ветер до каменной твердости натянул оба паруса, гребцы-каторжане налегали на весла, моряки и наша сухопутная братия уворачивались, как могли, от пенных брызг, а 48-весельная «Мулатка», пролетев почти тридцать лиг[133] вдогонку за пиратским кораблем, наконец подошла к нему на выстрел, подав нам надежду во благовременье турка все-таки взять — если, конечно, выдержит мачта, на которую люди опытные поглядывали с опаской.
— Ну-ка, поскреби-ка ему задницу, — приказал капитан дон Мануэль Урдемалас с мостика на юте, откуда не отлучался, похоже, последние двадцать часов.
Первый орудийный выстрел близким недолетом взметнул фонтан воды у пирата за кормой. Наши канониры и все, кто был на носу, рядом с пушкой, вскричали «ура», увидав добычу в пределах досягаемости. Теперь надо уж очень постараться, чтобы упустить ее, мало того что у себя из-под носа, так еще и с наветренного борта.
— Зарифляют! — крикнул кто-то.
И в самом деле, с единственной мачты уже полз вниз и бился на ветру огромный треугольник паруса. Качаясь на крупной зыби, неприятель показал нам левый бок. И впервые мы смогли рассмотреть берберский корабль во всех подробностях — это была галеота, средняя галера с тринадцатью гребными скамьями, узкая, длинная и, по нашим прикидкам, способная взять на борт человек до ста. Из тех шустрых и поворотливых парусников, к которым, как башмак по мерке к ноге, подходили строчки Сервантеса, предусмотрительно рекомендовавшего:
Богат достоинствами вор, но Их все к единому сведу: Вор должен действовать проворно — Подметки резать на ходу.До сей поры он сначала был всего лишь одиноким парусом, белевшим там и сям на морском просторе, потом опознался как пират, нагло подобравшийся к каравану торговых судов, которые под присмотром «Мулатки» и трех других испанских галер шли из Картахены в Оран. Потом, когда мы на всех парусах погнались за ним, он мало-помалу, по мере того как шло преследование и сокращалась разделявшая нас дистанция, вырастал в размерах. И вот предстал наконец в непосредственной близости и во всей красе.
— Сдаются, собаки, — сказал какой-то солдат.
Капитан Алатристе стоял рядом со мной и смотрел на пирата. Парус был уже убран, и поверхность воды вспороли лопасти весел.
— Да нет… — пробормотал он. — Драться собрались.
Я обернулся к нему. Из-под широкого поля старой шляпы на меня взглянули сощуренные от блеска воды светло-зеленые глаза, ставшие, казалось, совсем прозрачными. Четырехдневная щетина на лице, посеревшем, засалившемся, как у всех нас, от грязи и недосыпа. Внимательный взгляд старого солдата, неотрывно следящий за тем, что происходит на галеоте, где меж тем несколько человек пробежали по палубе на нос и весла левого борта затабанили, разворачивая парусник.
— Желают судьбу попытать, — безразлично добавил Алатристе.
И пальцем показал туда, где вился на верхушке мачты вымпел, указывающий направление ветра. Я все понял. Пират, осознав, что бегство невозможно, а сдаваться не желая, пытался на веслах выйти из ветра. У галер и галеот на носу было по одной большой пушке, а по бортам стояли камнеметы небольшой дальности. Пираты, хоть и уступали нам вооружением и численностью, решили, наверно, сыграть ва-банк, ибо удачный выстрел бакового орудия мог свалить фок-мачту или перекрошить немало народу на палубе. И, несмотря на неблагоприятный ветер, они сумели на одних веслах завершить маневр.
— Паруса долой! Весла на валек!
Судя по этим приказам, сухим и отрывистым, как выстрелы из аркебузы, разгадал намерение корсаров и наш капитан. И обе реи, державшие паруса, были поспешно спущены, а на помост гребной палубы, именуемый ку́ршея, вспрыгнул с бичом в руке надсмотрщик-комит, и по его знаку голые до пояса гребцы заняли свои места на скамьях по обоим бортам — четверо на каждую — и под свист бича, вышивавшего у них на спинах разнообразные узоры цвета мака, разом опустили в воду сорок восемь весел.
— Господа солдаты! По местам стоять! К бою!
Раскатилась барабанная дробь боевой тревоги, и господа солдаты, то есть мы, грешные, непотребными словами поминая, как спокон веку ведется у испанской пехоты, Господа Бога, непорочно зачавшую Мать Его и святых угодников, что, впрочем, не мешало многим бормотать сквозь зубы слова молитвы, прикладываться к ладанкам-образкам и осенять себя раз по пятьсот крестным знамением, принялась для убережения от неприятельских пуль прикрывать борта скатанными одеялами и тюфяками, разбирать принадлежности своего смертоубийственного ремесла, заряжать мушкеты, аркебузы, камнеметы, занимать места на полубаке и в галерейках, тянувшихся вдоль обоих бортов над гребной палубой, где каторжане усердно и в лад ворочали веслами, покуда комит — свистком и помощник его — голосом задавали их работе должную кадансу, продолжая в свое удовольствие охаживать бичами согнутые спины. От форштевня до кормы задымились фитили. Мне по относительному моему малолетству было пока не под силу управляться не то что с тяжеленным мушкетом, а и с аркебузой, тем паче что стрелять приходилось без подсошников да вдобавок на качающейся палубе, так что если не удержишь прижатый к щеке приклад, отдача может вывихнуть плечо или выбить передние зубы. И потому, туго стянув на голове косынку, я подхватил копьецо свое и саблю — короткую и широкую, потому как длинным клинком на тесной и узкой палубе орудовать несподручно, — и последовал за своим хозяином, отношения с которым, хоть он давно мне был никакой не хозяин, не претерпели особенных изменений. Поскольку он принадлежал к числу самых испытанных и надежных бойцов, место его по боевому расписанию было у шлюпочного трапа — там же, где при Лепанто[134] на галере «Маркиза» стоял блаженной памяти дон Мигель де Сервантес. Жизнь, надо ей отдать должное, горазда плести такие не очень-то забавные арабески. Капитан окинул меня рассеянным взглядом и улыбнулся одними глазами, по обыкновению пригладив пальцами усы.
— Это уже пятый у тебя абордаж, — промолвил он.
И принялся дуть на тлеющий фитиль своей аркебузы. Алатристе говорил, как и всегда, безразлично, однако я знал, что он за меня тревожится. Хоть мне и стукнуло недавно семнадцать лет — а может быть, как раз поэтому. Абордажный бой — дело такое: в нем сам Господь, вопреки поговорке, не отличит своих от чужих.
— Прежде меня к ним на борт не лезь… Понял?
Я открыл было рот, намереваясь возразить. Но в этот миг с берберийца грохнул первый орудийный выстрел, и по палубе пронеслись острые, как кинжалы, осколки.
…Долог был путь, приведший нас с капитаном Алатристе на палубу этой галеры, которая в майский полдень тысяча шестьсот двадцать седьмого года — сужу по давним своим записям, сохранившимся среди пожелтелых листков послужного списка, — сцепилась с пиратской галеотой в нескольких милях к югу от побережья Северной Африки, на траверзе, как говорят моряки, острова Альборан. После прискорбно-достопамятного приключения с кавалером в желтом колете, когда наше юное католическое величество чудом не пало жертвой заговора, устроенного инквизитором Эмилио Боканегрой, а хозяин мой, дерзнувший соперничать в любовных шашнях с вышеупомянутым Филиппом Четвертым и по этой причине оказавшийся поистине на волосок от знакомства с палачом, сумел благодаря своей шпаге и, без ложной скромности скажу — вмешательству шпаги моей, а равно и комедианта Рафаэля де Косара, сохранить не только собственные жизнь и честь, но и отвести от августейшей глотки цареубийственные клинки на сомнительной охоте в окрестностях Эскориала. Венценосные особы — все как на подбор неблагодарны и забывчивы, и потому-то мы с капитаном подвигами своими не снискали себе ни малейшего преуспеяния. Прибавьте ко всему этому еще и такое немаловажное обстоятельство, что вышепомянутые шашни капитана с актрисою Марией де Кастро привели к обмену резкими словами, а затем и ударами шпаги с конфидентом и фаворитом нашего государя графом де Гуадальмединой, поплатившимся за это сперва проколотой рукой, а затем и разбитым лицом, отчего давняя приязнь, питаемая графом к Алатристе еще со времен итальянских походов и фламандских кампаний, сменилась лютой ненавистью. Полученное в Эскориале помогло нам свести дебет с кредитом, и, проевши ровнешенько столько, сколько заработали, то бишь оставшись при своих, вышли мы из этой переделки хоть и без единого медяка в кармане, но зато — донельзя довольные тем, что не угодили в каталажку и не получили в свое законное и безраздельное пользование семь футов земли в безымянной могиле. Альгвазилы лейтенанта Мартина Салданьи, оправлявшегося от тяжкой раны, которую нанес ему опять же Диего Алатристе, оставили нас в покое, так что капитан счастливо избежал хвори, причиняемой намыленной пенькой, и не свесил свои солдатские усы на плечо. Всем прочим лицам, вовлеченным в это дело, повезло меньше, и на них с соблюдением должной секретности обрушилась вся тяжесть монаршего гнева: падре Эмилио Боканегра, раз уж его репутация праведника и мужа святой жизни требовала соблюдения известных приличий, наглухо заперли в приюте для умалишенных, а остальных участников заговора втихомолку удавили в тюрьме. О том, какая участь постигла итальянского наемника Гвальтерио Малатесту, нашего с капитаном старинного и личного врага, достоверных сведений не имелось: ходили слухи о жестоких пытках, коим перед казнью подвергли его в узилище, однако наверное никто ничего не знал. Что же касается королевского секретаря Луиса де Алькесара, то, хоть его вину доказать и не удалось, высокое положение при дворе и влиятельные заступники в Совете Арагона помогли ему сохранить всего лишь шкуру, но не должность: последовал стремительный, как молния, и столь же испепеляющий указ — и он отправился в заморские владения короны, в Новую Испанию. Как вы сами понимаете, господа, судьба этой сомнительной личности была мне далеко не безразлична, ибо корабль увозил в Индии не только дона Луиса, но и его племянницу — любовь всей моей жизни Анхелику де Алькесар.
Обо всем этом я предполагаю более подробно рассказать в дальнейшем. Сейчас же ограничусь тем, что уже поведал, прибавив лишь, что последнее наше приключение убедило капитана Алатристе в необходимости как-то упрочить мою будущность, избавив меня, елико возможно, от финтов и фортелей фортуны. Случай представился благодаря дону Франсиско де Кеведо, который с той поры, как упас меня от костра инквизиции, с полнейшим правом мог считаться моим крестным отцом. Ну так вот, поэт, чья звезда разгоралась при дворе все ярче, слава гремела все громче, вбил себе в голову, что, если к милостям нашей королевы, питавшей к нему самые теплые чувства, и благоволению графа-герцога Оливареса прибавится еще немного везения, я по достижении восемнадцатилетнего возраста смогу вступить в Корпус королевских курьеров, а о лучшем начале придворной службы и мечтать нельзя. Единственная, но серьезная загвоздка заключалась в том, что для производства в офицерский чин требовалось либо подходящее происхождение, либо неоспоримые заслуги, доказательством коих могло послужить мое участие в боевых действиях. Однако и здесь все обстояло не совсем гладко — хоть я два года провел в действующей армии, да не где-нибудь, а во Фландрии, и, между прочим, брал Бреду, но по молодости лет не был занесен в списки полка, что весьма пагубно отразилось на моей аттестации, каковой не имелось вовсе, ибо значился я не строевым солдатом, а пажем-мочилеро, а это настоящей службой как бы и не считалось. Следовало, стало быть, возместить недостачу. Способ отыскал наш друг капитан Алонсо де Контрерас, после недолгого гостевания у Лопе де Веги возвращавшийся к месту службы и пригласивший нас составить ему компанию на пути в Неаполь. Что может быть лучше, доказывал он, чем провести недостающие два года в расквартированном там полку испанской пехоты, где служат их с Алатристе старые боевые товарищи, а заодно и насладиться всеми удовольствиями, коими так щедро одаривает испанцев город у подножия Везувия, и прикопить деньжат при налетах, учиняемых нашими галерами на греческие острова и африканское побережье? Вернитесь, господа, ненадолго к прежнему ремеслу, взывал Контрерас, воздайте Марсу то, что воздавали прежде Венере да Вакху, и почитаемое немыслимым — свершится… Ну и так далее. Аминь.
Одно сомнению не подлежало — капитана Алатристе ничего больше в Мадриде не удерживало: за душой ни гроша, амуры с Марией де Кастро завершились, а Каридад Непруха стала заговаривать о браке пугающе часто, так что, снова и снова обдумав предложение и опорожнив в полнейшем молчании множество бутылок вина, он наконец решился. И летом двадцать шестого мы отплыли из Барселоны в Геную, а оттуда — дальше на юг, до Партенопы, как в древности назывался Неаполь, где Диего Алатристе-и-Тенорьо с Иньиго Бальбоа Агирре зачислены были в полк. И весь остаток года, пока на святого Деметрия не завершилась навигация, бесчинствовали мы в Адриатике, на побережье Северной Африки и в Морее, сиречь южной части Греции. Потом, сделав перерыв на зиму, сбили малость каблуки, шляясь по бесчисленным неаполитанским увеселениям, наведались с познавательной целью в Рим, дабы я своими глазами смог увидеть поразительнейший на свете город и величественную колыбель христианства, а с наступлением мая, как положено, снова погрузились на отстоявшиеся в порту и готовые к новой кампании галеры. Первое плавание совершили, эскортируя караван, шедший из Италии в Испанию с заходом на Балеарские острова, а второе — это вот, нынешнее, — в составе конвоя охраняя купеческие суда, двигавшиеся из Картахены на Оран, а потом — в Неаполь. Обо всем прочем — о пиратской галеоте, за которой погнались мы, выйдя из ордера, о преследовании в виду африканского побережья — я уже поведал вам более или менее подробно. Прибавлю только, что нет, не желторотый птенец, а вполне стреляный воробей был давний ваш знакомец, вдосталь понюхавший пороху и заматеревший к семнадцати годам Иньиго Бальбоа, что купно с капитаном Алатристе и прочими вояками взошел на борт «Мулатки» и сражался с турками, коими в ту пору именовали мы всех подданных Блистательной Порты, будь то собственно турки, или мавры, или мориски, и вообще всякий, кто не под испанским флагом шастал по морям и безобразничал на торговых путях. О том, как именно было это, узнаете вы, господа, из моего повествования, в котором я предполагаю воспомнить времена, когда мы с Диего Алатристе по примеру прошлых лет сражались плечом к плечу, но уже не как хозяин и слуга, а как равные, как боевые товарищи. Расскажу, ни на йоту не прилгнув, единой запятой не упустив, о сражениях и стычках, о корсарах и абордажах, о блаженной поре первой младости, о грабежах и смертоубийствах. Расскажу о том, сколь громко в мои времена — о, в какую дальнюю даль отодвинулись они теперь, когда я убелен сединами и так давно уже изукрашен шрамами! — звучало имя моего любезного отечества, какой страх и трепет наводило оно на всех, кто бороздил моря Леванта. И о том, что нет у дьявола ни рода-племени, ни цвета кожи, ни знамени, под которым он воюет. И еще о том, что для сотворения преисподней на суше ли, на море, нужны-то всего-навсего испанец да клинок у него в руке.
— Хватит, я сказал! — крикнул капитан «Мулатки». — Они денег стоят!
Дон Мануэль Урдемалас был несколько стеснен в средствах и потому не любил лишнего и безосновательного кровопролития. И мы повиновались — не сразу, не все и неохотно. Меня вот, например, капитану Алатристе пришлось придержать за руку, когда я уж совсем было собрался перерезать глотку одному из тех, кто, быв в пылу боя сброшен в воду, теперь вознамеривался влезть на борт. Что говорить, мы еще не остыли, и учиненная нами резня, верно, оказалась недостаточной, чтобы утишить страсть к убийству. Покуда «Мулатка» шла на сближение, турки, у которых, как мы сразу поняли, был превосходный канонир, скорее всего передавшийся врагу португалец, — успели шарахнуть по нам из пушки и двоих убили. И потому уж мы накинулись на них со всей нашей пресловутой испанской яростью, не собираясь никого щадить, вопя во все горло, ощетинясь короткими пиками и абордажными крючьями, дымя фитилями аркебуз, а гребцы, выбиваясь из сил, под щелканье бича, свистки и перезвон собственных кандалов ворочали тяжеленными веслами, покуда галера, повинуясь их стараниям, не врезалась наискосок в неприятельский парусник, снеся носовую надстройку, где помещался кубрик. Поднаторелый в своем ремесле рулевой доставил нас именно туда, куда следовало: не прошло и минуты, как таран, в щепки переломав весла, въехал прямо в середку правого борта, а три выстрела из носовых пушек, заряженных гвоздями и обрезками жести, как метлой прошлись по вражьей палубе, сметя с нее все живое. Потом, постреляв несколько из аркебуз и камнеметов, первая абордажная команда с криками «Испания и Сантьяго!» по носу перебралась на галеоту и без особых затруднений очистила все пространство от мачты до кормы, рубя и режа и на первых порах не встречая, в сущности, сопротивления. Кто не поспел спрыгнуть за борт, погиб тут же, между скользких от крови гребных скамеек-банок, другие отступили на корму и вот там, надо отдать им должное, дрались отважно и достойно, покуда на мостик, где они засели, не ворвалась вторая абордажная команда. В составе ее были и мы с капитаном: он, сделав пяток выстрелов из аркебузы, бросил ее и вооружился шпагой и круглым щитом, я же в кирасе и шлеме поначалу орудовал своим копьецом, а затем сменил его на хорошо отточенную секиру, вырванную из рук умирающего турка. И так вот, оберегая друг друга, шаг за шагом, от банки к банке продвигались мы вперед, благоразумно не оставляя за собой никого живого — даже тех, кто молил о пощаде, — покуда не добрались вместе с остальными до кормы, где тяжело раненный турецкий капудан и те, кто еще был на борту, сложили оружие, сдались на милость победителя. Каковой, однако, не получили, потому что раньше надо было думать; с этой же минуты пошла уже натуральная бойня и больше ничего, и потребовался, как я уже сказал, повторный приказ дона Мигеля, чтобы мы, приведенные в бешенство упорным сопротивлением турок — абордаж стоил нам девятерых убитых, включая накрытых удачным пушечным выстрелом, и двенадцати раненых, не считая гребцов-невольников, — перестали наконец рубить, резать и колоть, впрочем, продолжая, как все равно уток, подстреливать из аркебуз барахтавшихся в воде, а тех, кто пытался вскарабкаться на борт, — сбрасывать, невзирая на их жалобные крики, назад ударом весла по голове.
— Ну довольно, — сказал мне Диего Алатристе. — Уймись.
С трудом переводя дух, я взглянул на него: капитан вытирал клинок подобранной с палубы тряпкой — судя по всему, то была размотанная мавританская чалма, — потом вложил шпагу в ножны, не сводя при этом глаз с тех, кто тонул вокруг галеоты или еще плавал неподалеку, опасаясь приблизиться. Вода была не слишком холодна, и они могли бы держаться на плаву довольно долго — разумеется, речь не о раненых, которые, захлебываясь, пуская пузыри, оглашая воздух предсмертными криками и стонами, из последних сил боролись со смертью в покрасневшей от крови воде.
— Это не твоя кровь, так?
Я осмотрел руки, пощупал ноги, провел ладонью по кирасе и радостно убедился, что не получил ни царапины.
— Цел. Все на месте. Как и у вас.
Потом мы оглядели пейзаж после битвы: два еще сцепившихся корабля, груды распотрошенных тел меж гребных скамей, турки — пленные, мертвые, умирающие, а также сколько-то живых, но мокрых, начавших под угрозой аркебуз и копий взбираться на борт, — и наши, уже втихомолку принявшиеся шарить по галеоте. Левантийский бриз сушил чужую кровь у нас на руках и лицах.
— Кажется, мы зря старались, — вздохнул Алатристе.
Да, на этот раз нам не обломилось: галеота, вчера вышедшая из пиратского порта Сале[135], еще не успела ничего награбить перед тем, как мы заметили ее приближение, так что, если не считать разного тряпья да еще оружия, добычи не было никакой — ничего ценного мы не нашли, хоть и перетряхнули весь корабль от киля до клотика и даже переборки в трюме взломали. И на уплату пресловутой королевской пятины, будь она неладна, не нашлось ни единого дублона. Мне пришлось довольствоваться бурнусом тонкой шерсти — да и тот оспаривать едва ли не на кулаках с кем-то из наших, уверявшим, что заметил его первым, — а капитану Алатристе достался извлеченный из тела убитого клинок с затейливой резьбой на рукояти и отлично заточенным обоюдоострым лезвием дамасской стали. С этими трофеями он и вернулся на «Мулатку», я же, продолжая рыскать по галеоте, отправился поглядеть на пленных. Ибо за неимением иной добычи единственную ценность представляли выжившие турки. По неслыханному везению, среди гребцов не оказалось ни одного христианина, ибо пираты, смотря по обстоятельствам, сами брались то за весла, то за оружие, и когда движимый благоразумием дон Мигель Урдемалас приказал остановить резню, сдавшихся в плен, раненых и выловленных из воды оказалось семьдесят душ. Это означало, что за каждую, смотря по тому, на каком невольничьем рынке станут их продавать, можно выручить от восьмидесяти до ста эскудо. Если вычесть королевскую пятину и долю капитана галеры да разделить полученную сумму на пятьдесят членов команды и семьдесят солдат — почти двести гребцов-каторжан, как и всегда, не в счет, — легко будет убедиться, что сильно-то с этого не разживешься, однако кое-что все же получишь, а кое-что — лучше, чем ничего. Всегда и неизменно, господа, следует помнить, на носу себе зарубить: больше выживших — больше прибыль. Ибо вместе с каждым из тех, кто барахтается в воде, пытаясь вскарабкаться на борт, уйдет на дно тысяча реалов.
— Капудана повесить, — сказал капитан Урдемалас.
Сказал негромко — так, чтобы его слова слышали только комит, прапорщик Муэлас, штурман, сержант Альбадалехо и двое пользующихся особым его доверием солдат, одним из коих был Диего Алатристе. Они держали совет на корме «Мулатки» возле фонаря, поглядывая время от времени на галеоту, все еще насаженную на острие нашего тарана. Весла переломаны, в пробоину поступает вода, так что все сошлись на том, что нет никакого смысла буксировать его: потонет скоро и совершенно неминуемо.
— Он вероотступник, — Урдемалас поскреб бороду. — Испанец родом с Майорки. Некто Боикс. Здесь его звали Юсуф Боча.
— Он ранен, — заметил комит.
— Значит, вздернуть поскорей, пока не подох.
Командир галеры поглядел на солнце, висевшее у самого горизонта. Через час стемнеет, прикинул Алатристе. За это время пленные должны быть закованы и препровождены на борт «Мулатки», а та возьмет курс на ближайший дружественный порт, где их можно будет продать. А сейчас как раз допрашивают, проверяя, на каком языке говорят, какому богу молятся, отделяют христиан от морисков, морисков — от мавров, мавров — от турок. Каждый пиратский корабль — плавучая Вавилонская башня. Нередко, вот как сейчас, встретишь и таких, кто предал свою веру, и еретиков — англичан и голландцев. И в том, что капудана надо повесить, согласны были все.
— Готовьте петлю.
Алатристе знал, что иначе и быть не может. Вероотступнику, командовавшему вражеским кораблем, оказавшему сопротивление и повинному в гибели подданных испанского государя, как никому другому впору придется пеньковый воротник, раз и навсегда вылечивающий человека от несварения. Это уж как водится. А уж если он ко всему еще и испанец, то и вообще говорить не о чем.
— Почему его одного? — спросил прапорщик Муэлас. — Здесь есть и другие мориски — помощник капитана и еще четверо, самое малое. Их было больше, но остальные убиты. Или умирают.
— А прочие пленные?
— Вольнонаемные гребцы, мавры из Сале. Есть двое белобрысых, сейчас как раз проверяют, обрезанцы они или христиане.
— Ну так вы знаете, как поступить с ними: обрезаны — приковать к веслам, а потом сдать в инквизицию. А не обрезаны — на рею… Сколько у нас убитых?
— Девять, да еще те, кто не дотянет до утра. Это не считая гребцов.
Урдемалас нетерпеливо и с досадой хлопнул ладонью по фонарю.
— Значит, вешать всех шестерых!
Наш капитан был человек дошлый и тертый, несколько грубоватый в обращении, и тридцать лет плаваний по Средиземноморью врезали глубокие морщины в его обветренную, загорелую кожу, посеребрили ему бороду. Он-то знал, как поступать с людьми, которые, закат встречая в Берберии, а рассвет — на испанском берегу, опустошали все, что попадалось под руку, и преспокойно возвращались досыпать домой.
Солдат доложил о чем-то Муэласу, и тот повернулся к капитану:
— Говорит, оба белобрысых — обрезаны… Один предатель — француз, другой — из Лиорны.
— К веслам — обоих.
Теперь понятно, почему так яростно сопротивлялась галеота — матросы ее знали, на что идут, и терять им было нечего. Почти все мориски на борту предпочли бы погибнуть в бою, чем сдаться, и тут, по бесстрастному замечанию Муэласа, сказывалось воздействие земли, родившей этих морских псов. Исстари и повсеместно повелось так, что испанские солдаты не оставляли в живых своих отрекшихся от истинной веры земляков, если те командовали пиратскими кораблями, да и рядовых матросов-морисков щадили лишь в том случае, если те попадали к ним в руки без боя: тогда их передавали святейшей инквизиции. Морисков, то есть крещеных, но сомнительных в смысле веры мавров, изгнали из Испании восемнадцать лет назад, после многих кровавых восстаний, лживых обращений, предательств и новых мятежей. Тысячу злосчастий претерпевали они в этом исходе: погибали, лишались всего достояния, видели, как становятся жертвами насилия их жены и дети, а когда добирались до побережья Северной Африки, находили не очень-то радушный прием у своих единоверцев и соплеменников. Обосновавшись наконец в самых пиратских портах — в Алжире, Тунисе, а по большей части — в Сале, расположенных ближе всего к берегам Андалузии, они делались наилютейшими, непримиримейшими врагами нашими — никто не проявлял большей жестокости в стычках на море и при налетах на приморские испанские городки и селения: разоряли их беспощадно, благо, во-первых, знали местность, как собственный двор, каковым она, в сущности, и была, а во-вторых, действовали со вполне понятной и объяснимой злобой людей, явившихся поквитаться и свести старинные счеты.
— А тех — повесить, да без лишнего шума, — посоветовал Урдемалас. — Чтобы переполох среди пленных не поднялся. Вздернуть после того, как все уже будут в кандалах.
— Невыгодно, сеньор капитан, — возразил комит, въяве представив, как повиснут на реях еще сколько-то тысяч реалов. — Прямой убыток.
Комит, который по части скаредности мог перещеголять и своего капитана, был наделен отталкивающей наружностью и еще более омерзительными душевными свойствами и, стакнувшись с корабельным профосом, умудрялся получать дополнительный доход, делая — не безвозмездно — различные послабления и поблажки гребцам.
— Мне плевать на ваши деньги, — ответил Урдемалас, испепелив его взглядом. — И на тех, кто мог бы вам их добыть.
Комит, зная, что с капитаном шутки плохи, а перечить ему — дело дохлое, пожал плечами и удалился, громким голосом требуя у подкомита и профоса веревок. Оба они были в это время заняты тем, что расковывали погибших в ходе боя гребцов — четверых мавров-невольников, голландца и троих испанцев, сосланных на галеры по приговору суда, — чтобы сбросить их тела в море, а освободившиеся цепи надеть на пленных. Еще с полдюжины гребцов в ручных и ножных кандалах жалобно стенали на окровавленных банках, ожидая, когда ими займется наш цирюльник, исполнявший на «Мулатке» обязанности судового лекаря и хирурга и любую рану, сколь бы ни была она ужасна, лечивший, как водится на галерах, уксусом и солью.
Тут Диего Алатристе встретился глазами с Мануэлем Урдемаласом.
— Двое морисков — почти дети, — промолвил мой хозяин.
И это была сущая правда. В тот миг, когда капудан упал раненным, Алатристе заметил двоих юнцов — они скорчились меж кормовых банок, пытаясь укрыться от разящей стали. Заметил — и самолично отвел в сторонку, чтобы им в горячке боя не перерезали горло.
Урдемалас скорчил злобную гримасу:
— Что это значит — «дети»?
— То и значит.
— Родились в Испании?
— Понятия не имею.
— Обрезаны?
— Скорей всего.
Моряк выбранился себе под нос, не сводя глаз с собеседника. Потом обернулся к сержанту Альбадалехо:
— Займитесь-ка ими. Осмотрите у них оснастку. Есть волосы на лобке — значит, как Бог свят, есть и шея, за которую можно вешать. Нет — значит, сажай на весла.
Сержант без особой охоты побрел по настилу гребной палубы к захваченной галеоте. Заголять мальчишек, чтобы убедиться, что они уже созрели для петли, было во всех смыслах слова срамное дело, однако против рожна, как известно, не попрешь. Капитан меж тем продолжал сверлить Алатристе пытливым взглядом, словно пытаясь понять, не кроется ли чего-нибудь за этим его заступничеством. Дети они или не дети, в Испании родились или нет — кстати, последние мориски, жители долины Рикоте в Мурсии, покинули нашу отчизну в 1614 году — для Урдемаласа, как и для почти всех испанцев, в любом случае речь о жалости и сострадании не шла. Двух месяцев еще не минуло с того дня, как пираты высадились на побережье Альмерии, угнали в рабство семьдесят четыре человека из одной приморской деревни, саму ее разграбили дочиста, алькальда же и еще одиннадцать жителей, поименованных в некоем списке, — распяли. Женщина, которой удалось где-то спрятаться от расправы, уверяла потом, что в числе разбойников были и мориски, некогда обитавшие в этой деревне.
Так что на этом средиземноморском перекрестке, где, кипя в котле застарелой ненависти, смешалось столько племен и наречий, давние счеты были у всех со всеми. Что касается собственно морисков, для которых родными были каждая тропинка и любой уголок в тех местах, куда они возвращались для мести, то об этом их неоспоримом преимуществе дон Мигель де Сервантес, не понаслышке знакомый с пиратами, ибо и сражался с ними, и в плену у них сидел, писал сравнительно недавно в своих «Алжирских нравах»[136]:
Рожденный и возросший в сем краю, Все выходы я знаю здесь, все выходы, А супостат найдет в нем в смерть свою…— Вы, сдается мне, бывали в тех местах, не правда ли? — настойчиво спросил Урдемалас. — В Валенсии, в шестьсот девятом?
Алатристе кивнул. В замкнутом пространстве галеры тайны недолго остаются тайнами. У него с Урдемаласом были общие друзья, а сам он благодаря боевому опыту занимал несколько особое положение и фактически исполнял капральские обязанности. Они относились друг к другу с уважением, но табачок, как говорится, держали врозь.
— Ходили слухи, — продолжал Урдемалас, — будто помогали приструнить малость тамошний народец?
— Помогал, — ответил Алатристе.
Можно и так сказать, подумал он. Схватки и стычки, скалистые отроги и кручи, палящий зной, засады, ловушки, убийства из-за угла, казни. Беспримерная жестокость с обеих противоборствующих сторон, а между ними — несчастные мирные жители, христиане и мориски, которым, как оно всегда и бывает, приходилось платить за разбитые горшки. Насилия, кровопролития, бесчинства — и страдают опять же они. А потом — длинные вереницы этих бедолаг, бросивших свои дома, продавших за бесценок все, что нельзя унести с собой, влекутся по дорогам, а их преследуют, грабят все кому не лень — и местные крестьяне, и сами солдаты, из которых многие даже дезертировали, чтобы предаться этому делу без помехи. Потом всходят на корабли, увозящие их на чужбину, где, как сказал Гаспар Агиляр:
…кровного лишившись достоянья, На нищенство они обречены…— Клянусь честью, — промолвил капитан Урдемалас, улыбнувшись не без лукавства, — вы не больно-то гордитесь своей службой Богу и королю?
Алатристе пристально взглянул на собеседника. Потом медленно провел двумя пальцами левой руки вдоль усов, приглаживая их.
— Вы, сеньор капитан, разумеете то, что было сегодня или же относящееся к девятому году?
Сказано это было очень отчетливо и холодно, хотя и совсем негромко. Урдемалас беспокойно переглянулся с Муэласом, своим помощником и вторым капралом.
— По поводу сегодняшнего дела мне сказать нечего, — ответил он, всматриваясь в лицо Алатристе так внимательно, будто задался целью пересчитать все его шрамы. — Будь у меня под началом десятеро таких, как ваша милость, мы за одну ночь взяли бы Алжир. Разве что…
Алатристе, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал гладить усы:
— «Разве что» — что?
— Ну… — пожал плечами Урдемалас. — Мы здесь все свои, и все про всех все знают. Поговаривают, вам не нравилось то, что было в Валенсии… И будто бы вместе с вашей шпагой вы передались противной стороне.
— А вы, сеньор капитан, имеете на сей счет личное мнение?
Урдемалас следил за движениями левой руки Алатристе, оставившей усы в покое и упершейся в бок, совсем рядом с эфесом шпаги — помятым и исцарапанным ударами чужих клинков. Моряк был человек неробкий, и все это знали. Но слухами не только земля полнится, но и море, а молва об Алатристе как о человеке весьма опасного свойства впереди его бежала и опередила его появление на «Мулатке». Мало ли, конечно, что о ком говорят, можно и пренебречь. Однако в этот миг, наблюдая за ним и за его руками, самый несмышленый юнга поверил бы, что люди зря не скажут. И Урдемалас знал это лучше, чем кто-либо еще.
— Нет, — отвечал он. — Не имею. Каждый человек — это целый мир… Но что говорят, то говорят.
Он произнес это твердым голосом, искренним тоном, и Алатристе минуту раздумывал. Но ни к сути этого высказывания, ни к форме, эту суть облекавшую, нельзя было предъявить никаких претензий. Командир галеры был умен. И осмотрителен.
— Ну и пусть себе говорят, — уступил Алатристе.
Прапорщик Муэлас счел за благо высказаться в ином ключе.
— Я из Вехера, — сказал он. — И отлично помню, что творили в наших краях турки, ведомые местными морисками, которые говорили им, когда и откуда напасть, чтобы застать нас врасплох… Соседский мальчонка погонит, бывало, коз на выпас или, скажем, с отцом порыбачить, а утро встретит уже где-нибудь в подвале у берберов. Может, стал таким, как эти, на галеоте… от святой веры отступился. Может, в содомита его превратили… Они детей насиловали… Про женщин уж я не говорю.
Помощник и второй капрал угрюмо закивали. Оба слишком даже хорошо знали, как люди строили дома где-нибудь в горах повыше, подальше от береговой полосы, чтобы уберечься от берберийских пиратов, налетавших с моря, как жили в вечном страхе перед набегами морских разбойников и их сухопутных единоверцев, помнили о кровавых мятежах морисков, не желавших признавать королевскую власть и принимать крещение, славших тайные просьбы о помощи во Францию, лютеранам и туркам с тем, чтобы подготовить общее восстание. После проигранных в Гранаде и Альпухарре войн, после того, как провалились все попытки Филиппа Третьего расселить их по другим провинциям и обратить в христианство, на весьма уязвимых берегах Андалузии собралось триста тысяч морисков — колоссальная цифра для страны с населением в девять миллионов — непокорных, упрямых, лишь формально принявших католичество, гордых, как подобает испанцам, коими они, как ни крути, и были, денно и нощно мечтавших вернуть себе утерянные свободу и независимость, изо всех сил сопротивлявшихся намерению влить их в единую испанскую нацию, выплавленную столетие назад, что, кстати, развязало жесточайшую войну на всех границах нашего королевства, ибо разом ополчились на нас движимые алчной завистью Англия и Франция, еретики-протестанты и необозримая в ту пору могучая турецкая держава, она же — Блистательная Оттоманская Порта. И потому, пока не решено было окончательно изгнать морисков из пределов нашего королевства, этот, по-ученому говоря, анклав являл собою кинжал, готовый вонзиться в спину Испании, повелевавшей полумиром, а с другой половиной находившейся в состоянии войны.
— Сущее бедствие было, — продолжал меж тем Муэлас свой рассказ. — От Валенсии до Гибралтара мы, старые христиане, оказались будто в клещах: с моря — пираты, со стороны гор — мориски. А кто, как не они, раскладывал сигнальные костры по ночам, кто пристани устраивал, чтоб удобно было причалить, высадиться да начать грабеж, а уж на какие только ни шли они увертки и отговорки, чтобы не есть свинину…
Диего Алатристе качнул головой. Не все было так, и он это знал.
— Случалось мне встречать среди них и людей, искренно обратившихся в истинную веру, верноподданных нашего короля. Один такой служил у нас во Фландрии в полку… Да и вообще это работящий, трудолюбивый народ. Среди них нет идальго, проходимцев, монахов, нищих-попрошаек… И тем они с самого начала отличны были от испанцев.
Все воззрились на него, и повисло довольно продолжительное молчание. Потом прапорщик, отгрызя и выплюнув за борт кусочек ногтя, высказался так:
— Этих достоинств, пожалуй, маловато будет. Непременно следовало покончить с постоянным источником смуты. Вот, с Божьей помощью, и покончили.
Алатристе подумал, что на самом деле ничего еще не кончилось. Глухая междоусобная война, на которой одни испанцы убивали других, продолжалась — только иными средствами и в других местах. Кое-кому из морисков — очень, впрочем, немногим — удалось впоследствии и тайно вернуться в отчий край, с помощью соседей обосноваться там. Остальные же, изгнанные из Гранады и Андалузии, из Арагона, Кастилии и Валенсии, унесли свою злобу и тоску по утраченной родине в пиратские города Берберии, сильно поспособствовав укреплению Оттоманской Порты и городов на севере Африки, благо превосходно знали многие ремесла, а также в совершенстве владели навыками и умениями, потребными для морского разбоя, так что в их лице приобрел мавританский флот многих опытных и дельных мореходов — капитанов и судоводителей. Плавали стрелками-аркебузирами на галерах и галеонах — на каждом захваченном пиратском корабле обнаруживалось их обычно не менее дюжины, — оказывались прирожденными лоцманами, ибо умели пристать к берегу точно в тех местах, что намечены были для налета и ограбления, были искусными корабелами, оружейниками, пороховщиками, не знали себе равных в работорговле. Клокотавшие в них ненависть и жажда мести в сочетании с высоким воинским мастерством и решимостью сражаться, пощады не давая и не прося, делали их лучшими бойцами на всем турецком флоте, так что разбавленные ими экипажи ценились выше тех, что набирались из одних мавров. Никто не мог превзойти их в жестокости, никто не обращался с пленными беспощадней, и, одним словом, на средиземноморском театре не было у Испании врагов злейших, нежели мориски.
— Так или иначе, надо отдать им должное, — заметил помощник. — Дерутся, сволочи, как звери.
Алатристе обвел взглядом пространство вокруг галеры и галеоты. Убитые уже все пошли ко дну. Лишь некоторые, благодаря тому, что воздух остался в легких или раздул одежду, еще покачивались, раскинув руки, на тихой воде. В такие минуты едва ли кто — и уж точно не он — вздумал бы усомниться, что изгнание диктовалось суровой необходимостью. Такие уж времена. Ни Испания, ни Европа, ни весь прочий мир не склонны деликатничать и чистоплюйствовать. Алатристе, однако, не давало покоя то, как производили это самое изгнание — как причудливо сочеталось тут холодное чиновничье безразличие с хамоватой солдатской бесцеремонностью, как полно раскрылась тут низменная природа человека. Вспомнилось, что дон Педро де Толедо, командовавший галерным флотом Испании, писал королю: «…представляется необходимым лишать их возможности забирать с собою столько денег, ибо многие уходят очень охотно». И потому в лето от Рождества Христова тысяча шестьсот десятое двадцативосьмилетний солдат Диего Алатристе, ветеран Картахенского полка, переброшенного из Фландрии как раз для подавления мятежных морисков, подал рапорт о переводе в Неаполитанский полк, чтобы драться с турками в Восточном Средиземноморье. И сказал, что если уж резать мусульман — то лишь тех, которые способны защищаться. И вот судьба распорядилась так, что почти двадцать лет спустя вновь довелось ему продолжить это почтенное занятие.
— Ничего, бивал я их и в шестьсот десятом году, и в одиннадцатом, между Денией и побережьем Орана, — заметил капитан Урдемалас. — Собак этих.
Насчет собак сказано было с большим нажимом. Затем капитан очень внимательно воззрился на Диего Алатристе, будто желая проникнуть взглядом в самую его душу.
— Собак… — задумчиво повторил тот.
Ему вспомнились вереницы скованных мятежников, бредущих на рудники Альмадены, где добывали ртуть и откуда никто не возвращался живым. И старик-мориск из валенсианской деревушки — ему единственному власти, снисходя к его дряхлости и хворям, разрешили остаться, да, видно, не в добрый час: вслед за тем его насмерть забили камнями местные мальчишки, причем никто из соседей и даже приходской священник не подумали вступиться и остановить расправу.
— Если и собаки, то — разных пород, — договорил он.
И, горько улыбнувшись, с отсутствующим видом уперся светло-зеленым льдистым взглядом в глаза капитана Урдемаласа. И по выражению его лица понял — тому не понравились ни взгляд этот, ни улыбка. Но понял также и то, благо умел с первого взгляда оценить всякого, кто стоял перед ним, что Урдемалас остережется высказывать свое неудовольствие вслух. В конце концов, и с формальной точки зрения здесь никто никому не нанес обиды. Что же до всего остального и последующего, то ведь свет клином не сошелся на этой галере, где суровая корабельная дисциплина запрещает выяснять отношения с глазу на глаз, с оружием в руках. Много на свете портов, а в портах не счесть темных и безлюдных переулков, уединенных пустырей, где как-нибудь безлунной ночью Урдемалас, не имея иной защиты, кроме своей шпаги, сможет получить пядь отточенной стали куда-нибудь между грудью и спиной, да так, что даже «Иисусе!» вскрикнуть не успеет. И потому, когда взгляд и улыбка Алатристе задержались до степени вызывающей, а рука, будто по рассеянности, легла на эфес шпаги, капитан Урдемалас отвел глаза и стал смотреть на море.
II. Сто копий — в оран
Когда пиратская галеота затонула, я оглянулся. В последнем, меркнущем свете дня виднелись пять безжизненных тел, покачивавшихся на реях над самой поверхностью темной воды, что будто грозила вот-вот поглотить их, — тела капудана, его помощника и трех морисков, среди которых был и тот юнец, у кого прапорщик Муэлас обнаружил поросль на лобке. Второго, помладше и, выходит, посчастливее, посадили на весла вместе с другими пленными, и они теперь, прикованные к банкам, гребли или — опять же в цепях — ожидали своей очереди в трюме. Что же касается штурмана-мориска, оказавшегося родом из Валенсии, то он, уже с петлей на шее, стал клясться на хорошем испанском языке: мол, хоть и покинул Испанию в детстве, но неизменно оставался верен своему обращению и всегда жил, как подобает доброму католику, столь же чуждому поклонникам пророка, как тот христианин, что воскликнул когда-то в Оране:
Не клял Христа, не славил Магомета. А что пришлось носить бурнус с чалмой — Мне лишь за тем потребовалось это, Чтоб дальний замысел исполнить мой.— …Обрезание же, поверьте, было чистейшей проформой: без этого, а верней сказать — с этим, не прожить ни в Алжире, ни в Сале. — На что капитан Урдемалас, очень развеселившись, отвечал в том смысле, что если ты христианином был и остаешься, то, значит, и смерть прими, как ему подобает. И, поскольку капеллана у нас на галере не имеется, прочти, будь добр, по разу «Верую» и «Отче наш», ну и еще что-нибудь по своему усмотрению, чтобы с чистой совестью переселиться в мир иной, а для исполнения долга твоего будет тебе предоставлено известное, пусть и малое, время перед тем, как петля захлестнет горло. Мориск принял рекомендацию капитана Урдемаласа в дурную сторону и страшнейшей матерщиной покрыл Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Деву, но теперь уж не столько на правильном кастильском языке, сколько на том бытующем в Берберии наречии, что именуется лингва-франка[137], и приправил свое богохульство отборной валенсианской бранью, причем остановился только раз, набрать воздуху, но и передышку эту использовал, чтобы харкнуть смачно и метко прямо на сапог Урдемаласу, отчего капитан распорядился провести экзекуцию по сокращенному варианту, то есть без «господи-помилуй» и без «господа-душу-мать», и мориск со связанными за спиной руками задергался на рее, не облегчив душу свою молитвой, а бранью — не отведя. Раненых же корсаров, не разбирая, мориски они или нет, сбросили без долгих слов в море. Но одного из тех, кто заслуживал именно петли, повесить не смогли. Он был ранен в шею, однако оставался на ногах: разрез в полпяди шириной чудом каким-то не затронул артерию, и потому бедняга не истек кровью, да и вообще, если смотреть на него с другого боку, был, конечно, мертвенно-бледен, но свеж, как только сорванный с грядки салат-латук, коим я тщусь заменить в сем случае избитое слово «огурчик». По мнению профоса, повесишь его — голова оторвется, и зрелище выйдет совершенно непотребное. Окинув пленного взглядом, капитан согласился с этим, и беднягу, скрутив ему руки, столкнули за борт, как и всех прочих.
Дул слабый норд-ост, луна не выкатилась на небо, зато звезд было в избытке, когда я почти ощупью отправился искать капитана Алатристе. На заполненной людьми палубе — язык не поворачивается сказать «вонючей», поскольку я сам, вдосталь пропитавшись разнообразными дурными запахами, щедро источал их, — солдаты и моряки, получив розданные им соленую рыбу и толику вина для восстановления сил, отдыхали после боя, покуда гребная команда, бросив весла и доверив заботы о продвижении корабля попутному ветру, закусывала вымоченными в масле и уксусе сухарями; звучали тихие беседы и громкие стоны раненых и ушибленных. Слышно было, как кто-то напевает, побрякивая в такт цепями и похлопывая ладонями по обитым кожей банкам:
Христианская галера, это что еще за зверь? Задних лап — в помине нету, а передних — сотни две.В общем, ночь ничем не отличалась от всех прочих. «Мулатка» медленно подвигалась в темноте, держа курс на юг, и колыхание надутых парусов, огромными светлыми пятнами нависавших над палубой, то скрывало от наших глаз усыпанное звездами небо, то вновь его нам являло. Хозяина своего я нашел на корме по левому борту, возле такелажной кладовой. Алатристе стоял неподвижно, облокотясь о фальшборт, и смотрел на темное небо и море, которые на западе еще слабенько отсвечивали красным. Мы перекинулись с ним несколькими словами насчет давешнего боя, а потом я спросил, верны ли гулявшие по судну слухи, что, мол, назад пойдем не в Мелилью, а в Оран.
— Урдемалас не хочет далеко забираться в открытое море с таким грузом на борту, — отвечал капитан. — Предпочитает зайти в ближайший порт да продать пленных. Так будет спокойнее.
— И выгоднее! — весело подхватил я, ибо, как и все на галере, произвел подсчеты, из которых получалось, что минувший день принес двести эскудо самое малое.
Алатристе пошевелился. Из ночной тьмы тянуло холодом, и по шороху я догадался, что капитан застегивает колет.
— Губы-то не раскатывай, — посоветовал он. — В Мелилье за рабов платят хуже… Однако до нее рукой подать, а до Орана — сорок лиг. Мы ведь в одиночном плаванье, вот Урдемалас и опасается нарваться на неприятную встречу.
В Мелилье мне прежде бывать не доводилось, и я обрадовался новым впечатлениям, однако Алатристе и здесь остудил мой пыл, рассказав, что городок этот — всего лишь маленькая крепость на оконечности скалистого мыса, где несколько домиков лепятся к склону огромной горы Гуругу, а жители не расстаются с оружием, ибо окружены, как и все испанские анклавы на африканском побережье, враждебными арабскими племенами. Для просвещения досужих читателей поясню, что арабами именовались в ту пору оседлые или кочевые, но одинаково воинственные и вероломные мавры, жившие за городской чертой, которых вместе с обитавшими внутри ее называли мы берберами, чтобы отличить от турок из Турции, в большом количестве то наезжавших из Константинополя, то возвращавшихся туда. Там правил Великий Турок, сиречь султан, более или менее верными вассалами коего в большей или меньшей степени, зависевшей от постоянно меняющейся обстановки, были все они; потому-то для краткости звали мы всех, кто наведывался на наши берега, турками, независимо от того, принадлежали они к этой нации или же нет. Так и говорили: «Интересно, высадится в этом году турок или нет?» — или: «Любопытно, турецкая это фелюга или еще чья?» — хотя судно могло быть приписано к порту Сале или Туниса, а не Анатолии. Здесь уместно будет упомянуть о том, что корабли всех стран мира, ведя оживленнейшую торговлю, прибывали ежечасно в густонаселенные пиратские города, где, опричь местных жителей, равно как и морисков, иудеев, вероотступников, а также мореходов и купцов всех наций и государств, обитало и бесчисленное множество христиан-рабов — за подробностями отсылаю вас к Сервантесу, Херонимо де Пасамонте[138] и прочим неоспоримо авторитетным авторам, которые знакомы были с невольничьей долей не понаслышке. И прошу досточтимых читателей принять во внимание, сколь сложен и замысловат был мир, расположившийся по берегам этого внутреннего моря, представлявшего собою естественную границу Испании с юга и востока, это двоесмысленное, подвижное, опасное, беспрестанно менявшее очертания пространство, где с нами перемешивались различные расы, выступая за или против нас, становясь либо противниками, либо союзниками в зависимости от того, какая дробь выбивалась на заплатанной барабанной шкуре. Справедливости ради отмечу, что не в пример Англии, Франции, Голландии и Венеции, которые якшались с Турцией и даже объединялись с нею против других христианских народов — и прежде всего против Испании, когда это казалось им уместным, а казалось почти всегда, — мы, сколько бы ошибок ни наляпали, в каких бы противоречиях ни вязли, неуклонно отстаивали чистоту истинной веры, не поступаясь ни единой буквой Священного Писания. И, в надменном сознании своего могущества без меры и счета тратили деньги и проливали кровь, покуда не надорвались в полуторастолетней войне, которую в Европе вели против последышей Лютера и Кальвина, а на средиземноморских берегах — с приверженцами пророка Магомета. За взятием Лараче последовало спустя четыре года и падение Маморы. Две берберийские твердыни, как и все прочие, достались нам большой кровью, ценой огромных жертв, удерживались с неимоверным трудом, а потом, к стыду нашему, были потеряны из-за извечной нашей расхлябанности и всегдашнего невезения. Ах, и в этом случае, как и почти во всех остальных, стоило бы нам уподобиться другим народам, то есть печься о процветании ревностнее, нежели о репутации, расширять нами же открытые горизонты, вместо того чтобы припадать к зловещим сутанам королевских духовников, дрожать над привилегиями, даруемыми кровью и родом, славить не труд, к коему никогда у нас не было ни влечения, ни склонности, но шпагу и крест, от которых угас светоч нашего разума, сгнили и сгинули отчизна и душа. Но ведь никто не дал нам права выбора. Что ж, по крайней мере, к вящему изумлению Истории, мы, горсточка испанцев, отбиваясь до последнего, сумели сделать так, что мир очень дорого заплатил за свои притязания. Вы, господа, скажете, пожалуй, что это слабое утешение, скажете — и будете, несомненно, правы. Но мы всего лишь делали то, чему были обучены, исполняли нашу должность, думать не думая о властях, о философиях, о богословских тонкостях. Да чёрта ли нам в них?! Мы были солдаты.
Вот угас последний красноватый отблеск у черного горизонта. И небо от моря отличить можно было только по густой россыпи звезд, под которыми в полнейшей тьме плыла наша галера, подгоняемая восточным ветром, ведомая искусством рулевого, который держал курс на звезду, указующую, где север, или время от времени открывал ящичек — богопротивные голландцы именуют его «нактоуз», — где слабый огонек освещал стрелку компбса. Позади, у грот-мачты, кто-то спросил капитана Урдемаласа, не зажечь ли кормовой фонарь, на что последовал ответ — тому, кто, мол, выбьет кресалом хотя бы малую искру, он, капитан, лично выбьет мозги.
— А насчет солдатского богатства, — заговорил вдруг Алатристе, словно вздумал вдруг ответить на мои слова, — я, признаться тебе, ни разу не видел, чтобы оно приваливало к кому-нибудь надолго. Все в распыл идет — на пропой души, на игру, на баб… Да ты сам это отлично знаешь.
И воцарившееся молчание было довольно красноречиво. Достаточно кратко, чтобы эти слова не звучали упреком, и достаточно продолжительно, чтобы укоризна все же чувствовалась. А я и в самом деле отлично знал, о чем речь. Мы были вместе уже почти пять лет и уже семь месяцев провели в Неаполе и на галерах, так что у друга моего отца был случай заметить во мне кое-какие перемены. И не только телесные, хоть я уже догнал его ростом и был, кстати, хоть и худощав, но строен, с сильными руками, крепкими ногами и довольно приятным лицом, — нет, я имею в виду перемены другие, более сложные и потаенные. Я знал, что капитан никогда не желал, чтобы будущность моя была связана с военной службой, а потому при помощи друзей своих, дона Франсиско де Кеведо и преподобного Переса, старался сызмальства приохотить меня к чтению хороших книг и к переводам с латинского и греческого. Пером, часто повторял он, дотянешься дальше, чем шпагой; и перед тем, кто поднаторел в литературе и юриспруденции да еще сумел занять прочное положение при дворе, откроется путь попривлекательнее, нежели у профессионального вояки. Однако пересилить природную мою склонность оказалось невозможно, и, хотя благодаря его усилиям, удалось все же привить мне вкус к словесности — так что спустя столько лет, кажущихся ныне столетиями, я и сам взялся за сочинительство, занося на бумагу нашу с капитаном историю, — но родовое начало, передавшееся мне, по всей видимости, от отца, что сложил голову во Фландрии, равно как и годы, проведенные бок о бок с Диего Алатристе, беспокойную и опасную жизнь которого начал я делить с тринадцати лет, предопределили мою судьбу. Я хотел быть солдатом, и наконец стал им, и предавался марсовым, так сказать, утехам со всем пылом необузданной младости.
— Баб у нас на галере не имеется, вино преотвратное, да и того мало, — отвечал я, слегка уязвленный. — Так что зря вы это, обидно слушать… Ну а насчет игры… У меня, сами знаете, в кармане — вошь, а на аркане — блоха…
Вошь, кстати, упомянута была не для красного словца. Капитан Урдемалас, утомясь от бесконечных потасовок и прочего мордобоя, объявил карты и кости на борту вне закона, а тех, кто пренебрежет запретом, пообещал заковывать в цепи. Однако голь на выдумки хитра, или, как говорят в наших краях, кобыла смыслит больше кучера, а потому моряки и солдаты изобрели новую игру: мелом вычерчивали на дощатом столе несколько кружков, в центр сажали уловленную вошку — одну из того множества, что в буквальном смысле ели нас поедом, — и делали ставки на то, куда именно она поползет.
— Вот когда вернемся в Неаполь, видно будет, — досказал я.
И поглядел на капитана краем глаза, ожидая какой-нибудь ответной реплики, однако темная фигура, рядом и вместе со мной чуть покачивавшаяся на шаткой палубе, оставалась безмолвна и неподвижна. Дело все было в том, что еще некоторое время назад капитан понял: как ни старайся оберечь и защитить своего питомца, не получается его оградить от кое-каких предосудительных сторон военной жизни, не говоря уж об опасностях, прямо с нею связанных, ибо за годы, протекшие с тех пор, как моя бедная матушка прислала меня в Мадрид под опеку Диего Алатристе, я несколько раз ввязывался в его сомнительные предприятия, или, если угодно, темные дела, очень сильно рискуя и свободой, и самой жизнью. Теперь я был — ну или должен был вот-вот стать — сложившейся личностью. И если капитан иногда решал вразумить меня добрым советом — а ведь вы, господа, помните, верно, что он относился к тому сорту людей, которые отдают безоговорочное предпочтение делам, а не словам, — то они во мне должного и сочувственного отклика не находили, ибо я считал, что превзошел всю житейскую премудрость и мне море по колено. Осознав тщету своих наставлений, капитан, как человек безмерно опытный, дальновидный, предусмотрительный и любящий меня, вместо того чтобы читать мне морали, просто-напросто старался оказываться рядом всякий раз, как считал это необходимым. Власть же свою употреблять — а он, видит Бог, делал это превосходно — лишь в самых крайних случаях.
Допускаю, что в отношении женщин, вина и карт были у него кое-какие основания досадовать на меня. Жалованье свое, составлявшее четыре эскудо в месяц, равно как и деньги, добытые в предыдущих предприятиях, когда атаковали в заливе Майна два турецких трехпалубных купца, провели прелестный денек на побережье Туниса, взяли, что называется, «на шпагу» парусник у мыса Пахаро и галеру, севшую на мель у Санта-Марии, тратил я до последнего грошика, поступая в сем случае в полнейшем соответствии с установившимися среди нашего брата правилами и без малейших отличий от того, как вел себя в пору своей юности капитан Алатристе, что он и сам пусть неохотно, но признавал. Правда, надо сказать, что жажда новых ощущений не давала мне покоя. Ибо для здорового парня моих лет, к тому же испанца, Неаполь, мировой перекресток, был истинным раем на земле: отличные трактиры, лучшие на свете таверны, роскошные девки — было, одним словом, на что солдату порастрясти мошну. Кроме всего прочего, судьба, словно бы для того, чтобы еще больше окрылить меня, подгадала так, что там же оказался в ту пору Хайме Корреас, мой собрат по ремеслу мочилеро, с которым проделали мы всю фламандскую кампанию двадцать пятого года. Он уже прослужил в Италии достаточно, чтобы приобщиться в полной мере ко всем ее злачным местам. О нем речь у нас будет впереди, а сейчас скажу лишь, что бо́льшую часть зимы, покуда разоруженные галеры стояли на ремонте, я, как ни супил брови капитан Алатристе, провел в обществе Хайме и в удалых набегах на таверны и игорные дома, не пренебрегая и домами веселыми — впрочем, тут я все же усердствовал не слишком. И дело было не в том, что бывший мой хозяин лицемерил или был святее папы римского, — вот уж нет, совсем, как вы знаете, наоборот, однако азартные игры, досуха выдоившие столько солдатских кошельков, никогда его не привлекали. Что же касается иных увеселений, то мастерицы нескучного досуга, которых он иной раз посещал — хоть никогда не нуждался в покупном корме, ибо неизменно умел устроиться так, чтобы пощипать на тучных лугах сочную даровую травку, — были все наперечет и вполне надежны. Ну, зато, правда, Бахусову пороку предавался капитан так, словно вырвался из адского пекла, где истомился неутолимой жаждой. Но, хотя он нередко напивался допьяна, особенно в те дни, когда дух его был омрачен печалью или гневом, — тут, кстати сказать, делался он особенно опасен, ибо вино не притупляло его чувств и не влияло, сколько ни вливай, на твердость руки и проворство, — однако неизменно совершал это в полнейшем одиночестве и без свидетелей. И, я полагаю, побуждали его опорожнять одну бутылку за другой не столько приятные ощущения, сколько желание утопить в вине каких-то гнездящихся в душе и когтящих ее демонов, никому, кроме Господа нашего и самого капитана, не ведомых.
С первыми рассветными лучами наша галера бросила якорь у стен Мелильи, испанской крепости, отбитой у мавров сто тридцать лет назад, причем стала не в лагуне, а с внешней стороны, в бухточке, и не на якорь стали, а пришвартовались к берегу, и, короче говоря, сделав все, чтобы оказаться под защитой высоченных крепостных башен и стен. Внушительный облик города оказался, впрочем, совершенной мнимостью, в чем, покуда капитан Урдемалас уточнял стоимость пленных, убедились мы, пройдя вдоль стен и по узеньким улочкам, где не было ни единого деревца. Всюду чувствовались заброс и запустение. Восемь веков изнурительной борьбы с исламом умирали на этой убогой границе. Поток золота и серебра из Индий лился мимо, сюда не попадало ни грошика. Все уходило в лапы генуэзских банкиров, если не перехватывалось на штормовых торговых путях англичанами и голландцами — дай им Бог сдохнуть без покаяния! Ныне все августейшие помыслы устремлены были к Фландрии да Индиям, африканские же наши затеи, некогда столь милые сердцу великого императора Карла и наследовавших ему католических государей, утратили всякую привлекательность в глазах четвертого Филиппа и его фаворита, графа-герцога Оливареса, причем до такой степени утратили, что об этом сложена была даже язвительная сатира, распространявшаяся в списках без имени автора:
…Плевать, что втуне сгинут все усилья И черный час придет для христиан, Как только мавр оттяпает Оран, И за Сеутой вслед падет Мелилья, — Когда у андалузских берегов, К нам искони кипящих злобой дикой, Услышишь плеск турецкого весла — С кем станешь отбивать тогда врагов? Витиза нет средь нас, нет Родерика, А Юлианам подлым — нет числа[139].Но, хоть стихами говори, хоть прозой, дело было в том, что крепости на побережье Северной Африки держались просто чудом и спасала их скорее былая слава, нежели что-либо иное, и пираты, хоть и лишились из-за них доступа к некоторым портам и опорным пунктам, жили себе не тужили в Алжире, Тунисе, Сале, Триполи или в Бизерте. И запертые в этом каменном мешке, чьи казематы и бастионы ветшали и разрушались из-за того, что не на что было их восстанавливать, наши солдаты, в большинстве своем — израненные и покалеченные ветераны, давным-давно выслужившие себе отставку и покой, — вместе с семьями своими ходили оборванцами и влачили полуголодное существование — ибо тут не было и клочка земли, чтобы вырастить на ней что-нибудь, — со всех сторон окруженные врагами, а какая бы то ни было помощь могла прийти только с Полуострова, а до него, прикиньте, день — ну, может, чуть меньше — пути по морю. И придет она не вдруг: это зависит от состояния моря и от расторопности тех, кому в Испании по должности полагается помощь эту оказывать. Так что Мелилья, как и прочие наши африканские владения, включая Танжер и Сеуту, о которых португальцы с полным правом могли сказать: «Были наши — стали ваши»[140], рассчитывать могла только на отвагу своего гарнизона да на более-менее мирные отношения с сопредельными маврами, то выторговывая у них, то добывая силой необходимые припасы. Многое из всего этого я понял, обойдя город и поглядев на источники пресной воды, от которых зависела здесь вся жизнь. Побывал в лазарете, в церкви, в подземной галерее Санта-Ана и на том рыночке за крепостной стеной, куда из окрестных мавританских селений привозили на продажу мясо, рыбу, овощи: весьма, надо сказать, оживленное место, но — лишь до захода солнца, ибо перед тем, как на ночь закрывались городские ворота, Мелилью должны были покинуть все арабы, за исключением самых надежных и проверенных — те могли остаться и переночевать в местной тюрьме, под присмотром альгвазила. Его самого мне увидеть не довелось, потому что в этот же вечер «Мулатка», пока о нас не дали знать, потихоньку, на веслах, выбралась в открытое море, а там, пользуясь ветром с берега, двинулась на восток, так что рассвет застал нас уже на траверзе Чафариновых островов, на полпути к Орану, куда к вечеру следующего дня мы и прибыли без приключений, счастливо избежав неприятных встреч.
Оран — это, конечно, было нечто совсем другое, хотя место тоже далеко не райское. И этот город пребывал в бедственном состоянии, присущем, впрочем, всем испанским крепостям на африканском побережье, по причине скверного снабжения и ненадежных средств сообщений, и его равелины да бастионы тоже пребывали в забросе и небрежении. Разница была в том лишь, что не в пример Мелилье, скажем, где стены возвели на голом утесе, Оран был настоящим городом, благо рядом протекала река, так что воды было в изобилии, а где вода — там богатые урожаи с огородов и садов; гарнизон же его, хоть и не очень многочисленный — в ту пору насчитывал он тысячу триста солдат с семьями да еще полтысячи жителей, занимавшихся кто чем, — вполне мог отбить и нападение, и охоту повторять его. Так вот, короче говоря, если прочие испанские крепости были заброшены в небрежении, то судьба Орана была пусть и плачевна, но все же лучше, чем у других. Зримым доказательством тому служил караван груженных всяким припасом судов, вошедших в бухту Фалькон: там-то между грозным фортом Масальквивир и мысом Мона, под защитой пушек замка Сан-Грегорио, и расположилась Оранская гавань. Там наша галера, вернувшись к флотилии, чей ордер покинула, погнавшись за пиратом, и стала на рейде невдалеке от берега, рядом с вынесенной в море башней, а мы на катере добрались до суши и дальше пешком прошли примерно полулигу до города, с высоты нависавшего над побережьем и повторявшего все его изгибы, надвое разделенного рекой, по обоим берегам которой живописно раскинулись сады и рощи, белели ветряные мельницы.
Добрались, говорю, преисполненные радости оттого, что вновь ступили на твердую землю, да притом — не с пустым карманом, и пусть Оран в подметки не годился Неаполю, мог все же и он предоставить кое-какие увеселения. В избытке было там таверн, коими владели отставные солдаты, рынок, благодаря торговле с маврами, ломился от товаров, а доставленные нами с Полуострова зерно, порох и ткани сильно обрадовали местных. Город, хоть и был невелик, располагал каким-никаким, а все же публичным домом, ибо в отношении к подобным гарнизонам даже епископы и богословы, всласть подискутировав на эту тему, пришли к выводу, что следует покориться неизбежному, ибо сколько-то веселых девиц легким своим поведением не только облегчают тяготы несущих воинскую службу, но и оберегают непорочность барышень и честь замужних дам, поскольку сокращается число как изнасилований, так и дезертиров, отправляющихся в мавританские деревни утолить телесный голод. Об этом и толковали мы, солдаты и моряки, намереваясь первым долгом, подобным прохождению таможни и уплате въездных пошлин, посетить оранский бордель, когда произошла, лишний раз доказуя, что за каждым поворотом жизненного пути подстерегают нас большие неожиданности, совершенно непредвиденная, невероятная и отрадная встреча.
— Да чтоб меня повесили! Это сон или явь?! — произнес знакомый голос.
И повернувшийся к нам — руки в боки, шпага на поясе — караульный начальник, который в тенечке беседовал с солдатами у входа, оказался Себастьяном Копонсом собственной персоной — низкорослой, тощей и жилистой.
— Так вот все оно и было, — завершил он свой рассказ.
Мы выпивали втроем за столиком тесной и грязной таверны, под парусиновым, многажды штопанным навесом, защищавшим от солнца. Копонс, по своему обыкновению, потратил очень мало слов, живописуя свое житье-бытье за последние два года, ибо именно столько минуло с нашей последней встречи в андалузской, опять же, таверне, где мы распрощались с ним по окончании достославной истории с «Никлаасбергеном» и золотом короля, когда при участии еще нескольких молодцов перебили множество фламандцев и испанцев-наемников. И, как поведал нам Копонс, злое невезение спутало ему карты, не позволив исполнить похвальное намерение уволиться из армии, обзавестись в родном краю, под Уэской, клочком земли, домиком и женою. Некая провалившаяся затея в Севилье, смертоносный удар шпагой в Сарагосе — и вот уж замельтешили вокруг него альгвазилы, писцы, судьи, стряпчие и прочие паразиты, гнездящиеся в канцелярских делах, как клопы за обивкой, повели хоровод, опустошили его карманы, обобрали дочиста, так что снова пришлось топать в казарму зарабатывать на жизнь. Попытался уехать в Индии — ничего не получилось: там требовались не столько солдаты, сколько чиновники, священники и мастеровые, а когда он совсем уж было собрался завербоваться во Фландрию или в Италию, случилась новая драка в кабаке, итогом коей стали двое избитых стражников и перекрещенный клинком альгвазил, — и опять затрепыхался наш Копонс в тенетах правосудия. На этот раз денег у него не хватило даже на то, чтобы сделать слепую Фемиду хотя бы кривой, и счастье еще, что судья, оказавшийся из тех же краев, посочувствовал земляку и предложил на выбор: либо четыре года в каталажке, либо год — солдатом в Оране за полсотни реалов в месяц. Так он и попал сюда, а год нечувствительно обернулся полутора.
— А отчего же вы застряли-то? — брякнул я по неизбывной своей наивности.
Себастьян Копонс переглянулся с Диего Алатристе, словно говоря: «Душевный малец этот Иньиго, только совсем еще безмозглый», и тотчас разлил по кружкам вино, кислое и едкое, неведомой лозы, однако выбирать не приходилось: мы были в Африке, и жарища там, как и полагается, была — страшное дело, не приведи, Господи. А главное — мы выпивали втроем, впервые свидевшись после Руйтерской мельницы, Бреды, Терхейдена, Севильи и Санлукара.
— Начальство не отпускает.
— А кто ваше начальство?
— Его сиятельство маркиз де Велада, комендант крепости и начальник гарнизона.
И вслед за тем, потягивая вино, рассказал мне, что такое служба в Оране: скверно обеспечиваемые, еще хуже оплачиваемые люди гниют здесь, не надеясь на продвижение по службе да и вообще — ни на что, кроме как на то, что состарятся здесь, в одиночестве или в кругу семьи, если ею обзаведутся, и тогда признают негодным, а до тех пор ни рапорты, ни прошения, ни черт, ни дьявол не помогут. Прежде чем разрешат уползти на карачках домой, в Испанию, изволь-ка лет сорок тянуть здесь лямку, ибо вакансии заполнять некем, а солдаты, которых отправляют в Берберию, не успеют на сходни взойти, а уж норовят дезертировать. Полчасика погуляй по городу — и увидишь, до чего оборваны и истощены здешние люди: на каждую счастливую оказию урвать что-нибудь приходятся недели голодухи и нехватки всего на свете: провианта не привозят, не платят ни жалованья, ни боевых, ни полевых, ни за особые условия службы и вообще ничего не платят, хотя здешний солдат обходится казне дешевле любого другого: решил какой-то придворный финансист — а его королевское величество, видать, согласилось, — что если в наличии есть вода, сады-огороды и мавры по соседству, то войско само себя как-нибудь да прокормит, так что нечего на него деньги тратить. Беда в том, что давали солдатам какое-либо вспомоществование только в самом крайнем случае, так что вот и Себастьян Копонс, прослужив полных семнадцать месяцев, ни единого медного грошика из тех ста с чем-то эскудо, что причитались ему как старому солдату, знающему обращение с аркебузой и мушкетом, не получил. Единственное подспорье — набеги.
— Чего? — переспросил я.
Копонс, сощурив один глаз, взглянул на меня. За него ответил капитан Алатристе:
— Да-да, как во времена наших дедов. Снаряжаются, выходят и грабят поселения незамиренных мавров.
— Оран, — добавил Копонс, — это старая сводня, которая тем кормится и сыта бывает.
Я глядел на него, сбитый с толку:
— Не понимаю.
— Всему свое время, — ответил Себастьян Копонс.
И налил еще. Он был, как всегда, крепок, жилист, сух, но мне показалось — не то постарел, не то устал. И вот еще что: против обыкновения удивительно речист сегодня. Мне показалось, что в душе этого человека, у которого, подобно моему хозяину, слова с языка шли туго в отличие от шпаги, вылетавшей из ножен с легкостью неимоверной, скопилось за время, проведенное в Оране, слишком много такого, что теперь, под воздействием непредвиденной встречи со старыми друзьями, растопилось и хлынуло потоком. И я слушал в оба уха, поглядывая на него с ласковой приязнью. От жары он распахнул на груди грязный и залощенный замшевый колет, надетый прямо на голое тело — сорочки, как и прочего белья, Копонс не носил за отсутствием оного; заработанный на Руйтерской мельнице шрам тянулся к левому виску, пропадая в коротко остриженных волосах, где прибавилось белых нитей. И на плохо выбритом подбородке тоже посверкивала седая щетина.
— Ты объясни ему, кто такие незамиренные мавры, — сказал капитан.
И Себастьян объяснил. Арабы, обитавшие по соседству, делятся на три разряда — мирные, немирные и могатасы. Мирные ведут торговлю с испанцами, доставляя им продовольствие и все прочее. Платят нечто вроде податей, и пока платят, считаются друзьями. А с той минуты, как перестают, становятся врагами.
— Звучит устрашающе, — заметил я.
— Не только звучит. Заловят кого-нибудь из наших, перережут глотку или оттяпают все мужское достояние. А мы, когда поймаем, производим это с ними…
— А как вы отличаете мирных от немирных?
Капитан качнул головой:
— Да мы и не отличаем.
— Где уж нам, скудоумным… — вставил Себастьян Копонс.
Услышав эти слова, я призадумался над их зловещей подоплекой. Потом осведомился: кто же такие могатасы? А это те, ответствовал капитан, кто, не переходя в христианство, сражается на нашей стороне как испанские солдаты.
— И что же — им можно доверять?
Копонс скорчил гримасу:
— Можно… Не всем.
— Я бы вот вообще ни одному мавру не смог довериться.
Оба ветерана насмешливо воззрились на меня. Должно быть, я показался им непроходимым дурнем.
— В таком случае тебя ждет еще много открытий. Мавры, брат, — они разные бывают.
Мы спросили еще вина, и, как деготь, черная, как смерть, страшная кабатчица — особливо завлекательны у ней были босые ноги, но и все прочее не лучше — подала новый кувшин. Я пребывал в задумчивости, глядя, как Копонс наполняет мой стакан.
— А как узнать, можно доверять или нельзя?
— Поживи с мое, мальчуган. — Копонс дотронулся до кончика носа. — Нюхом начнешь чуять. И вот что я тебе еще скажу: христиан, приверженных пороку винопийства, я на своем веку повидал немало. А мавра — ни одного. Опять же, не в пример нам, грешным, они и в карты не садятся, даже если тузов в колоде сдать им столько же, сколько лет ихнему Магомету.
— Они слова не держат, — возразил я.
— Смотря кто и кому это слово дал. Вот когда изрубили в куски людей графа де Алькаудете, его могатасы остались ему верны и дрались до последнего… Потому я тебе и говорю: мавры — они разные.
И, покуда мы добирались до дна очередного кувшина разбавленного свыше всякой меры вина — дьявол бы его побрал вместе с той паскудой, что винную бочку спутала, видать, с крестильной купелью, — Копонс продолжал живописать нам оранское житье-бытье. Людей нехватка, страшеннейшую убыль восполнять некем, повествовал он, ни одна тварь своей волей в Африку отправляться не желает, все знают: попадешь сюда — век не выберешься, завязнешь намертво. Потому и не хватает в гарнизоне четырехсот человек до списочного состава, а с Пиренеев если кого и доставляют, то либо исключительный сброд и отребье, отпетую каторжанскую сволочь, пробы ставить негде, галеры по ним плачут, либо новобранных олухов, которым в их развешанные уши напели, с три короба наплели, вот как прибывшему прошлой осенью пополнению в сорок два человека, что служить будут в Италии, а в Картахене погрузили на корабль да привезли в Оран, позабыв спросить их на то согласия, причем троицу самых артачливых пришлось повесить, прочими же доукомплектовали здешние части. Ничего не попишешь: дернула нелегкая — неси тяготы. Так что недаром и неслучайно, в добавление к поговорке «поставить копье во Фландрии», что означает трудность немыслимую, задачу невыполнимую, вроде как «луну достать с неба», добавилось еще и речение «доставить сто копий в Оран». Не с ветру оно взято, ох не с ветру.
— Так и живем… Драные, рваные, голые-босые и впроголодь. Отчаяться впору. — Копонс чуть понизил голос: — Дивиться ли, что те, кому уж совсем невмоготу и невтерпеж, кого допекло превыше сил человеческих, передаются маврам? Помнишь, Диего, бискайца Индураина?.. Ну он еще при Флерюсе оборонял хутор с Утрерой, Барреной и прочими… Один только и уцелел тогда… Он да еще трубач. Помнишь, нет?
Капитан кивнул.
— И что же сталось с этим бискайцем Индураином? — поинтересовался я.
Копонс оглядел свой стакан, сплюнул, немного скобочившись, под стол и перевел взгляд на меня:
— Что сталось? Он прокуковал здесь полных пять лет, а платы не получил и за три года. Тому назад будет два месяца, как повздорил с сержантом, сунул ему нож под ребро, а ночью ушел из-под стражи вместе с приятелем, которого от большого ума приставили к нему часовым. Перелезли через стену и смылись. Слышал, будто они добрались с большими мытарствами до Мостагана и там приняли турецкую веру. Так ли, нет, не знаю…
Алатристе и Копонс переглянулись понимающе. И потом я увидел, что мой хозяин омочил в вине усы, пожал плечами, как бы приемля смиренно и безропотно все, что судьба выкатила на долю и ему, и другу его Копонсу, и прочим, и всем, и злосчастной их Испании. Теперь я понял наконец прикровенный смысл четверостишия, слышанного мною года за два до сего дня в одном из мадридских театров и, помнится, сильно меня тогда возмутившего:
Сбежим отсюда да поищем, куда бы приклонить главу: невместно быть герою — нищим, противно это естеству!— Нет, — неожиданно сказал капитан Копонсу, — ты представь, как Индураин расстилает коврик, поворачивается лицом к Мекке и творит намаз.
И криво усмехнулся. Арагонец бегло и скупо улыбнулся в ответ, явно имея в виду то же, что и Алатристе. Веселости в этом было, надо сказать, негусто, в отличие от скепсиса, столь присущего старым солдатам, которые с полным правом могли бы сказать: «Мы так долго ходим строем, что иллюзий уж не строим».
— Но, знаешь ли, тем не менее, — сказал Копонс. — Как ударят в барабан — все тут как тут.
Святые слова, и время снова и снова подтверждало их правоту. Сколь ни велики были заброс, нищета и небрежение, в коих пребывали земли Северной Африки, но когда доходило до дела, руки для защиты их отыскивались почти неизменно. Люди сражались не для денег, не славы ради, да, кстати, на подкрепление тоже не больно-то рассчитывая — но движимые только отчаянием, гордыней и заботой о сложившемся в веках мнении, иначе именуемом репутация. Сражались, дабы умереть стоя, а не в неволе сдохнуть: поверьте, я знаю, о чем говорю, а достанет вам терпения дочитать мою меморию — и вы узнаете. Как бы то ни было, люди определенного сорта утешаются в смертный час мыслью, что жизнь они продали дорого. Для нас, для испанцев, это не вчера началось и не завтра кончится, и продолжаться будет, пока бо́льшая часть этих земель, Богом, а тем паче — королем забытых, не перейдет в руки турок или мавров. Так еще в прошлом веке произошло и в Алжире, когда Хайр-ад-Дин Барбаросса штурмовал запиравшую выход в порт крепость на скалах с гарнизоном в полторы сотни наших солдат, которые ждали, да так и не дождались помощи от Испании, бросившей их на произвол судьбы — по причине, как указал хронист Пруденсио де Сандоваль, «иных тяжких и многообразных забот, занимавших в ту пору помыслы нашего императора», — но тем не менее отбивались отчаянно, так что когда турки, шестнадцать дней кряду крушившие редут из пушек, ворвались в укрепление, где уже камня на камне не оставалось, то обнаружили там лишь полсотни бойцов, поголовно раненных или покалеченных, во главе с их капитаном Мартином де Варгасом, которого Барбаросса, придя в ярость от такого упорного сопротивления, приказал посадить на кол. И спустя несколько лет после описанных здесь событий свирепый натиск двадцатитысячного войска довелось испытать на себе и гарнизону крепости Лараче — полутораста солдатам да полусотне инвалидов: они дрались, будто бесами обуянные, обороняя пространство в шесть тысяч шагов. И Оран весьма достойно выдержал несколько осад и приступов, среди коих один вдохновил дона Мигеля де Сервантеса сочинить комедию «Неустрашимый испанец». Ему же, дону Мигелю то есть, не зря сражавшемуся при Лепанто, обязаны мы двумя прекрасными сонетами, написанными в память тех тысяч солдат, что пали смертью храбрых, оставленные своим королем умирать, как повелось и сейчас еще ведется в нашей истории и сделалось самым что ни на есть испанским обыкновением. Стихи эти, включенные в «Дон Кихота», вспоминают защитников прикрывавшего Тунис форта Ла-Голета, которые, противостоя двадцати пяти тысячам турок, отбили двадцать два штурма, так что из той горсточки уцелевших не нашлось ни одного, кто не был бы ранен. «Вам не отвага — силы изменили», — говорится в первом сонете. Второй же звучит так:
На сей земле израненной, бесплоднойГде в прах была повержена твердыня, Три тысячи солдат легли, и в синиСтремят их души свой полет свободный. Сперва они стеной стояли плотной, Их тщился выбить враг в своей гордыне. Но руки слабли, ряд редел, и ныне Лёг под мечами строй их благородный[141].Но, как уже было сказано, жертвы оказались напрасны. После битвы при Лепанто, знаменовавшей собой наивысшую точку в противостоянии двух великих средиземноморских держав, Турция обратилась к своим интересам в Персии и на восточной оконечности Европы, а наши короли — ко Фландрии и к атлантическим затеям. Столь же мало внимания уделял Африке и четвертый Филипп, нынешний наш государь, беря в сем небрежении пример со своего первого министра графа-герцога Оливареса, который сам терпеть не мог портов и галер, на палубу ни одной из коих он во всю жизнь не вступил, уверяя, будто от тамошней вони у него разыгрывается мигрень, морское же дело презирал, считая, что занятие это, низменное и заурядное, пристало одним голландцам — если только речь шла не о доставке из Индий золота, без которого не много навоюешь. И вот потому-то, благодаря королям да фаворитам, Средиземноморье, позабыв времена, когда его бороздили крупные корсарские флота, а две империи разыгрывали на его просторах мудреные шахматные партии, превратилось не в поле, так в море деятельности мелких каперов из прибрежных стран, каковая деятельность, хоть от нее кто-то менял бедность на богатство, а порою — и жизнь на смерть, уже не заставляла сердце Истории биться чаще. И теперь, когда минуло уж больше века с наивысшего взлета христианской Реконкисты, ведя которую на протяжении восьмисот лет, мы, испанцы, создавали самих себя, когда решено было отказаться от проводимой кардиналом Сиснеросом и старым герцогом де Медина-Сидония политики контрударов по исламу, уже и к Африке утратила интерес наша держава, оказавшаяся на ножах чуть ли не с целым светом. Форты и крепости в Берберии были ныне если не символами, то уж и не больше чем дозорными вышками и нужны были исключительно, чтобы держать в узде корсаров вкупе с Францией, Голландией и Англией и не дать им обосноваться на этом побережье, чтобы с него отправляться на перехват наших галеонов, идущих в Кадис. Вот и не давали мы им потачки и воли, которую давно уже обрели они в корсарских республиках на Карибском архипелаге благодаря консулам своим и коммерсантам. Ну и чтоб покончить с этим предметом, осталось мне добавить лишь, что спустя два-три года Танжер на два десятилетия стал собственностью британской короны, с толком и выгодой для себя воспользовавшейся возмущением в Португалии, и что уже в следующем, 1628 году при осаде Ла-Маморы именно английские саперы учили мавров и траншеи копать, и мины подводить. Дело известное, недаром же говорится: рыбак к рыбаку приплывет на боку — или как там?
Затем решили мы прогуляться. Копонс повел нас по узеньким улочкам, стиснутым с обеих сторон каменными, оштукатуренными стенами домов, немного напоминавших толедские с той лишь разницей, что здесь кровли были плоские и крыты не черепицей, а немногочисленные подслеповатые окна не ставнями закрывались, а завешивались циновками. От влажности, порожденной близким соседством моря, штукатурка лупилась и обваливалась кусками, от чего вид делался совсем неприглядный. Добавьте рои мух, полощущееся на веревках белье, оборванных детей, игравших в патио, инвалидов, что, сидя на ступеньках или скамейках, провожали нас любопытствующими взглядами, — и вы получите верное представление о том, каким показался мне Оран. На каждом шагу веяло здесь военным духом, да и как же иначе: город являл собою одну огромную казарму, населенную солдатами и их семьями. Впрочем, я смог убедиться, что на довольно обширном пространстве, огороженном крепостными стенами и располагавшемся на нескольких уровнях, как бы уступами, имелось также изрядное количество разного рода присутственных мест, равно как и булочных, мясных лавок и таверн. Цитадель, или крепость в крепости, где находилась резиденция губернатора и гарнизонного начальства, выстроена была еще маврами — иные уверяли, что и вовсе римлянами, — и выстроена прочно и крепко, с умом и размахом. Были в городе также казарма, солдатский лазарет, еврейский квартал — к моему удивлению, здесь еще не повывелись евреи, — монастыри францисканский, доминиканский и мерседарианский[142], в восточной части — несколько превращенных в церкви старинных мечетей, из коих одна выделялась размерами и по воле кардинала Сиснероса, некогда завоевавшего Оран, сделалась кафедральным собором Пресвятой Девы Победу Дарующей. И повсюду, здесь и там, на улицах, на тесных убогих площадях, под парусиновыми навесами или в тени подворотен виднелись неподвижные фигуры: безучастно и отчужденно сидели, прислонив к стене костыли, погруженные в свои мысли мужчины, среди которых много было старых солдат — кто без руки, кто без ноги, но все одинаково оборванные и покрытые рубцами да шрамами. Я вспомнил о неведомом мне бискайце Индураине, что зарезал сержанта, а потом ночью спустился по крепостной стене, предпочтя совершить измену, нежели оставаться здесь долее, — и поневоле опечалился.
— Ну как тебе нравится Оран? — спросил меня Копонс.
— Сонное царство какое-то, — отвечал я. — И люди здесь какие-то снулые и расслабленные.
Арагонец кивнул. Провел ладонью по лицу, утирая пот.
— Да, они встрепенутся, если мавры наскочат или, наоборот, — если будет готовиться набег. На человека поистине чудотворное действие оказывают нож у горла или звон в кармане… — Тут он полуобернулся к Алатристе. — Короче говоря, вы прибыли вовремя. Что-то явно затевается.
В светлых глазах капитана, отражавших из-под надвинутой шляпы слепящий блеск улицы, мелькнула искра интереса. В эту минуту мы как раз приблизились к арке Пуэрта-де-Тремесен, то есть оказались в дальней от моря части города. Несколько оборванных каменщиков — испанцев-арестантов и мавров-невольников — тщились укрепить покосившуюся и грозящую рухнуть стену. Копонс поздоровался с одним из часовых, сидевших в тенечке, и мы выбрались за ворота, от которых Ифре — ближайший городок мирных мавров — отстоял на два аркебузных выстрела. Здесь все было в еще более плачевном виде: каменные плиты поросли буйным кустарником, стена во многих местах была разрушена, караульная будка лишилась крыши и разваливалась, гнилое дерево подъемного моста, перекинутого через узкий ров, который едва ли не доверху был завален всякой дрянью и мусором, угрожающе потрескивало у нас под ногами. Просто чудо, подумал я, что отсюда еще умудряются отражать врага.
— Набег? — спросил Алатристе.
Копонс скорчил гримасу, долженствовавшую означать: «Весьма вероятно».
— Куда?
— Не говорят. Но мне думается — вон туда. — Арагонец показал на уходящую к югу Тремесенскую дорогу, петлявшую в садах. — Там несколько бедуинских поселений… Ходят слухи, что на них и ударим, угоним скот, возьмем пленных, а за них — выкуп. Будет чем разжиться.
— Мавры-то немирные?
— Нет, так будут.
После этих слов я уставился на Копонса, немало, признаться, удивленный ими. И попросил подробнее объяснить механику предприятия, именуемого «набег».
— Помнишь Фландрию? Нечто вроде этого: выходим ночью, идем быстро, а чуть рассветет, орем: «Испания и Сантьяго!» Больше чем на восемь лиг от Орана не удаляемся.
— Стрельба-пальба?
Копонс качнул головой:
— Почти нет. Чтобы пороха не тратить, режемся, что называется, грудь в грудь. Если становище поблизости, забираем скот и пленных. Если подальше — одних людей и все мало-мальски ценное. Потом возвращаемся за стену, подсчитываем, на сколько потянет добыча, продаем, а выручку делим поровну.
— И что же — есть что делить?
— Как когда. Если приводим невольников, можно заработать эскудо четыреста, а то и поболе. Миловидная бабенка детородного возраста, дюжий негр или молодой мавр дают в общий котел по тридцать реалов с носа. Детишки, если здоровые, — по десять. Последний набег сильно скрасил нам жизнь. Мне, к примеру, досталось восемьдесят эскудо чистыми — половина моего годового жалованья.
— Вот потому тебе король и не платит, — сказал я.
— Нет, не потому… От каменного падре дождись железной просфоры…
В это время мы шли уже берегом реки — ухоженным, обсаженным фруктовыми деревьями; вдалеке виднелись ветряные мельницы и нории[143]. Попавшиеся навстречу нам старик-мавр и с ним мальчишка — оба в изношенной и обтрепанной одежонке — несли за спиной корзины, доверху наполненные овощами и зеленью. Я невольно восхитился тем, какой дивный вид открывался отсюда: зеленые возделанные поля, простершиеся между рекой и городскими стенами, Оран с вознесенной на крутом склоне цитаделью, а далеко внизу — развернувшееся синим веером море.
— Без таких вылазок да без урожая с этих садов-огородов мы бы долго не протянули, — заметил Копонс. — Пока не пришла ваша галера, мы четыре месяца кряду получали по фанеге[144] зерна в месяц и по шестнадцати реалов пособия каждому семейному солдату. Сами небось видели, какими оборванцами тут люди ходят… Старый фламандский трюк, а, Диего? Вам надобно денег? Милости просим на приступ вон того форта: возьмете — все ваше… С Богом, ура! Там были еретики-голландцы, тут мавры — королю это без разницы.
— А королевскую пятину берут? — полюбопытствовал я.
— А как же! — ответствовал Копонс. — Королю долю его отдай и не греши. И сеньор губернатор своего не упустит — выберет себе лучших невольников или целое семейство вождя того племени, что жило в разоренной деревне. Остальное разделят между солдатами и офицерами сообразно жалованью и чину. Включая и тех, кто на вылазку не ходил, а сидел в крепости… Ну и святую нашу матерь-церковь не позабудь.
— Как? Пресвятые отцы тоже военной добычей не брезгуют?
— Еще бы им брезговать… Здесь набегами кормятся все решительно, ибо даже ремесленники и купцы внакладе не остаются: арабы приходят к ним выкупать свою родню за деньги или за товар. После каждого удачного дела весь город — одна базарная площадь в торговый день.
Мы остановились у дощатого сооружения, крытого пальмовыми листьями, — караульной будки, где по ночам прятались от холода часовые у моста, который связывал город со всеми его пригородами и огородами и форты — Росалькасар, стоявший на другой стороне реки Гуааран, и Сан-Фелипе, находившийся чуть подальше. Первый, поведал нам Копонс, совсем уже почти развалился, а во втором ведутся беспрестанные работы, и конца им не видно. И крепости, некогда составлявшие славу Орана, ныне стали едва ли не чистой мнимостью, и самый город для защиты своей располагает всего лишь древней стеной, а больше ничего и нет — ни рва, ни частокола, ни подземного хода, ни поперечного прикрытия, сиречь траверса, ни хоть самого завалящего равелина. В общем, как сказал не помню кто, не беда, что стены тонки, — зато кишка не тонка. Что-то в этом роде.
— Нам тоже можно будет пойти? — спросил я.
Копонс посмотрел на меня, на капитана, опять на меня, а потом с видом полнейшего безразличия осведомился:
— И далеко ль собрался?
Я и взгляд его не моргая выдержал, и сам держаться постарался молодцевато, как подобает солдату, ответив с большим хладнокровием:
— Куда ж еще, как не с вашей милостью на вылазку?
Оба ветерана снова переглянулись, а Копонс в раздумье поскреб загривок.
— Как ты полагаешь, Диего?
Мой бывший хозяин глядел на меня изучающе и задумчиво. Потом, не отводя глаз, пожал плечами:
— Деньги лишними не бывают.
Копонс, всецело разделяя это мнение, заметил, однако, что есть одна сложность: на подобные вылазки в едином порыве рвется весь гарнизон.
— Впрочем, — добавил он, — когда приходят галеры, берут людей и с них. Подкрепление. Так что момент для вас благоприятен. У нас многие маются от лихорадки, слегли в лазарет или так ноги еле таскают от здешней солончаковой воды — она хоть и в изобилии, да для питья непригодна. В общем, потолкую с Бискарруэсом, благо земляк и тоже воевал во Фландрии. Только язык — за зубами, никому ни слова.
Говоря это, он смотрел не на Алатристе, а на меня. Я не отвел глаза, постаравшись, чтобы он прочел во взгляде моем оскорбленное самолюбие и упрек. Копонс слишком давно и хорошо знал меня и мог бы обойтись без этого предупреждения. Арагонец понял ход моих раздраженных мыслей и на мгновение призадумался. Потом, обернувшись к Алатристе, пробурчал:
— Подрос щеночек-то. Клычки не шатаются…
Потом снова окинул меня взглядом с ног до головы, задержался на пальцах за ременным поясом, оттянутым слева шпагой, справа — кинжалом. Я услышал, как за спиной вздохнул капитан, и в этом вздохе мне почудилась легкая насмешка, смешанная с толикой досады.
— Ох, Себастьян, ты его еще не знаешь.
III. Вылазка в Уад-Беррух
Издали донесся собачий лай. Диего Алатристе, ничком лежавший на земле меж кустов, проснулся, повинуясь безошибочному чутью старого солдата, поднял голову, уткнутую в скрещенные руки, открыл глаза. Спал он недолго: может, всего несколько секунд, однако среди прочих солдатских навыков, въевшихся в плоть и кровь, числил он и умение спать где придется и сколько доведется. Ибо люди его ремесла редко могут сказать наверное, когда им в следующий раз выпадет минутка всхрапнуть, поесть или выпить. Или, наоборот, облегчиться. Вокруг, на склоне, среди неподвижных и безмолвных фигур несколько солдат именно этим и занимались, зная, вероятно, как рискованно получить пулю или клинок в брюхо, если брюхо это — полное. И Алатристе, расстегнув штаны, не замедлил последовать их примеру. «Запомните, господа солдаты, на пустой желудок драться лучше», — наставлял их некогда один из первых его сержантов, дон Франсиско дель Арко, впоследствии убитый в двух шагах от Алатристе в дюнах Ньюпорта: с дель Арко капитан, в ту пору едва достигший пятнадцати лет, ходил в конце прошлого века на голландцев и на французов, брал и грабил Амьен, что удалось на славу — вдосталь хлебнуть лиха пришлось потом, попозже, когда французы почти на семь месяцев взяли город в правильную осаду.
…Делая свое дело, он задрал голову кверху. Кое-где еще посверкивали звезды, по небу на востоке уже разливался сероватый свет зари, но голые вершины холмов по-прежнему держали во тьме — такой, что хоть глаз выколи — шатры бедуинского становища в просторной долине, отстоявшей от Орана на пять лиг: проводники называли ее Уад-Беррух. Алатристе, затянув пояс со всей амуницией, застегнувшись, снова улегся на землю. Днем, когда африканское солнце устроит свое обычное пекло, он взмокнет в толстом колете, но сейчас он — как нельзя более кстати, потому что ночи здесь, черт бы их драл, несусветно, невыносимо холодные. Пригодится и старый нагрудник из буйволовой кожи. Рукопашная — она рукопашная и есть, независимо от того, с кем режешься — с турками, маврами или еретиками-лютеранами. Вот они, памятные знаки этих встреч: на лбу, на брови, на руке, на ноге, на бедре, на спине — и как только все на теле-то уместились? — общим числом девять, если считать след от аркебузной пули, а вместе с ожогом на предплечье — то и все десять.
— Разбрехалась, проклятая тварь, — пробормотал кто-то из лежавших поблизости.
В отдалении вновь залаяла собака. И ей тут же отозвалась другая. Скверно, подумал Алатристе, если это они не просто так, а учуяли солдат и сейчас перебудят обитателей становища. К этому часу отряд, заходящий с противоположной стороны долины, уже должен занять позицию, спешившись и оставив лошадей, чтоб, не дай бог, ржанием своим не помешали нападению врасплох. Там — человек двести, и тут — примерно столько же да еще полсотни могатасов: более чем достаточно, чтобы обрушиться на спящих и ничего не подозревающих кочевников, которых вместе с женщинами, детьми и стариками всего-то три сотни.
Все это Алатристе днем рассказали в Оране, а прочие подробности он узнал во время ночного шестичасового перехода, когда с разведчиками-могатасами впереди люди и лошади сторожко двигались во тьме по Тремесенской дороге: сперва строем, а после — россыпью, сначала — берегом реки, а потом, оставив позади лагуну, отшельничий скит, в здешних краях называемый морабитом, колодец и равнину, обогнули холмы с востока, прежде чем разделиться на две партии и залечь в ожидании рассвета. Ну так вот: обосновавшиеся здесь арабы из племени бени-гурриарана, земледельцы и пастухи, считались мирными маврами, которых испанский гарнизон обязывался защищать от враждебных племен при том условии, что они ежегодно в установленный срок будут доставлять в город определенные количества зерна и сколько-то голов скота. О прошлом годе, однако, они и припоздали, и недопоставили — по сию пору остались должны еще примерно треть оговоренного, — но поклялись всем святым, что в возмещение недоимок пригонят скотину не весной, а сейчас. Обязательства свои так и не выполнили и, по слухам, намеревались сняться и перекочевать куда-нибудь подальше от Уад-Берруха, в такое место, где испанцы не достанут.
— Вот мы их и поздравим с добрым утром, прежде чем они смоются, — сказал, помнится, главный сержант Бискарруэс.
Человек этот, арагонец родом, вояка по ремеслу и склонности души, пользовался доверием губернатора Орана и был самым что ни на есть образцом нашего африканского воинства: этакий кремень, лицо будто выдублено солнцем, пылью, пуще же всего — самой жизнью, которую вел он в беспрестанных боях сначала во Фландрии, а потом — в Африке, где за спиной у тебя море, до короля далеко, до Бога высоко, тем паче что Он, по всему судя, развлечен иной какой-то докукой, зато до мавров рукой подать, — особенно если в руке этой шпага. Под началом у него служили люди, которым, кроме как на добычу, надеяться было не на что: отпетые висельники, отъявленные головорезы, опасный каторжанский сброд, в любую минуту готовый дезертировать, взбунтоваться или устроить поножовщину, — и он умудрялся держать их в узде. Словом, был он крутенек, но не спесив, а продажен не более, нежели все прочие. Так описал его Себастьян Копонс перед тем, как на исходе первого нашего дня в Оране отправиться к Бискарруэсу. Мы нашли его в одном из казематов цитадели, перед картой, расстеленной на столе и придавленной по углам кувшином вина, свечой в шандале, кинжалом и пистолетом. Здесь же находились еще двое: высокий мавр в белом бурнусе и некто смуглый, носатый, худосочный, с подстриженной бородкой — этот был в испанском платье.
— Прошу разрешения, сеньор главный сержант… Позвольте представить вам — мой друг Диего Алатристе, старый солдат, воевал во Фландрии, сейчас — в неаполитанском галерном флоте… Диего, это дон Лоренсо Бискарруэс. А это — Мустафа Чауни, командир могатасов, и наш переводчик Арон Кансино.
— Во Фландрии был? — Главный сержант поглядел на капитана с интересом. — И где же именно? В Амьене? Или в Остенде?
— И там, и там.
— Сыро. У проклятых еретиков, я разумею. Здесь-то месяцами ни капельки с неба не упадет.
Они поговорили еще немного, вспоминая общих знакомцев — живых и убитых, — после чего Копонс изложил дело и получил разрешение Бискарруэса. Капитан же тем временем рассматривал всех троих. Могатас был из племени улад-галеб, три поколения которого верно служили Испании, и наделен всеми его особенностями: темнолицый и седобородый, он носил мягкие туфли на манер комнатных, ятаган у пояса и, оставляя по мавританскому обычаю лишь одну длинную прядь на темени, наголо брил голову — на тот случай, если враг отрубит ее да захочет унести как трофей: чтоб не совал пальцы в рот или в глаза. Он командовал полутора сотнями воинов из числа своих соплеменников или сородичей — одно подразумевает другое, — обитавших вместе с женами и детьми в городке Ифре и окрестных селениях и дравшихся — при том, разумеется, условии, что заплатят или выделят долю в добыче, — под знаменами с крестом святого Андрея так доблестно и свирепо, что им позавидовали бы многие подданные и единоверцы его католического величества. Что же до второго, то Алатристе не удивило, что в городе обязанности переводчика исполняет иудей, ибо, хоть племя это из пределов Испании было давным-давно изгнано, в анклавах на севере Африки присутствие его приходилось терпеть по причинам, проистекающим из интересов торговых, финансовых, а также и от преобладания арабского языка. Как узнал я впоследствии, все в роду Кансино — одного из двадцати примерно семейств, населявших еврейский квартал, — с середины прошлого столетия служили доверенными драгоманами и, умудряясь исполнять Моисеев закон — Оран был единственным городом, где еще сохранилась синагога, — соединяли отличные дарования с верностью королю, а потому губернаторы к ним благоволили, отличали их и награждали, передавая должность сию от отца к сыну. Да и немудрено — поскольку речь шла не только о превосходном знании нескольких мавританских наречий, турецкого языка, ну и, разумеется, своего собственного, но также и о шпионстве, благо все иудейские общины Берберии связаны были меж собой весьма тесно. Снисходительно относиться к иудеям побуждал также и блеск их коммерческих дарований, нимало не потускневший за годы и века тяжких гонений и позволявший сынам Израилевым в годы тощих коров ссужать оранских правителей деньгами или зерном. Прибавьте к сему и их роль в работорговле: с одной стороны, они посредничали в выкупе невольников, с другой — сами были хозяевами большей части продаваемых в Оране турок и мавров. В конце концов, молишься ли ты Приснодеве, Магомету или Моисею, иудей ли ты, испанец или мавр — серебро, откуда бы оно к тебе ни прикатилось, звенит одинаково, а дело есть дело. «Дивной мощью наделен дон Дублон», как метко подметил дон Франсиско де Кеведо. Аминь.
Вдалеке вновь раздался лай, и Алатристе погладил рукоять на совесть смазанного пистолета за поясом. Может, и лучше будет, подумалось капитану, если пес не уймется и добьется того, что мавры — ну или хоть сколькие-то из них, — повскакав с постелей, схватятся за свои ятаганы в тот миг, когда Бискарруэс отдаст приказ к атаке. Резать спящих и сонных, чтобы потом угнать их скотину, увести в рабство их жен и детей, — самое, конечно, милое дело: оно, конечно, и легче, и проще, нежели драться с бодрствующим противником, но, Господи, никакого вина не хватит, чтобы потом вымылась из памяти эта кровь.
— Приготовиться.
Приказ передавался по цепочке, из уст в уста и, приближаясь ко мне, звучал все громче. Когда дошло до меня, я повторил его, и словечко покатилось дальше, постепенно затихая среди распластанных на земле фигур, покуда не смолкло, словно замершее где-то в бесконечности эхо. Я облизнул растрескавшиеся губы и тотчас же стиснул челюсти, чтобы не клацать зубами от стужи. Потом затянул ремни альпаргат, размотал тряпье, которым во избежание неуместного шума обвернуто было мое оружие — шпага и короткое копьецо, — и огляделся. В предутренних сумерках не разглядеть было капитана Алатристе, но я знал, что он залег, как и все остальные, где-то неподалеку. А совсем рядом со мной пристроился Себастьян Копонс, обратившийся в темный, неподвижный бугорок, от которого несло по́том, насаленной кожей амуничных ремней и сталью, обильно смазанной ружейным маслом. Вокруг виднелось еще несколько таких же фигур — лежавших кучками или поодиночке среди мастиковых деревьев, кактусов и чертополоха.
— Два раза подряд «Символ веры…» — и пойдем, — снова передали по цепи.
И кое-кто сейчас же принялся бормотать молитву — то ли от избытка набожности, то ли чтобы засечь время. И я услышал, как вокруг меня, вразнобой, на все лады зазвучали в полутьме приглушенные голоса с бискайским, астурийским, андалузским, валенсианским, кастильским выговором, ибо мы, испанцы, сообща только убиваем, а молится каждый наособицу: «Credo in unum Deum, partem omnipotentem, factorem caeli et terrae…» Услышал, разумеется, не впервые, но меня, как всегда, позабавило это благочестивое бормотание, долженствовавшее послужить прелюдией к побоищу; и все эти люди, твердя священные слова, молили Бога о том, чтобы вывел из боя живым, помог добыть золота и рабов, сподобил вернуться в Оран и в Испанию на своих ногах, да с богатой добычей, да чтоб на обратном пути не оказалось врагов поблизости, ибо все превосходно знали — а Копонс и Алатристе особенно настойчиво растолковывали это: ничего на свете нет хуже, чем после схватки с маврами на их земле возвращаться к себе по этим скалистым отрогам, под безжалостным солнцем, когда воды нет вовсе или когда каждый глоток ее обходится тебе в кварту собственной крови; чем обнаружить за собой погоню; чем, отстав от своих, раненым попасть в руки к маврам, а уж они с большим искусством сделают так, чтобы ты умирал подольше, и времени на то не пожалеют. Может быть, именно поэтому слышалось сейчас вокруг это бормотание: «Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero…» Вскоре уж и сам я незаметно для себя принялся повторять эти слова — сперва бездумно, как мурлычут какую-нибудь назойливо привязавшуюся старинную канцонетту, но потом проникся смыслом и стал молиться с самым искренним жаром: «Et exspecto ressurectionem mortuorum et vitam venturi saeculi, amen»[145].
— Сантьяго! Сантьяго и Испания! Пошли! Пошли!
Так завывал теперь этот голос, пресекаемый отрывистыми сигналами горна, и люди, подхватившись, побежали вперед меж кустов, вздымая над собою знамя короля. Я тоже вскочил и бросился со всеми вместе, слыша, как на другом краю становища гремят аркебузы, вспышками выстрелов озаряя тьму — черную полосу под небом, где на синевато-сером все ярче проступал багрянец.
— Испания! Вперед! Вперед!
Бежать по песчаному руслу пересохшего ручья было трудно, и, когда я добрался до противоположного края, где в загоне, огороженном колючими ветками, стояла скотина, ноги у меня будто свинцом налились. О черт! Теперь и с нашей стороны грянули аркебузы, а тем временем мои товарищи, чьи силуэты из неразличимо-черных сделались серыми, так что можно было теперь узнать друг друга, волной нахлынули в пространство среди шатров становища — там мелькали фигурки бедуинов: одни пытались сопротивляться, другие убегали. И боевой клич испанцев и могатасов тонул в топоте вылетевшей с другого конца деревни конницы, в истошных воплях женщин и детей, которые в ужасе выскакивали из шатров и метались среди одурелых со сна мужчин, а те тщились защитить их, отбивались, гибли. Я увидел, как рассыпает удары шпагой Себастьян Копонс, и с ним — еще несколько наших, и поспешил к ним, выставив свое копьецо, которого, впрочем, тут же и лишился, ибо первым же ударом завязил острие в груди полуголого бородача с ятаганом в руке. Он рухнул к моим ногам, даже не вскрикнув, и я не успел еще высвободить оружие, как из шатра выскочил другой мавр — помоложе первого, да, пожалуй, и меня, — и, занося кривой ханджар, кинулся ко мне с такой яростью, что придись хотя бы один из его ударов куда нужно, я без промедления бы отправился к Богу в рай — ну или к черту в зубы, — а жители Оньяте недосчитались бы одного из своих земляков. Я отпрянул, на ходу вытаскивая саблю — отличную, кстати, саблю: широкую, короткую, незаменимую для абордажных боев, — и, с нею в руке почувствовав себя гораздо увереннее, обернулся к противнику. Первым ударом я наполовину отсек ему нос, вторым — отрубил пальцы. Третьим — когда паренек уже валялся на земле — прикончил, тупеём тяжелого лезвия перебив ему гортань. Потом осторожно просунул голову за полог шатра и увидел в углу сбившихся кучей и пронзительно вопящих женщин, заходящихся криком младенцев. Задернул полог, повернулся и двинулся дальше.
Готов! Диего Алатристе, упершись ногой в грудь заколотого мавра, высвободил клинок и огляделся. Арабы почти прекратили сопротивление, и нападавшие большей частью занялись грабежом с усердием и рвением, которое и англичанам сделало бы честь. Кое-где слышались еще выстрелы, но крики ярости и отчаяния сменились стонами раненых, жалобными причитаниями пленных и жужжанием ошалевших от восторга мух, неисчислимыми полчищами роящихся над лужами крови. Солдаты и могатасы выволакивали из шатров женщин, детей и стариков, сбивали их в нестройную толпу, понукая и пихая, как скотину, меж тем как другие собирали все мало-мальски ценное и готовились перегонять скотину истинную. Мавританки — дети сидели у них на руках или цеплялись за юбки — пронзительно вопили, царапали себе лицо над телами своих мужей, отцов, братьев и сыновей, а одна, обезумев от горя, кидалась на солдат, покуда ее не отогнали пинками. В стороне под дулами аркебуз и наставленными копьями в испуге и смятении стояли мужчины — покрытые пылью, вымазанные кровью, избитые, раненные. Тех немногих, кто попытался было сохранять достоинство, победители бесцеремонно хлестали по щекам, расплачиваясь звонкими оплеухами — тут главенствовал неписаный закон не убивать то, что денег стоит, — за смерть полудюжины солдат, павших в схватке. И при виде этого капитан Алатристе поморщился, ибо всегда считал, что надо убить — убей, а унижать человека незачем, особенно на глазах у его родни и друзей. Однако подобная щепетильность в ту пору если и встречалась, то крайне редко. Он отвернулся и с беспокойством оглядел окрестности становища. Меж холмов испанские кавалеристы, догнав мавров, которые сумели сперва спрятаться в зарослях тростника и фиговой рощице, а потом убежать, теперь вели их обратно — скрутив им руки и привязав к лошадиным хвостам.
Уже запылало несколько шатров, откуда вытащили и кучей сложили снаружи одеяла, подушки, котелки и прочий скарб. Главный сержант Бискарруэс, все происходящее державший в поле зрения, зычно приказывал поторапливаться со сбором добычи — пора было пускаться в обратный путь. Алатристе заметил, как, сощурясь, он посмотрел на солнце, только что выкатившееся из-за горизонта, а потом с озабоченным видом огляделся по сторонам. Человеку столь опытному, как капитан, не составляло труда угадать, о чем думает Бискарруэс: колонна истомленных переходом и боем испанцев, ведущих сотню с лишним голов скота и больше двухсот пленных — таков, прикинул он, итог набега, — станет легкой добычей для немирных мавров, если не успеет до захода солнца укрыться за стенами Орана.
Алатристе ощущал, что глотка у него пересохла, как этот песок под ногами, и беззвучно выругался: даже сплюнуть не могу, а от пороховой гари язык и нёбо стали как терка. Снова повел глазами по сторонам и наткнулся на взгляд — одновременно и дружелюбный, и свирепый — рыжебородого могатаса, который старательно отделял от туловища голову убитого. Голову другого, еще живого, но, видно, тяжело раненного мавра, поддерживала старуха, сидевшая на корточках чуть поодаль. Когда Алатристе, все еще со шпагой в руке, остановился перед нею, она обратила к нему морщинистое лицо, все покрытое, как и руки, синеватыми татуировками, окинула ничего не выражавшим взглядом.
— Пить. Воды. Пить.
Старая мавританка не отвечала, пока он не дотронулся до ее плеча кончиком шпаги, и лишь после этого безразлично показала на большой, обтянутый выдубленными козьими шкурами шатер, а потом, не обращая внимания ни на что вокруг, вновь занялась стонущим парнем. Алатристе направился к шатру, откинул полог и шагнул внутрь, в полутьму.
И сразу понял, что лучше бы он этого не делал.
В мельтешении солдат, деловито грабивших становище, я наконец заметил капитана и порадовался, что он цел и невредим. Крикнул ему, а когда понял — не слышит, сам двинулся за ним, огибая уже горящие шатры, натыкаясь на груды сваленного там и тут скарба, на тела раненых и убитых. Увидел, что следом за Алатристе в большой черный шатер вошел еще кто-то: издали показалось, что это мавр из наших, могатас. Но тут капрал, которому я некстати подвернулся под руку, приказал мне покараулить нескольких пленных, покуда их будут связывать. Дело это задержало меня ненадолго — вскоре я снова держал путь к шатру. Отдернул закрывавшую вход шкуру, заглянул внутрь — и оцепенел: в углу с кипы циновок и подушек поднималась молодая полуголая мавританка, которой Алатристе как раз помогал одеться. Поскуливая, как измученное животное, она размазывала слезы по разбитому в кровь лицу. На полу сучил ножками младенец — всего нескольких месяцев от роду, — а рядом с ним валялся наш, испанский солдат с расстегнутым поясом и спущенными до колен штанами. Череп у него был разнесен пистолетным выстрелом. У входа навзничь лежал другой испанец — тот был в пристойном виде и при полной форме, но из взрезанного от уха до уха горла еще била кровь. Та самая, сообразил я в те доли секунды, покуда еще пребывал в столбняке, что еще не засохла на лезвии кинжала, который приставил мне к горлу бородатый и мрачный могатас. От всего этого — а вот посмотрел бы я на вас, господа, окажись вы тогда в моей шкуре, — у меня вырвалось некое нечленораздельное восклицание, заставившее капитана обернуться и довольно поспешно произнести:
— Это — свой, он мне как сын. Никому не скажет.
Могатас придвинулся совсем вплотную, так что я ощутил на лице его дыхание, покуда он вперял в меня взгляд черных живых глаз, опушенных ресницами столь длинными и шелковистыми, что любой красотке впору. Впрочем, больше ничего женственного не было в этом смуглом, выдубленном солнцем лице, зверское выражение которого рыжая остроконечная борода усиливала до такой степени, что я похолодел. На вид ему было немного за тридцать: тонок в кости, но широкоплеч и с крепкими руками; размотанный и окрученный вокруг шеи тюрбан позволял видеть, что голова у него гладко выбрита и лишь на затылке оставлена по обычаю длинная прядь, в обоих ушах блестели серебряные серьги, а на левой скуле я заметил синий вытатуированный крест. Мавр отвел наконец от моего горла клинок и обтер его о рукав своего бурнуса, прежде чем спрятать в кожаные ножны на поясе.
— Что тут было? — спросил я у капитана.
Тот медленно выпрямлялся. Женщина, вся сжавшись от страха и стыда, спрятала голову под бурым покрывалом. Могатас сказал ей по-своему несколько слов — я разобрал что-то вроде «барра барра», — и она, подняв с земли плачущего ребенка, закутала его тем же покрывалом, потупившись, быстро прошла мимо нас и скрылась.
— А то было, — спокойно ответствовал капитан, — что мы с теми двумя удальцами разошлись в толковании слова «добыча».
Наклонившись, он подобрал с земли разряженный пистолет и сунул его за пояс. Потом взглянул на могатаса, по-прежнему стоявшего у выхода, и под усами его обозначилось некое подобие улыбки.
— Спор становился все жарче и складывался не в мою пользу. И тут появился этот мавританин и принял в нем живейшее участие…
Алатристе подошел к нам поближе и теперь очень внимательно оглядывал могатаса с ног до головы. И, похоже, остался доволен увиденным.
— Эспаньоли уметь говорить? — коверкая язык, спросил он.
— Да, я знаю ваш язык, — ответил тот без малейшего чужестранного выговора.
Капитан теперь рассматривал висевшее у него на поясе оружие.
— Славная штука.
— Полагаю, что так.
— И ты владеешь ею на славу.
— Уах. Мне приходилось это слышать.
Несколько мгновений оба молча глядели друг другу в глаза.
— А как тебя зовут?
— Айша Бен-Гурриат.
Я ожидал, что последуют еще какие-то слова и объяснения, однако не дождался. Бородатое лицо араба осветилось улыбкой — такой же беглой и скупой, как у Алатристе.
— Ну, пошли отсюда, — сказал тот, в последний раз окинув взглядом два мертвых тела. — Только надо бы сперва поджечь шатер. Концы — в воду, вернее, в огонь.
Предосторожность оказалась излишней: вскоре мы узнали, что оба негодяя, будучи проходимцами без роду и племени, сущими подонками, не раз уж замеченными в подобных делах, друзьями не обзавелись, так что исчезновение их, никого не встревожившее, списали без проверки на боевые потери. Что же касается возвратного нашего пути, то был он и тяжек, и опасен, но завершился благополучно. На дороге из Тремесена в Оран, под отвесными лучами солнца, сводившими наши тени до крохотного пятнышка у самых ног, растянулась колонна солдат и захваченных людей и скота — овец, коз, коров и нескольких верблюдов: их поставили впереди, опасаясь нападения ифрийских мавров. Перед самым выходом из Уад-Берруха пришлось нам пережить несколько весьма неприятных минут: переводчик Кансино, допрашивая пленных, вдруг осекся на полуслове, как-то растерянно затоптался на месте, замялся, запнулся, но все же довел до сведения сержанта Бискарруэса, что мы разграбили и сожгли совершенно не то становище, какое следовало, ибо проводники ошибкой ли или намеренно вывели нас к поселению мирных мавров, неукоснительно платящих свои дани-подати. А перебито-то их было никак не менее тридцати шести человек. И честью вас уверяю, господа: ни раньше, ни потом не случалось мне видеть ярости такого накала, как в тот миг, когда обуянный ею Бискарруэс, пугая нас лиловатым оттенком вмиг побагровевшего лица и жилами, взбухшими на лбу и шее так, что, право, я думал, сейчас лопнут, орал, что на первом суку вздернет проводников, всех их предков и ту распутную, с хряком спутавшуюся проблядь, что произвела их на свет. Впрочем, тем дело и кончилось. Бискарруэсу ли, человеку практической складки и военному до мозга костей, было не знать, что неразбериха и путаница неотъемлемо присущи бранному ремеслу, а потому не остается ничего иного, как успокоиться. Мирные мавры, немирные — велика ль разница, тем паче если в Оране за них можно будет выручить совсем недурные деньги? Были такими — стали эдакими, ну, значит, и все, конец, не о чем тут больше толковать.
— Ладно. Снявши голову, по волосам не плачут, — примолвил он напоследок. — Ничего, мы это дело еще проясним… Разберемся, кто напутал… Всем — рот на замок, а тому, кто язык за зубами не удержит, Господом нашим клянусь, я его своими руками вырву.
После чего, перевязав раненых и слегка подкрепившись найденным в становище — хлеб, испеченный в золе, горстка фиников, кислое молоко, — мы двинулись вперед скорым шагом, держа аркебузы наготове и ворон не считая, в рассуждении до темноты оказаться под защитой крепостных стен. Да, как уж было сказано, шли сторожко, головой вертя во все стороны — в авангарде гнали скотину, затем следовало ядро отряда, обоз и пленные, коих оказалось двести сорок восемь человек — мужчин, женщин и детей, — способных идти своими ногами. В хвост колонны поставили еще скольких-то аркебузиров с копейщиками, а кавалерия защищала нас с флангов и дозорами рыскала впереди, высматривая, как бы мавры не вздумали испортить нам радость возвращения или отрезать от воды. По пути и в самом деле имели место мелкие стычки и незначительные сшибки, однако невдалеке от оазиса, именуемого Дель-Морабито, то есть Отшельничьего, по-нашему говоря, где в изобилии произрастали пальмы и рожковые деревья, арабы, которые в изрядном количестве наступали нам на пятки, подкарауливая отставших или ожидая удобный случай, решили, что случай этот наконец представился, и вздумали к источнику нас не допустить, предприняв на сей раз серьезную атаку: больше сотни всадников с гиканьем и свистом, выкрикивая что-то очень непристойное и донельзя для нас оскорбительное, ударили нам в хвост. Однако арьергард не сплоховал, запалил фитили, и арабы, когда их сильно покропило свинцовым дождичком, повернули коней и умчались, оставив нескольких убитых и решив более не пытать счастья. Радуясь одержанной победе и сбереженной добыче, мы поспешали в Оран, дабы сбыть ее там, и уста мои будто сами собой зашевелились — а я тому не препятствовал, — произнося такие вот стихи:
Суть зверских тех времен, венчанных лавром, Непостижима тем, кто в них не жил: Ты Господу тем ревностней служил, Чем больше глоток перерезал маврам.Впрочем, два обстоятельства омрачили то радужное состояние духа, в коем пребывал я, возвращаясь из Уад-Берруха. Во-первых, не снеся путевых тягот, умер на руках у матери младенец, и незадолго до сего прискорбного происшествия наш капеллан, фрай Томас Ребольо, сопровождавший экспедицию по своему духовному долгу и сану, заметил Бискарруэсу, что, когда ребенок при смерти, мать теряет над ним свою родительскую власть, а следовательно, умирающий может быть на законных основаниях окрещен и без ее согласия. Поскольку поблизости, как на грех, не оказалось никого с богословского факультета, так что уточнить было не у кого, дон Лоренсо Бискарруэс, обремененный множеством иных забот, ответил монаху в том смысле, что делай, мол, как знаешь. Капеллан же, невзирая на протесты и вопли матери, вырвал у нее из рук младенца и свершил над ним таинство, благо нашлось и несколько капель воды, и елей, и соль. Младенчик вскорости скончался, а капеллан же возликовал оттого, что в такой день, как сегодня, когда столько врагов-нехристей приняли смерть, оставаясь нераскаянными приверженцами зловредной секты магометан, одна ангельски чистая душа вознесется к престолу Всевышнего, дабы лучше познать промыслы Господни и споспешествовать вящему посрамлению врагов Его… Ну и так далее. Впоследствии мы узнали, что маркиза де Велада, супруга нашего губернатора, дама весьма набожная, щедро жертвующая на богоугодные дела и раздающая подаяние, ежедневно бывающая у причастия, пришла в такой восторг от поступка фрая Томаса, что распорядилась доставить к ней мать упокоившегося в лоне святой нашей церкви дитяти, желая утешить ее и доказать неоспоримо, что если та обратится к истинной вере, непременно когда-нибудь соединится с ним на небесах. Распоряжение исполнено не было. В самую ночь нашего возвращения в Оран мавританка от горя и позора удавилась.
По сию пору живо и воспоминание о мальчике лет шести-семи, который шел рядом со вьючными мулами, везшими отрубленные головы мавров. Дело было в том, что губернатор Орана платил — вернее будет сказать: сулил платить — награду за каждого мавра, убитого в бою, а павшие в Уад-Беррухе вполне подпадали под эту категорию. Ну так вот — чтобы не быть голословными, и везли мы с собой тридцать шесть голов взрослых мавров, которые — головы, разумеется, а не мавры, хоть и мавры тоже — должны были увеличить долю каждого из нас на несколько медяков-мараведи. Мальчуган этот шел рядом с мулом, а у того с обоих боков висела гирляндой дюжина голов. Недурно, а? Если жизнь каждого нормального человека омрачают призраки, являющиеся ему в ночи и не дающие порой сомкнуть глаза, то перед моим мысленным взором — а навидался я, слава тебе, Господи, всякого-разного-многообразного! — стоит этот грязный босой мальчуган: шмыгая сопливым носом, оставляя на замурзанных щеках дорожки слез, беспрестанно льющихся из воспаленных глаз, он, как ни шугают его погонщики, упрямо держится возле мула и все отгоняет мух, роем вьющихся над отрубленной головой его отца.
На следующий же день, едва лишь получив причитающуюся каждому долю от проданной добычи, мы трое стали лагерем в веселом доме Сальки. Весь Оран начал праздновать и ликовать еще с прошлого вечера, когда на закате, оставив скотину в окрестностях Лас-Пилетас, на берегу реки, мы свершили наше триумфальное шествие: вошли в город через Тремесенские ворота церемониальным, можно сказать, маршем, стройными, как говорится, рядами, пустив вперед пленных под конвоем аркебузиров, взявших «на плечо». По улице, празднично освещенной толстыми восковыми свечами, продефилировали мы прямо к кафедральному собору и связанных невольников провели мимо самых дверей, куда викарий со всем причтом, крестом и святой водой вытащил образ Господа, а затем, спев «Te Deum laudamus»[146] в благодарность за то, что дал нам одержать зримо явленную здесь победу, расползлись, образно выражаясь, все сверчки по своим шесткам до следующего утра, когда и начали, собственно говоря, праздновать всерьез, ибо рабы с торгов разошлись очень даже хорошо, общая же сумма выручки составила славную цифру в сорок девять тысяч шестьсот дукатов. За вычетом губернаторской доли и королевской пятины, которая в Оране уходила на закупку продовольствия и огневого припаса, после того как выплатили причитающееся офицерам, святой нашей матери-церкви, госпиталю, где содержались ветераны, и могатасам, разбогатели мы с капитаном на пятьсот шестьдесят реалов каждый, то есть соответствующие карманы потяжелели на семьдесят превосходных восьмерных дублонов. Себастьяну Копонсу в соответствии с должностью его и привилегиями досталось несколько больше. А потому, не успев получить свои деньги у родственника нашего переводчика Арона Кансино — причем дело чуть было не дошло до кинжалов, ибо у иных монеток обнаруживались подозрительные следы напильника да и всучить их нам пытались не взвешивая, — мы и решили определить известную толику по назначению. Вот во исполнение этого замысла мы сейчас и сидели втроем у сеньоры Сальки, потчевавшей нас молодым вином.
Хозяйкою сего злачного места была крещеная мавританка зрелых лет, вдова солдата и старинная приятельница Копонса, который и уверил нас, что ей можно доверять всецело — ну, разумеется, не переходя границ здравого смысла. Заведение помещалось неподалеку от Пуэрта-де-ла-Марина, среди домиков, лепившихся за старой башней. С террасы наверху открывался дивный вид: слева нависал над бухтой, заполненной галерами и другими судами, замок Сан-Грегорио, а в глубине бурым клином врезался в пространство между портом и синей ширью Средиземного моря форт Масалькивир, увенчанный исполинским крестом. К этому часу солнце стояло уже низко, над самым морем, освещая нежаркими лучами Копонса, капитана Алатристе и меня: мы сидели на кожаных мягких табуретах на небольшой открытой террасе, чувствуя, что больше нам и желать нечего, ибо были и сыты, и пьяны, и ублаготворены во всяком ином-прочем отношении. Компанию с нами разделяли три питомицы сеньоры Сальки, с которыми еще совсем недавно проводили мы время в приятных беседах и не в них одних, однако, выражаясь деликатно, последнюю линию траншей так и не взяли: капитан и Копонс с присущим обоим здравомыслием сумели убедить меня, что одно дело — поужинать в женском обществе, и совсем другое — очертя голову кидаться, так сказать, в рукопашную, рискуя получить в качестве награды за доблесть французскую хворобу или еще какую-нибудь болячку, коими могут наделить публичные женщины, — тем более что здесь, на краю света, по причине малочисленности своей они публичны до крайности, — отняв у беспечного блудодея и здоровье, да и самое жизнь. С веселыми девицами ищешь веселья, а обрящешь совсем иное, ибо не одного ли корня слова «тоска» и «потаскуха»? Нет? Ну и ладно. Девицы же оказались вполне ничего себе: две были христианками, андалусийками недурной наружности, попали в Оран из какой-то уж и вовсе несусветной африканской глухомани, куда забросила их череда опрометчивых шагов и пагубных последствий. Третья же, чересчур смуглая на испанский вкус, однако отлично сложенная, видная и нарядная, была крещеной мавританкой, до тонкостей превзошедшей ремесло, какому в монастырской школе не научат. Хозяйка, завороженная звоном свежеполученного серебра, расхвалила их донельзя, сказав, что барышни они чистенькие, усердные, а если бы за искусство блуда присуждали ученые степени, все три давно бы стали бакалаврами. Впрочем, я со свойственной нашему баскскому племени недоверчивостью опровергать или подтверждать справедливость последнего утверждения поостерегся.
Ну, так я говорил о том, что мы ели и пили, но — не только. Помимо кое-каких приправ и специй, по мне — так слишком уж пряных, я впервые испробовал некой мавританской травки, которой, смешавши ее с табаком, моя новоявленная подружка чрезвычайно ловко набила трубки с металлическими чашечками и длинными деревянными мундштуками. Надо сказать, мне никогда особо не нравился табак — ни в каком виде, включая и то в пыль растертое зелье, что так любил трепетными ноздрями втягивать дон Франсиско де Кеведо. Однако же как было новичку не отведать знаменитой местной достопримечательности? И вот, не следуя примеру Алатристе, вообще отказавшегося от этого угощения, и Себастьяна Копонса, всего раза два пыхнувшего дымком, я выкурил целую трубку — и тотчас сделался как-то дурашливо весел, голова пошла кругом, язык стал заплетаться, тело будто утеряло вес, и показалось, что я плавно парю над городом и морем. Это не мешало мне принимать участие в беседе, невеселый тон коей противоречил благолепию застолья и шальным деньгам, свалившимся на сотрапезников. Копонс до смерти хотел попасть в Неаполь или еще куда-нибудь — мы знали, что «Мулатка» через двое суток снимется с якоря, — но должен был оставаться в Оране, ибо прошениям его об отставке ходу не давали.
— …по всему видать, — хмуро договорил он, — что гнить мне здесь до Страшного суда.
После этих слов он выдул чуть не кварту малаги — резковатой, пожалуй, но крепкой и ароматной — и прищелкнул языком, как бы в знак того, что против рожна не попрешь. Рассеянным взором я следил за тремя девицами, которые, увидев, что мы заняты беседой, оставили нас в покое и, отойдя к перилам, принялись болтать между собой и подавать приветные знаки проходящим по улице солдатам. Сводня, знавшая, что после набега день год кормит, на славу вымуштровала своих корсарок, и те даром времени не теряли.
— Есть одно средство, — промолвил капитан Алатристе.
Мы — а особенно Копонс — взглянули на него внимательно. Лицо арагонца оставалось по обыкновению бесстрастно, но в глазах блеснула надежда. Слишком давно был он знаком с Алатристе и усвоил накрепко: старинный его друг слов на ветер не бросает.
— Средство покинуть Оран? — уточнил я.
— Да.
Копонс взял капитана за руку — пальцы его пришлись в точности на то место, где на предплечье оставался рубец от ожога, полученного два года назад в Севилье, когда мой хозяин допрашивал генуэзца Гараффу.
— Пропади оно все пропадом, Диего… Я дезертиром не буду. В жизни своей ниоткуда не бегал, а теперь уж поздно начинать.
Капитан, приглаживая усы, улыбнулся ему. Улыбнулся открыто и ласково, что случалось с ним крайне редко.
— Я говорю, что есть средство выбраться отсюда достойно и законно… Уволиться честь по чести, с записью в аттестате.
Арагонца слова эти обескуражили.
— Я ж тебе толковал — Бискарруэс, который тут всем заправляет, не отпустит. Ты ведь знаешь, нет ходу из Орана, никому нет. Ну разве что тем, кто, вроде вас, приплыл, постоял — и назад.
Алатристе покосился на трех девиц и понизил голос:
— Сколько у тебя денег?
Копонс нахмурил лоб, мучительно соображая, к чему бы этот вопрос — к селу или к городу? Потом понял, в чем дело, и замотал головой: дескать, куда там, и думать забудь, того, что я получил за набег, не хватит.
— Сколько, я спрашиваю? — настойчиво повторил капитан.
— За вычетом тех, что придется выложить за угощение, эскудо восемьдесят наберется. Ну, еще какой-нибудь меди наскребу… Но я ж тебе сказал…
— Вот предположим, свезло тебе… Попал в Неаполь. Дальше что?
Копонс расхохотался:
— Зачем спрашивать? Без гроша в кармане в Италии что делать?.. Опять завербовался бы, ясное дело, куда-нибудь. Ловчил бы к вам, на галерный флот, попасть.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Я, мало-помалу выныривая из туманного морока, наблюдал за ними с живым любопытством. От одной мысли, что Копонс поплывет с нами в Неаполь, мне хотелось плясать от радости.
— Диего…
Это слово прозвучало скептически, однако искры упования разгорались в глазах арагонца все ярче. Капитан вымочил усы в вине, подумал еще немного и вот, решившись, тряхнул головой:
— Твои восемьдесят да те шестьдесят с чем-то, которые я получил за набег… Это будет… это будет…
Загибая пальцы над медным мавританским подносом, заменявшим нам стол, капитан, с четырьмя правилами арифметики управлявшийся не так споро, как со шпагой, полуобернулся ко мне. Я потер лоб, стараясь разогнать последние клочья тумана, застилавшего мне мозг:
— Сто сорок.
— Курам на смех, — отозвался Копонс. — Чтоб уволить меня вчистую, Бискарруэс затребует впятеро больше.
— Значит, еще пять раз по столько… Выходит… Иньиго, ну-ка, помножь… И сложи сто сорок да те двести, что я выручил в Мелилье за добычу с галеоты…
— Еще не спустил? — поразился Копонс.
— Нет, представь себе. Держу в тайничке на гребной палубе, а цыган из Перчеля — ему еще лет десять на галерах сухари грызть: зверюга почище самого комита — за ними присматривает… И дерет с меня за сбережение по полреала в неделю. Ну, Иньиго, счел? Сколько вышло?
— Триста сорок.
— Так. Теперь прибавь сюда свои шестьдесят эскудо.
— Что?
— Что слышал, черт возьми! — Светлые глаза впились в меня не хуже бискайских клинков. — Сколько теперь?
— Четыреста.
— Все равно не хватает. А ну, прибавь и свои две сотни за галеоту.
Я открыл было рот возразить, но капитан глядел на меня так, что я понял — бесполезно. Туман и дурман рассеялись разом и окончательно. Прощай, мое сокровище, с беспощадной трезвостью подумал я, приятно было познакомиться, жаль, что разлука вышла нам так скоро, бог весть, когда теперь увидимся…
— Шестьсот ровно, — стоически приемля свой удел, возгласил я.
Капитан Алатристе, явно обрадованный, теперь повернулся к арагонцу:
— С теми, которые тебе причитаются от казны, твой Бискарруэс получает сколько нужно, даже с лихвой.
Копонс переводил взгляд с Алатристе на меня и, силясь сказать что-то, судорожно двигал кадыком, словно слова застряли у него в горле. В этот миг я не мог не вспомнить, как он стоял в первой шеренге на Руйтерской мельнице, месил жидкую глинистую грязь в траншеях под Бредой, лез, черный от пороховой копоти и крови, на стену редута в Терхейдене, дрался на севильской набережной и карабкался по борту «Никлаасбергена» у Санлукарской банки. Неизменно молчаливый, маленький, жилистый, крепкий.
— Ах ты ж мать их… — выговорил он наконец.
IV. Могатас
Надев шляпы, пристегнув шпаги, мы покинули заведение в скудном и тусклом свете гаснущего дня, меж тем как в дальних углах крутых оранских улочек уже сгущалась тьма. В этот час стало прохладнее, и город со своими жителями, рассевшимися на стульях и табуретах у порогов, с кое-где еще открытыми лавками, где внутри горели плошки или сальные свечи, так и приглашал прогуляться. Улицы были заполнены солдатами с галер и из гарнизона — сии последние продолжали праздновать удачный набег. Мы остановились снова промочить горло у таверны — маленькой, на четыре столика, приткнувшихся в крытой галерее, — которую содержал отставной безногий ветеран. Покуда, не присаживаясь, а лишь привалясь спиной к стене, воздавали мы должное вину — на этот раз вполне пристойному, в меру охлажденному кларету, — по улице прошел, расчищая дорогу, альгвазил, а за ним провели в цепях троих мужчин и двух женщин из числа проданных утром пленных: их под конвоем препровождал к себе домой новый хозяин — некто со шпагой на боку, весь в черном, не считая кружевного воротника-голильи, по виду — чиновник, набивший себе мошну тем, что обкрадывал людей, которые жизнь свою кладут, чтобы добыть ему этих невольников. Они шли понуро, смирившись со своей участью, и на лбу у каждого, включая женщин, уже горело выжженное раскаленным железом клеймо — буква «S». Подобная жестокость, уже не вызывавшаяся необходимостью, многими теперь почиталась пережитком варварской старины, однако закон еще разрешал хозяевам клеймить рабов, чтобы, если сбегут, поймать было легче и знать, кому возвращать. Заметив, как, заиграв желваками, с отвращением отвернулся Алатристе, я подумал: с каким наслаждением, доведись только, оставил бы — не раскаленным железом, но ледяной сталью своего кинжала — метку на морде этого рабовладельца, чтоб ему на пути в Испанию налететь на берберского корсара, на своей шкуре познать «алжирские нравы» да окончить дни свои под дубинками надсмотрщиков. Впрочем, тотчас спохватился я с немалой горечью, у людишек такого сорта всегда найдется чем заплатить выкуп, и неволя их будет недолгой. В Тунисе, Бизерте, Триполи, Константинополе гнить придется другим — тысячам пленных солдат и прочих бедолаг, захваченных в море или на испанском побережье, — ибо никто и медного пятака не пожертвует, чтоб даровать этим несчастным свободу.
Сильно развлеченный такими думами, я не сразу заметил, как кто-то, пройдя мимо, вдруг остановился чуть поодаль и принялся наблюдать за нами. Присмотревшись, я узнал в нем того могатаса, который помог капитану справиться с двумя негодяями в Уад-Беррухе. На нем был прежний полосатый бурнус, бритая голова с длинной прядью на темени была непокрыта, а чалма — или арабский тюрбан — размотана и небрежно окручена вокруг шеи. Длинный кинжал, некогда приставленный к моему горлу, — при воспоминании об этом у меня и сейчас вся шерсть стала дыбом — как и прежде, висел у пояса в кожаных ножнах. Я обернулся к хозяину, чтобы предупредить его, но тот уже и сам заметил могатаса, однако хранил молчание. На расстоянии в шесть-семь шагов они рассматривали друг друга, не произнося ни слова, причем араб, не смущаясь тем, что оказался в самой гуще людской толчеи, не трогался с места, не сводил глаз с капитана и как будто чего-то ожидал. Наконец Алатристе слегка прикоснулся пальцем к полю шляпы и чуть склонил голову. Подобная учтивость была для солдата вообще, а уж для такого человека, как мой хозяин, в особенности, чем-то просто неслыханным — тем более по отношению к мавру, будь он хоть сто раз могатас и друг Испании. Тот, впрочем, приняв поклон как должное и совершенно естественное, кивнул в ответ и сейчас же, с тем же самоуверенно-горделивым видом, двинулся дальше: но, как я заметил, ушел он недалеко — остановился в конце улицы под тенью арки.
— Давай-ка заглянем к Фермину Малакальсе, — предложил Копонс. — Вот обрадуется старик.
Этот самый Малакальса, мне пока неведомый, был давний товарищ обоих ветеранов, делил с ними опасности и всяческие тяготы во Фландрии, где дослужился до капрала и получил под начало полувзвод, в котором волею судьбы оказались Алатристе, Копонс и Лопе Бальбоа, мой отец. А ныне, по словам Копонса, на славу вытрепанный годами, напрочь уделанный ранами да хворями, был уволен вчистую по возрасту, но остался в Оране, обзаведясь семьей. Бедствовал, как и все здесь, концы с концами сводил благодаря поддержке былых однополчан — и Копонса, разумеется, тоже, — которые, стоило только какой-нибудь мелочишке забренчать у них в кармане, наведывались к старику и делились последним. Сейчас ему выпал счастливый случай — он, как отставной гарнизонный солдат, имел право на малую толику общей добычи, хоть и не участвовал в последней экспедиции. Арагонец по поручению начальства намеревался вручить Фермину его долю, причем я подозреваю — прибавив к ней кое-что от себя, чтоб весомей была.
— Мавр-то за нами увязался, — сказал я капитану Алатристе.
Мы поднимались к дому Фермина Малакальсы по узкой и убогой улочке, мимо сидевших на пороге стариков и возившихся в грязи и отбросах детей. А могатас и в самом деле шел следом, шагах в двадцати, не отставая, ближе не подходя, но и не пытаясь прятаться. Алатристе, коротко оглянувшись через плечо, сказал:
— Дорога — мирская…
Мирская-то мирская, подумал я, но странно, что после захода солнца мавр разгуливает по городу в одиночку. И в Мелилье, и в Оране после того, как закрывались ворота, все арабы, за исключением тех немногих, кто пользовался особыми правами, во избежание крупных неприятностей покидали город, возвращаясь в свои поселения, деревни, становища, откуда утром привозили на продажу мясо, овощи, фрукты. Местные ночевали в мавританском квартале, расположенном неподалеку от цитадели и хорошо охраняемом, и до утра благоразумно оттуда не выходили. Этот же могатас перемещался по городу свободно, что еще больше разожгло мое любопытство. Тем временем мы уже подошли к дому Фермина Малакальсы, старого друга Алатристе, Копонса и моего отца. И если бы Лопе Бальбоа под стенами Юлиха разминулся с аркебузной пулей, судьба его, весьма вероятно, сложилась бы так же, как у человека, которого в эту минуту увидел перед собой Бальбоа Иньиго. А увидел я седого, изможденного старика лет семидесяти, хоть было ему немного за пятьдесят: семнадцать лет, проведенные здесь, в Оране, даром не даются, — с искалеченной ногой, с морщинистой, изрезанной шрамами и рубцами кожей цвета грязного пергамента. Живой блеск и цвет сохраняли одни глаза, ярко светившиеся на лице, которое было все — включая и густые солдатские усы — будто припорошено буроватым пеплом. И глаза эти вспыхнули радостью, когда их обладатель, сидевший на табурете у порога дома, поднял голову и увидел перед собой широкую улыбку Диего Алатристе.
— Клянусь Вельзевулом, той шлюхой, что родила его, и всеми лютеранскими демонами ада!..
Он непременно хотел, чтобы мы познакомились с его семейством и рассказали, что привело нас сюда. В обиталище его — тесном и темном, скудно освещенном единственным огарком, — пахло плесенью и чем-то прогорклым. На стене висела солдатская шпага с широкой гардой и толстыми защитными кольцами. Две курицы клевали на полу хлебные крошки, за кадкой с водой, догладывая мышку, алчно урчал кот. Проведя много лет в Берберии и утеряв надежду когда-либо отсюда выбраться, Малакальса в конце концов выкупил, окрестил и взял в жены пленную мавританку, наплодил с нею пятерых детишек — это они сейчас, босые и оборванные, беспрестанно сновали по комнате взад-вперед, путаясь под ногами.
Фермин позвал жену и велел ей подать вина. Мы принялись отказываться, ибо в голове шумело от выпитого у Сальки и в таверне, однако хозяин и слушать ничего не хотел. Ковыляя по комнате, он расстилал на столе какую-то дерюгу взамен скатерти, придвигал табуреты и приговаривал:
— У меня в доме чего другого, может, и нет, может, и вовсе хоть шаром покати, но уж стакан-то вина двоим старым товарищам я поднесу… Троим, — поправился он, когда ему сказали, что я — сын Лопе Бальбоа. Через мгновение появилась и жена — смуглая, молодая, но уже огрузневшая, сильно изношенная родами и трудами, с завязанными на манер конского хвоста волосами, в платье испанского покроя, но при этом в мягких кожаных бабучах на ногах, со звенящими на запястьях серебряными браслетами, с синеватыми татуировками на тыльных сторонах ладоней. Когда, скинув шляпы, мы по очереди протиснулись за шаткий сосновый стол, она безмолвно разлила вино по кружкам, разнокалиберным и щербатым, и скрылась в своем кухонном закутке.
— Бабочка справная, — вежливо заметил Алатристе.
Малакальса резко взмахнул рукой, подтверждая:
— Чистая, честная, порядливая. Может, чересчур живого нрава, но послушная. Из здешних отличные жены получаются, надо только уметь в руках держать… Испанкам до них не досягнуть, как бы нос ни драли.
— Да уж куда им! — веско и значительно согласился капитан.
Тощенький мальчуган, лет трех-четырех от роду, черноволосый и курчавый, робко приблизился к столу и вцепился отцу в штанину, а тот подхватил его, нежно поцеловал и усадил к себе на колени. Четверо других ребятишек — старшему было на вид лет двенадцать — наблюдали за нами от дверей. Ноги у всех были босы и грязны. Копонс выложил на столешницу несколько монет, но Малакальса воззрился на него, не прикасаясь к деньгам. Потом перевел взгляд на Алатристе и подмигнул ему.
— Сам видишь, Диего, — заговорил он, одной рукой поднося стакан к губам, а другой обводя свое жилище, — каково живется в отставке солдатам короля. Тридцать пять лет беспорочной службы, четыре ранения, в костях ревматизм и, — тут он похлопал себя по бедру — заднюю клешню скрючило, не разогнуть… Вот бы знать, что так оно все кончится, в ту пору, когда там, во Фландрии — помнишь небось? — мы начинали тянуть эту лямку, и ни ты, ни я, ни Себастьян, ни бедняга Лопе, земля ему пухом, — как бы поминая его, он поглядел на меня и поднял стакан на уровень глаз, — и никто из нас еще не брился. А-а?
В словах его не слышалось особой горечи — он, как и подобает людям этого ремесла, безропотно принимал свою долю и словно бы всего лишь перечислял то, что и без него отлично известно всякому отцову сыну. Капитан слегка подался к нему:
— Ты-то почему не возвращаешься на Полуостров? У тебя есть на это право…
— Что я там забыл? — Малакальса погладил сына по черным завиткам. — Сидеть на паперти, выставив напоказ порченую ногу? Христарадничать? Побирушек и без меня пруд пруди…
— Домой бы поехал. Ты ведь из Наварры, так? Из долины Бастан, сколько мне помнится?
— Да, из Альсате. Но опять же — что мне там делать? Если кто из соседей меня еще не забыл, в чем я сильно сомневаюсь, представь, как они будут тыкать в меня пальцами: «Гляди, вон еще один из тех, что поехал за богатством и честью, а вернулся нищим калекой, чтоб клянчить на монастырском подворье даровую миску супа». Здесь, по крайности, нет-нет да и случится набег, и ветеран без помощи, пусть и скудной, не останется. И потом, ты же видел мою супружницу и… — он снова погладил сына по голове и показал на тех, кто стоял у двери, глядя на нас во все глаза, — … этих вот пострелят. Вот переберусь с ними в Испанию — а вдруг, не ровен час, святейшая инквизиция прицепится, наушников и соглядатаев у нее хватает… Так что уж я лучше здесь. Здесь, по крайней мере, все ясно. Понимаешь?
— Чего ж не понять.
— А кроме того, здесь у меня товарищи. Под стать тебе, Себастьяну и мне самому… Есть с кем поговорить… То к морю спустишься, поглядишь на галеры, то к городским воротам, когда солдаты входят или выходят… То в казарму сходишь — а тебя там угостят, кто еще помнит, поднесут стаканчик… Постоишь на смотру или на разводе караулов, помолишься на полевой мессе… Услышишь: «Под знамя — смирно!» — и как будто сам еще не списан. Это, знаешь ли, хорошо от тоски помогает.
Он поглядел на Копонса, как бы побуждая его подтвердить истинность своих слов, и арагонец коротко кивнул, но промолчал. Малакальса поднес стакан к губам, по которым в этот миг скользнула улыбка. Чтобы так улыбаться, надо иметь в душе немалую отвагу.
— И еще кое-что… — продолжал он. — Не в пример Полуострову, здесь ты хоть и отставлен, да словно бы недалеко. Словно бы ты — в запасе первой очереди. Понимаешь, о чем я? Порой мавры нагрянут, осадят город, а подкреплений ждать неоткуда… Вот тогда доходит черед и до нас, всех зовут, всем культяпым-увечным место найдется — не на стенах, так в бастионе…
Он помолчал, расправил седые усы, повел вокруг себя глазами, будто отыскивая милые сердцу образы. Потом меланхолично окинул взглядом висящую на стене шпагу.
— Ну, впрочем, — прибавил он, — потом все идет, как прежде, своим чередом… Но все же остается надежда, что опять мавры поднапрут, и тогда юдоль сию покинешь, как подобает тому, кто ты есть… Или — кем был когда-то…
Он произнес эти слова совсем иначе. Если бы не мальчуган у него на коленях и те, что жались в дверях, я подумал бы: случись это нынче же вечером — он обрадуется.
— Уход не из худших, — согласился капитан.
Малакальса медленно, будто смотрел из какой-то дальней дали, перевел на него взгляд:
— Старый я стал, Диего… Знаю, сколько пришлось мне отдать Испании и людям ее. И, по крайней мере, здешние тоже это знают. То, что я служил в солдатах, здесь, в Оране, кое-что да значит. А там, у вас… Кому там дело есть до записей в моей аттестации — «редут «Конь», «бастион Дуранго»?.. Да они и названий таких не слыхали… И, скажи-ка ты мне, не наплевать ли сто раз писарю какому-нибудь, судье или чинуше, в порядке ли, рядов не разравнивая, развернув знамена, отступали мы в дюнах Ньюпорта — или бежали как зайцы?
Он замолчал, подливая себе из кувшина остатки вина.
— Посмотри на Себастьяна. Он хоть и молчит по своему обыкновению, однако согласен со мной. Видишь — кивает.
Он опустил правую руку на стол, рядом с кувшином, и внимательно оглядел ее — иссохшую и костлявую, с давними шрамами на косточках и на запястье, как и у Алатристе с Копонсом.
— Репутация… — послышалось его бормотание.
Наступило долгое молчание. Наконец Малакальса снова поднес к губам стакан, рассмеялся сквозь зубы:
— Ну вот он я — перед вами. Отставной солдат короля Испании.
Он взглянул на монеты, выложенные Копонсом, и, внезапно помрачнев, сказал:
— Ладно… Вина больше нет. А у вас, наверно, и еще дела найдутся…
Мы поднялись, взялись за шляпы, не зная, что на это ответить. Малакальса оставался за столом.
— А на посошок предлагаю выпить за этот мой послужной и никому не нужный список… Кале… Амьен… Бомель… Ньюпорт… Остенде… Ольденсель… Линген… Юлих… Оран… Аминь.
Он произносил эти слова и складывал монетки горкой, глядя на них взглядом отсутствующим и невидящим. Потом словно очнулся, взвесил их на ладони, спрятал в кошелек. Поцеловал мальчика, все еще сидевшего у него на коленях, ссадил его на пол, поднялся, оберегая покалеченную ногу.
— И — за короля, храни его Господь.
В голосе его не слышалось, как ни странно, ни насмешки, ни укоризны.
— За короля! — повторил капитан Алатристе. — Король есть король, что бы там ни было.
И мы, обратясь лицом к старой шпаге на стене, дружно выпили.
Уже поздним вечером покинули мы дом Фермина Малакальсы. Двинулись вниз по улице, куда свет падал лишь из открытых дверей домов, где смутно виднелись фигуры жителей, да еще от свечей и масляных коптилок, горевших в нише перед образом святого. В эту минуту какой-то человек, который сидел на корточках во тьме, при нашем появлении выпрямился. Капитан на этот раз не удовольствовался беглым взглядом через плечо, но оправил наброшенный на плечи колет, высвободив рукояти шпаги и кинжала. После чего, имея в тылу Копонса и меня, отставил церемонии и подошел к этой темной фигуре вплотную.
— Чего надо? — задал он вопрос, подобный выстрелу в упор.
Спрошенный, до этого стоявший неподвижно, чуть передвинулся ближе к свету — явно для того, чтобы мы его узнали и перестали опасаться.
— Сам не знаю, — ответил он на чистейшем испанском языке, который бы сделал честь и мне, и Копонсу, и Алатристе.
— Таскаясь за нами, как пришитый, ты нарвешься на неприятности.
— Едва ли.
Слова эти, сказанные уверенно, спокойно и бестрепетно, сопровождались немигающим взглядом. Капитан провел двумя пальцами по усам.
— Это почему же?
— Я спас тебе жизнь.
Услышав, что араб говорит моему хозяину «ты», я искоса взглянул на Алатристе: проверить, сильно ли он взбешен этим. Мне ли было не знать, что он способен убить не только того, кто осмелился бы ему тыкать, но и сказал бы «вы» — обращаться к нему следовало «ваша милость». К моему удивлению, капитан, казалось, вовсе не был раздражен. Он сунул руку в карман, но могатас в тот же миг отступил назад, оскорбленно вопросив:
— Вот, стало быть, чем ты оцениваешь свою жизнь? Деньгами?
Да, этот человек был явно не какой попало, не простой: что-то у него было за плечами. Тусклая коптилка высветила серебряные серьги в ушах и не слишком темную кожу, бросила красные блики на бороду и эти пушистые девичьи ресницы, обнаружила вытатуированный на левой скуле крест с маленькими ромбовидными навершиями, серебряный браслет на запястье правой руки, которую араб поднял и повернул ладонью вверх, словно бы показать, что она — далеко от висящего на поясе кинжала и в ней нет оружия.
— Не пойти ли тебе своей дорогой? А мы пойдем своей.
Мы повернулись и, спустившись по улице, завернули за угол. Тут я оглянулся и удостоверился, что мавр идет следом. Заметил его и капитан, которого я дернул за полу колета. Копонс потянулся за кинжалом, но Алатристе удержал его руку. Потом медленно, словно раздумывая, что сказать мавру, двинулся назад.
— Слушай-ка, ты…
— Меня зовут Айша Бен-Гурриат.
— Я знаю, как тебя зовут. В Уад-Беррухе ты мне представился.
Они стояли неподвижно и рассматривали друг друга в полумраке, а мы с Копонсом в отдалении наблюдали за ними. Мавр по-прежнему держал руки на виду — и не делал попытки взяться за кинжал. А вот я рукоять своего бискайца стиснул, готовясь при первом же подозрительном движении пригвоздить мавра к стене. Капитан, однако, моих опасений не разделял — заложив большие пальцы за ременный пояс, отягощенный оружием, он быстро оглянулся на нас и прислонился к стене, рядом с мавром.
— Зачем ты тогда вошел в шатер? — спросил он наконец.
Мавр ответил без промедления:
— Выстрел услышал. Я еще раньше видел, как ты дерешься. Ты показался мне истинным воином — имъяхадом, по-нашему. Истинно так.
— Обычно я не суюсь в чужие дела.
— Я тоже. Но тут вошел и заметил, что ты защищаешь мавританку.
— Не все ли равно — мавританка или нет… Те двое отвечали мне с непростительной дерзостью… Так что не в женщине было дело.
Мавр прищелкнул языком.
— Тидт. Твоя правда… Но ведь ты мог бы отвернуться или сам принять участие в забаве.
— Наверно, и ты мог. Однако же — не стал. А ведь если бы ты попался, за убийство испанца спроворил бы себе, как Бог свят, пеньковый воротник.
— Но — не попался же. Судьба.
Они примолкли, не сводя друг с друга глаз и словно бы решая, кто перед кем в большем долгу: мавр перед капитаном за то, что вступился за женщину его племени, или капитан перед мавром за то, что тот спас ему жизнь. Меж тем мы с Копонсом, удивляясь этой беседе, столь же странной, сколь и неуместной, незаметно переглянулись.
— Саад, — по-арабски, задумчиво и так, будто эхом откликнулся на последнее слово мавра, пробормотал капитан.
Айша одобрительно улыбнулся:
— Мы говорим «элькхадар». На моем наречии это значит разом и удачу, и судьбу.
— Откуда ты?
Мавр сделал какое-то неопределенное движение рукой, указывая в никуда.
— Оттуда… С гор.
— Далеко?
— Уах. Очень далеко и очень высоко.
— Чем тебе помочь? — осведомился Алатристе.
Тот пожал плечами, но потом, будто размышляя вслух, ответил:
— Я — асуаг. — И прозвучало это так, словно должно было разом снять все вопросы. — Из племени бени-баррани.
— Ловко чешешь по-нашему.
— Моя мать — христианка… Испанка из Кадиса. Еще ребенком ее продали в рабство в Арсео — приморский городишко в семи лигах к востоку от Мостагана… И там ее купил мой дед для моего отца.
— Занятный у тебя рисуночек на щеке… Особенно для мавра.
— Это старинная история… Мы, асуаги, происходим от христиан. В те времена, когда здесь еще были готы, а нам не чуждо было слово исбах. Честь, по-вашему. Потому-то мой дед и женил сына на христианке.
— И потому-то, надо полагать, ты сражаешься с нами против других мавров?
Айша пожал плечами, покорствуя судьбе:
— Элькхадар.
После чего замолчал, поглаживая бороду и улыбаясь каким-то своим мыслям.
— «Бени-баррани» — значит «сын чужеземца», понимаешь? Это племя людей без родины.
Вот так оно и вышло, что в 27-м году, в Оране, после набега на становище Уад-Беррух, мы с капитаном Алатристе познакомились с наемником Айшой Бен-Гурриатом — весьма примечательной личностью, чье имя не раз еще встретится на этих страницах. Никто из нас тогда и представить себе не мог, что знакомство, начавшееся в этот вечер, продлится целых семь лет — до кровавого сентябрьского дня 34-го года, когда Гурриат, капитан и я, и еще множество наших товарищей, дрались на окаянном нордлингенском холме. Череда странствий и опасных приключений будет предшествовать тому дню, когда наш неколебимый, как скала, полк выдержит за шесть часов пятнадцать шведских атак, но не сдвинется ни на пядь, могатас погибнет у нас на глазах геройской смертью, что значит — приличествующей солдату испанской пехоты. Защищая чужую веру и чужую отчизну — в чаянии обрести когда-нибудь свои собственные. Подобно многим другим сложит голову за неблагодарную сквалыгу Испанию, никогда никому ничего не дававшую взамен — ибо именно ей по каким-то ему одному ведомым расчетам Айша Бен-Гурриат из племени азуагов Бени-Баррани решил служить с истинно собачьей, свирепой и несокрушимой верностью. И сделал это самым что ни на есть причудливым способом — выбрав себе в сотоварищи капитана Алатристе.
В последующие двое суток, пока оставившая за кормой берберийское побережье «Мулатка» держала курс к северу, на Картахену, Диего Алатристе имел богатую возможность присмотреться к мавру Гурриату получше, благо тот ворочал веслом на пятой банке правого борта, рядом с загребным. Он был без цепей и звался отныне вербото́й: так именуют на наших галерах всякое припортовое отребье, проходимцев не в ладах с законом, людей отчаявшихся и готовых на все — в том числе и на то, чтобы пойти в гребцы не по приговору суда, а своей охотой и за деньги. Замечу кстати, что для таковых молодцов, коих на турецком флоте зовут морлаками[147] или просто шакалами, галеры в море служат убежищем столь же надежным, как церковь — на суше. Именно такой путь оказаться на борту «Мулатки» избрал для себя наш могатас, решивший сопровождать Диего Алатристе и пытать счастья с ним вместе и заодно. После того как уладилось дело с отставкой Себастьяна Копонса — главный сержант Бискарруэс удовлетворился пятью сотнями дукатов в руку вдобавок к тем, что рано или поздно казна выплатит арагонцу, — в кармане у моего бывшего хозяина еще что-то брякало, так что в случае нужды можно было умаслить кого надо. Нужды, однако, не возникло. Мавр, у которого нашлись собственные средства, чье происхождение он объяснять не пожелал, развязал платок, обвязанный жгутом вокруг поясницы, и достал из-под него несколько серебряных монет, которые, хоть и были отчеканены в Алжире, Фесе и Тремесене, произвели обыкновенное свое, то есть чудотворное, действие на комита и судового альгвазила: и, засияв в полнейшем блеске, аргументец вышел веский, вполне убедив обоих в том, что они поступят в высшей степени разумно и хорошо, если возьмут мавра на борт. И, не чиня никаких препятствий, они приняли на веру христианскую веру нашего могатаса, а его самого — в состав экипажа, внеся в судовую роль под именем Гурриато из Орана и положив ему одиннадцать реалов жалованья в месяц. И — быть по сему: с этой минуты новый гребец, нечувствительно восприявший таинство крещения, сделался добрым католиком и лицом, состоящим на службе у короля Испании, против чего возражать нимало не намеревался, а потому, явив предусмотрительность и хитроумие, лишился знака своего воинского достоинства — пряди на макушке, — оставшись с наголо обритой, как у всякого галерника, головой; а чалму, сандалии, шаровары и прочее мавританское платье сменив на штаны, полотняную куртку, красную нижнюю сорочку-альмилью и берет, так что из всей своей прежней амуниции сохранил при себе лишь кинжал, заткнутый, как и раньше, за кушак, да полосатый бурнус, которым укрывался по ночам или в непогоду — вот примерно как сейчас, когда свежий попутный ветер делал усилия гребцов ненужными. Что же касается татуировки и серебряных серег в ушах, то он у нас в команде был не единственный, кто блистал такими особенностями.
— Странный малый этот мавр… — заметил Себастьян Копонс.
Не скрывая радости от того, что Оран давно скрылся позади, арагонец сидел у поскрипывающей фок-мачты под сенью вздутого восточным ветром паруса.
— Не странней, чем ты да я, — отвечал ему Алатристе.
Он целый день наблюдал за могатасом, а тот издали совсем не отличался от прочей гребной братии — каторжан и рабов, насильно усаженных на весла, закованных в кандалы по рукам и ногам. Из двухсот обитателей гребной палубы едва ли набралось больше полудюжины завербовавшихся своей охотой — ну или оттого, что охота шла за ними. Имелось также известное количество и «добровольных галерников» — такой вот чисто испанский оксюморон объяснялся тем, что по причине вечной нехватки людей на королевских галерах и в берберских гарнизонах каторжников, отбывших свой срок, на свободу не отпускали, а заставляли делать то же, что и прежде, но уже за плату. Предполагалось — пока им на смену не прибудет новая партия сосланных на галеры по приговору суда, но поскольку обычно происходило это с большими задержками, то, отмахав веслами по два года, по пять, а иные и по восемь-десять лет, впрочем, до конца десятилетнего срока мало кто дотягивал, — арестанты — даже и не скажешь: волей-неволей, ибо именно что неволей, — оставались здесь еще на несколько месяцев, а то и лет.
— Гляди, — сказал Копонс. — Молятся, а ему хоть бы хны. Будто и впрямь не из них.
Ветер, как я уже говорил, был благоприятным, и гребцы всех перечисленных мною разрядов — и каторжане, и вольные, и задержанные в силу необходимости — предавались блаженной праздности. Вся эта публика разлеглась на скамейках-банках, справляла нужду за борт или в гальюнах на носу, била вшей, починяла одежонку или мастерила что-то по заказу моряков и солдат. Рабам, пользовавшимся доверием начальства, позволялось снять цепи и свободно ходить по всему кораблю, устраивать постирушку в морской воде или помогать нашему коку стряпать: от плиты, помещавшейся по левому борту между грот-мачтой и кормовой надстройкой, валил ароматный пар — там упревали тушеные бобы. Десятка два гребцов — почти половину их у нас на галере составляли турки и мавры — воспользовались затишьем, чтобы сотворить один из пяти ежедневных намазов: обратясь лицом на восток, стали на колени и, то утыкаясь лбом в настил, то выпрямляясь, затянули хором: «Ла-иллях-иль Алла, уа Мухаммад расул Алла», то есть «Нет бога, кроме Бога, и Магомет пророк его». Команда и солдаты смотрели на это и молиться не препятствовали, однако и мусульмане, стоило лишь комиту щелкнуть бичом, когда на горизонте показывался парус или ветер стихал и звучал приказ разобрать весла, вмиг прекращали молитву и принимались грести, звоном своих кандалов вторя плеску воды под лопастями. На нашей галере все службу понимали.
— Так оно и есть, — ответил Алатристе. — Я думаю, он и в самом деле — ниоткуда, как сам сказал.
— Полагаешь, врет насчет того, что племя его раньше было христианским?
— Может, и не врет. Ты ж видел — крестик на скуле? А вечером он рассказывал про бронзовый колокол, спрятанный в пещере. У мавров колоколов нет. Меж тем во времена готов, когда пришли сарацины, многие не пожелали отречься от святой веры и бежали в горы. Конечно, за столько веков вера-то повыветрилась, но остались обычаи, воспоминания… Всякая такая штука. Да и борода у него отдает в рыжину.
— Может, мастью в мать удался.
— Может, может… А только ты присмотрись — и увидишь: он себя мавром не считает.
— Ни мавром, ни христианином.
— Мне-то хоть мозги не полощи, Себастьян… Сам-то за последние двадцать лет сколько раз был у мессы?
— Сколько раз не смог отвертеться, столько и был, — рассудительно промолвил арагонец.
— А какие именно Божьи заповеди нарушал с тех пор, как пошел в солдаты?
Копонс сосредоточенно посчитал на пальцах и ответил угрюмо:
— Все до единой.
— И что же — это помешало тебе воевать за короля?
— Еще чего!
— То-то и оно.
Диего Алатристе продолжал наблюдать за Гурриато, а тот, свесив ноги, сидел на борту и созерцал морской простор. По словам могатаса, он впервые оказался на корабле, однако, несмотря на мертвую зыбь, в которую мы попали, едва лишь скрылся из виду крест Масалькивира, от качки и морской болезни, от нее проистекающей — о-о, и сколь еще обильно! — не в пример прочим не страдал. Секрет, как он уверял, был в том, что, по совету одного мавра, положил поближе к сердцу листик шафрана.
— Так или иначе, выносливый малый оказался. Быстро осваивается, — сказал Алатристе.
Копонс издал утробный стон.
— В отличие от меня, — он вымученно улыбнулся. — Я не так давно изверг из утробы все, что там было… Видно, ничего не захотел забирать с собой из Орана…
Алатристе кивнул. В свое время ему самому нелегко далась привычка к тяготам галерной жизни — теснота и скученность, когда люди постоянно трутся боками в замкнутом пространстве и мозолят друг другу глаза, грызут каменной твердости, червивые, со следами мышьих зубов сухари, которые черта с два размочишь, пьют безвкусную и протухшую воду, терпят насмешки матросов, сносят вонь и смрад… И кожа зудит под одеждой, стиранной в соленой воде, и спишь вповалку на голой палубе, со щитом взамен подушки под головой, и нежное тело твое беспрестанно язвят то зной, то ливень, а по ночам в открытом море — холод, сырость, обильная роса, от которой, говорят, тебя удар хватит или глухота постигнет. Не говоря уж о качке, выматывающей душу, выворачивающей нутро, о ярости штормов, об опасностях морских боев, когда дерешься на шаткой, ходуном ходящей палубе, ежеминутно рискуя сверзиться в море. И все это происходит в изысканном обществе самой что ни на есть отборной сволочи, сосланной на галеры, а перед тем подвергнутой телесному наказанию, то бишь — выдранной публично: еретиков, фальшивомонетчиков, верооступников, лжесвидетелей, святотатцев, мошенников, растлителей, прелюбодеев, воров, грабителей и убийц, никогда не расстающихся с засаленной колодой или с костями. Впрочем, не лучше и моряки с солдатами, ибо там, куда они сходят на берег, — в Оране для вразумления остальных одного пришлось даже повесить — не остается курятника, который бы они не распотрошили, огорода, который бы не опустошили, вина, которого бы не выжрали, еды и одежды, которых бы не забрали, женщины, которая сберегла бы честь после встречи с ними, мужчины, которого бы они не зарезали или не избили. Ибо, как говорит старинное присловье, Господу виднее, кому послать холеру, кого — на галеру.
— И ты всерьез полагаешь, из него выйдет солдат?
Копонс снова уставился на мавра. И Алатристе тоже. Потом как-то неопределенно передернул плечами:
— Поглядим. Сейчас он, как сам того хотел, познаёт мир.
Арагонец с пренебрежением ткнул пальцем в сторону гребной палубы и тотчас красноречиво поднес его к носу. Если бы не свежий ветер, надувавший паруса, то от гальюнного смрада, соединенного с витающим над куршеей зловонием немытых тел, скученных среди весел, бухт каната, каких-то тюков, дышать было бы совсем нечем.
— «Познаёт мир»… Это ты, пожалуй, загнул, Диего. — Все еще недоумевая, он приподнялся на локтях и вымолвил: — И чего мы его с собой тащим?
— Никто его не тащит. Своей волей пошел.
— А тебе не странно, что так вот, за здорово живешь, он выбрал нас в товарищи?
— Ну, если вспомнить, с чего все началось, то не за здорово живешь… Сам-то подумай, черт возьми… Товарищи тебя выбирают, а не ты их.
Он еще некоторое время смотрел на могатаса, а потом, слегка сморщившись, добавил задумчиво:
— В любом случае это звание он еще не заслужил.
Копонс погрузился в размышления, осмысляя эти слова. Потом снова утробно простонал и молчал, пока Алатристе не спросил:
— Знаешь ли, Себастьян, о чем я думаю?
— Понятия не имею, чтоб меня громом убило! Черт тебя знает, о чем ты думаешь.
— А думаю я, что ты как-то переменился. Словоохотлив стал.
— Неужто?
— А вот ей-богу.
— Это все Оран. Слишком долго я там проторчал. Намолчался.
— Очень может быть.
Арагонец сморщил лоб. Потом, сдернув платок с головы, обтер взмокшие от пота лицо и шею.
— А это хорошо или плохо? — осведомился он через минуту.
— Почем мне знать? Просто отмечаю перемену.
— Ага…
Копонс устремил взор на свой платок, словно отыскивая в нем ответ на этот сложный вопрос.
— Просто-напросто я старею… — пробормотал он наконец. — Годы берут свое, Диего. Ты ж видал Фермина Малакальсу? Сравни, какой он был и что с ним сталось теперь.
— Да, конечно… Слишком много всякого за плечами… Наверно, и впрямь от этого…
— Наверно.
Я же в то время находился на другом конце корабля, неподалеку от мостика, и наблюдал, как штурман по звездам определяет место. Надо сказать, что к своим семнадцати годам я был юноша смышленый и любознательный и с жадностью усваивал все, что видел. Так продолжалось едва ли не всю мою жизнь, и пытливости своей обязан я до известной степени умению сносить удары судьбы. Помимо весьма полезных зачатков судовождения, коему начал я учиться, едва ступив на борт «Мулатки», в сем затворенном мире открылось мне и немало иных навыков и умений: начиная от лечения ран, которые в море из-за влажного и соленого воздуха затягиваются в совсем иные, нежели на суше, сроки, и кончая той наукой, которую постигал в Мадриде, когда был желторотым школяром, во Фландрии — когда мог почесть себя бакалавром, и на королевских галерах, где ходил уже не менее чем в лиценциатах, ибо Господь Бог или сатана наделили род людской разнообразием столь же богатым, сколь и опасным. И многие здесь с полным правом могли бы отнести к себе строки дона Франсиско де Кеведо:
Хоть далась наука тяжко, Все ж я стал лиценциатом В университете клятом Под названьем «каталажка», А теперь учу сардин.…Издали среди гребцов, моряков и солдат я видел мавра Гурриато, невозмутимо созерцавшего морской простор, а также и Диего Алатристе, вполголоса беседовавшего с Копонсом под фок-мачтой. Должен признаться, что все еще пребывал под сильным впечатлением от гостевания в доме Фермина Малакальсы. Разумеется, то был не первый встреченный мною ветеран, но, увидев, что, столько лет верой и правдой отслужив королю, он, обремененный семейством, намертво завяз в убожестве захолустного Орана, в лютой бедности и взамен надежды на перемену участи получил превосходный выбор — либо по-прежнему гнить, как выброшенное на солнцепек мясо, либо вместе с домашними своими попасть в рабство к маврам, если те, не дай бог, когда-нибудь возьмут город. Ну так вот, встреча с Фермином задала работу моему мозгу, и упражнять его я принялся чаще, чем это было мне свойственно прежде. А упражнения, сиречь размышления, не всегда вяжутся с избранным мною ремеслом. Помню, когда был помоложе, я с упоением декламировал «солдатские октавы» Хуана Баутисты де Вивара, нравившиеся мне до чрезвычайности:
Огнем и сталью вышколив на славу, Война обучит главному всех нас — Как жизнь, что нам дарована лишь раз, Отдать за Бога, короля, державу… —…но при этом довольно часто замечал, что капитан Алатристе прятал в усы насмешливую ухмылку, и хоть он никогда не позволял себе никаких замечаний или комментариев, однако не от него ли я столько раз слышал, будто словами никого не вразумишь? Прошу вас, господа, учесть одно немаловажное обстоятельство: в бытность мою во Фландрии, при Аудкерке и под Бредой мне, зеленому, а потому и безмерно легкомысленному юнцу, все было в диковинку и в отраду, и то, что для других стало бы тягчайшими мытарствами и трагическими испытаниями, я, как истый испанец, с колыбели привычный к самой черной нищете, воспринимал увлекательным приключением, забавой и игрой. Однако к семнадцати годам, когда сложился нрав, развился ум и прибавилось житейских сведений, беспокойные вопросы полезли ко мне в душу, как хороший кинжал — сквозь створки панциря. Вот тогда мне и открылось, почему Диего Алатристе топорщил в кривой усмешке левый ус, и после памятного помещения Малакальсы я никогда больше стихов этих не читал. Мне уж было довольно лет и хватало разумения, чтобы разглядеть в этой хибаре тень моего отца, тени Алатристе и Копонса, а в отдалении — и свою собственную, которая тоже рано или поздно должна будет там появиться. Впрочем, моих намерений это обстоятельство никак не меняло: я, как и прежде, хотел быть солдатом. Однако после Орана военную службу стал рассматривать не как цель всей жизни, но скорее как средство, действенный и надежный способ, заковав себя в броню уставов и незыблемого воинского порядка, противопоставить враждебному, хоть и совсем еще неведомому мне тогда миру все, что искусство владеть оружием предоставило в мое распоряжение. И, кровью Христовой клянусь, я оказался прав. Все пригодилось потом, когда настали тяжкие времена — тяжкие и для несчастной нашей Испании, и для меня самого, пригодилось и помогло вытерпеть череду разлук, утрат, скорбей, выстоять под ударами судьбы. И ныне, еще пребывая по сю сторону границы бытия, еще что-то сохранив в себе, хоть и потеряв во сто крат больше, я с гордостью могу свести бытие и собственное, и еще нескольких отважных и верных людей к емкому понятию «солдат». И не случайно, не просто так, я, хоть с течением времени получил под свое начало роту и был пожалован сперва лейтенантом, а потом произведен и в капитаны гвардии его величества — для безотцовщины из богом забытого баскского Оньяте недурная, мать ее так, карьера! — под всяким партикулярным письмом подписывался «прапорщик Бальбоа» в память первого офицерского чина, в коем состоя, девятнадцатого мая тысяча шестьсот сорок третьего года вздымал над собою, над капитаном Алатристе и жалкими остатками последнего полка испанской пехоты наше старое и рваное знамя. При Рокруа дело было.
V. Англичане
День за днем по морю, называемому нашими соседями напротив «Бахар эль-Мутауассит», плыли мы на восток — в сторону, обратную той, по которой в древности направлялись к Пиренеям суда финикиян, греков и римлян. Солнце, каждое утро восходя с носа, а вечером садясь в пенный след за кормой, доставляло мне единственное в своем роде удовольствие, и не только потому, что все ближе становился пункт прибытия — Неаполь, земной рай для солдат, неиссякаемый кладезь утех и наслаждений, нет — тихим ли утром, когда в воздухе не ощущалось ни единого дуновения, или вечером, когда галера, повинуясь размеренно-согласным усилиям гребной команды, будто отточенный клинок, вспарывала неподвижную гладь синего, багровеющего на закатном горизонте моря, я чувствовал его таинственную связь с чем-то дремлющим в душе, как смутное воспоминание или ощущение. «Мы — отсюда родом», — слышал я иногда бормотание капитана Алатристе, меж тем как скрывались из виду колонны древнего языческого храма на одном из многих здешних островов, каменистых и голых: ничего общего не было у острова этого ни с гористым Леоном, где прошло детство Алатристе, ни с зеленеющими долинами моего родного Гипускоа, ни с обрывистыми арагонскими кручами, где возрастал в оны дни будущий солдат Себастьян Копонс, который, услышав такое, устремлял на старого друга недоуменный взгляд. И тем не менее я понимал, что мой прежний хозяин имеет в виду тот отдаленный благодетельный толчок, который через книжную латынь, оливы, виноградники, белые паруса, мрамор памятников и память предков дошел до нас, доплеснул к далеким нечаемым берегам иных морей, подобно волне, рожденной падением драгоценного камня в тихий водоем.
Из Орана мы вместе с остальным караваном добрались до Картахены, пополнили припасы в городе, который, если верить Сервантесу, воспевшему его на страницах «Путешествия на Парнас», получил свое название в честь Карфагена, затем подняли якоря и вместе с двумя сицилийскими галерами — как говорят моряки, под конвоем взаимной защиты — обогнули мыс Палос, забрали восточней, чтобы через двое суток выйти к острову Форментера. Вслед за тем, оставив по левому борту Майорку и Менорку, взяли курс на Кальяри, на юге Сардинии, где спустя восемь дней после того, как отчалили от испанского побережья, без приключений ошвартовались у знаменитых тамошних градирен. Потом, снова пополнив запасы продовольствия и пресной воды, подняли паруса, развернулись кормой к мысу Карбонара и, благо левант сменился сирокко, поплыли в сицилийскую Трапану. На этот раз пришлось посадить в бочки на обеих мачтах впередсмотрящих — здесь, на пояснице Средиземного моря, в узкости естественной воронки, образованной побережьями Северной Африки, сиречь Берберии, Европы и Леванта, толклась чертова уйма судов под всеми флагами. Смотреть, стало быть, следовало в оба, чтобы вовремя заметить появление неприятеля — турецких, берберийских, английских и голландских кораблей — и, сообразно обстоятельствам, на одних — ударять, от других — удирать, хоть в последнем случае ни казне прибытку бы не было, ни Иисусу Христу — славы. В Трапане, растянувшейся вдоль неширокого мыса, гавань была вполне пристойная, хоть на подходе к ней имелось множество отмелей и подводных рифов, заставлявших судоводителя одной рукой креститься, приговаривая «Господи, пронеси!» — а другой бросать лот, замеряя глубину. Там мы и распрощались с конвоем и начали одиночное плаванье, причем из-за неблагоприятного ветра шли на веслах до самой Мальты, куда, помимо депеш от вице-короля Сицилии, обязались доставить и четырех рыцарей-иоаннитов, возвращавшихся на свой остров.
Гурриато-мавр продолжал будоражить мое воображение, ибо он вписался в бытие гребной команды так легко и естественно, словно того лишь ради и на свет появился. Бритоголовый, по пояс голый — рубаху полагалось сдергивать по особому приказу комита, — он, будь у него на лодыжках «бискайские башмаки», то бишь ножные кандалы, ничем не отличался бы от остальных каторжан. Ел, что давали, пил ту же, что и все, мутную воду или разбавленное вино. Был послушен и старателен, терпелив и усерден, тяжкую свою работу делал ревностно — стоял ли, чуть не переламываясь в пояснице, когда надо было исполнить команду «весла на валек!», или под свистки и щелканье бича, которым комит охаживал согнутые спины, не разбирая, чьи они, сидел на банке и, откидываясь назад, вплетал свой голос в общий хоровой припев, нужный для согласной и мерной работы всех весел. Не возражал и поблажек себе не требовал, с товарищами ладил, хоть ни с кем особо близко не сошелся, так что соседи его по гребной скамье — испанец-каторжанин и двое рабов-турков — злобы к вольному не питали. И то обстоятельство, что и с христианином-загребным, и с турками умел он найти общий язык, кое-что да значило, ибо всякому было понятно: если, не приведи Господь, попадет наша галера в руки берберов или подданных Блистательной Порты, те двое мусульман немедля выдадут вероотступника, доброй волей пошедшего служить неверным, и по сему свидетельству его без промедления пересадят с гребной скамьи на кол, не озаботившись, чтоб легче шло, смазать острие ни маслицем, ни салом. Гурриато-мавр словно бы не принимал таковую возможность в расчет: бок о бок с ними спал меж скамей, бил вшей в сердечном согласии, а если в непогоду кто-нибудь из моряков или солдат, не желая мокнуть, оправлялся не в гальюне на полубаке, а там же, где и гребцы, то есть раскорячась над фальшбортом, там, где помещалась крайняя, ближайшая к морю часть весла — место это по справедливости считалось самым что ни на есть скверным, — то могатас, пользуясь свободой передвижения, не брезговал зачерпнуть бадьей на длинной веревке забортной воды и окатить палубу. С товарищами держался уважительно, как и со всеми прочими, когда заговаривали с ним — не отмалчивался, но словоохотлив не был. Вскорости открылось, что разумеет он не только по-испански и по-арабски, но и по-турецки — как потом мы узнали, он выучился их языку у алжирских янычар, — а также на той невообразимой смеси разных наречий, что была в ходу по всему Средиземноморью и называлась лингва-франка.
Движимый любопытством, я несколько раз подходил к нему и заводил беседу. Благодаря этому узнал кое-какие подробности его жизни, как и то, что он желает поглядеть мир, причем — непременно в компании с капитаном Алатристе. Добиться, чтобы Гурриато изъяснил причины столь странного тяготения, мне не удалось — он никогда о сем не распространялся, словно удерживаемый какой-то таинственной застенчивостью, однако впоследствии, поступками своими не только не опроверг, но и подтвердил незыблемость этой загадочной верности. Меня, как я уже говорил, восхищало его умение приспособиться к тяготам нового бытия, оттого в особенности, что мне самому, хоть и был я по младости своей духом весьма бодр, обвыкнуться на галере стоило трудов немалых.
…Непросто первые дались мне дни и мили: я замышлял побег; но нет таких преград, которых время бы с привычкой не сломили.Было и такое, с чем справиться не удавалось никак, и называлось это бедствие скукой. Я довольно быстро притерпелся к скученности и смраду, к неудобствам и штормам, но — не к тому, что время на этих плавучих скорлупках тянется бесконечно, а убить его нечем: дело доходило до того, что мы впадали в радостное возбуждение при виде появившегося в отдалении паруса, ибо он сулил погоню и охоту и схватку, ликовали, когда небо хмурилось, ветер в снастях начинал свистать с особенной силой, а вмиг потемневшее море обрушивало на нас удары волн — начинался шторм, в такие минуты заставляя всех, кто был на борту, бормотать молитвы, креститься, давать благочестивые обещания и щедрые обеты, о коих, впрочем, мы забывали, едва лишь вновь оказывались на суше и в безопасности.
Чтобы хоть как-то скоротать время, я вновь поддался похвальной привычке к чтению, в чем капитан Алатристе, некогда преуспевший в намерении приохотить меня к этому душеполезному занятию, и сейчас подавал мне пример: он, если не вел беседы со мной, с Себастьяном Копонсом или еще с кем-то из товарищей, сидел у бойницы и читал одну из тех двух-трех книг, что всегда имел при себе в заплечном солдатском мешке. С благодарностью вспоминается мне, что в этом плавании я читал и перечитывал толстый том «Назидательных новелл» сочинения дона Мигеля де Сервантеса, так хохоча над ученой беседой двух псов или над персонажами «Ринконете и Кортадильо», что вселял изумление в души всего экипажа. С отрадой прочитал я и старинную растрепанную книгу, изданную в Венеции еще в прошлом веке и называвшуюся «Портрет любострастной андалусийки»[148], хоть и нелегко было продираться через чересчур — на мой тогдашний вкус — витиевато-громоздкие периоды: из-за довольно скабрезных сцен, содержавшихся в ней, капитан опасался давать ее мне в руки и, лишь когда убедился, что я украдкой уже пролистывал ее, скрепя сердце согласился.
— Да и то сказать, — примиряясь с неизбежностью, вздохнул он, — если тебе не рано отнимать чужие жизни и рисковать собственной, то уж, наверно, и читать можно что хочется.
— Аминь, — заключил Себастьян Копонс, который книг сроду не читывал и впредь не собирался.
Лиг шесть-семь не доходя до мыса Пахаро, наша галера легла на другой галс. Со встречного далматинского парусника, шедшего с Керкенны в Рагузу с грузом кож, воска и фиников, нам прокричали, что вчера утром, когда они пополняли запас питьевой воды, стало известно: трехмачтовый корсарский галеон и другой парусник, поменьше, отстаиваются на острове Лампедуза, и что, похоже, они — из тех британских кораблей, что уже примерно с месяц рыщут между мысом Боно и мысом Бланко, грабя всех встречных, и покуда не попались ни мальтийским, ни сицилийским галерам. Купец прошел дальше, а собравшийся на мостике военный совет, приняв в расчет, что ветер установился благоприятный, а два больших латинских паруса позволяют «Мулатке» покрывать никак не менее лиги в час, решил идти юго-восточней, то есть курсом на Лампедузу, ибо есть шанс отличиться и перехватить мерзавцев, если, конечно, те еще не убрались из тамошних вод.
Как я уже говорил, было не в диковинку, что английские и голландские суда все наглее бесчинствуют в Средиземном море, все чаще появляются в портах Берберии и даже во владениях султана, ибо чего не сделаешь, чтобы насолить Испании и другим католическим державам. Сыны туманного Альбиона предавались этому занятию со страстью — и уже давно: с небольшими промежутками так повелось со времен их Елизаветы, королевы-девственницы — в данном случае это устоявшееся выражение, но отнюдь не медицинский факт. Ну да, той рыжей лисе, которую с полным на то основанием злейшим врагом Испании считали все наши поэты, и среди них — кордовец Гонгора:
Тварь кровоядная! распутная зверюга! во смрадном гнуище тебе сужден удел лихой, при жизни ты одним успела стать супругой, другим — снохой, —и Кристобаль де Вируэс, посвятивший ей следующие строки:
Иезавели дщерь, воссевшая в порфире, Симво́л нечестия, пороков средоточье! Невмочь тебе терпеть, чтоб люди жили в мире? — Отторгнут мира свет кровавой ради ночи! —и чью кончину — да, каждому, благодарение небесам, пробьет урочный час — приветствовал приличествующей случаю эпитафией сам «испанский Феникс», наш великий Лопе, который тоже обругал покойницу «Иезавелью» и «гарпией, воспламеняющей моря».
Ну и раз уж речь у нас зашла об англичанах, скажу, что бессовестнее и наглее всех вели себя в Средиземноморье вовсе не турки и не берберы, которые неукоснительно исполняли заключенные договоры, а именно эти свирепые морские псы, приплывшие со своих холодных морей и под лицемерным предлогом войны с папистами бесчинствовавшие, как самые натуральные пираты, за деньги получая право заходить в Алжир или Сале. Уж такая это была мразь, что даже турки косились на них неодобрительно, ибо нечестивые бритты грабили всех, кто попадался им под руку, не обращая внимания, под чьим флагом идет корабль и что везет в трюмах. Причем сами предпочитали действовать, так сказать, втемную, собственной национальной принадлежности не обнаруживая, а их короли и купцы, публично все отрицая, втихомолку этот разбой на большой морской дороге поддерживали и оплачивали, благо им самим от него перепадало очень даже немало. Я сказал «пираты», и не оговорился: иного слова они и не заслуживают, никакие они были не корсары, ибо корсарство есть занятие, освященное давней традицией, уходящее корнями в седую, можно сказать, старину, занятие почтенное, достойное и благопристойное: несколько человек объединяются, получают патент — разрешение короля грабить врагов короны, — за свой счет снаряжают корабль, обязуясь пятую часть от всех своих прибылей уплачивать королю и придерживаться правил, установленных государствами между собой. Впрочем, мы, испанцы, за исключением разве что моряков майоркских, кантабрийских и фламандских, корсарства, иначе как во время военных действий, не практиковали, действуя тогда, разумеется, жестоко и, само собой, беспощадно, однако — под флагом его католического величества и с соблюдением всех установлений, нарушение коих каралось весьма сурово. Объяснялось это, во-первых, тем, что понятия «доброе имя» и «приличие» для нас — не звук пустой, во-вторых, тем, что сами на протяжении столетий страдали от морских разбойников, шаставших вдоль берегов Испании, и у нас этот промысел уважением не пользовался. Когда брались за него моряки и солдаты — еще туда-сюда, на то и война, чтоб воевать, пусть другими средствами, — но для людей, к Марсовому ремеслу отношения не имевших, он считался как бы делом неблагородным, мутноватым каким-то делом, сомнительным, что ли. И оттого, к несчастью, покуда враги наши, решительно не стесняясь в средствах, пускали нам кровь на суше и на море, испанское корсарство — ну за исключением наших бестрепетных дюнкеркских католиков, грозы англичан и голландцев — хирело и увядало, пока и вовсе не сошло на нет из-за отсутствия обученных экипажей, из-за невообразимых сложностей в получении пресловутого патента, а еще из-за того, что если все же удавалось его обрести, всю прибыль съедали чиновничье лихоимство, непомерные подати да обжорство присосавшихся к сему делу паразитов. Не забудьте и о том, сколь плачевно сложилась судьба ближайшего друга дона Франсиско де Кеведо — герцога де Осуны, о коем речь еще впереди: он, вице-король Сицилии, а потом Неаполя, истинный бич Божий для венецианцев и турок, отец родной для испанских корсаров, неумолимый гонитель врагов нашей отчизны, триумфами своими и удачами навлек на себя такую черную злобу завистников, что стараниями их потерял сперва честь, потом — свободу, а потом и самое жизнь. О чем еще толковать? Мудрено ли, что когда, уступая требованиям военной политики, четвертый Филипп да граф-герцог Оливарес захотели возродить корсарство и готовы были ради этого даже отказаться от королевской пятины, согласившись на так называемую «дележку по-бискайски» — вся добыча достается тому, кто ее добыл! — из этой затеи ничего не вышло: кто разорился, кто разочаровался, а кто и просто не пожелал искать себе на шею хомут, а на задницу — приключений.
Лампедуза — низменный, поросший кустарником и почти безлюдный остров — расположен лигах в 15–16 к юго-юго-западу от Мальты. Наши впередсмотрящие, которые из своих бочек примерно такой вот обзор и имели, заметили землю во второй половине дня, и, дабы пираты, в свой черед, нас не обнаружили, капитан Урдемалас приказал убрать все паруса и подвигаться вперед на веслах малым ходом, имея в виду подойти не прежде, чем стемнеет. И покуда мы делали все необходимое, чтобы, перехватив англичан, из рук их уже не выпустить, штурман, имевший большой опыт судовождения в здешних широтах, рассказал, что остров этот был землей обетованной и для мусульман, и для христиан, ибо там находили приют беглые рабы с обеих сторон и имелась небольшая пещерка, а в ней — старинный, писанный на доске образ Приснодевы с Христом-младенцем на руках, и люди приносили туда доброхотные пожертвования — сыр, сало, масло, сухари, кварту-другую вина. Примечательно, что неподалеку от нее находилась гробница отшельника-морабита, которого турки почитали великим святым и несли туда все то же, что христиане — Деве Марии, исключая разве что сало. Делалось это для того, чтобы беглым рабам, когда они доберутся до острова, было что поесть, благо воды, хоть солоноватой и скверной, там было в избытке. И вот еще такая там бытовала особенность — ни христиане, ни магометане чужое святилище не трогали, уважая веру и надобности каждого, кто он ни будь. Ибо в Средиземноморье, где сегодня ты, а завтра — тебя, всем удивительно пристали эти вот строки Лопе:
История — ох, взбалмошная дама! — За истину любую выдаст блажь: Но все мы дети праотца Адама — Так как же не воскликнуть: «Отче наш!»Ну так вот, это я к тому, что, убрав паруса и еле-еле пошевеливая веслами, шли мы с севера на юг, приближаясь к Лампедузе; солнце садилось у нас по правому борту, и сгущавшиеся сумерки были нам на руку. И последнее, что мы увидели, прежде чем окончательно померк день, был столб дыма, а это означало, что кто-то на острове есть — англичане или еще кто. Когда уже совсем стемнело и лишь на самом горизонте еще светилась узкая красноватая полоска, стал виден костер. Сильно обрадованные этим, мы стали готовиться к бою, причем — ощупью, ибо капитан Урдемалас велел погасить все огни на корабле, запретил подавать голос и даже комиту приказал отставить свист. И так вот двигались мы по черному морю, в котором еще не отразилась луна, и слышались во тьме и тишине только хрипловато-гортанные выдохи — нечто вроде протяжных «у-ух, у-ух, у-ух» — наших галерников, споро и согласно работавших веслами, и плеск их сорока восьми лопастей о воду.
— Господа солдаты, по местам стоять, к высадке! Кто выстрелит без приказа — убью на месте!
Когда по цепочке докатились до нас эти слова, двадцать человек, сгрудившихся в галерейках по обоим бортам, двинулись на корму, к трапам. На воду уже спустили шлюпку и вельбот, которые должны были доставить десант на сушу. Медленные и редкие взмахи весел в полном безмолвии несли галеру вперед; заваленные, чтоб не выделялись на фоне ночного неба, мачты лежали на куршее, штурман ничком распластался на носу, у самого тарана, рядом с матросом, который промерял глубину и, вытягивая лотлинь, монотонно отсчитывал количество узлов. Испанские галеры, легкие, как ветер, верткие, с высокой осадкой, могли бы произвести высадку, в буквальном смысле воды не замутив, но сегодня решено было не рисковать и предосторожности ради до берега добираться на шлюпке и боте. И место узкое, и ни к чему было окунаться и мочить порох и фитили аркебуз.
— На рожон не лезь, Иньиго, — прошептал капитан Алатристе. — Удачи тебе.
Я ощутил на плече его руку, потом получил легчайший подзатыльник от Копонса, и оба они по трапу с правого борта полезли в шлюпку. Завозившись со стальной кирасой, я промедлил и ответил:
— И вам, капитан, — когда они уже не слышали. Команда, сплошь состоящая из аркебузиров, шла двумя партиями: одну вел прапорщик Муэлас, другую — Диего Алатристе; шестьдесят солдат оставались на борту под началом сержанта Альбадалехо. Люди рассаживались в шлюпке и вельботе, и, если кто оступался, натыкался на другого, слышались тогда задавленные проклятия, придушенная брань, звон уключин, лязг оружия, обвернутого тряпьем, и потому приглушенный. Замысел состоял в том, что отряд аркебузиров высаживается на берег крохотной бухточки, которая, по словам штурмана, находится прямо по носу «Мулатки» и в ширину имеет всего полтораста шагов — высаживается в том, разумеется, случае, если шлюпка с вельботом не налетят в темноте на коралловые рифы или подводные камни. Итак, высаживается, пересекает остров в юго-восточном направлении, окружает бивак пиратов, открывает по нему огонь, оттесняет от маяка и от единственного здесь колодца, меж тем как при первом свете дня «Мулатка» на веслах бесшумно огибает остров, перекрывает выход в открытое море и, постреляв немного из пушек, идет на абордаж. А до этого, когда на небо выкатилась луна и можно было хоть что-нибудь рассмотреть, двое наших — превосходные пловцы, один из которых, водолаз Рамиро Фейхоо, прославился тем, что при осаде Ла-Маморы умудрился взорвать турецкую фелюгу, — так вот, говорю, двое наших на ялике произвели рекогносцировку большой бухты, где, собственно говоря, и располагается порт Лампедузы. Вернувшись, доложили: оба корабля — галеон и другой, поменьше, вроде тартаны или фелюги, — стоят там, где и ожидалось. Большой, по всему судя, в море выйти не может, потому что стоит с сильным креном — то ли поврежден, то ли чистит днище.
— Весла на воду! — приказал капитан Урдемалас, когда шлюпка и вельбот скрылись во тьме. — Боевая тревога! Только не шуметь и не орать… Орудия к бою!
Весла вновь пришли в движение, а покуда мы раскладывали вдоль обоих бортов тюфяки и длинные продолговатые щиты-павезы, наш главный артиллерист со своими помощниками выкатили на нос три пушки. Когда шлюпка с вельботом вернулись и двинулись за нами на буксире, капитан отдал новый приказ, рулевой переложил штурвал на полрумба вправо, и «Мулатка», словно бы крадучись, без свистков и выкриков затабанила левым бортом и развернулась. Сохраняя, елико возможно, тишину, стала так, что Полярная звезда оказалась за кормой, а нос смотрел на четко выделявшийся впереди не очень высокий скалистый выступ, и заскользила вдоль берега, причем штурман постоянно делал промеры, чтобы не наскочить на мель или подводный камень. Таким манером мы обогнули остров Лампедузу с юга.
Шагах в шести-семи появился кролик — высунул голову из норки, прижал уши, озираясь. Диего Алатристе разглядывал его в неверном свете зари, прижав к щеке приклад аркебузы — с уже подсыпанным порохом и с пулей в стволе. Оружие было влажным — как кусты, камни, земля, на которой он лежал уже больше часа, и одежда, вымокшая от последней ночной росы. Сухими оставались только прикрытые навощенной тряпочкой замок, спусковой крючок аркебузы да фитиль, свернутый мотком и спрятанный за пазуху. Алатристе чуть пошевелился, разминая затекшие ноги, и скривился от боли. Бедро, четыре года назад проколотое Гвальтерио Малатестой на мадридской Пласа-Майор, неизменно отзывалось на долгую неподвижность и сырость. Мгновение он развлекал себя мыслью о том, что ему уж не по годам стало сносить все эти влажные туманные испарения — не слишком ли много пришлось их на последние годы? Не довольно ли? «До чего ж гнусное ремесло», — хотел подумать он — и не подумал. Думать так можно, когда есть у тебя еще какое-нибудь. А нет, так и молчи.
Он оглядел товарищей, неподвижно и безмолвно, как и он сам, лежавших рядом: Себастьян Копонс заполз в кусты, так что на виду остались одни альпаргаты, и каменную башню маяка, четко выделявшуюся на сером небе с низкими тучами. После высадки они пришли сюда, прошагав со всеми предосторожностями целую милю — и, кажется, не напрасно береглись: их не обнаружили. На башне было двое часовых: один спал, другой дремал, но удостовериться, что это англичане, не удалось: Копонс и прапорщик Муэлас зарезали их в темноте молча и так стремительно, что оба не успели вымолвить хоть единого словечка ни по-английски и ни по-каковски. Вслед за тем, получив запрет говорить, шевелиться и загодя запаливать фитили — береговой ветер может донести до врага этот ни с чем не сравнимый запах, — двадцать человек залегли по периметру бухты, и сейчас, в рассветных сумерках уже можно было различить, что она вполне способна вместить восемь-десять кораблей, тянется почти на полмили и похожа на листок клевера с тремя лепестками. И это в том, что посередке, самом крупном, стоял наполовину вытащенный на берег, сильно накрененный набок галеон — длинный, с высоченной кормовой надстройкой, один из тех, что, без весел обходясь, ходят исключительно под парусами, а на освободившееся место по бортам взамен гребных скамей ставят пушки. Три мачты с низкими реями: на самой высокой — прямой парус, какие в ходу у турок, на двух других — косые, или латинские, паруса; на каждом борту — по четыре пушки, сейчас, впрочем, все они спущены вниз и закреплены на том борту, что оказался над самой землей. Понятное дело — либо пластырь заводят, либо чистят, конопатят и заново смолят днище, освободив его предварительно от ракушек и водорослей, что совершенно необходимо в корсарском деле, ибо от этого зависит, сколь стремительно сможешь ты догонять и удирать.
Трехмачтовик был здесь не один. Неподалеку, стоя на якоре, покачивалась под легким бризом, задувавшим со стороны суши, фелука. Она была поменьше галеона, с латинскими парусами и фок-мачтой, скошенной, как у всех судов этого класса, к носу. Посудина не походила на корсарский корабль, а по отсутствию артиллерии можно было заключить, что это — трофей. Палубы пусты, однако на берегу вокруг костра стоят и сидят люди. Какая беспечность, подумал Алатристе, дым и пламя видны в темноте. Очень похоже на высокомерных англичан, если, конечно, это и впрямь англичане. Они были так близко, что, если бы Алатристе лежал не с подветренной стороны, можно было бы и слова разобрать. Он хорошо различал их всех: и тех, кто сидел у костра, и еще четверых на берегу, на невысоком скалистом мысу, возле одной из пушек — отсюда было не разобрать, карронада это или кулеврина, — снятой с корабля, чтобы в случае чего дать отпор непрошеным гостям. Однако море до самого горизонта было пустынно, «Мулатка» же, где бы ни была она сейчас — а капитан надеялся, что где-нибудь неподалеку, иначе участь его и девятнадцати других испанцев будет незавидна, — признаков жизни пока не подавала.
…Кролик выбрался из норки, замер на миг при виде флегматично ползущей черепахи и одним прыжком скрылся в кустах. Алатристе сменил позу, потер ноющую ногу. «Жаль, — сказал себе капитан, — что кролик ускакал, а не томится на вертеле над огнем». Как холодно и как зверски жрать хочется, мрачно думал он, глядя на ужинающих в свое удовольствие корсаров. Покосившись направо, где за колодцем — единственным на острове — притаился прапорщик Муэлас, переглянулся с ним. Прапорщик пожал плечами, показал на пустынное море. На какой-то миг Алатристе подумал, что галера вообще не придет, бросит отряд на произвол судьбы. Что ж, такое уже бывало, и не раз — и от этой мысли сами собой встопорщились у него усы. Он пересчитал корсаров — пятнадцать душ, но ведь это — на виду, какие-то могли и не попасть в поле зрения… И еще четверо у пушки… И еще невесть сколько осталось на кораблях… Многовато, чтобы долго сдерживать их аркебузным огнем, тем паче что высадились они, испанцы то есть, имея по шести зарядов на брата — в обрез для атаки. Как изведут — разговаривать придется на шпагах. Так что хорошо бы капитану Урдемаласу подоспеть вовремя…
Алатристе с тревогой заметил, что двое отошли от костра и поднимаются по склону к маяку и колодцу. Дело дрянь, подумал он. Идут ли они сменять часовых, уже снятых с поста ножами Копонса и Муэласа, или отправились за водой — но направляются прямиком к нему. Дело осложняется, а вернее — ускоряется. А галеры как не было, так и нет. О черт! Он снова оглянулся на прапорщика, ожидая от него указаний. Тот тоже заметил корсаров и сделал следующее: кулаком одной руки провел по тыльной стороне ладони другой, а потом согнул указательный палец крючком. Это значило — поджигай фитиль. Алатристе достал кремень, огниво, высек огонь, запалил, раздул, убрав провощенную тряпицу, вставил конец затлевшего фитиля в замок ружья, убедился, что товарищи сделали то же самое, и береговой ветер понес едко пахнущие волоконца дыма прямо к тем двоим. Ладно, теперь уж все равно. Подсыпал пороху на полочку, навел аркебузу, положив ствол на ровный плоский камень, прицелился в створ между двумя фигурами. Краем глаза отметил, что прапорщик тоже изготовился к стрельбе — он здесь старший, ему и решать, с кем в паре открывать бал. Алатристе выжидал и пока не трогал спусковой крючок, дыша глубоко и размеренно, чтоб рука не дрогнула, и дождался наконец — те двое приблизились настолько, что можно было различить их лица. Один — долговолосый, со светло-русой бородкой, второй — коренастый, в стеганом кожаном шлеме на голове. По крайней мере, первый по виду смахивал на англичанина, да и штаны носил до щиколоток, как принято у этой нации. При нем был мушкет, у обоих — короткие кривые сабли, и шли они свободно, ничего не опасаясь. До слуха Алатристе долетели несколько слов на чужом языке, но в тот же миг разговор и оборвался: бородатый, остановившись шагов за пятнадцать, повел носом и с беспокойством стал озираться. Но тут пущенная Муэласом пуля снесла ему полчерепа, Алатристе же, когда дело разъяснилось, передвинул ствол аркебузы влево, взял на мушку здоровяка, уже кинувшегося назад, и свалил его первым же выстрелом.
Прочие восемнадцать испанцев, отобранных для высадки, тоже были все люди дошлые, дело свое знали туго. Потому и лежали здесь. Им не требовалось подавать ни команды, ни знаков: покуда прапорщик и Алатристе перезаряжали аркебузы — а времени это занимало столько, что можно было дважды прочесть «Отче наш» и «Аве-Марию», причем многие так и поступали, — Копонс и остальные обрушили на сидевших у костра, равно как и на тех, кто стоял у пушки, частый и меткий огонь: из четверых пушкарей трое свалились сразу, а четвертый бросился в воду. Что же касается корсаров у костра, находившихся чуть поодаль, то Алатристе видел, как упали двое, остальные же отбежали, залегли и открыли в ответ стрельбу из мушкетов и аркебуз. Им на выручку подоспели еще несколько человек, выскочивших на палубу галеона, но, по счастью, на такой дистанции их пули не достигали цели, орудия же были принайтовлены к борту и не могли вести огонь ни по морю, ни по суше. Алатристе, как и его товарищи, даром не тратившие зарядов, тоже распределил остававшиеся пять пуль с толком, меж тем как от галеона к берегу уже шел вельбот с подкреплением, а корсары без сомнения подсчитали, сколько человек напало на них, и, хоронясь за кусты и скалы, полезли вверх по склону — было их человек тридцать с лишним. Это не много, если галера придет вовремя, а вот если опоздает и за неимением зарядов надо будет отбиваться холодным оружием, — то гораздо больше, чем надо, чтобы принять героическую смерть. Поэтому капитан заряды берег как мог: сшиб еще одного, а потом, когда опустел последний «апостол», сбил корсара, подобравшегося шагов на восемь-десять — выстрел, вероятно, перешиб тому бедренную кость, потому что хрустнуло, все равно как сухая ветка под ногой, — опустил наземь ружье, вытащил шпагу и приготовился принять все, что ни пошлет судьба. Боковым зрением успел заметить, что прапорщик Муэлас уже валяется мертвым у закраины колодца. И не он один. Еще увидел, как кусты, где сидел Себастьян Копонс, ходят ходуном, как взлетает там и опускается приклад его аркебузы, и слышатся хряские удары, сдавленная бессвязная брань — арагонец, кляня, надо думать, тот день и час, когда решил покинуть Оран, продает свою шкуру подороже. «Да плевал я на эту сучью галеру», — произнес про себя Алатристе, поднимаясь во весь рост: в одной руке — шпага, в другой — бискаец. И в этот миг заметил, как с юга, бешеной греблей сгибая весла в дугу, влетает в бухту долгожданная «Мулатка».
Галера стремительно неслась по водной глади. Гребцы, то вставая, то рушась назад, качались на своих скамьях, выкладывались полностью, и равномерным свисткам, задававшим ритм их дружной и спорой работе, вторили металлический перезвон кандалов и щелканье бича, которым комит охаживал лоснящиеся от пота голые спины, не разбирая, чьи они — мавров, турок, еретиков или христиан. Из всех глоток рвался с натугой и надсадой единый… даже не знаю, как назвать — не то стон, не то хрип, какой бывает, когда человек при последнем издыхании. Меж тем шестьдесят солдат и полсотни матросов, вооруженные до зубов, готовые к бою, выстроились повзводно на шканцах и куршее. И хоть всякому понятно было, что сегодняшнее дело сулит больше чести, чем добычи, даже самый алчный сквалыга не захотел оставаться в стороне. Да что там сквалыга! — и те четверо рыцарей-иоаннитов, что плыли с нами пассажирами: француз, итальянец и двое соотечественников из Кастилии, — попросились у капитана Урдемаласа принять участие в бою и сейчас тоже стояли вместе со всеми в полном вооружении, облачась по такому случаю в изящные полукафтанья-супервесты из красной тафты с нашитыми на них восьмиконечными мальтийскими крестами — ну просто загляденье: свет еще не видывал таких грозных вояк.
— Нава-лись! Нава-лись! — орали мы все единой глоткой в такт свисткам и щелканью бича. — Два-а-раз! Два-а-раз!
Рвались мы в бой по веским резонам, и не в последнюю очередь — оттого, что пираты, скорее всего, были англичанами: эта жестокая и наглая нация, не довольствуясь своими бесчинствами в Индиях, вздумала теперь нахально гадить, можно сказать, прямо у нас на заднем дворе. Кроме этих высоких соображений, не давала покоя и доносившаяся с берега перестрелка: понятно было, что каждый выстрел обрывает, может статься, жизнь кого-нибудь из наших. Именно поэтому мы и орали, воодушевляя каторжан на новые свершения, а я — да простит меня Господь, если, конечно, есть Ему дело до подобных дел — даже схватил линек, чтобы в прямом смысле подхлестнуть галерников и придать им еще больше усердия и жара.
— К берегу! К берегу!
И, обогнув мыс по воле рулевого, который повиновался командам и ругательствам капитана Урдемаласа, помчались мы напрямик, целя в борт турецкому кораблю. Когда же влетели в бухту, увидали у него за кормой, чуть левее и дальше фелюку, под прямым углом к нему стоявшую на якоре носом к берегу. Мы представляли собою весьма удобную мишень, и турок мог бы при других обстоятельствах ударить по нам из пушек тем бортом, что обращен был к морю, однако, на наше счастье, он не мог применить артиллерию, ибо стоял с сильнейшим креном, обнажавшим подводную его часть, да притом якорные канаты и швартовы удерживали его в этом положении. И вот, обезоруженный и лишенный хода, стал он вырастать перед носом «Мулатки», возникать сквозь дым запальников в руках у нашего артиллериста и его помощников, готовых открыть огонь, за головами моряков, заряжавших камнеметы на шканцах и по бортам. Едва ли не все аркебузы были переданы десантной команде — у нас оставалось всего несколько штук, но зато мы ощетинились короткими абордажными копьями, пистолетами, саблями. И, как уж было сказано, нам не терпелось применить их к делу. Я, по обыкновению многих своих сотоварищей нахлобучив шлем поверх платка, которым туго обвязал голову, чтоб волосы в бою не мешали, грудь прикрыл легкой кирасой с ремешками по бокам, позволявшими быстро сбросить ее, если окажусь в воде, взял круглый деревянный щит, обтянутый кожей, заткнул сзади за пояс кинжал, а сбоку подвесил свою короткую широкую саблю со сдвижными зубцами на лезвии — незаменимая вещь для ломания вражеского клинка — и теперь чувствовал себя во всеоружии. И, теснясь вместе с остальными в галерейке по правому борту поближе к носу — пока не выстрелит пушка, не сметь, было сказано, влезать на таран, — я думал об Анхелике де Алькесар, как всегда перед началом подобных танцев, а потом — опять же как почти все, кто стоял рядом, — осенил себя крестным знамением.
— Вон они, собаки!
И вправду. Над бортом галеона появилось с десяток англичан, которые без околичностей приветствовали нас дружным залпом из мушкетов. Но, видно, не дали себе труда толком прицелиться — пули, пущенные наспех, прожужжали у нас над головами, чмокнули о палубный настил или, не долетев, упали в море. Прежде чем противник успел перезарядить оружие, наш артиллерист выстрелил по ним из орудия на куршее, заряженного подобием картечи — сложенными в узкий длинный мешок гвоздями, звеньями расклепанных цепей и пригоршней пуль — отчего в ужасающем треске раскрошенного дерева и в щепки разнесенного бакштага мушкетеры принуждены были скрыться, причем понесли, по всему судя, немалый урон. И еще не успели прийти в себя, как пошла потеха: с обычной своей свирепой неустрашимостью дерясь на море, как на суше, пошла на абордаж испанская пехота, которую англичане, которые славились как превосходные мореходы, а уж как пушкари и вовсе равных себе не знавшие, боялись пуще огня. Два корабля склещились намертво, и едва лишь наш комит и наш рулевой, на диво согласовав маневр с усилиями гребцов, уперлись тараном в корпус галеона — причем так нежно, что размолотили лишь два листа обшивки — полсотни солдат, то есть половина наших, кинулись по двум узким лапам в основании тарана вверх по нему, а с него — на вражью палубу, торопясь успеть, пока «Мулатка», выполняя новый искусный маневр, не сдаст слегка назад и, обогнув корму галеона, не станет между ним и фелюгой, палубу которой после двух выстрелов из камнеметов левого борта уже как вымело, после чего затабанит, развернется и даст залп из камнеметов правого, меж тем как другая половина по пояс в воде выбиралась на берег с криками «Сантьяго! Испания!».
Что там с ними было и как прошла высадка, я знать не мог по известной причине: как раз в это мгновение соскочил с тарана на покореженный борт галеона, поскользнулся, выпачкался в сале и смоле, но на ногах устоял и все же спрыгнул на палубу. Там обнажил саблю и плечом к плечу с товарищами взялся за дело, тщась выполнить его как нельзя лучше. Эти люди были или, по крайней мере, казались англичанами. Трое или четверо белобрысых уже стали, благодаря нашей картечи, холодными блюдами; один, раненный, истекал кровью, и та из-за крена судна ручьем текла к противоположному борту. Сколько-то человек пытались защищаться, укрывшись за брюканцом мачты, за парусами и бухтами канатов и открыв по нам стрельбу из пистолетов, причем даже ранили одного из наших, но мы, не обращая внимания ни на пальбу, ни на громкие воинственные клики — англичане, размахивая оружием, подстрекали нас сунуться и подойти поближе, — в самом деле и в мгновение ока сунулись. Ибо просто обезумели от ярости при виде такого бесстыдства и, оттеснив их от мачты, резали без пощады на корме, куда кто-то из них успел отступить. Мы так жаждали крови, что, как говорится, мало было мяса для стольких зубов — на всех не хватало противников и мне не с кем было схватиться, пока не подвернулся голубоглазый парень в густых и длинных бакенбардах, который первым ударом плотницкого топора располовинил мой круглый щит, словно тот был из воска слеплен, вторым — оставил здоровую вмятину на моей кирасе, едва не переломав мне ребра. Я отбросил щит и попятился, чтобы улучить удобный момент да сойтись с ним вплотную — драться на довольно крутом откосе палубы было до крайности неудобно, — но один иоаннит, оказавшийся рядом, раскроил ему голову от макушки до бровей, распределив, чему куда: мозгам — на палубу, душе — в преисподнюю, а телу — за борт. Меня, следственно, оставив без противника. Я огляделся, ища, на кого бы направить острие кинжала, но схватка уже была кончена, и пришлось с другими вместе спуститься в трюм — посмотреть, не притаился ли кто там. И вот — испытал самое черное злорадство, когда за бочонками с питьевой водой обнаружил и выволок наружу здоровенного орясину-британца, веснушчатого и длинноносого, и тот, побелев лицом и в нем же изменившись, осел наземь, как словно бы ноги его не держали, и забормотал по-своему:
— Ноу, ноу, посчадит… — ибо весьма многие из этих морских волков, лишившись силы, которую извлекают из своего численного превосходства, и пав духом, не укрепленным вином или пивом, засовывают себе обычное свое спесивое высокомерие не скажу куда, делаются, смирясь и не ярясь, кротче ярочки, меж тем как наш брат-испанец всего и опаснее, когда один и в угол загнан: тут-то, яростью обуянный, он ничего не видит и не разумеет, доводов рассудка не признает, ни на что уже не уповает, и кто перед ним — Марикита-телятница или святая Параскева Пятница — не разбирает. …Возвращаясь к бритту, скажу, что, как вы сами уж, верно, догадались, если я и расположен был в тот миг миндальничать, то исключительно в том смысле, чтоб верзиле досталось на орехи, а потому, занеся над ним саблю, совсем уж собрался прочесть ему отходную. До моего «аминь» оставалось всего ничего, как вдруг я, твердо вознамерившийся отправить его на тот свет и к той англосаксонской потаскухе, что произвела его на этот, вспомнил слова, сказанные мне однажды капитаном Алатристе: у победителя никогда пощады не проси, а побежденному никогда в ней не отказывай. Ладно. Так, значит, тому и быть. И вот, поддавшись порыву христианского милосердия, я сдержал размах руки и ограничился тем лишь, что врезал ему по морде, сломав, по всей видимости, нос, ибо раздался хруст. Потом вытащил британца по трапу наверх, на палубу.
Капитана Алатристе я нашел на берегу вместе с теми, кто уцелел — Копонсом в том числе, — измученными, измотанными, оборванными, однако живыми. О том, что десант был отнюдь не веточка укропа или, как говорят в иных краях, даже и не фунт изюма, свидетельствовали потери: четверо убитых — среди них прапорщик Муэлас — и семеро раненных, из коих двое скончались впоследствии на галере. К ним следовало прибавить еще троих убитых и пятерых раненых при абордаже — в числе последних был наш артиллерист, которому пуля снесла полчелюсти, и сержант Альбадалехо — ему выжгло глаза мушкетным выстрелом в упор. Недешево обошелся нам галеон — а он и новый-то стоил не дороже трех тысяч эскудо, — ради которого двадцать восемь пиратов — почти все англичане да еще несколько турок и мавров из Туниса — пришлось перебить и еще девятнадцать взять в плен. Досталась нам в качестве приза и фелюга — треть стоимости ее самой и того, что везла она в трюме, по закону причиталось нам, морякам и пехоте. Это сицилийское судно англичане захватили четыре дня назад, а извлеченные из трюма восемь членов команды поведали нам, как было дело. Капитан галеона, некий Роберт Скрутон, родом, как и весь его экипаж, англичанин, прошел Гибралтарским проливом с намерением заняться корсарством и контрабандой невдалеке от портов Сале, Тунис и Алжир. Корабль его был чересчур тяжеловесен и тихоходен для средиземноморских переменных бризов, а потому, где-то пересев на этот вот галеон, несравненно более легкий и лучше годившийся для исполнения их намерения, они восемь недель кряду вспенивали на нем морской простор, однако ничего из того, на что зарились, не раздобыли, пока не повстречали фелюгу, с грузом зерна шедшую из Марсалы на Мальту: по маневрам и лавированию сицилийцы быстро поняли, что имеют дело с пиратом, но оторваться не смогли и принуждены были лечь в дрейф. На беду разбойников, сильнейшая качка и ошибка рулевого привели к столкновению, причем галеон, хоть и был крупнее, пострадал больше — в правом борту образовалась пробоина, а значит, и течь. Поскольку до острова Лампедуза было совсем близко, англичане решили там стать на малый ремонт, завершили его как раз ко времени нашей атаки и намеревались в тот же день снова выйти в море, чтобы восьмерых сицилийцев и их фелюгу с грузом в Тунис доставить и на продажу выставить.
Когда были заслушаны показания свидетелей, проверены сведения, как-то сам собой, без прения сторон, обрисовался и приговор. Здесь не было корсарского патента, как и ничего другого, что призваны соблюдать уважающие себя нации. Взять, к примеру, голландцев — в плен, я имею в виду взять: хоть они и считались из-за войны во Фландрии врагами испанской короны, однако же когда в Индиях ли, здесь ли, в Средиземном море, попадали в плен, с ними и обращались как с военнопленными: бросивших оружие отпускали на родину, продолжавших сопротивляться и после того, как спущен флаг, сажали на весла, ну а вешать тоже, конечно, вешали, уж не без того, но исключительно — капитанов, пытавшихся взорвать или затопить свое судно, чтоб никому не доставалось. Вот, как водится, и ведется в странах, считающих себя цивилизованными. Однако в те дни, о которых я веду рассказ, Испания не находилась с Англией в состоянии войны, портом же приписки злосчастной фелюги была Сарагоса — не наша, а та, что на Сицилии, которая, впрочем, в ту пору тоже была наша, как и Неаполь, скажем, или Милан, — и потому британцы, не имевшие ни малейших оснований и прав объявлять себя корсарами и грабить корабли подданных нашего католического величества, признаны были обыкновенными пиратами. И как ни доказывал капитан Скрутон, что получил от алжирских властей и патент, и разрешение плавать в здешних водах, доводы его не возымели действия на суд, столь же высокий, сколь и скорый, который слушал его мрачно, а смотрел хмуро и так, словно снимал ему мерку с шеи, покуда комит старался сам не подкачать, англичанина же — покачать в лучшей из своих петель, которую, приняв во внимание, что тот родом не откуда-нибудь, а из самого Плимута, вывязывал с особым тщанием. И когда наутро при попутном ветре, сулившем дождь, вышли из бухты фелюга и галеон, куда пересадили — с парусами управляться — часть экипажа «Мулатки», подданный его британского величества Роберт Скрутон уже висел на башне, имея в ногах табличку с надписью по-испански и по-турецки: «Англичанин, разбойник и пират».
Восемнадцати остальным — одиннадцати британцам, пятерым маврам и двоим туркам — предстояло ворочать веслами во славу короля Испании, а уж сколько это продлится, зависит от превратностей войны и морской стихии. Насколько я знаю, кое-кто из них еще был жив одиннадцать лет спустя, когда «Мулатка», дравшаяся с французами в сражении при Генуе, пошла на дно вместе со всеми своими прикованными к банкам гребцами, ибо цепи с них снять никто не озаботился или не успел. Но к этому времени уже не было у нее на борту ни вашего покорного слуги, ни Алатристе, ни Копонса, ни Гурриато, который, кстати, обретя в нынешнем плавании нежданный досуг, благо на гребной палубе появились новые руки, вел со мной небезынтересные беседы: о них я расскажу в следующей главе.
VI. Остров рыцарей
Мальта, принадлежавшая рыцарскому ордену Святого Иоанна Иерусалимского, произвела на меня немалое впечатление и видом своим, и славной историей, мне к тому времени уже ведомой. Галеры братьев-иоаннитов рыскали по морю, наводя ужас на весь Левант, перехватывая турецкие корабли и возвращаясь с богатейшей добычей и многочисленными невольниками. Дружно и люто ненавидимый всеми поклонниками пророка орден мальтийских рыцарей, последний из крупных военных орденов оставшийся от эпохи крестовых походов, признавал над собой власть одного лишь папы. Лишившись своих владений в Святой земле, иоанниты обосновались сперва на острове Родос, а когда турки и оттуда выгнали, наш император Карл Пятый приютил их на Мальте за символическую плату — одного ловчего сокола в год. Сия великодушная сделка, равно как и то обстоятельство, что сделались мы самой могущественной в мире католической державой, и удобнейшее географическое положение — совсем рядом находилось наше вице-королевство Неаполя и Сицилий, откуда, например, в 1565 году перебросили войска в помощь осажденной Мальте, — столь укрепили узы дружбы меж орденом и Испанией, что наши галеры зачастую плавали вместе. Тем более что среди рыцарей много было испанцев. Все иоанниты приносили обет бить мусульман, где ни встретят; все были закалены боями, по-спартански неприхотливы, все знали наверное, что на пощаду им в случае чего рассчитывать не следует; все презирали врага до такой степени, что каждая мальтийская галера обязана была атаковать неприятельские корабли даже при четырехкратном перевесе с их стороны. Нетрудно понять, почему Мальтийский орден видел в Испании главную свою заступницу и покровительницу, если вспомнить, что мы — единственные в Европе — не шли на соглашения с турками и берберами, тогда как прочие страны, именующие себя католическими, и договоры с ними подписывали, и даже с поистине вопиющим бесстыдством искали с ними союза. Особым двуличием и коварством отличались Венеция и — ну уж разу-меется! — Франция, в стремлении напакостить нам заходившая так далеко, что отправляла свои галеры плавать под конвоем взаимной защиты с турецкими и — к ужасу всей просвещенной Европы — пускала зимовать в свои порты корсарский флот вышепомянутого Барбароссы, даром что сей разбойник разорял прибрежные города Испании и Италии и тысячами захватывал в плен христиан.
По всему по этому вам, господа, легко вообразить себе, сколь сильно было мое душевное волнение, когда «Мулатка», пройдя мыс Драгут и мощные форты Сант-Эльмо, бросила якорь на рейде между укреплениями Сант-Анжело и полуостровом Санглеа. Именно здесь шестьдесят два года назад происходила страшная битва, обессмертившая имена и самой Мальты, и тех шестисот рыцарей разных наций, девяти тысяч испанских и итальянских солдат и горожан-ополченцев, что четыре месяца кряду, отстаивая каждую пядь земли, сдерживали натиск сорока тысяч турок, из которых тридцать они убили, но все же принуждены были сдавать после кровопролитных боев один форт за другим, покуда не остались только редуты Биргу и Санглеи, где сопротивлялись последние из выживших.
Капитан Алатристе и Себастьян Копонс уважительно, как подобает старым солдатам, уже в силу своего ремесла понимающим, почем фунт лиха, разглядывали места, где разыгрывалась некогда эта трагедия. Может быть, потому они и хранили молчание во все время, что катер мчал нас через гавань к пирсу, и потом, когда через ворота Монте под сенью крепостных башен мы вошли в новый город Ла-Валетта, построенный великим магистром ордена вскоре после завершения осады и названный его именем. Доселе помню, как лодочник за медную монету провел нас по прямым и четко прочерченным, хоть и пыльным улицам, мимо домов с плоскими кровлями, с зарешеченными террасами. Взирая на все это едва ли не в священном трепете, мы проследовали до кафедрального собора и, свернув направо, вышли к величественному дворцу магистра, стоявшему на прелестной площади с фонтаном посередине. Здесь-то, на подъемном мосту, осененном красным флагом с восьмиконечным орденским крестом, лодочник, отец которого оборонял когда-то Мальту, и рассказал нам на смеси итальянского, испанского и лингва-франка, как тот вместе с другими моряками переправлял рыцарей-добровольцев разных стран из Сант-Анжело к осажденному Сант-Эльмо, как каждую ночь на лодках или вплавь прорывались сквозь турецкие кордоны, чтобы возместить ужасающие потери прошедшего дня, и знали при этом, что дорога у них — в один конец и отправляются они на верную смерть. Еще рассказал, что в последнюю ночь пройти через турецкие позиции не удалось, и добровольцы принуждены были вернуться, и как на рассвете осажденные во главе с великим магистром с башен Санглеи и Сан-Микаэля увидели: Сант-Эльмо захлестнула океанская волна турок — пять тысяч их ринулись на последний штурм форта, обороняемый двумя сотнями израненных, обожженных, измученных беспрерывными пятинедельными боями рыцарей и солдат, почти поголовно испанцев и итальянцев, еще сопротивлявшихся на развалинах форта, по которому османы выпустили 18 тысяч ядер. Лодочник продолжил свой рассказ о том, как эти последние рыцари, сплошь израненные и истомленные боем, не в силах больше держаться, отступили, не показав спины, к церкви, ставшей их последней твердыней, и там с поистине львиной отвагой продолжали убивать и умирать, а потом, увидев, что турки, взъярясь от той непомерной цены, в которую обходится им победа, не щадят никого, снова бросились на площадь, чтобы умереть достойно самих себя, и так вот шестеро из них — арагонец, каталонец, кастилец и трое итальянцев — клинками расчистили себе путь сквозь скопище врагов и сумели броситься в море, надеясь вплавь достичь Биргу, но были схвачены в воде. И столь лютая злоба обуяла Мустафу-пашу, в одном только Сент-Эльмо потерявшего шесть тысяч человек и среди них — знаменитого корсара Драгута, — что он приказал ятаганами начертать знаки креста на груди у рыцарей, а трупы их — распять на деревянных брусьях и пустить по воле волн, которые должны были вынести их к другому концу гавани, где все еще продолжали сопротивляться форты Санглея и Сан-Микаэль. Пленных же немедленно оскопил, а затем и обезглавил на стенах. На это иродово деяние великий магистр ответил тем, что, казнив всех турок, взятых в плен, зарядил их головами пушки и выстрелил в сторону неприятельских позиций.
Такова была история, которую поведал нам лодочник. И мы, выслушав ее, надолго замолчали, осмысляя услышанное. Но вот Себастьян Копонс, опершись о парапет из песчаника и хмуро оглядывая ров, окружавший крепость, повернул голову к капитану Алатристе:
— Вот и мы с тобой, Диего, кончим так же… На кресте.
— Может статься. Но живыми не дадимся.
— Да уж, конечно.
Эти слова еще сильнее смутили мою душу — и не потому, что напугали, хоть и было чего пугаться. Нет — я превосходно понимал, о чем толкуют капитан и Копонс, и был уже достаточно умудрен и сознавал: на какое только высокое благородство и гнусную низость не способны мы, люди. Дело было еще и в том, что здесь, на зыбкой границе сих левантийских вод, жестокость человеческая — а есть ли, спрошу, свойство, более присущее человеку, нежели жестокость? — распространяется до пределов немыслимых и пугающих. И не у одних лишь турок. Существовали труднообъяснимые, давние, засевшие в глубинах общей нашей памяти обида, злоба, ненависть — некие семейные счеты, которым здешнего солнца блеск, здешних зеленых вод плеск не давали остыть. Для нас, потомков древних племен, для испанцев, столько веков кряду убивавших мавров и друг друга и совсем недавно оставивших сие занятие, чужаки-англичане и турки вкупе с берберами и прочими, расселившимися некогда по берегам этого моря, были не одним миром мазаны. Капитана Роберта Скрутона и его пиратов никто сюда не звал или, как у нас говорят, свечку на нашей панихиде держать не давал, а потому истребить пришлых наглецов, нагрянувших на Лампедузу, было совершенно в порядке вещей — ну вроде как уборку в общем нашем доме провести, клопов вывести, тараканов потравить, а уж потом вернуться к сведению настоящих семейных счетов с турками, испанцами, берберами, французами, морисками, евреями, маврами, венецианцами, генуэзцами, флорентинцами, греками, далматинцами, албанцами, с вероотступниками и корсарами. С соседями по двору. С существами, сколь ни разнообразно пестрыми, но — нашей породы. С которыми не зазорно хлопнуть по стакану вина, похохотать, пригнуть замысловатую и полнозвучную забранку, отпустить гробовую шутку — а уж потом хоть на кресте распинай, хоть пали друг в друга из пушек отрубленными головами, проявляя и выдумку, и лютую свирепость. И старую, добрую, выдержанную и настоявшуюся средиземноморскую ненависть. Ибо лучше и тщательнее, чем давний твой знакомец, никто тебя не зарежет.
Мы возвращались в Биргу уже на склоне дня, когда последние лучи солнца, пронизывая висящую в воздухе пылевую взвесь, окрашивали стены форта Сант-Анжело красным, будто те сложены были из раскаленного железа. Прежде чем взойти на борт, еще погуляли довольно долго по прямым, как по линейке вычерченным улицам нового города, посетили порт Марсамусетто, расположенный на самом западе острова, и знаменитые обержи, или казармы, рыцарей Арагона и Кастилии, полюбовавшись в последнем случае парадной лестницей. Дело в том, что каждая из семи наций, к которым относились члены ордена иоаннитов, располагалась в своем доме: помимо уже названных мною Арагона и Кастилии, представлявших Испанию, имелись также обержи Оверни, Прованса, Франции, Италии и Германии. И перед возвращением на «Мулатку» мы заметили неподалеку от рва, опоясывавшего форт, целую россыпь таверн и харчевен, а поскольку до подачи сигнала «Все на борт!» оставалось еще больше получаса, решили разбавить скудное однообразие корабельной кормежки и за свой счет отведать чего-либо более христианского в одном из этих заведений. И вот, расположившись вокруг бочки, служившей столом, отдали должное бараньей ноге в уксусе, свиным отбивным, ковриге свежевыпеченного хлеба, доброму жбану красного метелинского, валившего с ног не хуже доблестного рыцаря Роланда и напомнившего нам вино, которое производят в Торо. Утоляя голод и жажду, мы разглядывали проходивших мимо людей: смуглые мужчины повадками и наружностью смахивали на сицилийцев, говорили на какой-то смеси языков с вкраплением слов, доставшихся еще от карфагенян, а здешние женщины были хороши собой, но, как нам показалось, по избытку скромности бегут мужского общества и выходят из дому, закутанные в глухие черные покрывала: все дело тут, наверно, в их мужьях и отцах, ревнивых пуще испанцев — душевное это свойство унаследовано и теми и другими от мавров и сарацин. И так вот сидели мы втроем, рассупонясь и рассолодев, а пившие по соседству солдаты и моряки с венецианского корабля меж тем купили у проходившего мимо торговца с ящиком всяких ладанок и реликвий несколько «камней святого Павла», то бишь акульих зубов — на Мальте глубоко чтут апостола, по преданию, некогда потерпевшего здесь кораблекрушение[149]. Есть поверье, что камни эти исцеляют от укусов змей и скорпионов.
И вот тут я поступил опрометчиво. Капитан Алатристе воспитал меня не то чтобы неверующим, но — в здравом и трезвом отношении к религии. И вот при виде того, как один венецианец, очень довольный, показывает товарищам амулет на шнурке, я в щенячьей своей дерзости не сумел скрыть насмешливую улыбку, а моряк, на беду, заметил ее и сильно обиделся. Судя по тому, с каким перекривленным от сильнейшей злобы лицом венецианец стал приближаться ко мне, имея руку на эфесе шпаги, а товарищей — за спиной, завет прощать обиды им воспринят не был.
— Извинись, — сквозь зубы процедил мне капитан Алатристе.
Я покосился на него, удивленный и его неприязненным тоном, и советом кончить дело миром, но, минутку поразмыслив, признал его правоту. Не потому, что испугался неприятностей — хотя венецианцев было шестеро, а нас трое, — нет, дело было, во-первых, в том, что, судя по перезвону курантов, времени затевать ссору почти уже не оставалось, а во-вторых, стычка с венецианцами, да еще на Мальте, могла иметь последствия непредсказуемые. Отношения наши с подданными Республики Святого Марка были нехороши: в Адриатике мы с ними оспаривали, так сказать, первородство и превосходство заодно с главенством, глухая рознь тлела постоянно, и малой искры довольно было для взрыва. Короче говоря, я унял гордыню, натянуто улыбнулся и на лингва-франка, которым мы, испанцы, объясняемся в здешних водах и землях, произнес нечто вроде того, что скузи, мол, синьоре, не принимайте на свой счет. Венецианец, однако, не унялся, а совсем даже напротив. Ободренный и численным превосходством, и тем, что совершенно напрасно счел уступчивостью, он откинул назад свои длинные — то-то, наверно, там вошкам раздолье — волосы, коими итальянцы отличались от нас, со времен императора Карла стригшихся коротко, — и обозвал меня поносными словами, аттестовав как молокососа и проходимца и высказав даже сомнения в чистоте христианской моей крови, что обидно, согласитесь, всякому, а уж уроженцу Гипускоа — особенно. И утратив оттого всякую осмотрительность, я уже начал подниматься со стула, берясь одновременно за саблю, но капитан придержал меня за руку.
— Наш спутник еще очень молод и не знает здешних обычаев, — по-испански, очень спокойно и глядя венецианцу прямо в глаза, сказал он. — Но с большим удовольствием поставит угощение вам и вашим друзьям.
Но тот во второй раз все понял превратно. Ибо решил теперь, что и оба мои спутника тоже сробели, а потому, чувствуя за спиной присутствие пятерых товарищей, пропустил мимо ушей предложение капитана и, фигурально выражаясь, закусил удила:
— Ну-ка, поди сюда, сосунок куастильский, я тебе накуостильяю!
После этих слов капитан Алатристе, не изменившись в лице, выпустил мою руку. Потом, проведя двумя пальцами по усам, взглянул на Копонса, который все это время, храня по своему обыкновению молчание, держал в поле зрения пятерых венецианцев. Теперь он медленно поднялся и пробурчал, не слишком, впрочем, внятно:
— Итальянец — на-жопе-глянец.
— Что? Что ты сказал? — взвился тот.
— Он сказал, — ответил вместо него капитан, в свой черед вставая, — что костылять будешь той шлюхе, что тебя родила.
И вот вам, господа, мое честное слово — именно так началось это происшествие с участием испанцев и венецианцев, вошедшее в мальтийские анналы и во все реляции-донесения под названием «беспорядки в Биргу»; впрочем, если обо всем писать так подробно, как оно того заслуживает, в Женеве бумаги не хватит. Ибо капитан, едва лишь успев произнести то, что произнес, перешел от слов к делу, а за ним и мы с Себастьяном, причем так рьяно и напористо, что венецианец, хоть и держался за рукоять, да и товарищи его были настороже, шарахнулся назад, прижав обе руки к тому месту, где мгновение назад помещалось у него ухо, ныне отсеченное кинжалом, молниеносно выхваченным Алатристе из ножен. Копонс, действуя столь же стремительно, в тот же миг пронзил шпагой стоявшего к нему ближе других, причем времени это у него заняло меньше, чем у меня — рассказать об этом. Ну а сам я с похвальным проворством сделал выпад в сторону третьего, и хотя он успел отпрянуть в сторону, так что острие моего клинка лишь рассекло ему колет, не задев тела, этого хватило, чтобы отогнать моего противника на почтительное расстояние.
Ну вот с этой минуты события стали нарастать, как лавина. Ибо, откуда ни возьмись, вынырнул Гурриато — только потом выяснилось, что с той минуты, как мы сели в лодку, направляясь осматривать новый город, мавр целый день ждал нас, сидя в тени, — кинулся на ближайшего к нему венецианца и, не дав ему даже вскрикнуть, полоснул его ятаганом. Поскольку место было людное — таверна стояла в начале улицы, тянувшейся от набережной до самой церкви рядом со рвом, который окружал форт Сант-Анжело, да и время было такое, что команды возвращались на свои корабли, пришвартованные у пирса или стоявшие на якоре неподалеку, — вокруг толклось и роилось до чертовой матери моряков и солдат. На крики раненых и их спутников, которые, хоть и обнажили шпаги, приближаться к нам не осмеливались, прибежали еще несколько венецианцев и взяли нас в кольцо, отчего опасность возникла немалая. И, несмотря на то что мы, став спиной к спине, то есть скудными своими силами повторяя боевой порядок пехотного полка в обороне и прикрываясь на манер щитов табуретами и крышками от глиняных кувшинов, отбивались отчаянно, кололи и рубили, нам бы очень крепко не поздоровилось, если бы не наши товарищи с «Мулатки», которые тоже поджидали катер на пристани, но, увидев такое дело, обнажили что у кого при себе было и бросились на выручку, не спрашивая, в чем причины свалки. Люди с галер законопослушанием не отличались, но делом чести почитали откликаться на призыв «наших бьют!», памятуя, что сегодня ты, а завтра я, и свято блюли обычай помогать своим, будь то моряк, солдат или вольнонаемный гребец, не докапываясь до подоплеки и дружно выступали и против альгвазилов со стражниками, и против местных, равно как и пришлых. А вернувшись в случае благоприятного исхода на свою галеру, они, каких бы дел ни натворили, могли чувствовать себя в безопасности, словно и она, подобно Божьему храму, обладала старинным правом убежища, и не обязаны были отчитываться ни перед кем, кроме своего капитана.
Ну и пошло. Если вспомнить, какого сорта люди служили на галерном флоте, неудивительно, что в одно мгновение Биргу уподобился древней Трое. Под истошные крики кабатчиков и торговцев, оплакивающих разгром своих заведений и лотков, в кольце вмиг набежавших зевак и мельтешении вездесущих уличных мальчишек сцепилось никак не менее полусотни венецианцев и примерно столько же испанцев. С обеих сторон прибывали подкрепления, причем многие моряки сбегали по сходням уже со шпагами в руках, а с ближайшей галеры грянуло даже и несколько мушкетных выстрелов. Однако поскольку нас, испанцев, на Мальте любили, а венецианцев за их плутовство, алчность и высокомерие — не говоря уж про шашни с турками — терпеть не могли не то что местные, но даже сами итальянцы, то много народу с палками и камнями вступились за нас, приняв участие в побоище, так что одних венецианцев покидали в воду, а другие, ища спасения, кинулись туда сами. Уже позабылось, по какой причине началась свалка, но по всему Старому городу пошла форменная охота на все, что хоть немного попахивало Венецией, ибо пронесся слух, действующий в подобных случаях безотказно, будто сыны ее обесчестили неких женщин. Перебили немало народу, разграбили лавки, принадлежавшие венецианцам, и сведены были старые счеты в тот день, итоги которого их соотечественник хронист Джулио Брагадино подвел семнадцать лет спустя:
На протяжении всей ночи подданные светлейшего дожа подвергались избиениям, а имущество их — разграблению. …Потребовалось вмешательство великого магистра и капитанов галер и прочих судов, стоявших в гавани, чтобы внести некоторое умиротворение в умы и утишить страсти, для чего морякам и солдатам с обеих противоборствующих сторон приказано было во избежание бо́льших несчастий вернуться на свои корабли и под страхом смерти не сходить на берег. …Попытки выявить зачинщиков беспорядков успехом не увенчались, ибо испанцы, с полным на то основанием могущие подозреваться в подстрекательстве, оказались вне досягаемости властей…
Тем не менее, когда на следующее утро мы выстроились на палубе «Мулатки», никто не избавил нас от страшнейшей выволочки, произведенной над нами капитаном Урдемаласом — пусть иные и уверяли, что это было не всерьез и сам он внутренне хохотал, просто виду не подавал, расхаживая большими шагами от носа к корме и обратно, но нам-то было приказано облачиться в кирасы по тридцать фунтов весом да надеть шлемы — клади еще тридцать: да не куда-нибудь клади, а на голову — с явной целью изжарить нас заживо, благо парусиновый тент, натягиваемый над палубой, был заблаговременно убран, и потому все это железо быстро раскалилось на адском солнцепеке, так что казалось, будто на нас течет расплавленный свинец, и ни единого свежего дуновения наших страданий не облегчало. Ах, зачем я не владею кистью! Как просилось все это на полотно! Что за дивное зрелище являли собой эти страдальчески искаженные разбойничьи рожи в поту, струившемся ручьями, и потупленные взоры — не по застенчивости, но исключительно благоразумия ради, — покуда Урдемалас, прогуливаясь по шканцам взад-вперед, метал громы и молнии, пушил и распекал всех вместе и каждого по отдельности.
— Господа, вы звери! — гремел он с таким расчетом, чтобы эти раскаты слышны были и на берегу. — Вы преступный хвастливый сброд, задавшийся, как видно, целью свести своего капитана в могилу! Только клянусь вам всем святым и прахом прадедов, что прежде, чем это произойдет, смоляной шкерт мне куда не надо, я дознаюсь, кто начал побоище, пусть даже придется вас всех до единого развесить по реям! — Все это, как я говорил, произносилось чрезвычайно звучным и громким голосом — так что диатриба разносилась над всем портом, докатываясь до самых крепостных стен. Мы, однако, вели себя именно так, как полагалось и как ждал от нас Урдемалас: молчали, будто язык проглотили, лишь изредка и исподтишка переглядывались и стояли бодро, не ежась под градом брани. Ибо знали — рано или поздно развиднеется. Редкостное, говорю, было зрелище, упоительная картина — у одного здоровеннейший фонарь под глазом, у другого губы в лепешку, у третьего нос сворочен на сторону, этот заклеен, тот перевязан, а тот вообще подвесил руку на косынку. Впечатление складывалось такое, будто не в увольнение экипаж ходил, ноги на Мальте размять, а турецкую галеру на абордаж брал.
Спустя сутки, в продолжение коих все были оставлены «без берега», мы выбрали якорь и, огибая Сицилию, пошли курсом на Мессину. Половину пути погода была превосходная, ветер благоприятный, и гребцы предавались праздности. Но в ту же самую ночь, когда вдалеке слева по борту заметили огонь маяка, который с одинаковым успехом мог оказаться как на мысе Пахаро, так и на Сарагосе — сицилианцы именуют ее Сиракузами, — я и разговорился с Гурриато. Оба паруса потрескивали на своих мачтах, галерники, солдаты и палубная команда, кроме вахтенных, улегшись вповалку где кто, спали, как принято говорить, без задних ног, сплетая в обычную симфонию храп, носовой свист, стоны, всхлипы, урчание, рычание, бормотание, булькание и прочие ночные звуки, о коих я, господа, с вашего позволения умолчу. У меня разболелась голова, и потому осторожно, стараясь никого не потревожить, я поднялся и, хрустя попадавшими под ноги тараканами, двинулся на корму в надежде, что свежий ветер принесет облегчение, и вот на крайней банке в слабом свете кормового фонаря увидел знакомый силуэт. Гурриато-мавр стоял, опершись о планширь, и созерцал темное море и звезды, которые от качки то показывались на небе, то вновь прятались за полотнищами парусов. Он сказал, что ему тоже не спится: покуда не взошел на борт «Мулатки» в Оране, никогда прежде в море не бывал, так что все здесь ему кажется ново и мудрено, и если не надо грести, он часто сидит здесь по ночам и смотрит во все глаза. Истинным чудом казалось ему, что такая тяжеловесная, громоздкая, сложно устроенная махина может двигаться по воде — и притом еще во тьме. И пытаясь понять ее секрет, он внимательно наблюдал за каждым движением галеры, всматривался в малый огонек, иногда возникавший на горизонте, вслушивался в плеск невидимой воды, светящимися в темноте брызгами окатывавшей борта. Силился понять смысл тех слов, похожих на заклинание или молитву, которые каждые полчаса нараспев повторял рулевой, поглядывая на компас и отбивая склянки — судовые песочные часы.
Тут я спросил Гурриато про крест, вытатуированный у него на скуле, и про ту легенду, по которой, если верить ей, люди его племени были христианами в оны дни, а если точнее — много лет спустя после нашествия мусульман на север Африки, предательства графа Юлиана и завоевания Испании Тариком и Мусой. Помолчав, Гурриато сказал, что впервые слышит эти имена. Но знает от деда, а тот — от своего отца, будто племя бени-баррати, не в пример всем прочим, так никогда и не приняло исламскую веру. Скрывались в горах, воевали и в конце концов растеряли все христианские обряды, оставшись без богов и без родины. И потому другие мавры всегда относятся к ним с недоверием.
— Оттого у тебя этот крест?
— Точно не знаю. Но отец говорил, что так повелось со времен готов, чтобы отличаться от других — языческих — племен.
— Помнится, ты рассказывал про колокол, запрятанный где-то в горах.
— Тидт. Истинно так. Большой бронзовый колокол хранится в пещере. Я никогда его не видел, но люди говорят, он пролежал там восемь или десять веков, с тех самых пор, как пришли мусульмане… И там же — книги… очень старые… на непонятном языке… Остались со времен вандалов или еще раньше.
— На латыни?
— Я не знаю, что такое «латынь». Но пока никто не сумел их прочесть.
Наступила тишина. Я думал об этих людях, о том, как они нашли спасение в горах, как тщились сберечь свою веру и как неудержимо утекала она у них меж пальцев, словно песок или вода. Как повторяли слова и движения, смысл и значение которых забыт давным-давно. «Бени-баррати», вспомнил я, означает «дети чужеземцев», то есть люди без родины. И потому другие мавры им не доверяют.
— Почему ты отправился с нами?
Гурриато, со спины освещенный фонарем, как-то беспокойно поерзал на скамье, будто мой вопрос озадачил его, и ответил не сразу.
— Судьба, — проговорил он наконец. — Мужчина должен идти, пока сил хватает. Уходить в дальние земли и возвращаться умудренным… Может быть, тогда сумеет понять…
Заинтересовавшись, я тоже оперся о фальшборт:
— Что же ты должен понять?
— Откуда я… Нет, речь не о тех горах, где меня произвели на свет.
— А зачем?
— Когда знаешь, откуда ты, легче умирать.
Снова повисло молчание, нарушаемое лишь перекличкой рулевого с вахтенным матросом на носу. Затем смолкли и их голоса, и теперь слышались только поскрипывание мачт и плеск воды у бортов галеры.
— Всю жизнь мы разгуливаем по лезвию, — опять заговорил могатас. — Но большинство людей этого не знают. Знают только ассены, мудрецы.
— А ты — мудрец? Или только еще хочешь сделаться таким?
— Нет. Я всего лишь человек из племени бени-баррати. — Голос его звучал безмятежно: могатас явно не собирался ничего скрывать. — И я даже не видел своими глазами ни тот бронзовый колокол, ни книги, которые никто не может прочесть. И потому нуждаюсь в том, чтобы другие люди указали мне путь, как вам указывает его волшебная стрелка вашего компаса.
Он указал на корму — без сомнения, туда, где в полутьме, слабо подсвеченная снизу огоньком нактоуза, угадывалась фигура рулевого. Я кивнул.
— Понимаю… И по этой причине ты выбрал капитана Алатристе себе в спутники?
— Истинно так.
— Но ведь он всего лишь простой солдат… Воин.
— Да, он воин. Имъяхад. И потому владеет мудростью. Каждое утро, открывая глаза, он глядит на свою шпагу и вечером, перед тем как закрыть, опять глядит. Он знает, что такое смерть, и готов к ней. И тем отличен от других.
Еще до рассвета слово «смерть» обрело для нас смысл самый что ни на есть непосредственный. Ветер, до сей минуты умеренный и благоприятный, сменил направление, резко усилился и погнал нас к берегу, грозя разбить о скалы. Гребную команду растолкали, подняли бичами, погнали на весла, и вот отчаянными и совместными усилиями удалось мало-помалу уйти подальше от опасных мест в открытое и весьма бурное море, захлестывавшее высокими волнами куршею; жалко было смотреть на полуголых мокрых галерников, что надрывались, выгребая против ветра. Моряки сбились в кучу, попеременно молясь и матерясь, а наша братия, за исключением нескольких привилегированных лиц, давно уже застолбивших себе местечко в кубрике, лазарете и каюте, валялась, как кому Бог привел, кучей и вповалку на палубе и в галерейках вдоль бортов, умученная непрерывной рвотой, ибо качка, именуемая килевой, была страшеннейшая: галера то глубоко зарывалась носом в волну, то выныривала, и тогда вода обдавала нас потоками с ног до головы. Мало было проку от парусины, мешковины и прочего тряпья, коим мы пытались накрыться, ибо в довершение к тем пакостям, что вытворяла с нами разыгравшаяся стихия, хлынул проливной и холодный дождь, а натянуть парусиновый тент над палубой не получалось из-за сильного ветра.
И все-таки на одних веслах — пять или шесть были в тот день сломаны — мы, потратив на это целое утро, продвинулись примерно на одну лигу мористее. И забавно было слышать, какой в ответ комиту, вскользь заметившему, что, если господам солдатам нежелательно, чтобы галеру шарахнуло и в щепки разбило о прибрежные скалы, где нам всем сейчас же и конец придет, недурно было бы кому-то из нас сесть на весла, какой, говорю, поднялся тут вой протеста: мы, дескать, воины, а значит, идальго, и потому нам и в кошмарном сне не привидится грести на галере, иначе как — Господи, избави! — по приговору пресветлого нашего государя. Да я сто раз предпочту, говорил один, чтоб меня, как новорожденного котенка, утопили, не нанеся порухи чести моей, чем спастись такой ценой. Да я лучше дам себя ломтиками нарезать, вторил ему другой, чем хоть на краткий срок унижусь до подлого состояния галерника. Тем дело и кончились, и все пошло своим чередом: вымокшие до нитки мужи брани остались валяться на палубе, стуча зубами, блюя, молясь и понося весь род человеческий, к которому имели несчастье принадлежать, а каторжане — выбиваться из сил, ворочая веслами, меж тем как бичи комита и его помощника лоскутьями снимали кожу с их спин.
Во второй половине дня, ко всеобщему несказанному облегчению, ветер переменился — задул сирокко и, тотчас надув оба паруса, помчал нас заданным курсом в обратном направлении. Беда была в том, что с небес продолжали низвергаться потоки воды, будто хляби разверзлись и сейчас начнется потоп, и так вот, терпя то вместе, то поврозь струи ливня и оплеухи ветра, мы заметили впереди огни, перебежали в полном составе на корму, чтобы приподнять нос да, не дай Бог, не воткнуться куда-нибудь тараном, и стали приближаться к Мессинскому проливу, причем ход держали, согласно расчетам штурмана, четыре мили на каждую склянку. В довершение радостей быстро стемнело, так что весьма затруднительно было определиться, где мы находимся, а ведь прямо по носу у нас где-то в кромешной тьме таились пресловутые Сцилла и Харибда, еще со времен хитроумного грека наводящие ужас на мореплавателей и справедливо считающиеся наимерзейшим местом на всех морях-океанах. Однако волнение было сильное, гребцы окончательно выбились из сил, и все это не давало решительно никакой возможности ни лавировать, ни держаться от проклятого створа подальше. Вот в таком положении мы пребывали, входя в воронкообразный Мессинский пролив — повернуть было уже никак нельзя, — и когда сразу несколько наших вдруг вскричали, что видят огонь на суше, штурман с капитаном Урдемаласом после непродолжительного совещания с глазу на глаз решили, что, мол, была не была, а также вспомнили о семи смертях, которым, как известно, не бывать, и все прочее с тому подобным, и договорились считать, что горит этот огонь либо на башне в самой Мессине, либо на маяке, отстоящем от города почти на две лиги севернее. Взвился парус на фок-мачте, комит засвистел, силясь быть услышанным сквозь вой ветра в снастях, гребцы — в том числе и Гурриато — вновь налегли на весла, а рулевой взял курс на этот отдаленный огонек. Мы плыли в темноте, и гораздо быстрее, чем нам того хотелось, бормоча молитвы, держась кто за что мог и уповая, что не сядем в этой узости на мель, не налетим на подводный камень, не врежемся со всего хода в скалистый берег. Впоследствии мнения разделились: одни считали, что произошло чудо, другие полагали, что нам неслыханно повезло, а иначе как объяснить, что не постигла нас ни одна из этих бед. Когда мы, по прикидкам штурмана, были уже совсем неподалеку от Мессины, в довершение несчастий погас путеводный огонь, залитый, надо думать, непрекращающимся ливнем: счастье еще, что, хоть ветер и сменился снова на норд-ост, шторм почти утих. Мы подвигались вперед, отыскивая вход в гавань, и если бы в этот самый миг не вспыхнула на небе зарница, высветив форт Сан-Себастьян, оказавшийся на пистолетный выстрел от носа галеры и рулевой в последнюю минуту не успел бы переложить штурвал, то, несомненно, вдребезги расшиблись бы о каменную стену и погибли, не дотянув до спасения буквально на волосок.
VII. Увидеть Неаполь и умереть
Там, где Везувий озарял ночное небо неверным и призрачным светом, оно было алым, а потом будто выцветало, делаясь на противоположном своем краю, залитом лунным сиянием, блекло-розовым. И Неаполь со всеми своими возвышенностями и затемненными впадинами, домами, шпилями колоколен, морем и сушей, так причудливо освещенными двумя противоборствующими источниками, показался Алатристе не настоящим городом, а игрой воображения и напомнил ему, как во Фландрии, когда грабили какой-нибудь дворец, спорило всамделишное пламя с огнем, написанным красками на полотне.
Он с наслаждением втянул ноздрями теплый солоноватый воздух, покуда не спеша прилаживал и затягивал потуже ременный пояс со шпагой и кинжалом. Плащ надевать не стал. Несмотря на поздний час — давно уж отзвучали колокола, сзывавшие на вечернюю молитву, — было совсем не холодно. И эта приятная прохлада по-особому прозрачного ночного воздуха как-то умиляла, навевая светлую грусть. На месте Алатристе поэт — вот хоть дон Франсиско де Кеведо — давно извлек бы из этого несколько славных или скверных строк, но капитан стихов не писал — у него вместо них было полдюжины шрамов и десяток воспоминаний. Так что он нахлобучил шляпу, поглядел сперва в одну, потом в другую сторону — по ночам в таких уединенных местах сам дьявол не ощущал бы себя в полной безопасности — и пустился в путь, слушая, как звонкий стук его каблуков по торцам мостовой стихает на песчаной почве Чиайи. Он шел неторопливо, внимательно всматриваясь, не вынырнет ли чья-нибудь тень из-за перевернутых рыбачьих лодок на берегу, и вот в конце длинного пляжа увидел, как — черные на красном — возникают вдали холм Пиццофальконе и вынесенная далеко в море крепость Уэво. В окнах не светилось ни единого огонька, на улицах не горели ни факелы, ни плошки. И не было ни ветерка. Древняя Партенопа спала, укрощенная огнем, и на лице Алатристе, спрятанном в тени широкополой шляпы, вдруг появилась улыбка. Такой же точно свет, исходящий из жерла Везувия, когда вулкан вдруг решает перетряхнуть свои внутренности, и в дни капитановой боевой юности озарял его забавы и проказы.
Нынешнему веку шел тогда десятый год, а ему — семнадцатый. Он впервые тогда узнал Италию, навидавшись всяких ужасов при усмирении мятежных морисков в горах и на побережье Испании. Он плавал солдатом на корсарских галерах, и богатая добыча с греческих островов и оттоманских прибрежных земель сама просилась в руки каждому, у кого хватало духа отправиться за ней… Первые шесть лет службы в неаполитанском полку были, можно считать, лучшим временем в его жизни: нескудеющая и пополняемая с каждым новым походом мошна, остерии и таверны Мергелины и Чоррильо, испанские комедии в Корраль-де-лос-Флорентинос, отменное вино, а жратва — еще лучше, благодатный климат, привольное гарнизонное житье под сенью раскидистых дерев в компании милых сердцу товарищей и ласковых красавиц. Там он и познакомился с будущим испанским грандом, в поисках приключений пошедшим волонтером на галерный флот — юные аристократы так зарабатывали себе репутацию, — с графом де Гуадальмедина, сыном того генерала, под водительством коего Алатристе воевал во Фландрии, при Остенде.
Шутка ли — Альваро де ла Марка, граф де Гуадальмедина! Шагая берегом моря, капитан размышлял: а знает ли тот, сидя в своем мадридском дворце, что давний его знакомец вновь оказался в Неаполе? Если, конечно, сиятельному вельможе, другу и конфиденту короля Филиппа Четвертого, есть хоть какое-то дело до того, как сложилась судьба человека, который в 14-м году вынес его, раненного, из боя и на себе, по пояс в воде, дотащил до кораблей… Дело было на Керкенне, и арабы кидались на них тогда со всех сторон, как бешеные псы… Однако с той поры между былыми боевыми товарищами пролегло слишком много всякого-разного: добрым отношениям не способствуют ни бедро, пропоротое шпагой перед неким домом в Мадриде, ни лицо, разбитое рукоятью пистолета, когда в карете переезжали мост через Мансанарес.
Он выругался про себя, сплюнул с досады. Гуадальмедина, которого он не видел с достопамятной охоты в окрестностях Эскориала, не выходил у него почему-то из головы, а заодно лежал камнем на сердце. Капитан, силясь избавиться от неприятного воспоминания, заставил себя думать о другом. В самом деле — какого черта? Он — в Неаполе! Вокруг — все великолепие Италии, сам он здоров, и в кармане еще побрякивают кружочки с августейшим профилем. У него — отличные товарищи, не говоря уж про Себастьяна Копонса — как хорошо все же, что удалось выцарапать его из Орана! — мастера пожрать и не дураки выпить, мужики в полном смысле слова, готовые и последним поделиться, и спину тебе прикрыть. И той же породы самый давний его друг, Алонсо де Контрерас — еще бы: с ним вместе по четырнадцатому-то году они записались пажами-барабанщиками в полк, отправлявшийся во Фландрию. Алатристе и Контрерас встретились в Италии десять лет спустя, потом в Мадриде и вот теперь — снова в Неаполе. Бравый дон Алонсо нисколько не изменился — все так же отважен, речист и немного фанфарон, но это — лишь по первому впечатлению, которое не только обманчиво, но и чрезвычайно опасно для тех, кто, поддавшись ему, не захочет вникнуть в суть. Он вышел в капитаны, прославился — после того, как Лопе де Вега вывел его в комедии «Король без королевства» — и, плавая на мальтийских галерах вдоль побережья Эгейского моря, на Морею наведываясь, богатства себе не стяжал, но жил широко. Герцог де Альбукерке, вице-король Сицилии, не так давно дал ему под начало гарнизон Пантеларии — есть такой островок на полпути в Тунис — и даже выделил фрегатишко, чтоб, если совсем тоска заест, можно было малость покорсарствовать. По словам самого Алонсо, не бог весть что, но все же должность приятная, надежная и оплачиваемая.
…Алатристе берегом шел дальше. Не доходя до твердынь Пиццофальконе, свернул, поднялся по откосу. И через арку всю ночь открытых ворот вступил, удвоив бдительность, на улицы города. На углу внимание его привлекла освещенная таверна. Изнутри слышались гитарный перебор, мужские и женские голоса, обрывки слов по-испански и по-итальянски, смех. Захотелось завернуть туда, принять стакана два, но капитан поборол искушение. Было уже очень поздно, к тому же он устал, а до так называемого Испанского квартала, где они с Иньиго разместились, идти еще порядочно. Да и потом: за жизнь свою он уже и так выпил немало, гася жажду — да и не ее одну, видит Бог! — напиваться же взял себе за правило лишь в те дни и ночи, когда демоны устраивали в душе и в памяти свои игрища, а сегодня такого не было. Свежие воспоминания наводили все же на мысли о райских усладах, нежели об адских муках. Алатристе усмехнулся этой мысли и, проведя пальцами по усам, ощутил, что они будто впитали в себя запах женщины, дом которой он недавно оставил. Как хорошо, мелькнуло у него в голове, быть живым и снова оказаться в Неаполе.
— Non e vero[150], — сказал итальянец.
Мы с Хайме Корреасом переглянулись. Счастье еще, что оружие полагалось оставлять при входе в игорный дом, а иначе немедленно бы обнажили шпаги по адресу наглеца. Нужды нет, что у итальянцев эти слова вовсе не считаются оскорблением, ни один испанец безнаказанно такое не оставит. А этот игрок прекрасно знал, кто мы и откуда.
— Нет, сударь. Это вы врете.
И с этими словами я, оскорбленный тем, что мне осмелились сказать такое, поднялся и ухватил со стола кувшин с намерением разбить его — вот только дернись! — о голову собеседника. Корреас последовал моему примеру, и так вот стояли мы с ним бок о бок, глядя: я — на шулера, Хайме — на тех восьмерых-десятерых молодцев самого гнусного вида, что играли за нашим столом. Как я уже упоминал выше, мы в такого рода заведениях были не впервые, ибо Корреас ни устали, ни удержу в игре не ведал и мог предаваться сему пороку с утра до вечера. Давний мой товарищ пустился во все тяжкие после того, как нелегкая — извините за каламбур — занесла его еще в нежном возрасте, пажом-мочилеро во Фландрию, а ныне сделался прожженным плутом, отъявленным потаскуном и неисправимым кутилой, завсегдатаем злачных мест, одним из тех пропалых ребят, которые, привыкнув брать от жизни все, не задумываются, что когда-нибудь и отдавать придется, отчего обычно и получают либо нож под ребро, либо почетное право галерным веслом шугать сардинок, либо и вовсе подсудобливают себе на шею в три витка веревочку, которой, известное дело, как ни вейся, а конец будет. А я? Что ж я? И чего другого вы, господа, ожидали бы от меня — ровесника его и друга и уж совсем не мужа праведной жизни? Так что мы с ним на пару новоявленными Аяксами бродили, ухарски заломив шляпы да шпагами звеня, по Италии, которой владели, о которой радели с тех, теперь уже давних пор, как арагонские государи завоевали Сицилию, Корсику и Неаполь, и сперва рати Великого Капитана[151], а потом полки императора Карла намылили здесь французам холку. К вящей досаде римских пап, венецианцев, савойцев, ну и так надо понимать, что и самого врага рода человеческого тоже.
— Врете и притом мухлюете, — припечатал Корреас, отрезая пути к отступлению.
Последовало молчание из разряда тех, что обещают много, но ничего хорошего, однако, не сулят, а я наметанным солдатским глазом оценил положение и остался им крайне недоволен. Партнер наш, по виду судя, продувная бестия, пройдоха и шельма, был, скорее всего, флорентинец, а прочие — неаполитанцы, сицилийцы или уж не знаю, где их мамаша родила, а наших в поле зрения не оказалось ни одного. Помимо всего прочего, место, где это дело происходило — подвал с закопченным потолком, — помещалось на площади Ольмо: рядышком имелся фонтан, а вот до испанских казарм было довольно далеко. Утешаться оставалось тем лишь, что на первый взгляд противники наши были так же безоружны, как и мы с Хайме, хотя нельзя было исключать, что в нужный момент в руке у кого-нибудь, откуда ни возьмись вынырнув, блеснет ножичек. Я про себя проклял своего товарища, который оттого и вверг нас обоих в такую вот мухоловку, что в безмозглую башку ему в очередной раз втемяшилось выбрать для утоления картежной страсти такой гнусный притон, как этот. Да, в очередной раз, не в первый, но очень похоже, что в последний.
Итальянец меж тем сохранял спокойствие. Ему ли, бакалавру крапа и лиценциату мухлежа, было тревожиться из-за таких недоразумений, неотъемлемо присущих благородному ремеслу шулера? Наружность его, доверия не внушая, была под стать поведению: плешь он прикрывал скверно сделанной накладкой, был тощ и мосласт, на пальцах сверкали массивные перстни, и торчком, как два свясла, стояли у самых глаз нафабренные усы. Совсем был бы персонаж какого-нибудь фарса, если бы не взгляд — цепкий и опасный. Жуликовато бегая глазами, до ушей раздвинув губы улыбкой, что смотрелась фальшивее, чем гасконец на богомолье, он быстро переглянулся со своими присными, а затем указал на карты, разбросанные по грязному столу, залитому вином и заляпанному белесыми кляксами свечного воска.
— Voace a fato acua, — произнес он, не выказывая волнения. — A perduto[152].
Сильнее злясь на то, какими непроходимыми олухами он нас считает, нежели на ситуацию как таковую, я в свою очередь взглянул на карты, лежавшие рубашкой вверх. На королях и семерках, коими банкомет тщился удостоверить причуды капризницы-фортуны, «мушиных крылышек» было больше, чем на прилавке в мясной лавке, а «бровки» — погуще, чем у Бартоло Типуна. Малый ребенок заметил бы наколку, но этот прохвост, как видно, считал, что раз нездешние — значит, совсем недоумки.
— Забери деньги, — шепнул я Хайме. — И ходу отсюда!
Не заставляя просить себя два раза, он сгреб и сунул в кошель монеты, которые мы, пентюхи последние, поставили на кон. Я не выпускал ручку кувшина и не сводил глаз с итальянца, искоса, впрочем, посматривая и на остальных. И обдумывал шахматную комбинацию, ибо столько раз слышал вразумления капитана Алатристе: прежде чем наступать, проверь пути отхода. До дверей, где мы оставили оружие, было десять шагов и двенадцать ступеней вверх. Нам на руку играло и то, что завсегдатаи, вероятнее всего, набросятся на нас не здесь, а на улице, дабы у владельца заведения не возникло бы потом хлопот с правосудием. Стало быть, у нас был известный простор для маневра. Я напряг память. Из всех церквей, где можно укрыться в случае чего, ближайшими были Санта-Мария-ла-Нуэва и Монсеррате.
Мы выбрались наружу беспрепятственно, чему я немало удивился, ибо, вопреки всем моим расчетам, молчание, повисшее в игральной зале, вполне могло быть прервано щелчком выкидного ножа. Поднявшись по лестнице, забрали наши шпаги и кинжалы, сунули монету слуге, вышли на площадь Ольмо и, заслышав за спиной шаги, обернулись. Розовоперстая Эос — или как ее там? — уже отдергивала полог утра, открывая вершину горы, увенчанной замком Сан-Мартин, и обращала приветный взор к нашим лицам, осунувшимся и воспаленным после целой ночи, столь щедро даровавшей нам вино, музыку и возможность не увидеть свет нового дня. Хайме Корреас — за годы, протекшие с фламандских времен, он не очень прибавил в росте, но зато сильно раздался в плечах, заматерел, усвоил себе все солдафонские ухватки, оброс уже густой не по годам бородкой, а шпагой обзавелся такой длиннющей, что она волочилась по земле, — кивком показал мне на банкомета и трех его дружков, шедших за нами следом, и спросил полушепотом: что будем брать в руки — шпаги или ноги? Мне показалось, что второй вариант представляется ему предпочтительнее. Это меня отчасти обескуражило, ибо я и сам не слишком был расположен к схватке — не говоря уж о том, что в соответствии с эдиктами вице-короля за поножовщину средь бела дня и посреди улицы прямиком отправляли в тюрьму Сантьяго — это если ты испанский солдат, ну а если паче чаяния итальянец — то в тюрьму Викариа. И вот, когда, чуя за спиной банкомета с дружками, шел я, miles хоть и gloriosus[153], но терзаемый сомнениями, какую тактику избрать: с кличем «Испания, вперед!» ударить ли на врага или же, напротив, удариться в бегство самим, уподобившись проворством зайцу быстроногому, ибо уже давно дон Франсиско де Кеведо сказал, как отрезал: «Смельчак благоразумный — смел вдвойне», Пречистая Дева и ниспослала нам с Хайме Корреасом благодать. На этот раз она приняла образ полувзвода испанских солдат, которые сию минуту сменились с караула на пристани и заворачивали за угол улицы Адуана. И, не раздумывая более, мы устремились к отчизне под крыло, несостоявшиеся же противники наши, поняв всю тщету своих устремлений, застыли, гады, на перекрестке и с места не стронулись. Но долго и внимательно, очень-очень внимательно глядели нам вслед, словно желая накрепко запечатлеть в памяти лик наш и облик.
Я обожал Неаполь. И даже сейчас еще, когда обращаю мысленный взор в прошлое и вспоминаю о златых днях юности моей, проведенных в этом городе, разнообразием своим подобному вселенной в миниатюре, размерами — Севилье, красотою же — райскому саду, улыбаюсь от удовольствия и светлой грусти. Представьте, каково человеку молодому и отважному, да притом испанскому, воюющему под знаменами славнейшей в свете пехоты, подданному державы, которая в могуществе не знала себе равных и внушала трепет всему миру, каково, говорю, было ему оказаться здесь, в сем благословенном и упоительном краю: «Порта манджаре… Прошютто и вино, дживо-дживо… Престо!.. Бон джорно, бела синьорина!»[154] Прибавьте к этому, что во всей Италии, за исключением одной лишь Сицилии, женщины днем разгуливали по улицам без плаща и накидки, себя не пряча и зачастую показывая даже ножку до самой щиколотки, волосы же убирали под сетку либо покрывали голову легчайшей шелковой мантильей. Кроме того, относились к нам в ту пору не в пример лучше, чем к прижимистым французам, надменным англичанам или скотоподобным немцам, прощая и спесь, и фанфаронство за железную стойкость в бою, отвагу и легкость в расставании с деньгами. И, невзирая на природную нашу свирепость, в которой на собственном опыте убедиться пришлось многим понтификам, с простыми итальянцами отношения — в ту пору опять же — были самые расчудесные. Особенно в Неаполе и на Сицилии, где едва ли не каждый говорил по-испански. Изрядное число итальянцев, проливавших кровь под нашими знаменами — плечом к плечу с нами сражались они, к слову сказать, под Бредой, — никто — ни историки, ни обыватели — отнюдь не считал предателями: видели в них людей, верно служивших своему отечеству. Это уж потом, когда на место капитанов и солдат, задававших перца французам и туркам, хлынули с Пиренеев разного рода мытари и прочая кровососущая вездесущая чиновничья шваль, а героические деяния сменились угнетением и беззастенчивым грабительством, разбоем и нищетой, стали вспыхивать мятежи и восстания — вроде того, что полыхало в Масаниэльо в 47-м году.
Но воротимся в Неаполь времен моей юности. Лучезарный и процветающий город этот был наилучшей точкой приложения бушующих во мне сил. Тем более что, если помните, я оказался в беспокойном сообществе Хайме Корреаса, с которым шлялись мы и бродили повсюду, в поисках приключений заглядывая иной раз даже в женские монастыри, ныряли с пирса в море, спасаясь от жары, обходили улицы, вскидывая головы к каждому окну, если оттуда из-за шторы, ставни или жалюзи без промаха стреляли в нас глазками, не пропускали, само собой, таверны — здесь, в Италии, обозначались они лавровой ветвью на вывеске, — не чурались ни веселого дома, ни игорного. Я, надо мне отдать должное, в заведениях с девицами был столь же благоразумно сдержан, сколь безудержно опрометчив — мой друг, кидавшийся оголтело на всякое голое тело, в отличие от меня не страшившийся утех у тех, что метким дуплетом бьют влет и кошелек, и здоровье, так что покуда Хайме, отзывчиво откликаясь на всякое от дверей доносившееся: «Зайди, красавчик, загляни, солдатик, не пожалеешь», погружался в пучину разврата, я потягивал вино в культурной беседе и, фигурально выражаясь, плескался, далеко не заходя, у бережка — оно и бесплатно, и безопасно. Впрочем, поскольку — спасибо капитану Алатристе! — вырос я парнем хоть и осмотрительным, да щедрым, то здешние птички, не уподобляясь курочке, которая, как известно, только от себя гребет, меня привечали, и не было у меня от них отбоя, а мне у них — ни в чем отказа: одна даже гладила и — не поверите! — крахмалила мои манжеты, воротник и сорочки. И многочисленное сообщество удалых завсегдатаев, тоже пасшихся на этом лужку, относилось ко мне как к доброму товарищу, тем более что, как вы уже знаете, и опять же благодаря школе, пройденной у капитана Алатристе, я в драке был проворен, увертлив, легконог и в ударе, что называется, зол и точен. А это, тем более когда человек не скупердяйничает, неизменно приветствуется в среде бравых Ухорезов, Руколомов и прочих испанских вояк.
— Тебе письмо, — сказал капитан Алатристе.
Утром, сменившись с караула на Кастильнуово, зашел он на почту и получил сложенный вдвое и запечатанный сургучом лист с моим именем на лицевой стороне, каковой сейчас лежал передо мной на столе в нашей с ним комнате, помещавшейся в трактире Аны де Осорио в Испанском квартале. Капитан, стоя к окну спиной, отчего все лицо его, кроме кончика уса и краешка щеки, было в тени, глядел на меня молча. Медленно, будто ступая по вражеской территории, ибо успел узнать почерк, я приблизился. И вот — Бог свидетель! — несмотря на протекшее время, расстояние, не отроческие уже года и многие события, происходившие со мной после той ужасной и столь богатой событиями ночи в Эскориале, почувствовал, как едва ощутимо запульсировал рубец на спине, словно вновь к нему после ледяного прикосновения кинжала приникли горячие губы, и сердце замерло, пропустив удар, и тотчас заколотилось бурно и беспорядочно. Наконец я протянул руку за письмом, и тут капитан взглянул мне прямо в глаза. Он вроде бы собирался сказать что-то, но, так и не собравшись, постоял еще мгновение, потом взял шляпу и обмотанную портупеей шпагу и вышел, оставив меня в комнате одного.
Сеньору дону Иньиго Бальбоа Агирреиз роты капитана дона Хустино Арменты де Медрано, Неаполитанская бригада королевской пехоты
Сеньор солдат!
От меня потребовались значительные усилия, чтобы установить Ваше нынешнее местонахождение, хотя мои родственники и знакомые сообщают обо всем, что происходит в Испании, мне, пребывающей сейчас далеко за ее пределами. И так вот мне стало известно, что Вы вновь вступили в военную службу вместе с этим капитаном Нахалатристе, или как его там, и в доказательство того, что не удовлетворились прежними деяниями против еретиков во Фландрии, ныне устремили свой натиск на Турка во имя защиты нашей монархии и истинной веры, что делает Вам честь и лишний раз свидетельствует о том, сколь рыцарственно мужественны Вы и отважны.
Ошибкою с Вашей стороны было бы уподобить здешнее мое житье ссылке на необитаемый остров. Ибо Новый Свет — не только новый, но и захватывающе притягательный — открывает огромные возможности, а связи моего дядюшки дона Луиса оказываются здесь не менее — если не более — полезными, нежели при дворе. Довольно будет сказать лишь, что положение его не только ни в малейшей степени не пошатнулось, но и скорее даже укрепилось и упрочилось, вопреки тем лживым измышлениям по поводу прошлогоднего злосчастного происшествия в Эскориале, коими недоброжелатели тщились опорочить его в глазах его величества. Я надеюсь, что в самом скором времени ему удастся полностью оправдаться, благо у дона Луиса остались при дворе многие друзья и родственники, хлопочущие за него перед нашим государем. Есть также чем поощрить их в этих благородных устремлениях, ибо, выражаясь Вашим солдатским языком, мы не испытываем недостатка в порохе для подведения контрмины. В Таско, где мы сейчас живем, добывается самое лучшее и чистое серебро в мире, причем большая часть его, поступающая через Кадис в Испанию, проходит через руки дядюшки, а когда-нибудь пойдет через мои. Как сказал бы фрай Эмилио Боканегра, сей праведник и муж святой жизни, которого, я уверена, Вы вспоминаете с чувствами столь же теплыми, как и я: «Пути Господни неисповедимы», тем паче — в нашей католической державе, цитадели истинной веры, средоточии столь многих и многообразных добродетелей.
Что же касается лично Вас и меня, то, хотя в течение долгого времени, протекшего с нашей последней встречи, произошло уже немало событий, я помню в мельчайших подробностях каждый ее миг, как, смею надеяться, и Вы. Я развилась и телесно, и духовно, а потому мечтала бы удостовериться в благотворности сих перемен при встрече с Вами, каковая встреча, которая, мне кажется, уже не за горами, непременно произойдет, когда исчезнут препоны, завершатся странствия и разделяющая нас даль отойдет в область воспоминаний. Вы достаточно хорошо знаете меня, чтобы не сомневаться в моем умении ждать. А покуда это время еще не пришло, я настоятельно требую от Вас — в том, разумеется, случае, если Вы еще испытываете ко мне прежние чувства — немедленного и собственноручного ответного письма, из которого могла бы убедиться, что ни время, ни пространство, ни красавицы Италии и Леванта не сумели вытравить из Вашей памяти образ моих рук, моих уст и моего кинжала. В противном же случае Вы будете прокляты, ибо я нашлю на Вас злейшие злосчастья, по сравнению с коими цепи алжирского раба, весло галерника или кол, куда так любят усаживать своих гостей радушные турки, покажутся вам сущими пустяками. Но если Вы продолжаете хранить верность той, кто по-прежнему рада, что еще не убила Вас, клянусь, что Вы будете вознаграждены за нее мукой и счастьем, пока недоступным даже Вашему воображению.
Из этих слов Вы можете заключить, будто я думаю, что по-прежнему Вас люблю. Однако не советую Вам пребывать в уверенности относительно этого, как, впрочем, вообще чего бы то ни было. Убедиться в этом Вы сможете лишь, когда мы окажемся лицом к лицу и взглянем друг другу в глаза. А до тех пор постарайтесь остаться живым, целым и невредимым. У меня на Вас, как Вы помните, большие виды.
Желаю Вам удачи, сеньор солдат. Надеюсь, что на борт первой же турецкой галеры Вы спрыгнете с моим именем на устах. Мне будет приятно оказаться на устах храбреца.
Ваша —
Анхелика де Алькесар.Поколебавшись мгновение, не больше, я вышел на улицу. И обнаружил, что капитан, расстегнув колет, сложив на скамейку шляпу, шпагу и кинжал, сидит у дверей нашего постоялого двора и наблюдает за прохожими. Письмо было у меня в руке, я с гордостью протянул его Алатристе, но он взглянуть не пожелал, а лишь сказал:
— Фамилия Алькесар навлекает на нас беды.
— Анхелика — это мое дело.
Он снова с отсутствующим видом качнул головой, думая, казалось, о чем-то своем. Глаза его были устремлены на перекресток — наша остерия помещалась на углу Трес-Рейес и Сан-Матео, — где несколько мулов, привязанных к кольцам в стене, успели уже щедро унавозить землю возле двух полуподвальных лавчонок: одна торговала углем каменным, древесным и щепками для растопки, другая была завалена связками и заставлена рядами сальных свечей. Солнце стояло в зените, и, роняя нам на головы капли, белье на протянутых из окна в окно веревках качалось под ветром, постоянно чередуя прямоугольные пятна света и тени на земле.
— В подвалах инквизиции и на борту «Никлаасбергена» дело это было не только твое… — Алатристе говорил так, словно размышлял вслух, а не отвечал мне. — И в Эскориале — тоже… Я имею в виду наших друзей. Люди погибали.
— Анхелика тут ни при чем. Ее использовали втемную.
Он медленно повернул ко мне голову и долго смотрел на письмо, по-прежнему зажатое у меня в руке. Смутясь, я опустил глаза. Потом сложил лист вдвое, спрятал его в карман. Крошки сломанного сургуча, забившиеся мне под ногти, были похожи на запекшуюся кровь.
— Я люблю ее.
— Это я уже слышал. В Бреде. Тогда ты тоже получил похожее письмецо.
— Сейчас я люблю ее сильнее.
Капитан снова замолчал — и надолго. Я привалился плечом к стене. Мы созерцали прохожих — солдат, женщин, слуг, уличных торговцев. Весь этот квартал, строившийся с конца прошлого века попечением вице-короля дона Педро де Толедо, давал приют не менее чем трем тысячам испанских солдат из Неаполитанской бригады, ибо казармы могли вместить лишь малую их толику. Прочие же, как и мы с капитаном, селились здесь. Прямоугольный и при всей однородности своей весьма пестрый квартал был, может, и неказист, да удобен: присутственных мест здесь не было, зато на каждом шагу оказывалась если не гостиница, так остерия, не остерия, так постоялый двор, да и в четырех-пятиэтажных домах, занимавших все пространство, сдавались комнаты в аренду. Так что был это один неимоверных размеров военный лагерь, вписанный в городскую черту и заселенный солдатами, постоянно или временно дислоцированными в Неаполе, которые брали в жены местных или прибывших из Испании, заводили с ними детей и мирно соседствовали с местными жителями, а те сдавали нам жилье внаймы, кормили и поили и, прямо скажем, существовали на те деньги — весьма немалые, замечу, — что тратило наше доблестное воинство. И в этот день, как и во всякий другой, над нашими с капитаном головами перекрикивались из окна в окно женщины, и в домах, перемежаясь неаполитанским диалектом, громко звучала испанская речь со всем разнообразием выговоров, какие только есть в нашей отчизне. На обоих языках верещали и оборванные детишки, чуть выше по улице со сладострастием мучившие собаку: они привязали ей к хвосту разбитый кувшин и теперь палками гнали несчастную тварь по мостовой.
— Есть женщины…
Капитан начал и вдруг осекся и нахмурил лоб, словно позабыл, что хотел сказать. Меня же, неизвестно почему, обуяла досада. Двенадцать лет назад вот здесь же, в Испанском квартале, когда вино переполняло желудок, а ярость — душу, мой бывший хозяин убил лучшего друга и полоснул свою возлюбленную кинжалом по лицу.
— Не думаю, ваша милость, что вы вправе давать мне наставления насчет женщин, — сказал я несколько громче, нежели следовало бы. — Тем более здесь, в Неаполе.
Что ж, я знал, с кем имею дело. Ледяная молния, вспыхнувшая в зеленовато-прозрачных глазах, другого бы, может, и напугала, но только не меня. Не он ли сам научил меня не бояться никого и ничего?
— Да и в Мадриде тоже… где бедная Каридад плачет, покуда Мария де Кастро…
Теперь уже я оборвал фразу на середине, ибо капитан медленно поднялся и очень пристально взглянул на меня в упор этими своими заиндевелыми глазами, так похожими на фламандские каналы зимой. Я, хоть и выдержал его взгляд, невольно сглотнул слюну, заметив, как Алатристе двумя пальцами проводит по усам.
— Хватит, — сказал он.
И обратил задумчивый взор к сложенным на табурете шпаге с кинжалом.
— Себастьян, видно, был прав, — промолвил он чуть погодя. — Ты и в самом деле подрос. Даже слишком.
Он сгреб оружие, неторопливо опоясался ремнем с портупеей, на которой оно висело. Тысячу раз я видел, как он это делает, но сейчас почему-то от этого негромкого лязга мороз прошел у меня по коже. Алатристе все так же молча взял свою широкополую шляпу, низко надвинул ее, и лицо сразу оказалось в тени.
— Ты стал совсем мужчиной, — прибавил он наконец. — Можешь и голос повысить, а значит — и убить. Но, следовательно, и сам можешь быть убит… Постарайся помнить это, когда в следующий раз вздумаешь беседовать со мной о некоторых предметах.
Он глядел все так же — очень холодно и очень пристально. Так, словно видел меня впервые. Вот тогда мне и стало страшно.
Развешанное поперек узких улочек белье в темноте казалось развевающимися саванами. Диего Алатристе, оставив позади перекресток широкой, мощеной и освещенной плошками Виа-Толедо, углубился в Испанский квартал, чьи прямые улицы поднимались в полумраке по склону Сант-Эльмо. Впереди, озаренный свечением Везувия — красновато-зыбким, приглушенным расстоянием, — угадывался и сам замок. Вулкан, который в последние дни зевал да потягивался, сейчас снова задремал — лишь один маленький столб дыма венчал его кратер, и чуть заметно были подсвечены розовым облака на небе и вода в бухте.
Едва оказавшись в темноте, Алатристе перестал перебарывать рвотные позывы, и его буквально вывернуло наизнанку. Со шляпой в руке, опершись о стену и пригнув голову, он еще немного постоял так — пока тени вокруг не прекратили качаться и не прояснилось в одурманенной винными парами голове. Немудрено, что наконец оказала свое действие убийственная и беспорядочная смесь разных вин, которые он вливал в себя весь вечер и добрую часть ночи, обходя в одиночестве таверну за таверной, ускользая от встречавшихся на перекрестках товарищей и открывая рот для того лишь, чтобы заказать очередной кувшин. Вот и нажрался, как немец или еще кто похуже.
Он оглянулся на освещенное устье Виа-Толедо — нет ли непрошеных свидетелей. Гурриато-мавр, поначалу следовавший за ним неотступно, внял наконец энергически выраженному увещеванию и в какую-то минуту отстал от него. Сейчас, надо думать, спит в казарме на Монте-Кальварио. Никого, ни души, так что когда он снова надел шляпу и двинулся по тонущим во тьме улицам дальше, сопровождал его только стук собственных каблуков. Высвободив на всякий случай из-под плаща рукоять шпаги и держась середины мостовой, чтобы избежать неприятной встречи в подворотне или на углу, пересек Сперанчелью и пошел дальше, вверх по спуску, пока под сводом арок не замедлил вдруг шаги. Свернул направо, дошел до маленькой площади перед церковью Тринидад-де-лос-Эспаньолес. Эта часть Неаполя неизменно навевала на него воспоминания и отрадные, и горькие: последние сегодня возобладали и всколыхнулись. Сколько уж времени прошло, а они — тут как тут, живые и свежие, неотвязные, как москиты, и вино им нипочем — не берет… И какая бы адская ни терзала тебя жажда, все равно не выпьешь сколько нужно, чтобы извести их.
Нет, дело было не только в том, что убил соперника, что исполосовал лицо своей любовницы. И не в раскаянии, не в угрызениях совести, которые можно избыть, преклонив колени перед священником в церкви, если допустить хоть на миг, будто Диего Алатристе окажется в Божьем храме, не ища там убежища от правосудия, что гонится по пятам и дышит в затылок. За сорок пять лет жизни он убил многих и многих еще убьет, пока не придет его черед расплатиться за них за всех. Нет. Дело в другом, и вино помогает переварить или изблевать ту ледяную уверенность в том, что каждый сделанный им в жизни шаг, каждый удар шпаги, каждая поножовщина, каждое заработанное эскудо, каждая капля крови, забрызгавшей его колет, оседали, будто влажное туманное облачко, на его коже, въедались в нее, подобно тому, как на пожаре или в сражении пропитывается человек запахом гари. Это — запах жизни, запах лет, минувших и канувших безвозвратно, запах шагов — опрометчивых, сомнительных, безрассудных, неверных или твердых — и каждый предопределял следующие и не давал возможности свернуть. Этот запах смиренного и бессильного приятия неумолимой судьбы и покорности ей иные чем только ни пытаются отбить и заглушить, а иные — вдыхают, не отшатываясь, принимая как должное, ибо уверены, что в жизни и смерти, как и в любой игре, есть свои правила.
Не доходя до церкви Сан-Матео, Диего Алатристе свернул в первый проулок налево. В нескольких шагах впереди, на постоялом дворе Аны де Осорио, горели, как всегда по ночам, свечи и плошки в нишах перед тремя-четырьмя образами Приснодевы и святых. Уже на пороге он поднял голову, взглянул вверх, в небо, угрюмо темневшее над крышами домов и развешанным бельем. Одни места время меняет, другие — хранит, подумал он. Только сердце оно не щадит. И, выбранившись сквозь зубы, медленно, ощупью стал подниматься по скрипящим под сапогами ступеням деревянной лестницы, толкнул дверь в свою комнату, нашарил впотьмах огниво и трут, высек огонь и зажег свечу в шандале, висящем на вбитом в стену гвозде. Рывком расстегнув пояс, с яростью шваркнул амуницией об пол, не боясь разбудить спавших за стеной. Отыскал в углу небольшую оплетенную бутыль с вином и снова, упавшим голосом, выругался, обнаружив, что она пуста. Умиротворенность и покой, осенявшие в Неаполе душу Алатристе, сгинули бесследно сегодня днем, после нескольких минут разговора там, внизу. И в очередной раз сменились уверенностью в том, что никому не удастся близ сажи быть, да не замараться, и еще — в том, что мальчишка семнадцати лет смог превратиться в зеркало, где капитан увидел и свое лицо, и шрамы, о которых не дано забыть и над которыми, как известно, шутит тот, кто не был ранен. Кто-то когда-то написал, что дороги и книги ведут к мудрости. Смотря кого. Диего Алатристе они неизменно приводят в кабак.
Денька два спустя случилось мне встрять или вляпаться в некое курьезное происшествие, о коем я рассказываю вам, господа, исключительно для того, чтобы вы могли сами убедиться в наличии на губах у меня, при всей моей кажущейся заматерелости, необсохшего материнского молока. Случилось так, что ночью, отстояв в карауле у башни возле замка Уэво, которую мы называли Алькала, я шел домой. Если не считать того, что на противоположном конце города Везувий озарял слабеньким красноватым свечением небо и воду бухты, темно было — хоть глаз коли. Поднявшись по Санта-Лючии и миновав церковь, возле ниши с образом Девы Марии, увешанной exvotos — сделанными из воска и латуни фигурками младенцев, изображениями глаз, рук, ног, засохшими цветами, ладанками и всем прочим в том же роде, — я заметил одинокую женскую фигуру под покрывалом. В столь поздний час, подумал я, дамочка здесь может находиться либо от чрезмерного благочестия, либо по необходимости, диктуемой неизбежными для мастериц нескучного досуга тяготами. Так или иначе я решил рассмотреть ее получше при свете масляных плошек, горевших у алтаря, ибо, как говорится, сокол, пока молод, не уймет голод. Я убедился, что она довольно высока ростом и стройна, а подойдя поближе, услышал хруст шелка и почуял запах амбры, из чего заключил, что промахнулся, сочтя ее ревностной богомолкой. И, заинтересовавшись еще больше, попытался заглянуть ей под мантилью. Отдельные части тела, до этого попавшие в поле моего зрения, были хороши, а в наборе получалось и совсем замечательно.
— Э-э, люббезни кавальере, вы черресчурре пруоворни! — сказала она не без игривости. — Пуомнитте приличчья.
— Кто ж думает о приличиях при виде таких красот, — ответствовал я, не смутясь.
Голос ее, девически звонкий и приятного тембра, окрылил меня еще больше. Неподдельная итальянка, смекнул я. Не из числа наших надменных соотечественниц — андалусиек или нет, — которые промышляют в Италии, строя из себя владетельных герцогинь, но, уловив добычу на крючок, переходят на чистейший кастильский язык. Я стоял перед нею, но лица так и не видел, хотя абрис, обрисованный светом коптилок, радовал глаз. Мантилья вроде была шелковая и не из дешевых — и при взгляде на открываемый ею образчик захотелось купить всю штуку.
— Так убберены, что настреляете диччи-доббиччи? — осведомилась она.
Я, хоть не учился в школах, был не полный олух, а при этих словах и последние сомнения рассеялись: дамочка, стоявшая передо мной, была если не легкого поведения, то уж точно — не строгих правил, а если и не высокого полета, то во всяком случае — не последнего разбора. Ничего общего с подвизавшимися в притонах и борделях гулящими девками, шлюхами и потаскухами, которые, может, при виде шмыгнувшей по полу мышки и взвизгнут «Спасите!», но и перед полуротой аркебузиров не спасуют.
— Я, знаете ли, не на охоту собрался, а с поста сменился, — честно ответил я. — И спать хочу больше, чем еще чего-нибудь.
Она в свою очередь оценивающе разглядывала меня при свете плошки. Полагаю, что нестарые мои года были у меня просто на лбу написаны, да и юношеский голос выдавал их. Я представил себе ход ее мыслей и понял, что не ошибся, когда услышал пренебрежительное:
— Нуовобранццио спаньоло… Джельтороттикко. Мнуого прытти, мало дукати. Бизоньо.
Тут меня, что называется, задело за живое. Она явно сочла меня одним из тех бедных солдатиков-первогодков, к которым приклеилось это прозвище оттого, что они, прибывая на Апеннины дикими, как карибские индейцы, и не зная итальянского, обходились во всех случаях с помощью единственного слова «bisogno» — «мне нужно». Я ведь не раз уж поминал, что лет мне в ту пору было немного. Так что, сочтя себя уязвленным, я похлопал по пришитому к поясу карману, где лежали в кошельке серебряный восьмерной дублон, три серебряных монеты достоинством пониже и еще сколько-то мелкой меди. Позабыв в сей быстрый миг завет дона Франсиско де Кеведо: девица тем милей мне, чем дешевле.
— Мне нравиацца эти реччи, — заявила корсарка.
И без церемонных околичностей схватила меня за руку своей рукой — горячей, маленькой и девически-гладкой. Это до известной степени меня успокоило, ибо я всерьез опасался при ближайшем рассмотрении, не говоря уж о тесном знакомстве, что незнакомка окажется всякие виды видавшей, огонь и воду прошедшей, временем траченной, тертой и трепанной, попросту говоря, шкурой, ушивающей чрезмерную широту натуры с помощью иголки да нитки. Хотя лица ее так и не увидел. Впрочем, я, хоть и намеревался всерьез разочаровать ее, сообщив, что не собираюсь следовать за ней в те дали, которые она передо мной открывала, никак не мог на это решиться и колебался, остолоп, боясь ее обидеть чересчур резким отказом. А когда все же сказал, что пойду своей дорогой, она посетовала, что как, мол, неучтиво будет бросить даму посреди улицы и не проводить до дому, а дом-то — вот он, рукой подать, рядышком тут, на Пиццофальконе, только по ступеням подняться. Как же, мол, ей одной да в такую поздноту? И в довершение пений своих будто ненароком дала соскользнуть мантилье, наполовину открыв лицо и обнаружив тем самым прелестно очерченный рот, белую кожу и черный глаз — один из пары тех, какими, стреляя, бьют навылет и наповал, так что даже «Иисусе!» сказать не успеешь. После такого и говорить больше было не о чем, так что мы тронулись под ручку: я вдыхал аромат амбры и слушал шелест шелка — и думал на каждом шагу, невзирая на все свои предыдущие передряги, что вот, иду себе с дамой по улицам Неаполя и ничего плохого из этого не воспоследует. Додумался по недомыслию своему до того даже, что девица она, может статься, никакая и не гулящая, а просто взбалмошная. Такое вот чудо-действие произвела на меня ночь или еще что. Юношеская пылкость и все прочее. Ну, короче говоря, предоставляю вам, господа, самим судить о степени моего тогдашнего скудоумия.
— Пришли, красавч-чик…
Это нежно-фамильярное обращение она сопроводила лаской — потрепала меня по щеке. Не могу сказать, что мне это было неприятно. Меж тем мы стояли уже перед ее домом — это я так думал, — и моя красавица извлекла из-под своего покрывала ключ и отперла дверь. Разум и здравомыслие временами меня покидали, но все же я забеспокоился, заметив во время очередного просветления, в какое мрачное место попал. Хотел было распрощаться, но она опять взяла меня за руку. К дому поднялись мы по лестнице, что вела от Санта-Лючии к первым домам Пиццофальконе — в те годы здоровенное здание казарм еще не было построено, — и вот входили теперь через распахнувшуюся дверь в просторную и темную прихожую, где пахло плесенью, а на зов хозяйки, дважды плеснувшей в ладоши, появилась с лампой в руке тучная старуха-служанка и провела нас по ступеням наверх, в комнатку, всю меблировку коей составляли кровать, два стула и стол. И это окончательно освободило меня из плена химер, ибо понятно стало, что в этой комнате не живут и служит она для торговли живым товаром, какую ведут имеющиеся на сей случай в изобилии подставные матери, выставляя на продажу своих питомиц — да и питомцев тоже — под таким примерно предлогом:
Недавно овдовевшая красавица Так говорит, печальна и бледна: «Боясь, что ночью призрак мужа явится, Я с некоторых пор не сплю одна».Ну и когда моя спутница, откинув мантилью и явив мне свой небесный лик, вполне, конечно, миловидный, однако неумеренно накрашенный и на свету свидетельствующий непреложно, что обладательнице его лет поболее, нежели представлялось в темноте, пустилась рассказывать немыслимую историю о каких-то драгоценностях, заложенных подругой, о каком-то брате или кузене их обеих, о каких-то деньгах, необходимых, дабы спасти их честь, и что-то еще, и что-то еще из разряда этих чрезвычайно распространенных легенд — я, даже пока не присевший, все еще со шляпой в руке и со шпагой на боку, ожидал, когда она иссякнет, чтобы, положив на стол несколько мелких монет «за беспокойство», выбраться отсюда да идти своей дорогой. Однако прежде чем успел я привести замысел в исполнение, снова отворилась дверь, и в комнату — нет, не вошел, не вступил, не шагнул, но в точнейшем соответствии с ремарками старинных пьес: «явление одиннадцатое; те же и…», — ибо иначе никак не определить ни само деяние, ни деятеля — свершил свое явление сутенер.
Он еще с порога необыкновенно звучно и забористо помянул Господа Иисуса и непорочно зачавшую мать его в душу через семь гробов и прочее.
Это был испанец, всей наружностью своей, повадками и грозными ухватками желавший являть собой забубенного рубаку, хоть касательства к военному делу не имел ни малейшего, а турка или еретика-лютеранина видел в последний раз опять же на театре. Хват, удалец, ухорез, он словно сошел со страниц плутовского романа, не позабыв прихватить даже легкий андалузский выговор, или сию минуту перенесся сюда с Апельсинового Двора в Севилье. Все как полагается: неизбежные усищи крючком, без которых такому забияке и горлодеру — никуда, ну, как водится, походочка с развальцем и враскачку, ноги врастопыр, ну, конечно, одна рука уперта в бок, другая лежит на эфесе шпаги, а та в отличие от лба своего владельца — семи пядей, не меньше, в длину. Надо ли добавлять, что все «г» звучали у него как «х» — неоспоримая примета, несомненный признак такой крутальной брутизны… тьфу, наоборот! — что дальше некуда. Короче говоря, точный слепок, верный оттиск с классического сутенера, который примазался к такому вот борделю, тратит то, что в поте лица своего зарабатывают подопечные ему девки, карает их оплеухами, если не сумели привадить гостя, фанфаронит и бахвалится на всех углах, сулясь раскатать всякого, кто под руку попадется, и рассказывая, как дрался со стражниками и как ни словечка не вытянули у него на допросах ни дыба, ни кобыла. Словом, мужчинище до мозга костей, до кончиков ногтей, любимец товарищей, за честь почитающих приветить его и угостить, гроза притонов, краса и гордость преступного сообщества. Что тут еще скажешь? Да ничего не скажешь.
— Это что же такое ты устраиваешь?! — сотрясая стены оглушительными раскатами голоса и устрашающе супя брови, загремел он. — Сколько раз ховорено было — не сметь никого сюда водить?!
И в продолжение изрядного времени ораторствовал, как с амвона, в том духе, что, мол, какую же трепку задаст он проклятой твари, как разукрасит и изуродует, живого места не оставит, ибо такого бесчестия не потерпит и алжирский раб, а уж он со своей непоседой, что в ножнах так, ехоза, и ерзает — и подавно не снесет, и лучше не выводить его из себя, ибо — порукой тому жизнь короля и плоть Христова! — как распалится, ему все едино — двое перед ним или двести, и весь фасад-то он потаскухе этой андреевскими крестами распишет и зубы-то все пересчитает, чтоб знала — такие, как он, шашней у себя за спиной не простят, а когда злоупотребят его доверием да налево сбехают, он — опять же — такой порухи чести своей не допустит, и будь он проклят ныне и присно, если окажется у него кишка тонка располосовать любого, в лоскуты порвать, таких дыр понаделать, что ни один хирург в починку не примет. В чем клянется Отцом Предвечным и той, что Его на свет произвела. И так далее.
Покуда это ходячее зерцало доблести пустословило, исполняя свою роль, я, оправясь от первоначальной оторопи, оставался где был — шляпа в руке, шпага в ножнах — и благоразумно помалкивал, лишь, отступив немного к стене, дожидался, когда же дело дойдет до дела. Заметив при этом, что едва ли не на горячем пойманная, чуть не с поличным взятая прелюбодея, доказывая, что назубок выучила и мелодию, и слова, повела свою партию: приняла вид оробелый и горестный, с выражением живейшей скорби заломив руки, с неподдельным жаром начала разом и каяться, и клясться в совершенной непорочности и голубиной своей чистоте, покуда тот, к кому обращены были ее уверения, время от времени отвешивал ей оплеуху, после чего вновь упирал карающую десницу в бок. Все это — как бы до поры и не замечая меня.
— Ну, короче, так, ваша милость, — обратился он наконец ко мне, а заодно и к сути вопроса. — Надо нам с этим делом чего-то решать… Не то худо будет.
По-прежнему пребывая в задумчивой и безмолвной неподвижности, я рассматривал его и размышлял о том, как поступил бы капитан Алатристе, окажись он на моем месте. И вот, услышав долгожданные слова «решать» и «худо», отлип от стены и ответил на них ударом столь стремительным, что в зазор меж тем, как я выхватил шпагу, и тем, как пустил ее в ход, даже скороговоркой не удалось бы пропихнуть ни единого «Господи, помилуй». Дальнейшее я видел неотчетливо и боковым зрением — удальца, повалившегося наземь с рассеченной повыше уха головой, милку его, с испуганным воплем кинувшуюся ему на помощь, замелькавшие у меня под ногами, перемахиваемые по четыре за раз ступени — те, что вели вниз, и те, что выводили на Санта-Лючию, — по которым, рискуя сломать себе шею, скатился я во тьме и понесся прочь, ибо не для спасения ли в час опасности дано человеку неотъемлемое от юности проворство? Ибо как гласит старинная поговорка: «Крепкие ноги лучше крепкой молитвы».
VIII. Остерия в Чоррильо
Капитан Алонсо де Контрерас, сложив ладони ковшиком, зачерпнул воды из фонтана. Потом, утерев буйные усы рукавом колета, взглянул туда, где над оконечностью бухты восходил к низким облакам курящийся над кратером Везувия дымок. Капитан с наслаждением вдохнул солоноватый свежий воздух гавани, где рядом с двумя папскими галерами и круглым французским парусником ошвартовался и его готовый к выходу фрегат. Диего Алатристе тоже утолил жажду, и вслед за тем оба двинулись дальше — к внушительным черным башням Кастильнуово. Полуденное солнце и задувавший с моря бриз уже успели высушить у них под ногами лужи крови на каменных плитах пирса — туда на рассвете вывели восьмерых связанных морисков-корсаров с галер, захваченных пять дней назад у мыса Колумнас, и там же изрубили их в куски.
— Чертовски не хочется покидать Неаполь, — вздохнул Контрерас. — Пантелария слишком мала, на Сицилии вице-король дохнуть не дает… Только здесь я чувствую себя свободным и даже как будто молодею… Нет, правда — этот город любого встряхнет. Как по-твоему?
— Да. Конечно. А впрочем тряси, не тряси — прожитого не стряхнуть.
— Ха-ха-ха! Верно, клянусь пятью язвами Господа нашего! Твоя правда! Годы летят, как на почтовых… Кстати, о почте… Я только что получил письмо от Лопе де Веги. Наш с тобой крестник Лопито к концу лета должен быть в Неаполе. Несчастный малый, а? И бедняжка Лаурита… Всего полгода довелось им миловаться… Проклятая горячка свела ее в могилу… Нет, но в самом деле — как время мчится! Кажется, только вчера устраивали мы ее дядюшке кошачий концерт — а уж целый год минул.
Алатристе рассеянно кивнул, не сводя глаз с бурых кровяных потеков, тянувшихся от мола до здания таможни на углу улицы Адуана. Те, из чьих тел вытекла эта кровь, сначала сошли на берег вместе с остальными алжирскими корсарами общим числом 27 человек: все они были мориски и, пока не попались, долго разбойничали у берегов Калабрии и Сицилии, где, однажды захватив среди прочих неаполитанский корабль, шедший, естественно, под испанским флагом, вырезали поголовно весь экипаж — от капитана до юнги. Вдовы и сироты погибших собрались на пирсе вместе с довольно многочисленной толпой местных жителей, как обычно явившихся встречать галеры, — и при виде пленных общая ярость достигла такого неистовства, что после краткого совещания с епископом вице-король принял следующее решение: те, кто пожелает умереть по-христиански, будут человеколюбиво и достойно повешены через три дня, но тех, кто откажется примириться и обратиться в истинную веру, отдадут на растерзание толпе, громкими криками требующей свершить правосудие на месте и немедленно. Восьмеро морисков — все были уроженцами арагонского местечка Вильяфеличе — заявили встречавшим их клирикам, что пребудут и в смертный час верны Магомету, после чего первыми на них с камнями и палками набросились уличные и припортовые мальчишки. Изуродованные останки корсаров, сперва вывешенные на фонарях пристани и на башне Сан-Висенте, были затем под неистовое ликование народа сожжены на другом причале, в Маринеле.
— Готовится новое вторжение в Левант, — сказал Контрерас, будто выдавая военную тайну. — Я это знаю потому, что у меня затребовали моего штурмана Горгоса, а еще потому, что несколько дней кряду штудируют мою знаменитую «Всеобщую Лоцию», где все подходы к побережьям разобраны буквально по косточкам. С одной стороны, лестно, с другой — бесит… Уж сколько лет прошло, как принц Филиберто попросил разрешения скопировать мой труд, а отдать все никак не удосужится. А назад потребуешь, так эти кровососы в черном бархате начинают вола вертеть, финтить и отнекиваться… Дьявол бы их забрал, тараканов!
— Галеры пойдут или галеоны? — осведомился Алатристе.
Контрерас, тяжким вздохом указав на неодолимость сил, лишивших его «Лоции», ответил:
— Галеры. Наши и орденские, насколько я понял. И «Мулатка» будет в их числе. Так что открываем новую морскую кампанию.
— Долгую?
— Не очень. Месяц или два. Может, до самого Константинополя дойдем… Тамошние проливы, насколько я знаю, твоей милости хорошо знакомы…
В ответ на широкую улыбку друга Алатристе скорчил гримасу. Меж тем оба уже оставили позади пристань и входили на эспланаду между улицей Адуана и мощными стенами Кастильнуово. В последний раз Алатристе был у Дарданелл в шестьсот тринадцатом году, когда на траверзе мыса Троя турки взяли его галеру, завалив ее трупами чуть не до самых мачт, а сам он, тяжело раненный в ногу, вместе с другими выжившими был освобожден, когда турецкий парусник в свою очередь нарвался на испанцев и попал в плен.
— А кто еще идет, знаешь?
С этими словами он притронулся рукой к полю шляпы, приветствуя знакомых — трех аркебузиров и мушкетера, стоявших на валу форта. Контрерас сделал то же.
— Мачин де Горостьола рассказал мне, что намереваются отправить три наших галеры и две мальтийских. Мачин со своими бискайцами тоже отряжен, потому и знает подробности.
Они уже дошли до эспланады, по которой в сторону площади перед дворцом Сантьяго-де-лос-Эспаньолес еще катили кареты, рысили верховые и шагали пешие — народ возвращался оттуда, где сожгли морисков, очень оживленно обсуждая перипетии расправы. Десяток мальчишек промаршировал мимо, полоща в воздухе окровавленную и рваную чалму, вздетую на манер знамени на палку от метлы.
— «Мулатку» усилят, — продолжал Контрерас. — Думаю, придадут вам Фернандо Лабахоса с двадцатью аркебузирами из вашей роты — служат давно, все народ закаленный, обстрелянный…
Алатристе, которому эти слова явно пришлись по нраву, кивнул. Прапорщик Лабахос из роты капитана Арменты де Медрано был человек умелый и храбрый, досконально знал все галерные тонкости. Что же касается капитана Мачина де Горостьола, то его рота целиком состояла из уроженцев Бискайи, славившихся неукротимой свирепостью и отвагой в бою. Все это означало, что дело затевается серьезное.
— Мне подходит, — сказал Алатристе.
— И парня возьмешь?
— Скорей всего.
Контрерас дернул левым усом и с печалью в голосе сказал:
— Все бы на свете я отдал, чтобы с вами отправиться… Тоскую, знаешь ли, друг мой, по былым временам, давним и славным… Когда турки боялись нас, как чумы. Когда мы ходили по колено в серебре. Господь свидетель, все на свете, включая Пантеларию и даже комедию, куда вставил меня Лопе, я отдал бы, чтобы мне вновь стало тридцать! Эх, где оно, невозвратное золотое времечко великого Осуны!..
При упоминании несчастного герцога оба приятеля нахмурились, примолкли и уже не размыкали уста, пока не дошли до улицы Карнисериас, за которой начинались сады, примыкавшие ко дворцу вице-короля. Под началом герцога Осуны — дона Педро Тельеса Хирона — Алатристе воевал во Фландрии, в ту пору, когда осаждали Остенде. Позднее, уже в царствование Филиппа Третьего, герцог, сделавшийся вице-королем Сицилии и Неаполя, стал грозой морей, омывающих Италию и Левант, наводил ужас на турок, венецианцев и берберов. Наделенный нравом беспокойным, сумасбродным и взбалмошным, он, однако, проявил себя дельным и рачительным правителем и взысканным милостями фортуны военачальником, неизменно добивавшимся успеха во всех своих бесчисленных начинаниях; был жаден до славы и добычи, которую, впрочем, едва заполучив, буквально расшвыривал направо и налево, умел окружить себя самыми лучшими солдатами и мореходами, снискал богатство многим при дворе, включая и его величество. Однако, подобно тому, как всегда это бывает и спокон веку повелось, слишком уж стремительно взошла, слишком ослепительно сияла его звезда: это не могло не породить зависть и злобу, а уж за ними после кончины покровительствовавшего ему короля естественным порядком пришли опала, падение и тюрьма. Отданный под суд, который тянулся нескончаемо долго, великий герцог Осуна, отказывавшийся защищать себя, ибо, по его мнению, лучшими свидетельствами его невиновности были его громкие дела, удрученный несправедливостью, сломленный недугами, окончил свои дни в темнице под громкие рукоплескания всех ненавистников нашей Испании, и в первую очередь — турков, венецианцев и савойцев, которых громил в ту пору, когда черные флаги с его герцогским гербом победоносно реяли над всем Средиземноморьем. Последние слова дона Педро были: «Служи я Царю Небесному столь же ревностно, как земным владыкам, мог бы почесть себя добрым христианином». Ближайший его друг, дон Франсиско де Кеведо, чье знакомство с Диего Алатристе началось как раз в Неаполе, один из немногих, кто и в час падения и несчастья сохранил верность Осуне, почтил память покойного несколькими сонетами — едва ли не лучшими из всех, что когда-либо выходили из-под его пера:
Осуна! О, потеря для Державы! Заставивший Фортуну подчиниться, В Испании снискал он смерть в темнице. И подвиг — не помеха для расправы…[155]Так начинается один. А другой доходчивее иного исторического трактата рассказывает, как именно мелочная отчизна дона Педро Хирона воздала ему должное, как расплатилась со своим великим сыном неправедным приговором и тюрьмой, где тому и суждено было окончить дни.
— Да, кстати! — спохватился Контрерас. — Совсем забыл! Есть кое-какие сведения о твоем юном спутнике.
Алатристе, остановившись, удивленно спросил:
— Об Иньиго?
— О нем самом. Только, боюсь, они тебя не порадуют.
И с этими словами Контрерас ввел Алатристе в курс дела. Мир вообще тесен, а уж в Неаполе — особенно: его знакомцу из числа блюстителей законности и правопорядка довелось допрашивать по совсем другому делу одного сукиного сына, промышлявшего в квартале Чоррильо. Тот обнаружил склонность отнюдь не к запорам, а скорей к поносам, то есть запираться не стал, а понес без передышки на всех и вся и донес, в частности, что некий шулер, на котором и вовсе пробы негде ставить, флорентинец родом, завсегдатай тех же злачных мест, подрядил нескольких головорезов, якобы поручив им взыскать натурой, то бишь пролитой кровью, пропоротой плотью, карточный должок, так и не отданный двумя молодыми испанскими солдатами, проигравшимися в притоне на площади Ольмо: удалось установить, что один из них проживает в Испанском квартале, в остерии Аны де Осорио.
— Ты совершенно уверен, капитан, что речь об Иньиго?
— Я совершенно уверен, капитан, лишь в том, что в один прекрасный день лицом к лицу встречусь с Создателем… Словесный портрет и адрес, однако, подходят твоему парнишке, как перчатка на руку.
Помрачневший Алатристе провел двумя пальцами по усам, бессознательным движением опустил руку на эфес.
— Ты сказал — он тоже бродит по Чоррильо?
— Да. По всему выходит, шулер регулярно наведывается в тамошние бордели, тоску разгоняет.
— А имя-то его твой подопечный вызнал?
— Некий Колапьетра. Джакомо Колапьетра. Жулик и плут, каких мало.
Дальше шли молча. Алатристе хмурил брови под полем шляпы, затенявшей его ледяные зеленоватые глаза. Сделав несколько шагов, Контрерас, искоса оглядев спутника, вдруг расхохотался:
— Не поверишь, дружище, до чего жалко, что вечером, как только ветер установится, надо сниматься с якоря! Или я совсем тебя не знаю, или в Чоррильо на днях будет совсем не скучно!
Нескучно было и в нашей комнате под вечер: я был совсем готов отправиться на гулянку, когда отворилась дверь и вошел капитан Алатристе, неся под мышкой ковригу хлеба, а в руке — оплетенную бутылку вина. Я давно уже научился угадывать если не мысли его, то настроение, и по одному тому, как он швырнул на кровать шляпу и рванул пряжку, отстегивая шпагу, понял, что по дороге какая-то муха его укусила — причем больно.
— Уходишь? — спросил он, увидев меня при полном параде.
Я в самом деле принарядился: солдатская рубашка с отложным валлонским воротником, тонкого сукна колет поверх зеленого бархатного камзола, купленного на распродаже имущества, оставшегося после гибели на Лампедузе прапорщика Муэласа, штаны пузырями, чулки, башмаки с серебряными пряжками, шляпа с зеленой лентой. Я отвечал в том смысле, что да, мол, собираюсь, Хайме Корреас будет ждать меня в остерии на Виа-Сперанчелья, а посвящать Алатристе в прочие подробности предстоящего нам веселья не стал: оттуда мы намеревались отправиться в игорный дом на улицу Мардонес, где всегда шел отчаянный картеж, а окончить ночь жареным каплуном, вишневым тортом и хорошим вином в заведении «У Португалки», где играла музыка и публика плясала павану и канарио.
— А тут что? — при виде того, как я прячу свой кошелек в фальтрикеру[156], спросил капитан.
— Деньги, — отозвался я сухо.
— И много ли припас на вечерок?
— Много ли, мало — это мое дело.
Он подбоченился и долго смотрел на меня, словно переваривая мою дерзость. Сказать по правде, наши денежные дела были не очень хороши. Капитановых средств в обрез хватало, чтобы платить за жилье да помогать новобранцу Гурриато, еще ни разу не получавшему жалованья — у мавра, кроме серег, иного серебра не было: впрочем, он имел право на койку в казарме и довольствие, именуемое «котловым». Что касается моих капиталов, состоянием коих Алатристе никогда не интересовался, то гулянки выдоили меня почти досуха, и я понимал, что если в самое ближайшее время не сорву куш в игре, останусь вообще ни с чем.
— А то, что тебя могут приколоть на углу, — тоже твое дело?
Я как раз в этот миг протянул руку за шпагой и кинжалом, и рука моя так и застыла в воздухе. Слишком много лет провел я рядом с Алатристе, чтобы не различать оттенки его интонаций.
— Насчет «приколоть», капитан, — это вы вообще или имеете в виду что-либо определенное?
Он ответил не сразу. Откупорил бутылку, на три пальца наполнил стакан вином. Отпил немного, поглядел на свет, проверяя, не подсунул ли кабатчик чего-нибудь непотребного, убедился, что не подсунул, и снова сделал глоток.
— Человеку можно выпустить кишки за то и за это, и возразить тут будет нечего… Но отдавать жизнь за неуплаченный карточный долг — стыдно. — Он говорил спокойно и с расстановкой, поглядывая на вино в стакане, а когда я попытался возразить — поднял руку, заграждая мне уста, и докончил: — Это недостойно порядочного человека и солдата.
— У меня нет долгов.
— А вот мне сказали — есть.
— Тот, кто вам это сказал, — воскликнул я вне себя, — лжет, как Иуда!
— Тогда в чем дело?
— О каком деле вы толкуете, капитан?
— Расскажи-ка, за что тебя хотят убить.
Мое удивление, проступившее, судя по всему, на поверхность, было самым что ни на есть неподдельным:
— Меня? Кто?
— Некий Джакомо Колапьетра, родом из Флоренции, а по роду занятий — шулер, часто бывает в Чоррильо и на площади Ольмо… Сейчас он подрядил убийц. По твою душу.
Я в растерянности прошелся по комнате. Вдруг почувствовал, как от такой нежданной новости меня будто обдало жаром.
— Это не долг, — произнес наконец. — У меня долгов нет и никогда не было.
— А что же тогда? Объяснись, — повторил он.
И я в немногих словах объяснил, что мы с Хайме Корреасом в самый разгар игры пообломали шулеру рога, заметив мухлеж, забрали наш мнимый проигрыш и ушли.
— Я ведь не ребенок, капитан…
Он оглядел меня сверху донизу. От моего рассказа ситуация, похоже, не сделалась в его глазах более отрадной. Мой бывший хозяин не был, как известно, врагом бутылки, но никто и никогда не видел его за картами. Он презирал тех, кто доверяет слепому случаю деньги, за которые человеку его ремесла приходится отнимать чужую жизнь, ставя при этом на кон собственную.
— Не ребенок, но еще и не взрослый, насколько я вижу…
Я взбесился — в очередной раз.
— Не каждый может произнести такое. И не от каждого я это стерплю.
— Я — могу. — И с этими словами обратил ко мне взгляд, где тепла было примерно столько же, сколько в промерзшей фламандской земле, похрустывавшей когда-то под нашими сапогами. И после свинцово-тяжкой паузы добавил: — От меня — стерпишь.
Это была не ответная реплика, а приказ. В поисках достойной отповеди и стараясь не уронить себя, я взглянул на свое оружие, будто взывая к нему. Как и шпага самого Алатристе, и лезвия, и чашки, и кольца были в царапинах и вмятинах от чужих клинков. Да и на шкуре у меня тоже имелось сколько-то рубцов — поменьше, конечно, чем у капитана, но все же.
— Я убил…
«…Нескольких человек», — хотел добавить я, но сдержался. Причем не сам — стыд удержал меня, заставил осечься на полуслове. Это прозвучало бы типичнейшим кабацким бахвальством.
— Ты один, что ли, такой?
От встопорщившей ус насмешливо-пренебрежительной гримасы Алатристе меня в очередной раз взорвало:
— Я солдат.
— «Я солдат» говорит про себя любой прощелыга. По тавернам, веселым домам и прочим притонам их — как клопов недавленых.
Его слова возмутили меня чуть не до слез. Потому что были, во-первых, несправедливы, а во-вторых, жестоки. Человек, произнесший их, видел меня и у мадридского «Приюта духов», и на Руйтерской мельнице, и в Терхейдене, и на борту «Никлаасбергена», и еще в двадцати местах.
— Вашей ли милости не знать, что я не из этих? — пробурчал я.
Он склонил голову набок и уставился в пол, словно раздумывая, не слишком ли далеко зашел. Затем резко поднес стакан ко рту, хлебнул и произнес:
— Человек, не замечающий своего сходства с другими, рискует впасть в заблуждение. Ты еще не тот, кем представляешь себя… Не тот, кем должен стать…
Это высказывание меня окончательно добило. В полном расстройстве чувств я повернулся к нему спиной, опоясался ремнем со шпагой и кинжалом, нахлобучил шляпу и двинулся к двери.
— …не тот, каким бы я хотел тебя видеть, — неумолимо договорил капитан. — И не тот, кто понравился бы твоему отцу.
Я замер на пороге. И внезапно, по неведомой причине почувствовал себя выше Алатристе да и вообще всего и вся.
— Мой отец… — эхом откликнулся я и, обернувшись, показал на бутылку, украшавшую стол. — Мой отец, по крайней мере, умер вовремя — и избавил меня от удовольствия видеть, как он спьяну ловит лисиц за уши, а волков за хвост.
Капитан сделал ко мне шаг. Один-единственный. И лицо у него при этом было — ой-ой. С таким лицом идут убивать. Я ждал его не дрогнув, не отводя глаз. Но он остался стоять, где стоял, и только смотрел на меня — очень пристально. Тогда я повернулся, вышел и медленно притворил за собой дверь.
А утром, пока он был в карауле на Кастильнуово, прихватил свои пожитки и перебрался в казарму на Монте-Кальварио.
* * *
От дона Франсиско де Кеведо
дону Диего Алатристе-и-Тенорьо,
рота капитана Арменты де Медрано,
Неаполитанская бригада королевской пехоты
Дражайший друг!
Я по-прежнему пребываю при дворе, продолжая пользоваться благоволением вельмож и сочувственным вниманием дам, меж тем как время проходит, хоть и неумолимо, но, к сожалению, не бесследно, и мне с каждым днем все труднее становится ковылять и шкандыбать на больных моих ногах. Огорчительно и то, что Генеральным Инквизитором назначен все же кардинал Сапата, которому мой старинный недруг падре Пинеда давно уже напел в уши о необходимости включить мои творения в Индекс запрещенных книг. Надеюсь, Господь не попустит.
Наш государь, как и прежде, — в добром здравии и совершенствуется в благородном искусстве охоты (и на красного зверя, и на прекрасную половину рода человеческого, ибо Вам ли не знать, что в преследовании дичи он не ведает приличий и стреляет куропаток столь же рьяно, как строит куры) сообразно своему цветущему возрасту, меж тем как граф-герцог с каждой новой эскападой нашего новоявленного Немврода обретает все большее могущество, так что все происходит ко всеобщему удовольствию. Однако солнце греет своими лучами не только венценосцев, но и простых смертных: моя престарелая тетушка Маргарида собралась переселиться в лучший мир, и я буду крайне обескуражен, если по духовной не отжалеет мне, сотворив благо, известную толику своего состояния, могущую поправить плачевное состояние моего. Во всем прочем после январского банкротства не происходило никаких значительных событий, и государственная казна, как и раньше, — в надежных и загребущих руках прежних достойных личностей, если не считать, понятно, их генуэзских и португальско-иудейских собратьев, к коим наш граф-герцог испытывает непостижимо пылкую привязанность, так что впору кричать не «Мавры высадились!», а «Банкиры присоседились!». Но покуда с завидной регулярностью галеоны привозят нам в трюмах злато-серебро из Индий, в Испании все идет по раз и навсегда заведенному порядку: «Неси-ка мне, голубчик, винца, тунца да куриного птенца!» Всем горюшка мало, никому дела нет.
О фламандских перипетиях ничего сообщать не стану, ибо Вы, пребывая в Неаполе, среди соратников по бранному ремеслу, располагаете необходимыми сведениями. Ограничусь тем лишь, что скажу: каталанцы, как и прежде, не желают давать королю денег на войну, носясь со своими старинными правами и привилегиями, как некто — с писаной торбой, и иные провидят в этом упорстве дурной знак. Ибо в преддверии новой войны, которая ныне стараниями Ришелье и обитателей Лувра представляется совершенно неизбежной, французы постараются плеснуть маслица в огонь наших междоусобных распрей, поскольку давно и не мной замечено: куда дьявол не дотянется когтем, туда хвост просунет. Относительно же Ваших, любезный друг, передвижений в пространстве, столь обильном виноградниками и плодами их, то я всякий раз, услышав хоть самомалейшее известие оттуда, с удовольствием даю волю своему воображению, представляя, как Вы рубите головы туркам. Пусть же достанутся оттоманам — сталь и свинец, Вам — лавры и добыча, а мне — повод лишний раз выпить за Ваше здоровье.
Памятуя, что книги обладают свойством утешать в скорбях и утишать душевные бури, посылаю Вам для отдохновения посреди бранных трудов Ваших экземпляр моих «Сновидений», на коих едва успела высохнуть типографская краска, ибо они сию минуту были препровождены мне из Барселоны печатником Саперой. Вы можете без опаски дать их для прочтения нашему юному Патроклу, поскольку они, если верить мнению цензора фрая Томаса Роки, не содержат в себе ничего противоречащего установлениям святой нашей католической веры и не идут вразрез с нормами добропорядочности, каковое заключение, надеюсь, повеселит Вас не меньше, чем порадовало меня. От души уповаю, что Иньиго под Вашей защитой пребывает здрав и невредим, Вашим советам следуя, — благоразумен и, покорствуя Вашей власти, — порядлив. Обнимите его за меня и передайте, что, если не переменится благоприятный ветер, дующий в паруса нашей с ним затеи, вступление юного героя в Корпус королевских курьеров можно будет считать делом решенным, и состоится оно немедленно по отбытии необходимого срока службы в рядах королевской пехоты. Порекомендуйте ему не оставлять в небрежении, помимо моих писаний, также и творения Тацита, Гомера и Вергилия, ибо если даже он превзойдет воинской доблестью самого Марса, на крутых тропах мира сего перо иной раз оказывается надежней меча.
Есть у нас и еще кое-какие новости, но они из разряда тех, что не следует доверять бумаге, однако же все идет своим чередом и как должно, и Господь призрит на нас, и мы процветем. Скажу лишь, что востребован оказался опыт, обретенный мною в итальянских делах при великом и толико оплаканном герцоге Осуне. Впрочем, дело это столь деликатное, что требует большой сдержанности в изложении, тем паче что находится лишь в самой начальной стадии. Кроме того, ходят слухи, будто старинный и опасный приятель ваш, переданный Вами в руки правосудия, не был, вопреки утверждениям, умерщвлен в тюрьме, но обменял свою жизнь (говорю с осторожностью, ибо подтверждений этому нет) на важные сведения, затрагивающие интересы короны. Мне неизвестно, в каком состоянии дело сейчас, но, заклинаю Вас, любезный капитан, на улице почаще оглядываться через плечо, дабы столь памятный Вам свист не застал Вас, Боже избави, врасплох.
Мне есть что еще рассказать Вам, но я, пожалуй, отложу до следующего письма. А это завершаю поклоном от Каридад Непрухи, в чье заведение время от времени захаживаю, чтобы почтить Ваше отсутствие кое-чем из кушаний, столь искусно приготовляемых хозяйкой, да запить горечь разлуки кувшином «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас». Каридад, по-прежнему радующая глаз красотой и статью, предана Вам, любезный капитан, душой — до самой глубины ее — и телом — со всеми потрохами. Шлют Вам привет и ее завсегдатаи — преподобный Перес, лиценциат Кальсонес, аптекарь Фадрике и Хуан Вигонь, недавно ставший дедом. Мартин Салданья, который почти год колебался, отправиться ли ему в селения праведных или еще побыть с нами, наконец залечил рану, нанесенную Вами на Растро, и как ни в чем не бывало разгуливает по Мадриду со своим жезлом лейтенанта альгвазилов. Графа де Гуадальмедина я время от времени видаю во дворце, но о Вас он говорить избегает. Передают наверное, что он отправится послом в Англию или во Францию.
Будьте осторожны, дорогой капитан, будьте осмотрительны да присматривайте за мальчуганом, дабы смог он наслаждаться долгой и благополучной жизнью.
От всей души крепко и дружески обнимаю Вас,
Ваш неизменно —
Франсиско де Кеведо.* * *
Ближе к вечеру Чоррильо, как всегда, оживился. Диего Алатристе пересекал изогнутую луком маленькую площадь, разглядывая посетителей таверн, в изобилии расположенных вокруг того знаменитого заведения, по имени которого назывался и весь квартал. Слово «Чоррильо», навевавшее на капитана столько воспоминаний, было переиначенным на испанский лад названием остерии Серрильо, примостившейся под бочком у церкви Санта-Мария-ла-Нуэва и еще с прошлого века снискавшей себе славу хорошим вином, отличной кухней и веселыми завсегдатаями. С легендарных времен битвы при Павии и разграбления Рима облюбовали его себе служивые и те, кто еще только собирался вступить в службу или, по крайней мере, громогласно об этом заявлял, и среди этой публики в изрядном количестве представлены были разнообразные плуты, проходимцы и пройдохи, вкупе с многообразным племенем фанфаронов — так что само название остерии сделалось нарицательным: «чоррильеро» в Неаполе, да и не только там, называли испанского солдата или того, кто тщился выдать себя за такового, стремясь костьми не за державу лечь, но в игральном стаканчике потрясти, живот не на алтарь отечества положить, но набить потуже, кто, картечи предпочитая картеж, пики видал лишь в колоде, а не в боевом строю, опрокинуть норовил не турка, но чарку, кто не лютеранам лютость свою выказывал, а каплунам да колбасам, кто не гло́тки еретикам резал, а глотки́ без счета пропускал и, хоть до дна бывала им испита чаша, но — не испытаний.
…Алатристе, не задерживаясь, кивнул нескольким знакомым. День был погожий и теплый, но поверх колета капитан надел короткий суконный плащ неопределенного цвета, призванный скрыть заткнутый сзади за пояс пистолет. В этот час и с учетом его намерений предосторожность была не лишней, хотя пистолет, в сущности, смотрелся бы здесь совершенно уместно и никак не выглядел бы лишним на фоне зверских рож, уже замелькавших на площади. До захода солнца оставалось еще часа два, и в это время как раз подтягивалась сюда ежедневно всякая шваль — удальцы-сутенеры, завсегдатаи муниципальной тюрьмы Викариа или военной — Сантьяго, которые утро имели обыкновение проводить на паперти Санта-Марии-ла-Нуэва, разглядывая женщин, идущих к мессе, а вечер и ночь — на недосягаемой для властей территории харчевен и кабаков, где обсуждали условия набора и вербовки и где, давая высунуться капитан-генералу, живущему в душе каждого испанца, рассуждали о стратегии и тактике, объясняли, почему должна была быть выиграна такая битва и начисто продута — такая. Почти все они были земляками Алатристе, с полком или в поисках лучшей доли попадавшими в Неаполь, причем перемена места весьма благотворно влияла на древность рода, и те, кто на родине так и оставался бы по примеру пращуров сапожником, здесь оказывался чуть что не грандом — в точности как их соотечественницы легкого поведения, которые, обретая здесь самое что ни на есть благородное происхождение, откликались исключительно на «Мендосу» или «Гусман», так что, следуя этому примеру, даже их итальянские товарки требовали, чтобы к ним обращались не иначе как «сеньора». Благодаря всему этому и привилось в итальянском языке словечко «спаньолата», коим обозначали безудержную страсть к спесивому бахвальству и фанфаронству.
В Кордове да и в Севилье У меня именья были, Пращуры мои на деле Всей Кастилией владели.Не было здесь недостатка и в уроженцах сего благословенного края, равно как и в жителях Сицилии, Сардинии и прочих итальянских областей. Одни срезали кошельки, другие чеканили фальшивую монету, третьи вели нечистую игру, в изобилии представлены были грабители, дезертиры, мошенники — и весь этот сброд кишмя кишел в Мониподио и оглашал своды его божбой, богохульствами и бранью. Славное имя «Чоррильо» в Неаполе для понимающих людей означало то же, что «Потро» в Кордобе, «Ла Сапиенца» — в Риме или «Риальто» — в Венеции.
Миновав сие почтенное место и оставив позади остерию, Алатристе свернул за угол и стал подниматься по ступенчатой улочке Скалонес-де-ла-Пьяцетта — крутой и столь узкой, что двоим мужчинам при шпагах нипочем было бы на ней не разминуться. Из полуоткрытых дверей харчевен, откуда долетали разноязыкий гомон и пьяные песни, несло винной кислятиной, мочой и еще какой-то дрянью. И когда капитан, добравшись почти что до самого верху, сделал шаг в сторону, чтобы не вступить ногой во что не надо, он невольно загородил путь двоим солдатам, попавшимся навстречу. Оба одеты были на испанский манер, но безо всяких роскошеств — шляпы, шпаги, сапоги.
— Смотри, куда прешь, раззява. Чтоб тебе провалиться! — по-испански же и весьма неприветливо буркнул один, намереваясь тотчас проследовать дальше.
Алатристе медленно, с задумчивым видом, провел двумя пальцами по усам. Оба встречных были, без сомнения, люди военные. Тот, кто нагрубил ему, приземистый и смуглый, говорил с галисийским акцентом, перчатки его стоили немало, а колет был хоть и скромен, но изысканного кроя и хорошего сукна. Второй, высокий и сухопарый, имел вид меланхолический. Оба носили на очень чисто выбритых лицах усы, а на голове — шляпы с перьями.
— Провалиться? С удовольствием, — ответствовал Алатристе очень учтиво, — но только вместе с вами, если, конечно, вы уделите мне время.
Оба остановились.
— Вместе с нами? Это еще зачем? — резко и сухо бросил первый.
Алатристе пожал плечами, всем видом своим показывая, что ответ, подразумевающийся как бы сам собой, дан и другого не будет. Репутация, черт ее дери, куда ж денешься?
— Как зачем? Обсудить некоторые фехтовальные тонкости. Ну, там парад, рипост, терцию и прочее, сами знаете…
Произнося все это, он видел, что оба встреченных разглядывают его, и от их внимания наверняка не укрылись ни длинная толедская шпага на бедре, ни эфес кинжала, выглядывающий сбоку — рука его словно бы по рассеянности легла на него, — ни шрамы на физиономии. Закрытый плащом пистолет они видеть не могли, но от этого он не переставал оттягивать пояс сзади. Алатристе вздохнул. Эта встреча была не предусмотрена, однако куда ж денешься. Ничего не попишешь. Что касается пистолета, надо надеяться, что можно будет обойтись без него. Будучи из тех, кому по душе больше ошарашивать, нежели ошарашенным быть, он прихватил его для другого случая.
— Мой друг не в духе, — примирительно проговорил высокий солдат. — Вышла у нас тут одна неприятность…
— Что там вошло, что вышло, никого не касается! — огрызнулся приземистый.
— Глубоко сожалею, но должен заметить вам, сударь, — невозмутимо сказал Алатристе, — что если не перемените тон, неприятностей станет две. И не тут, а здесь.
— Послеживайте за языком, ваша милость, — без запинки отозвался высокий. — И не обольщайтесь тем, как одет мой спутник. Узнаете, как его зовут, — обомлеете.
Алатристе, который не спускал глаз с приземистого, снова дернул плечом:
— Чтобы впредь не было конфуза, одевайтесь сообразно званию и зовитесь сообразно одежде.
Те двое переглянулись, как бы в нерешительности, и Алатристе на несколько дюймов отодвинул руку от кинжала. Он уже убедился, что оба ведут себя как порядочные люди. Не похожи на тех, кто выскакивает из-за угла или убивает в спину. Да и на тех, кто выстраивается в очередь к полковому казначею, чтобы в выплатной день получить свои четыре эскудо жалованья, — тоже. Под солдатской одеждой скрывались люди непростые: чисто мыты, гладко бриты, не развязны, по всему судя — состоят в свите и при особе какого-нибудь вельможи или генерала, отпрыски хороших фамилий, решившие для придания себе дополнительного блеска послужить несколько в армии. И во Фландрии, и здесь, в Италии, таких полно. Интересно бы знать, что за неприятность так испортила настроение этому коротышке-крепышу. Женщина, надо думать. Или карта не пошла. А впрочем, что бы там ни было, значения не имеет — нечего свои досады срывать на других.
— Тем более что, — добавил он, предлагая достойный выход из положения, — сейчас я тороплюсь по весьма срочному делу.
Высокого эти слова явно обрадовали.
— А нам через два часа заступать в караул, — с облегчением сказал он.
По выговору его можно было судить, что и он — оттуда, с верхней части полуострова. Скорей всего — из Астурии. И сказано было искренне, а не для уверток. Достойно. Все могло бы тем и кончиться, но его низкорослый товарищ не был настроен так мирно. И он взглянул на Алатристе с туповатым упорством терьера, который, упустив лису, кидается на волка:
— Времени достаточно.
Алатристе снова разгладил усы. Сцепиться с одним из них, а то и с обоими — дело не пустяковое и могло выйти ему боком. Он предпочел бы покончить его миром, но это было уже совсем не так просто. Задетая честь всех троих сильно все осложняла. И упрямство маленького стало теперь раздражать его самого.
— Тогда не будем тратить слов, — сказал он решительно.
— Прошу вас учесть, ваша милость, — все так же учтиво заметил высокий, — что я не оставлю своего друга одного. Вам придется драться и со мной. Потом, разумеется. В том случае, если…
— В самом деле — хватит разговоров! — перебил приземистый, меряя взглядом Алатристе. — Куда мы пойдем? В Пьедегруту?
Капитан глядел на него пристально. Вот теперь ему на самом деле захотелось всадить этому не в меру задорному петушку пядь стали под ребро. И, кровь Христова в том порукой, так оно вскорости и будет. И со вторым тоже задержки не будет — мелким оптом дешевле. Довольно чикаться. По крайней мере, получит с них «за беспокойство»…
— Пуэрта-Реаль ближе, — сделал он встречное предложение. — Там в сторонке есть некая полянка, или, если угодно, лужок, который просто мечтает, чтобы кто-нибудь на него прилег.
Высокий вздохнул, как бы говоря: «Ничего не поделаешь…»
— Этому сеньору нужен секундант. Чтоб потом не говорили, что нас было двое на одного.
Губы Алатристе слегка дрогнули в улыбке. Опять же — ничего не скажешь: резонно. Королевскими эдиктами дуэли в Неаполе были запрещены, а кто этот запрет нарушал, отправлялся либо за решетку, либо на виселицу, если у него не находилось влиятельных заступников. Тем не менее поединки происходили постоянно, но требовали еще более неукоснительного соблюдения правил, особенно если сходились на них люди из общества. Стало быть, рассудил капитан, надо будет одного — вот этого, низенького — убить, а второго оставить в таком виде, чтоб оказался способен рассказать, что все было честь по чести. Впрочем, без секундантов вполне можно приколоть обоих и, как говорится, поминай как звали: «Если где тебя и видел, то, прости, не помню, кто ты».
— Мы уладим этот вопрос по дороге, если вы, сеньоры, соблаговолите обождать минутку. — Он показал вверх, где в самом конце этой улочки был поворот направо. — Мне надо покончить там с одним дельцем.
Оба сначала переглянулись — несколько обескураженно, — а потом кивнули. Алатристе совершенно спокойно повернулся к ним спиной — жизнь давно уж научила его, когда можно это делать, а когда не стоит, — и одолел последние несколько ступеней, слыша за спиной шаги двинувшихся следом испанцев. Спокойные, неторопливые шаги, отметил он про себя с удовлетворением, лишний раз убедясь, что имеет дело с порядочными людьми. Свернув за угол, прошел под аркой — столь же узкой, как и вся эта улочка, — к скудно освещенной таверне. Убедился, что попал именно туда, куда хотел, что шпага и кинжал не запутаются в полах плаща, когда придет им время выскользнуть из ножен, надвинул шляпу и, не обращая больше внимания на своих невольных спутников, переступил порог. Застегнул крючки кожаного нагрудника, поддетого под плащ, ощупал пистолет за поясом. Таверна была из самых захудалых — несколько столов под открытым небом. На земляном полу копошились куры. Посетителей было числом десятка два, видом — итальянцы, родом — проходимцы последнего разбора.
Алатристе, не привлекая к себе внимания, подошел к хозяину, отозвал его к сторонку, оделил серебряной монетой и спросил, где можно найти Джакомо Колапьетру. И через мгновение уже приближался к столу, за которым в компании двух собутыльников, засаленных до степени накрахмаленности, выпивал, одновременно тасуя колоду, неприятный худосочный субъект с накладкой, прикрывающей плешь, с торчащими, как два свясла, усами.
— Не удостоит ли меня ваша милость кратким разговором наедине?
Флорентинец, в эту минуту отделявший королей от валетов, один глаз прижмурил, а другим испытующе оглядел новоприбывшего. Затем пожевал губами и, кивнув на своих спутников, недоверчиво ответил:
— Noscondo niente a mis amichis[157], — дохнув при этом на капитана смрадным перегаром дешевого, безбожно разбавленного вина из тех, которыми бы, как говорится, не досуг скрашивать, а заборы красить. Алатристе краем глаза оценил обоих амичи. Итальянцы, без сомнения. Брави[158], но не очень, видали мы и не таких. Если даже у обоих под рукой короткие тесаки. У шулера на поясе тоже висела этакая шпилька пяди в полторы длиной.
— Слух прошел, будто вы, сеньор Джакомо, набираете умелых людей для одного деликатного дельца?
— Non bisogno nesuno piu. Буольче мние никого не нуджно…
Усмешка Алатристе стала режущей, как осколок стекла:
— Я, должно быть, плохо объяснил. Дельце свое вы затеваете против одного моего доброго приятеля.
Колапьетра перестал тасовать карты и переглянулся с дружками. Потом внимательнее вгляделся в лицо капитана. Под нафабренными усами мелькнула улыбка.
— А к приятелю этому, юному испанцу, — продолжал как ни в чем не бывало Алатристе, — коего вы решили заказать, я весьма привязан.
При этих словах Колапьетра презрительно расхохотался:
— Пошел-ка ты…
И вслед за тем, метнув быстрый взгляд на своих присных, сделал попытку привстать, но продолжалась она ровно столько времени, сколько потребовалось Алатристе, чтобы извлечь из-под плаща пистолет.
— Сели все трое, — медленно и спокойно сказал тот, видя, что мысль его дошла. — Иначе худо будет. Капичи[159]?
Вокруг Алатристе и у него за спиной стало очень тихо, но он не сводил глаз с троих мерзавцев, ставших бледными, как восковые свечи.
— Руки на стол. Шпаги — отставьте.
Не оборачиваясь, чтобы никто не усомнился в его решимости, он перебросил пистолет в левую руку, а правой взялся за эфес шпаги — на тот случай, если придется расчищать себе путь к выходу. Едва переступив порог, он рассчитал все это, включая и отступление вниз по улице. Если возникнут осложнения, главное — надо будет добраться до Чоррильо, а там уж непременно встретится кто-то из своих. Он мог бы, конечно, отправляясь в это предприятие, прихватить с собой, скажем, Себастьяна Копонса или мавра Гурриато, который был бы до смерти рад прикрыть ему спину, — но не было бы того эффекта.
— Теперь слушай, каналья.
И, приставив дуло почти вплотную к восковому лбу шулера, выронившего колоду на пол, Алатристе, сам придвинувшись так близко, что едва не щекотал его усами, не повышая голос, точными и недвусмысленными словами изложил в больших подробностях, что именно он сделает с Джакомо Колапьетрой, прихлебателями его и всей родней до седьмого колена, если тот осмелится еще когда-нибудь предъявить претензии к кому-либо из его, капитановых, друзей. И если даже кто-то из них поскользнется на улице и шлепнется на мостовую или, не дай бог, понос его пробьет или четырехдневная лихорадка оттреплет, спрошено будет с флорентинца, и спрошено строго. А ему, Диего Алатристе, имеющему жительство в Испанском квартале, на постоялом дворе Аны де Осорио, нет надобности подряжать кого бы то ни было, чтобы зарезать там кого или приколоть. В числе прочих причин еще и потому, что он сам берет подряды такого рода. Капичи?
— И объявляю во всеуслышание: чуть что — и я буду здесь или где-нибудь еще, на каком-нибудь темном углу, чтобы выпустить тебе кишки. Я понятно объясняю?
Шулер — он был явно обескуражен — коротко кивнул. Лицо у него было такое, что поблескивающий на поясе кинжал только подчеркивал его вид, достойный сожаления. Ледяные светлые глаза Алатристе, в упор уставленные на него, завораживали не хуже пистолетного дула: накладка на темени Колапьетры чуть съехала вбок; и обуревавший флорентинца ужас был не только виден, но и ощутим кисловатым влажным запахом, исходившим от него. Капитан поборол искушение ткнуть его в лоб стволом — ни к чему это, наперед никогда не узнаешь, как поведет себя человек.
— Все ясно?
Колапьетра — тише воды — снова кивнул молча. Капитан, немного отстранясь, оглядел двоих других: оба сидели, застыв, как изваяния, с ангельским благонравием сложив руки на столе, и при взгляде на них всякий сказал бы, что они в грешной своей жизни не делали ничего дурного — ну разве что мать ограбили, отца убили, сестер по кривой дорожке пустили. Вслед за тем, не опуская пистолет и не снимая руку с эфеса, в такой тишине, что слышно было, как жужжат мухи и копышутся куры, Алатристе отошел от стола и начал отходить к двери, спиной не поворачиваясь и держа в поле зрения прочих посетителей таверны — те, впрочем, тоже оставались безмолвны и неподвижны. У порога он столкнулся с двумя испанцами, вошедшими следом за ним и наблюдавшими всю сцену, и спохватился, что совсем забыл про поединок.
— Ну, теперь к нашему делу, — сказал Алатристе, словно не замечая их удивленных лиц.
Все трое вышли на улицу при гробовом молчании завсегдатаев. Алатристе, медленно опустив взведенный курок, снова сунул пистолет за пояс под плащ. Сплюнул себе под ноги, всем видом своим являя досаду и угрозу. Холодное бешенство, копившееся в душе с той минуты, как он столкнулся с этими испанцами, перемешалось теперь с недавно пережитым напряжением и настоятельно требовало незамедлительного выхода — что называется, «вынь да положь»: ну, то есть шпагу вынь, противника положь. Пальцы, сжимавшие рукоять шпаги, сводила судорога нетерпения. О, чтоб тебя, пробормотал он чуть слышно, наметанным глазом осматривая будущих противников. Может, и не придется тащиться с ними до Пуэрта-Реаль? Он решил, что при первом же бранном слове или косом взгляде достанет кинжал — для танцев со шпагой тут очень уж узко, не развернешься — и располосует обоих на лоскуты, а там суди его Бог и вице-король со всей своей юстицией.
— Черт меня возьми! — проговорил вдруг высокий.
Он глядел на Диего Алатристе так, словно только сейчас увидел его впервые. И товарищ его — тоже. Тот уже не супил брови, и вместо раздражения на лице его читались задумчивость и с трудом скрываемое любопытство.
— Ты еще настаиваешь?.. — спросил его высокий.
Второй, не отвечая, не сводил глаз с Алатристе, который выдержал этот взгляд и даже нетерпеливо дернул рукой, как бы приглашая его проследовать туда, где их дело можно будет наконец решить. Но тот не двигался с места. Потом, через мгновение, он стянул перчатку с правой руки и, обнаженную, открытую, протянул ее Алатристе.
— Да пусть меня сварят в кипящем масле, как артишок или беглого негра, — произнес он наконец, — если я буду драться с таким человеком.
IX. Пираты его величества
Турок без боя поднял белый флаг и лег в дрейф. Черный двухмачтовый купец с вытянутым корпусом и высокой надстройкой на корме, увидя, что наши пять галер отрезают его разом и от берега и от моря, решил не полагаться на свою быстроходность. Это был уже третий корабль, захваченный нами с тех пор, как мы начали действовать в проливе между островами Тинос и Миконос, являвшем собой весьма оживленный морской путь в Константинополь, Смирну и Хиос. И, едва перескочив на борт купца, мы — абордажная команда — сразу поняли, что на этот раз удача нам улыбнулась. С командой, набранной из греков и турок, с грузом масла и вина из Кандии, мыла и кож из Каира вез он и пассажиров — нескольких салоникских евреев в шафраново-желтых тюрбанах и с немалым запасом свежеотчеканенного серебра. В тот день нам больше понадобились не клинки, а ногти, ибо полдня предавались мы вольному грабежу и дележу всего, что подвернулось под руку, и матрос с другой галеры, который, тщась ускользнуть от офицеров, явившихся навести порядок, оступился и полетел в воду с битком набитыми карманами, и потонул-то оттого, что не желал выпустить из рук добычу. Купец был собственностью османов, и мы с полным на то основанием и дорогой душой отправили его, как трофей, на Мальту, пересадив на него, чтоб было кому управляться с парусами, нескольких своих, а к веслам приковали, распределив поровну по всем пяти галерам, двоих христиан-вероотступников — в ожидании встречи с инквизицией, восьмерых турок, троих албанцев и пятерых евреев, из коих один, поскольку эта нация по сложению своему не годится для гребного галерного дела, захворал с тоски от бедственного своего положения и неволи да через два дня и помер. Остальных попозже и менее чем за тысячу цехинов выкупили монахи с Патмоса, а вскоре — ну то есть как только им возместили протори и издержки — и освободили. Ибо патмосская братия говорила по-гречески, но деньги высасывала совершенно по-генуэзски.
Оба ренегата волею судьбы попали на «Мулатку». Один, оказавшийся испанцем из Сьюдад-Реаля, дабы жилось повеселее, рассказал нам кое-что интересное, чем я намереваюсь поделиться с вами, господа. Но сперва уведомлю вас, что вся наша компания пребывала в добром здравии и полном благополучии. Вымазавшись до верхушек мачт в смоле, а куда смола не попала — в селитре, отчистив от ракушек и водорослей днище, пополнив припасы и убыль в солдатах, три неаполитанские галеры — «Мулатка», «Каридад Негра» и «Вирхен дель Росарио», — оставивши позади гавани Капри, ушли в двухмесячное плавание по Эгейскому морю вдоль анатолийских берегов, к тамошним островам, где жили под турецким владычеством греки, а потом, соединясь в проливе Сан-Хуан еще с двумя галерами, приписанными к Мальте, — «Крус-де-Родас» и «Сан-Хуан Баутиста», — двинулись под конвоем взаимной защиты к острову Корфу. Там загрузились свежим мясом и водой, пошли, огибая Морею, к венецианским в ту пору Кефалонии и острову, который греки называют Закинфой, итальянцы же — Занте. Потом обогнули остров Сапиенцу, взяли пресной воды в Короне — турки из города ударили по нам из пушек, да не достали — и оттуда, обогнув с востока мыс Сан-Анхель, попали наконец в чистые воды архипелага, синие в заливе, зеленовато-прозрачные — у побережья. С тем, чтобы вновь свершить описанное Велесом де Геварой в «Турецком диве»:
В моря Леванта мы в составе двух флотилий за Турком дерзостным чуть свет вчера отплыли, дабы ему сказать: «Ты больше здесь не рыскай! И духу твоего чтоб не было и близко!»В том плавании особенные чувства вызывала у меня близость к заливу Лепанто: сойдя на берег, команды наших галер по обычаю отслуживали заупокойные мессы в память тех многочисленных испанцев, что дрались как звери в знаменитом сражении 1571 года, когда наш флот наголову разбил турецкую армаду. Волновали меня эти места и по иной причине, также, впрочем, связанной с именем дона Мигеля: когда проходили мимо Сапиенцы и города Модона, я вспомнил, что встречал это название в рассказе Пленника из первой части «Дон Кихота» в ту пору, когда еще и представить себе не мог, что сделаюсь по примеру Сервантеса солдатом и окажусь в тех же морях и землях, где сражался в оны дни сей великий муж, которому в ту пору было ненамного больше, чем мне сейчас.
Однако я обещал рассказать вам, о чем поведал пленный испанец-вероотступник и о событиях, чьи неведомые еще нам тогда последствия окажут сильное воздействие на нашу дальнейшую судьбу и будут стоить жизни многим храбрецам. Ну, стало быть, ренегат в видах облегчения своей участи и улучшения нынешнего своего положения — а место ему, надо сказать, на гребной палубе отвели самое что ни на есть скверное, приковав к банке у такелажной кладовой, — попросил свести его с капитаном Урдемаласом, чтобы передать, как он выразился, сведения чрезвычайной важности. Приведенный пред его светлые очи, испанец, не обойдясь без обычных в таких случаях сетований на превратности злой судьбы, рассказал и нечто такое, что наш капитан счел правдоподобным и заслуживающим внимания: с острова Родос на Константинополь готовится выйти крупный турецкий парусник с богатыми товарами на борту, а помимо товаров будет там некая женщина, которая — испанец точно не знал, но так слышал — не то уже приходилась супругой или еще какой родственницей самому Великому Турку, султану Блистательной Порты, не то только еще собиралась стать таковой и с этой-то целью отправлялась в путь. И, как мы тотчас узнали — в свальном грехе галеры секреты живут недолго, — этот самый испанец из Сьюдад-Реаля посоветовал капитану Урдемаласу взять за жабры или еще за какое уязвимое место второго вероотступника, прикованного к той же банке, — владельца турецкого корабля, марсельца родом, отрекшегося от своего христианского имени и звавшегося теперь Али-Масилья: у испанца, судя по всему, имелся на него зуб, который он не преминул теперь вонзить.
Сведения о паруснике из Родоса настолько заинтересовали нашего капитана Урдемаласа, что марсельца подвергли допросу с пристрастием. Поначалу он держался молодцом, твердил, что ничего не знает, а что знает, того из него не вытянет ни живой христианин, ни та подохшая паскуда, что родила его, однако стоило лишь нашему корабельному альгвазилу чуть-чуть нажать ему на глазные яблоки, грозя напрочь их выдавить, как Али-Масилья сделался словоохотлив и склонен к сотрудничеству до такой степени, что Урдемалас из опасений, как бы откровения его не стали всеобщим достоянием, приказал свести его в трюм, затворился там с ним в сухарной кладовой, откуда потом вышел, удовлетворенно поглаживая бороду и улыбаясь от уха до уха. В тот же день, ближе к вечеру, пользуясь полнейшим безветрием — море было как масло, — мы легли в дрейф в полулиге к северу от острова Миконос, и капитаны на шлюпках отправились держать военный совет, имевший быть на галере «Каридад Негра» — она считалась флагманской, ибо на ней держал свой флаг внучатый племянник старого графа Бенавенте, дон Агустин Пиментель, которому и поручено было вице-королем Неаполя и великим магистром Мальтийского ордена руководить экспедицией. Помимо дона Агустина, присутствовали Мачин де Горостьола, командовавший его галерой, а также и погруженной на нее пехотой, наш капеллан фрай Франсиско Нисталь и штурман Горгос, уроженец Рагузы, прежде плававший с капитаном Алонсо де Контрерасом и отлично знавший здешние широты. Прибыли также наш дон Мигель де Урдемалас и капитан «Вирхен дель Росарио», обходительный и велеречивый валенсианец Альфонсо Сервера. Мальтийское рыцарство представлено было капитанами соответствующих галер: флагманской «Крус де Родас» — Фулько Мунтанером, родом с Майорки, а «Сан-Хуан Баутиста» — принадлежавшим к французской нации Виваном Бродемоном. И по окончании сего совета, причем еще прежде, чем капитаны успели подняться на борт своих кораблей, уже облетел нашу флотилию отрадный слух, будто с Родоса на Константинополь готова отчалить богатая добыча, так что нам сам Бог велел усладить слух турок боевым кличем «Испания и Сантьяго!», перехватив их где-нибудь на полпути в Дарданеллы. И все мы ликующе загорланили и, перекликаясь с борта на борт, принялись желать друг другу удачи. И еще до наступления темноты, то есть перед вечерней молитвой вышел приказ потешить гребную команду винной порцией, соленым сицилийским сыром и несколькими унциями сала, после чего защелкали от носа до кормы бичи комитов, гребцы, себя не жалея, навалились на весла, и пять галер двинулись навстречу ночной тьме, наползавшей с востока. Было очень похоже на то, как, учуяв поживу, устремляется вперед волчья стая.
Рассвет застал меня на излюбленном моем месте — у штирборта, ближе к корме, где я, по обыкновению, одновременно наблюдал, как встает над горизонтом солнце и как штурман исполняет свой первый за день ритуал, ибо мне уже доводилось упоминать в сем повествовании, сколь завораживали меня все эти магические обряды, когда он, поколдовав над таинственным диском, расчерченным на тридцать две части, или румба, узнавал, что мы не слишком приблизились к опасным прибрежным скалам; когда, вводя корабль в пролив, сверялся со звездой, или, взглянув на стрелку компаса, узнавал, где север, а в полдень, настроив астролябию, определял наше местоположение. Час был очень ранний, и гребная команда спала прямо на банках, благо весла оказались без надобности — были уже поставлены все паруса и под их негромкое щелканье и посвистывание в снастях попутный ветер, у нас именуемый греческим, а у голландцев — зюйд-вестом, креня на правый борт идущее в крутой бейдевинд судно, мчал его заданным курсом. На корабле, впрочем, спали почти все, кроме вахтенных матросов, которые оглядывали горизонт, ожидая появления паруса или земли, и особо внимательно всматривались в точку, откуда вставало солнце, ибо в этом ослепительно сияющем пятне света и могло обнаружиться вражье присутствие. Я же, набросив на плечи одеяло, в которое заворачивался, ложась спать вповалку со всеми — а блох и клопов, скажу вам, кишело в нем столько, что, опусти я его на палубу, уверен, оно бы само поползло по ней, — стоял, опершись о еще влажный от ночной росы фальшборт, глядел, как ходят по небу розовато-оранжевые столбы зари, и спрашивал себя: неужто и сегодня подтвердится правота старинной моряцкой приметы: багровый закат — к погожему утру, багровый восход — днем жди дождя?
Потом оглядел палубу. Капитан Алатристе уже проснулся: я видел издали, как он, прежде чем сложить свое одеяло, встряхнул его, а потом, перегнувшись через борт, зачерпнул бадьей на длинном шкерте морской воды — пресная у нас на галере была на вес золота, — ополоснулся, тщательно вытер лицо тряпицей, чтобы соль не разъедала кожу. Вот он привалился спиной к брюканцу, достал из кармана сухарь, обмакнул его в кружку с вином — они с Себастьяном Копонсом никогда не выпивали свою порцию зараз, но делили пополам — и принялся жевать, уставившись в море. Тут заворочался и спавший поблизости Копонс: поднял голову, привстал — и Алатристе протянул ему кусок сухаря. Арагонец в молчании начал грызть его, свободной рукой выковыривая корки из углов глаз. Мой бывший хозяин поглядел по сторонам и, заметив, что я стою в кормовой части и наблюдаю за ним, отвернулся.
После неапольской, мягко говоря, размолвки мы почти не общались. Душа еще саднила от памятного нам обоим разговора, и мы избегали друг друга, благо я переселился в казарму на Монте-Кальварио, обосновался по соседству с Гурриато-мавром, избегая есть и пить в тех тратториях и остериях, куда захаживал Алатристе. Зато благодаря этим обстоятельствам я сблизился с могатасом, который — но уже не как вольнонаемный гребец, а как солдат, получающий четыре эскудо жалованья в месяц, — оставался в команде нашей «Мулатки», где мы с ним хлебали, можно сказать, из одного котелка и даже успели малость повоевать вместе, когда восточнее острова Милос наткнулись на кораблик с турецко-албанским экипажем и, опасаясь посадить нашу галеру на мель в проливе, подошли к ним на шлюпках и взяли на абордаж. Дело было не слишком громкое и скорее даже из разряда пустяковых, ибо в трюме не обнаружилось ничего путного, кроме необработанных шкур, однако же мы привели и посадили на весла двенадцать пленных, а сами не потеряли никого. В том бою, зная, что капитан Алатристе наблюдает за мной издали, я вскарабкался на борт турецкого корыта одним из первых — мавр следовал за мной — и постарался отличиться и не оплошать, так что не кто иной, как ваш покорный перерезал шкоты, чтоб турки не вздумали уйти, а потом я же прорвался сквозь копья и ятаганы команды — прямо надо сказать, при виде нас державшие их оробели и должного сопротивления не оказали — к судовладельцу и вонзил ему клинок в грудь столь удачно, что душа у него вылетела в тот самый миг, когда он открыл рот, чтобы попросить пощады… ну или мне так показалось. С тем я и воротился на нашу галеру, снискав себе похвалы товарищей, напыжась от гордости, что твой павлин, и краем глаза посматривая на капитана Алатристе.
— Я так думаю, ты должен поговорить с ним, — сказал мне Гурриато.
Он уже проснулся и сейчас сидел рядом — борода всклокочена, лицо и бритая голова жирно блестят от пробившей во сне испарины.
— Зачем? Прощения просить?
— Не-е-а… — еле вымолвил он между зевками. — Я говорю — просто поговорить.
Я рассмеялся довольно злобно.
— Вот пусть сам приходит да разговаривает, если есть о чем.
Гурриато сосредоточенно выковыривал грязь меж пальцев.
— Он дольше тебя прожил и больше понимает. И потому нужен тебе: он знает такое, о чем ни ты, ни я понятия не имеем. Уах. Клянусь, это так.
Я снова захохотал — теперь уже с довольным видом. Наглый, как петух в пять утра.
— Ошибаешься, мавр. Он уже не тот, что раньше.
— Раньше? А какой он был раньше?
— Раньше я смотрел на него, как на бога.
Гурриато воззрился на меня со своим обычным любопытством. К числу его особенностей, которые были мне почему-то особенно милы, принадлежало и умение к чему бы то ни было относиться с каким-то упорным интересом — даже к тому, что, на мой взгляд, внимания не заслуживало вовсе. Дело ему было до всего на свете — и из чего состоит зернышко пороха, и как устроено человеческое сердце. Он спрашивал, получал ответ и тотчас оспаривал его, если тот казался ему неполным или сомнительным, и не ведал при этом ни стеснения, ни робости. Сталкиваясь с невежеством или глупостью, мавр ни на миг не терял спокойствия и бесконечного терпения, свойственного человеку, решившему познать все и всех. Жизнь выводит свои письмена на каждой вещи и каждом слове, не раз слышал я от него по разным поводам, и тот, кто сознает свою пользу, старается в молчании прочесть их и постичь. Не правда ли, занятное мировоззрение или умозаключение, особенно — для могатаса, который не умеет ни читать, ни писать, однако знает испанский, турецкий, арабский, не говоря уж про средиземноморскую лингва-франку, и которому хватило нескольких недель в Неаполе, чтобы начать вполне пристойно объясняться по-итальянски?
— А сейчас, значит, он больше не кажется тебе богом?
Гурриато продолжал очень внимательно глядеть на меня. Я, повернувшись лицом к морю, неопределенно развел руками. Первые лучи солнца ударили нам в глаза.
— Сейчас я вижу в нем то, чего не замечал раньше, и не замечаю того, что было.
Он покачал головой, едва ли не оскорбившись. Мавр со своей спокойно-безмятежной покорностью судьбе был единственной ниточкой, связывавшей капитана Алатристе и меня — ну, не считая, понятно, обязанностей по службе. Единственной — потому что грубоватый и незамысловатый арагонец Копонс не обладал душевной тонкостью, нужной для того, чтобы наладить или хотя бы улучшить наши с капитаном отношения, и его неуклюжие попытки помирить нас наталкивались на мое ребяческое упрямство. А вот Гурриато-мавр, хоть был не просвещенней Копонса, неизмеримо превосходил его проницательностью и даром понимания. Он постиг мою душу и проявлял безмерное терпение, а потому умудрялся незаметно и сдержанно оставаться связующим звеном меж капитаном и мною, причем казалось порою, что посредничество это воспринимал как способ уплатить Алатристе — или мне? — часть того долга, который в силу странного устройства своего разума числил за собой со дня памятного набега на становище Уад-Беррух — и будет числить всю жизнь, до самого сражения при Нордлингене.
— Такой человек заслуживает уважения, — вымолвил он наконец, будто подводя итог длительным размышлениям.
— А я, что ли, нет?
— Элькхадар, — со всегдашним фатализмом пожал он плечами. — Судьба. Время покажет.
Я стукнул кулаком по лееру.
— Я не вчера родился, мавр! Я такой же мужчина и идальго, как и он!
Гурриато провел ладонью по голому черепу, который он каждый день, смочив морской водой, брил остро отточенным ножом, и пробормотал:
— Ну, разумеется, идальго.
И улыбнулся. Темные, почти по-женски томные глаза засияли не хуже серебряных серег в ушах.
— Бог ослепляет тех, кого хочет погубить.
— Да ну тебя к дьяволу с твоим богом и со всем прочим.
— Иногда мы даем дьяволу то, что у него есть и так.
После чего поднялся, сгреб ветошь и вместо того, чтобы по примеру едва ли не всех остальных облегчиться прямо через борт, направился по куршее на бак, где неподалеку от тарана помещался у нас гальюн. Ибо отличался Гурриато-мавр еще одной особенностью — был стыдлив, как я не знаю что.
— Может, нам и будет сопутствовать удача, — сказал Урдемалас. — Говорят, что три дня назад турок еще не снялся с якоря на Родосе.
Диего Алатристе вымочил усы в вине, выставленном командиром галеры на мостике, в рубке, под полотняным навесом, некогда полосатым, красно-белым, а ныне выцветшим и во многих местах залатанным. А вино было хорошее — белая мальвазия, напоминавшая «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас», и, учитывая в поговорку вошедшую скаредность Урдемаласа, который, говорят, над полушкой трясется больше, нежели римский папа над своим пастырским перстнем, подобная широта была признаком весьма многозначительным. Прихлебывая из кружки, Алатристе незаметно наблюдал за остальными. Помимо грека-штурмана по имени Бракос и комита, на совет были приглашены прапорщик Лабахос и еще трое тех, кто командовал восьмьюдесятью семью солдатами, взятыми на борт, — сержант Кемадо, капрал Конеса и сам Алатристе. Присутствовал и главный артиллерист, заменивший искалеченного на Лампедузе, — этот немец ругался как испанец, а пил не хуже бискайца, но с кулевринами своими, карронадами, бомбардами и фальконетами управлялся ловчее, чем хорошая кухарка с противнями да сковородами на плите.
— Речь, по всему судя, идет о крупном корабле. Весел нет, три мачты, парусное вооружение — греческое, что касается артиллерийского, думаю, серьезное. Эскортирует его галера с янычарами…
— Об такой орешек можно и зубы поломать, — вставил комит, услышав слово «янычары».
Урдемалас взглянул на него довольно злобно. Он вообще пребывал в отвратительном настроении, потому что уже неделю тяжко маялся зубной болью, от которой, казалось, голова лопнет, однако предаться в руки корабельного цирюльника или еще кого так пока и не решился.
— Раскусывали мы и покрепче, — ответил он.
Прапорщик Лабахос, уже допивший вино, вытирал усы тылом ладони. Он был родом из Малаги — молодой, худощавый, чернявый — и отлично знал свое дело.
— Надо полагать, отбиваться будут как звери. Потеряют свою пассажирку — так и так голову снимут.
— Неужто она и впрямь — супружница Великого Турка? — рассмеялся сержант Кемадо. — Я думал, их не выпускают из сералей.
— Любимая наложница кипрского паши, — объяснил Урдемалас. — Через месяц истекает срок его правления, вот он заблаговременно отправляет ее домой вместе с частью слуг, невольников, одежды и денег.
Кемадо от радости всплеснул руками. Он был высок ростом, сухощав, а на самом деле звался Сандино. Новое имя[160] он получил после того, как при ночном штурме полуострова Лонгос — город разграбили дочиста, сожгли еврейский квартал и взяли почти двести невольников — у него в руках взорвалась петарда, когда он собирался вышибить ворота цитадели. Несмотря на сильно подпорченную наружность, а может, и благодаря этому, он постоянно шутил и балагурил. Вдобавок был сильно близорук, но очки на людях никогда не носил. «Кто и когда видел подслепого Марса?» — спрашивал он с шутливым бахвальством.
— Клянусь прахом деда, завидная добыча!
— Если захватим — да, — согласился Урдемалас. — Считай, оправдали кампанию.
— А где они сейчас? — осведомился Лабахос.
— Им пришлось задержаться на Родосе, и сейчас либо уже вышли в море, либо вот-вот отчалят.
— И каков же наш план?
Командир галеры кивнул Бракосу, и тот раскатал по настилу палубы карту, чтобы прочертить направление. На карте, рисованной от руки, во всех подробностях были представлены острова Эгейского моря, Анатолия, европейское побережье Турции. Под самым обрезом наверху уместились даже Дарданеллы и Босфор, а внизу — Кандия. И палец Урдемаласа пополз снизу вверх по правой, восточной кромке.
— Дон Агустин Пиментель хочет напасть после того, как те пройдут Хиосский пролив, чтоб не подвергать опасности тамошних монахов и христианское население… По мнению флагманского штурмана Горгоса, наилучшее место — между Никалией и Самосом. Кроме как на север от Родоса, деться им некуда.
— «Грязные воды»… — заметил Бракос. — Мели, рифы…
— Да. Но Горгос хорошо знает те места. И утверждает, что если у турка — опытная команда и капитан ходил там, наверняка предпочтут двигаться меж цепочкой островов и материком, то есть обычным путем: есть защита от ветров да и вообще безопаснее.
— Резонно, — согласился штурман.
Диего Алатристе и капрал Конеса, низенький тучный мурсиец, смотрели на карту с большим интересом. Ни по рангу, ни по чину им, исполнявшим должность взводных, такие документы видеть не полагалось, да и на подобного рода советы их обычно не приглашали. Однако Алатристе, старый пес, отлично понимал, что к чему и зачем они все трое все же оказались здесь. Когда готовится большая охота, нужно, чтобы все назубок знали, что кому делать, — вот начальство и решило через их посредство довести все эти сведения до рядовых, чтобы их те получили из первых рук. Прибыть вовремя и взять турецкий корабль — дело непростое и потребует усилий от всех, так что солдаты и моряки будут усерднее и исполнительнее, зная, как все обстоит в действительности: напустишь туману — может не понравиться.
— Только вот не уверен, что поспеем, — сказал прапорщик Лабахос.
Он показал пустой стакан в надежде, что Урдемалас кликнет юнгу и велит налить еще, однако командир сделал вид, что не заметил.
— Ветер благоприятствует нам, да и потом, у нас есть весла. Турок тяжел и грузен, идет под парусами против ветра, а самое большее, чем может помочь галера, — взять его на буксир при полном штиле… Кроме того, свежеет, и пока усиление ветра нам на руку. Флагманский штурман считает, что мы сможем начать охоту на траверзе Патмоса или островов Хорна. Прочие капитаны и штурманы с ним согласны. Я верно говорю, Бракос?
Грек молча кивнул, подтверждая, и продолжал скручивать карту в рулон. Кемадо спросил, что думают обо всем этом мальтийцы, и Урдемалас пояснил:
— А этим отчаюгам все едино — два турецких корабля или полсотни, жену кипрского паши они везут или саму султаншу… Одно знают — унюхать, почуять, догнать и впиться клыками в загривок. Больше турок — больше добычи.
— Что на них за капитаны? — поинтересовался сержант.
— Про француза ничего не могу сказать. На борту — дворяне и солдаты из числа его соотечественников, есть итальянцы, испанцы и даже, кажется, один немец затесался. Народ, надо думать, неробкий. А вот командира «Крус де Родас» знаю лично.
— Фрай Фулько Мунтанер, — вставил комит.
— Тот, что был при Симбало и Сарагосе?
— Тот самый.
Кое-кто из присутствующих поднял брови, кое-кто закивал. Алатристе и сам слышал от Алонсо де Контрераса об этом испанском рыцаре-иоанните. Когда близ Симбало шторм разметал мальтийские галеры, он с уцелевшими после кораблекрушения занял оборону на острове и как лев отбивался от полчищ бизертских мавров, высадившихся там. Удивляться, впрочем, нечему: даже самый наивный и с упованием глядящий в будущее мальтийский рыцарь не станет ждать от мусульман пощады. Не по этой ли причине в битве при Лепанто, когда отбили флагманскую орденскую галеру, взятую на абордаж галерами турецкими, в живых на ней оставалось всего трое израненных рыцарей, а палуба была завалена трупами врагов — насчитали более трехсот. Подобное же повторилось и в двадцать пятом году уже нашего века, при сицилийской Сарагосе — Сиракузах, по-местному — когда после кровопролитного боя четырех мальтийских галер с шестью берберийскими все тот же Мунтанер, старик лет под шестьдесят, оказался одним из восемнадцати уцелевших на флагманской галере. И если иоанниты, внушавшие ужас и ненависть врагам, по справедливости считались самыми свирепыми и умелыми корсарами, то наиотчаяннейшим был среди них брат Фулько Мунтанер. Во время этого похода Алатристе не раз видел его: лысый, с длинной седой бородой, весь в рубцах да шрамах, стоит на мостике «Крус де Родас» и громовым голосом отдает на своем майоркском наречии приказания.
Примета подтвердилась: днем пошел дождь, а к вечеру задуло так, что разыгрался шторм, хоть и не слишком сильный, и в итоге, несмотря на зажженные на корме фонари, пять галер потеряли друг друга из виду. Зато очень быстро одолели сорок миль, отделявших нас от острова Никалия, хоть и досталось в эту ночь всем: покуда матросы управлялись с парусами, остальные, включая и гребцов, сгрудились на палубе, положительно помирая от холода и кутаясь кто во что мог. Но попутный ветер гнал нас вперед, так что утро, выдавшееся ясным и погожим — дождевые тучи отодвинулись и нависли над высокими скалистыми берегами острова, — застало нас у мыса Папы: две галеры из нашего конвоя уже стояли там, а две другие благополучно подошли к полудню. Никалия — или Икария, как еще называют этот остров, в воды которого рухнул, не долетев до солнца, злосчастный сын Дедала — берега имеет скалистые, течение возле них сильное, гавани же нет никакой, но мы, пользуясь штилем и отличной видимостью, сумели все же высадиться и наполнить доверху все наши бочки и бочонки. Когда на галерах такая прорва народу, надобность в пресной воде постоянная и расход ее велик.
Дон Агустин Пиментель, дабы удостовериться в своем предположении, что из-за встречного северного ветра турки все еще недалеко отошли от Родоса, приказал четырем галерам перекрыть пролив между Никалией и Самосом, а пятой — отойти к югу и выведать, что да как, справедливо рассудив, что один испанский корабль привлечет к себе меньше внимания, нежели целая флотилия, подобно стае хищных птиц ищущая себе поживу. Кроме того, греки, населявшие эти острова, едва ли были лучше оттоманов: все как на подбор — люди невежественные, ибо школ там отродясь не было, и дикие, тяжко страдающие от гнета магометан, а потому в любую минуту готовые продать им кого угодно, чтобы снискать их благоволение. Выполнить это задание поручили «Мулатке», так что мы легли на курс и к концу второй вахты, то есть на рассвете, входили в глубокую и защищенную бухту Патмоса — лучшую из тех трех или четырех гаваней на острове, служащем подножием для хорошо укрепленной обители христианских монахов, которая, выражаясь военным языком, господствует над местностью. Там, в бухте, мы простояли все утро: на берег сошел один Урдемалас, взяв с собой Бракоса, — они не только собирали сведения, но и договаривались с братией о выкупе пленных иудеев, что сидели у нас на веслах, — под этим предлогом, кстати, мы и зашли на Патмос, — однако не знаю уж, какие резоны привели наш капитан и штурман, но освободить иудеев пообещали попозже, высадив их в Икарии. Таким вот образом мне и не довелось вступить в пределы легендарного острова, где Иоанн Богослов, сосланный сюда императором Домицианом, продиктовал своему ученику Прохору знаменитое Откровение — «Апокалипсис», последнюю из книг Нового Завета. Ну, упомянувши книги, скажу, что капитан Алатристе просидел весь день у борта, читая присланный ему в Неаполь доном Франсиско де Кеведо сборник «Сновидения», который, будучи напечатан in octavo, то есть небольшого размера, легко помещался в кармане. Улучив момент, когда капитан, отлучившись по какой-то надобности на корму, оставил томик на палубе, я взял и быстро пролистал его, обнаружив на заложенной странице такие вот слова:
Некогда снизошли на землю Истина и Справедливость. Первая не могла найти себе прибежища по причине своей наготы, вторая же была чересчур сурова. Долго они странствовали. Наконец Истина, побуждаемая крайней нуждой, сошлась с немым. Справедливость, не найдя приюта, продолжала бродить по земле, взывая ко всем, и, узрев, что не ценят ее, но лишь используют ее имя ради угнетения, решила вернуться на Небо[161].
Ну и там, на Патмосе, употребили мы часть дня, чтобы отдохнуть, истребить друг у друга вшей, а также отведать похлебки из турецкого гороха с кусочком трески, поскольку день был постный, пятница: это — что касается нас, команды и солдат, гребцы же довольствовались своими сухарями, разлегшись под навесом, закрывающим куршею, ибо солнце шпарило вовсю, устроив нам такое поистине адово пекло, что даже смола плавилась да подкапывала. После полудня воротились Урдемалас со штурманом, и вид у обоих был весьма веселый, ибо они отлично отобедали с братией в трапезной и отведали тамошнего монастырского вина с медом и цитроном — Господи, сделай так, чтобы их пронесло с того вина! — но веселье объяснялось не этим, а известием, что турки мимо пока еще не проходили. Сообщили им также, что видели, как корабль, по-прежнему эскортируемый галерой, огибал с востока остров Лонгос и, будучи весьма тяжеловесен и грузен, еле полз из-за встречного ветра. После чего и скорее, чем это можно было бы передать словами, был снят навес, поднят якорь, и мы во всю прыть наших гребцов устремились на соединение с главными силами.
За два дня и две ночи ожидания, погасив все огни и зорко всматриваясь в темноту, мы, так сказать, до корня сгрызли ногти от досады. Свинцово-гладкое море и — ни дуновения, а значит — никого и ничего: ни турка, ни черта, ни дьявола. Но вот наконец юго-восточный ветерок слегка взъерошил водную гладь и вознаградил нас за долготерпение, ибо пришел приказ изготовить корабль к бою. Пять галер, держась друг от друга на пределе видимости и сообщаясь условными сигналами, растянулись на пространстве почти в двадцать миль, когда появились те, кого мы ждали. За нами был остров Хорна, и там, в южной его части, на вершину горы, откуда видно было далеко, мы посадили четырех наших, наказав им подать сигнал — развести костер, — когда покажется парус. Остров, надо сказать, имел долгую и славную корсарскую историю, ибо и названием своим[162] обязан тем временам, когда турок Сигала пек там корабельные сухари для нужд своих галер. Изюминка же всей затеи состояла в том, что мы, дабы подобраться к неприятелю как можно ближе да при этом не подставить борт его мощным пушкам, решили прикинуться своими, то есть изменили силуэт наших галер, придав им больше сходства с турецкими — укоротили грот-мачты, реи сделали более толстыми и массивными, а впередсмотрящих на марсах посадили точно в такие же бочки, как у турок.
Завершили маскарад турецкие же флаги и вымпелы, которыми, как и флагами прочих наций, мы запаслись заранее именно для такого случая — противник поступал совершенно так же, рядясь под нас, — и даже турецкое платье, в которое переодели тех, кто мог быть замечен издали. Подобные фарсы были неотъемлемой частью той опасной игры, которую вели страны и народы, обитающие на этих древних берегах, ставших не то театральными подмостками, не то шахматной доской. Но когда восемь или десять жерл крупного калибра смотрят тебе прямо в душу, а тем более — когда садят в тебя с дальней дистанции, а ты только и можешь, что, стиснув зубы, грести изо всех сил, чтобы дожить до абордажа и тут уж сквитаться за свой страх и беспомощность, то выиграть время и подобраться как можно ближе — дело первостепенной важности. Дали бы Великой Армаде в Ла-Манше сойтись с англичанами грудь в грудь, как было при Лепанто, совсем иначе вспоминали бы нынче поход в Англию.
Это я все к тому веду, что по известной подлости судьбы и жребия наряжаться турком поначалу чуть было не выпало и мне. Но я-то, слава Всевышнему, сумел отбрехаться, но вот остальным — и Гурриато-мавру среди них, благо он очень подходил к сей роли всем своим обликом — пришлось натягивать длинные архалуки, которые в этих краях называются долиманами, и шаровары, а головы покрывать фесками, тафтяными чалмами или тюрбанами и, обряженным таким манером, засиять многоцветно, что твоя радуга, и спасибо солнцу, под которым жарились мы столько дней, что и лица их смуглотой вполне могли бы сойти за турецкие. До того дошло, что один из наших расстелил свою ропилью заместо молитвенного коврика, стал на колени и принялся весьма бесстыдно взывать к Аллаху; но когда возроптали со своих банок возмущенные таким святотатством галерники-мусульмане, капитан Урдемалас выбранил шутника с большой суровостью, пригрозив, если не прекратит смущать гребную команду, ободрать его кнутом безжалостно.
— Навались, навались, дети мои! Все отдай, а улизнуть им не дай!
Когда Урдемалас обращался к каторжанам на своей галере «дети мои», это был верный признак того, что не у одного из них сегодня шкура слезет до мяса под ударами бичей. И примета подтвердилась. Следуя дьявольскому ритму, задаваемому свистками комита, хлопаньем бичей по голым плечам и звоном кандалов, галерники, дыша хрипло и натужно, как запаленные кони, снова и снова дружно вставали и рушились назад, на скамьи.
— Они уже наши! Еще навались, еще навались! Сейчас возьмем!
Вытянутая, узкая галера птицей летела над беспокойным морем. Мы держали курс прямо на остров Самос, чьи голые скалистые берега только что оставили по левому борту. Голубое сияние утра было лишь чуть-чуть пригашено не до конца рассеявшимся туманом на материке, что угадывался восточнее. Пять галер шли на всех парусах и веслах: две вырвались вперед у Самоса, две мчались навстречу им и следом за «Мулаткой», постепенно догоняя ее и пристраиваясь по обе стороны, и все туже стягивалось кольцо вокруг двух турецких парусников, которые отчаянно пытались прорваться в пока еще открытую лазейку между островом и материком либо пристать к берегу. Но даже самый зеленый новичок понимал — все козыри у нас. Ветер был недостаточно свеж, чтобы грузный и неповоротливый корабль смог набрать нужную скорость, турецкой галере же ничего не оставалось, как держаться рядом с ним, тогда как наши, отделенные от добычи почти целой милей и все еще далеко держащиеся одна от другой, буквально на глазах сокращали дистанцию. Мы пошли на сближение в тот миг, когда, почти одновременно, на вершине горы на острове Хорна показался дымок и с нашего разведывательного ботика оповестили: «Видим турок!» Устроенный нами маскарад поначалу сбил их с толку — потом мы узнали: они приняли нас за высланные с острова Метелин галеры сопровождения и двигались прежним курсом. Однако довольно скоро — по форме весел, по тому, как мы лавировали, ловя ветер, — догадались, что их провели, и корабль развернулся носом в пролив или в сторону материка, меж тем как галера, зайдя с подветренного борта, прикрывала бегство. Но поздно — дичь была уже загнана: флагманская галера мальтийцев оказалась в проливе раньше и отрезала их от побережья Самоса, «Каридад Негра» уже нацелилась тараном на турецкую галеру, а «Мулатка», за которой, по-прежнему чуть отставая, поспевали «Вирхен дель Росарио» и «Сан-Хуан Баутиста», мчалась прямо на корабль — огромный, с высоченной, как у галер, кормой трехмачтовик с прямыми парусами на грот— и фок-мачтах и с латинскими — на бизань-мачте, — при нашем появлении поставивший все марселя.
— По местам стоять, к бою! — скомандовал прапорщик Лабахос. — Сейчас пойдем!
На корме барабанщик ударил боевую тревогу, и подал сигнал, предваряющий атаку, трубач. В галерейках и на палубе началось стремительное, но осмысленное мельтешение людей — артиллерист со своими помощниками готовили пушки на куршее и камнеметы по бортам, уже заложенным для защиты от пуль скатанными одеялами, матрасами, заплечными мешками, длинными прямоугольными щитами-павезами, люди в порядке и без суеты доставали из открывшихся к этой минуте сундуков и огромных плетеных корзин оружие. От носа до кормы, оплывая по́том, выпучив от напряжения глаза, продолжали надрываться гребцы под мерный звон своих оков, к которому теперь присоединился лязг и звон стали — это мы, солдаты и отряженные для защиты и абордажа моряки, готовились к рукопашной, расхватывали шлемы, щиты, кирасы, шпаги, аркебузы, копья и укороченные пики, на треть от навершия намазанные салом, чтобы противник не мог перехватить. Задымились фитили ружей и запальники пушек, лежавшие до поры в чанах с песком. Шлюпку и вельбот спустили на воду и повели за собой на брошенном с кормы буксире. Повар погасил плиту и весь открытый огонь, какой был на корабле, юнги окатили палубу морской водой, чтоб по настилу не скользили ни босые ноги, ни подошвы альпаргат. А на корме, стоя в рубке рядом со штурманом и рулевым, заставляя нас до отказа, до последней капельки использовать преимущество, надрывался командами Урдемалас: греби, ребята, греби, право на борт, еще полборта вправо, лево руля! Греби, черти окаянные, навались, навались, трави стаксель, навались, дети мои, еще немного, они уже наши, навались, говорю, шкуру спущу с мерзавцев! — и далее такими черными страшными словами покрыл-помянул Пречистую Деву, и святое причастие, и всех апостолов, что сам Лютер не изощрился бы в этом заушательстве сильнее, ибо никто не умеет ругаться, как испанец во время шторма или в бою. И так вот сошлись наконец вплотную.
Дело вышло тяжкое. Первыми на турецкий корабль насели мы, а «Каридад Негра», оказавшаяся к острову несколько ближе нас, въехала тараном в борт галеры, так что издали были слышны трескотня аркебуз и крики Мачина де Горостьолы, ринувшегося со своими бискайцами на абордаж. Меж тем все глаза на «Мулатке» были прикованы к черным окошечкам открытых орудийных люков: у турка было по шести дальнобойных пушек на каждом борту, и он, видя, что ему не уйти, переложил штурвал на полрумба влево да и шарахнул по нам залпом, снеся с фок-мачты рею вместе с четырьмя матросами, которые как раз в эту минуту спускали ее, — и развесил по вантам их кишки и прочую требуху, являвшие собой зрелище весьма неприглядное. Еще один такой залп — и нам бы крепко не поздоровилось, ибо галеры отличаются не слишком крепким корпусом, однако Урдемалас, человек в таких делах на удивление поднаторелый, умел предчувствовать неприятельский замысел еще до начала маневра, а потому, оттолкнув замешкавшегося рулевого — и пусть спасибо скажет, что только оттолкнул, ибо в руке у капитана уже сверкнула шпага, — и самолично круто отвернул вправо, целясь в корму турку, как я уже говорил, высоченную, как у галеона, и обладавшую в наших глазах тем достоинством, что пушек на ней не было, а стало быть, позволявшую приблизиться не рискуя. Турок дал залп другим бортом, накрыв теперь «Вирхен дель Росарио», что показалось нам справедливым, ибо еще Христос велел делиться, а люди-то все, конечно, братья, но большей частью — двоюродные.
— Приготовиться на абордаж! — взвыл прапорщик Лабахос.
Мы сблизились уже на аркебузный выстрел и понимали — если гребцы исполнят свое дело добросовестно, турецкие канониры не успеют выстрелить во второй раз. Закинув на спину маленький круглый щит, грудь прикрыв кирасой, голову — шлемом, а шпагу еще держа в ножнах, я присоединился к кучке наших моряков и солдат, готовивших абордажные крючья на длинных узловатых тросах. Ощетинясь во все стороны оружием, следующая крупная партия ждала у покалеченной фок-мачты, когда ударят наши пушки, чтобы полезть по тарану — и дальше. Среди других я заметил и капитана Алатристе, раздувавшего фитиль своей аркебузы, и Себастьяна Копонса, уже успевшего, по своему обыкновению, туго обвязать голову арагонским платком. У меня у самого был такой поддет под шлем, в котором было дьявольски тяжело и адски жарко, но выбирать не приходилось: лезть на абордаж будем снизу вверх, так что желаешь аистов дождаться — береги чердак. Тут я заметил, что бывший мой хозяин, углядев меня в строю людей, подобных ему и мне, прежде чем отвести взгляд, подал, как я заметил, знак — мотнул в мою сторону головой — мавру Гурриато, стоявшему рядом со мной, а тот кивнул. «Обойдемся без нянек да опекунов», — сказал я себе, а больше ничего сказать не успел, ибо в этот миг грохнули пушка на куршее и две карронады на носу, заряженные россыпью пуль и обрывками расклепанных цепей, долженствовавшими перебить и размочалить снасти и, оставив противника без парусов, лишить его хода, а за ними следом ударили мушкеты, аркебузы, камнеметы, палубу заволокло пороховым дымом, и в дыму этом засвистели турецкие стрелы, запрыгали свинцовые и каменные мячики, со щелканьем ударяясь о доски настила, с чмоканьем впиваясь в податливую живую плоть. Ничего иного не оставалось, как стиснуть зубы и ждать, что я и сделал, съежившись и опасаясь, что малая толика всего этого сыплющегося сверху добра достанется и мне. Тут, возвещая, что мы наконец въехали неприятелю в бок, затрещало оглушительно, нас всех сильно тряхануло, гребцы с криками побросали весла, полезли прятаться под банки, а я, задрав голову, увидел в клочьях дыма огромную корму, уходившую, как показалось мне в тот миг, куда-то в самое поднебесье.
— Сантьяго! Сантьяго! Испания и Сантьяго!
Так в исступлении орали мои товарищи, сгрудившись на корме. И ведь все — каторжанская братия, разумеется, не в счет — пошли туда своей охотой: каждый и всякий знал, что ждет нас богатая добыча. Наконец полетели абордажные крючья, перекинули на неприятельский борт рею грот-мачты на манер сходней или мостков, галера придвинулась еще немного, и мы пошли, карабкаясь по «поясу» турка, словно по штормтрапу, ну и я, конечно, тоже пошел вместе со всеми и даже одним из первых, так что Лопе Бальбоа, солдату королевской пехоты, смертью храбрых павшему во Фландрии за своего государя, не пришлось бы краснеть за сына, который с проворством и ловкостью, присущими его семнадцати годам, лез по высоченному борту туда, где рассчитывать можно было исключительно на собственный клинок, а тем, жить ему или умереть, распорядятся слепой случай, Господь Бог или дьявол.
Дело было, как я уже сказал, жаркое и длилось не менее получаса. На борту оказалось человек до пятидесяти янычар, дравшихся, как за ними водится, остервенело и перебивших немало наших — главным образом, на носу. Отборные эти воины, христиане по рождению, в самом нежном возрасте отторгнутые в виде живой подати от их семейств и воспитанные в традиции ислама и в слепой, беззаветной верности султану, делом чести почитают в плен не сдаваться, хоть в куски их изруби, и славятся особой стойкостью и свирепостью в бою. Пришлось дать по ним несколько аркебузных залпов в упор — что сделано было весьма охотно, потому что и они, покуда мы карабкались на борт, лупили по нам нещадно и из бойниц, и из орудийных портов, и просто так, — а потом врубиться в гущу их со щитом и саблей и отбить грот-мачту, вокруг которой они защищались с упорством поистине бешеным. Я в этом бою вел себя осмотрительно, не давая себе охмелеть от ярости рукопашной схватки, прикрывался щитом, попусту клинком не махал, разил наверняка, вертел головой во все стороны, стараясь в соответствии с уроками и наставлениями капитана Алатристе все вокруг замечать, шаг вперед делать, твердо уверясь, что можно его сделать, а назад не посунулся, даже когда, разнесенный выстрелом в упор, обдал меня мозгами череп капрала Конесы. Рядом дрался Гурриато-мавр, и так вот, шаг за шагом, удар за ударом, мы оттеснили янычар к фок-мачте и на полубак, и песня их была спета, когда под наши крики «Бросай оружие, сдавайся!» — на лингва-франка, разумеется, — на них сверху и сзади посыпались люди с «Вирхен дель Росарио» и «Сан-Хуан де Баутиста», подоспевших с этой стороны, и возгласы «Испания и Сантьяго!» стали перемешиваться с кличем «Мальта и Святой Иоанн!». Когда собрались вместе три галеры, прения сторон завершились и явственно запахло приговором. Последние янычары, израненные и выбившиеся из сил, сменили свои прежние любезности вроде «guidi imansiz» и «bir mum», что значит соответственно «рогатые гяуры» и «сукины дети», на «efendi» и «sagdic», то есть «господин» и нечто вроде «крестного», хотя какие из мусульман крестники? — и стали молить о пощаде именем Аллаха. Но все же к тому времени, когда наконец они все сложили оружие, большая часть нашего воинства уже деятельно обшаривала все углы на турецком корабле и перебрасывала узлы с добычей на палубы наших.
Бог свидетель, то был славный день! Сколько-то времени нам дали пограбить беспрепятственно и в свое удовольствие, чем мы и воспользовались с невиданным прежде жаром, ибо корабль водоизмещением был бочек на семьсот и чего-чего только не вез в трюмах — и специи, и шелка, и камки, и тонкие сукна целыми штуками, ковры персидские и турецкие, и сколько-то драгоценных камней, включая жемчуг, серебряные изделия и пятьдесят тысяч золотых цехинов, не считая нескольких бочек арака — это такая турецкая водка, которой наш брат тотчас отдал дань и воздал должное. Я сам, сияя почище Демокрита[163], набрал себе добычи, не дожидаясь общей дележки, и, видит Бог, честь была по заслугам, ибо сражался доблестно и, между прочим, в свидетельство этому первым вонзил свой кинжал в грот-мачту, что давало мне право на лучшую часть трофеев. Довольно будет сказать еще, чтоб уж больше не возвращаться к этому, что из семнадцати убитых при абордаже испанцев больше половины пали рядом со мной, что на шлеме своем и на кирасе я насчитал несколько вмятин и что потребовалась целая бадья воды, чтобы смыть с себя кровь — по счастью, чужую. Впоследствии я узнал, что когда Алатристе спросил Гурриато, каково пришлось ему и мне в бою — сам капитан вместе с Копонсом дрались на корме, поначалу стреляя из аркебуз, а потом взявшись за шпаги и топоры, коими взламывали двери, за которыми забаррикадировались турецкие офицеры и часть янычар, — мавр отозвался обо мне кратко, но весьма лестно, сообщив, что едва ли сумел бы сохранить жизнь, не убей я многих, покушавшихся на нее.
Люди с «Каридад Негра» и «Крус де Родес» тоже сложа руки не сидели. Сначала одна, а потом и другая взяли на абордаж турецкую галеру, и схватка вышла скоротечная и беспощадная — вышло так, что когда таран «Каридад» врезался в борт неприятелю, сокрушив все повстречавшиеся ему на пути весла, какая-то паскуда застрелила сержанта Сугастьету, большого мастера пожрать и выпить, весельчака и всеобщего любимца, благо, как я говорил уже, на «Каридад» служили только земляки. А поскольку баски — верьте слову, это говорю вам я, уроженец Гипускоа, — никогда не жмутся, о серебре ли заходит речь или о стали, то все, кого мать родила, попрыгали на борт неприятелю с криками «Koartelik ez!», что по-нашему значит, что пощады не будет даже корабельному коту, не то что людям. Ну и всех до последнего человека, включая даже юнгу, перебили безжалостно, не разбирая, сдались они или нет, ибо резоны для резни нашлись самые подходящие. И единственными, кто уцелел, если, конечно, не попал под горячую руку во всеобщей свалке, были гребцы общим числом девяносто шесть человек, из коих половина оказалась испанцами, и сами можете себе вообразить, как ликовали они, обретя свободу. Среди них отыскался один из Трухильо, взятый в плен в пятом году нынешнего века и, стало быть, просидевший в цепях на веслах двадцать два года и, несмотря на это, чудесным образом выживший. Стоило посмотреть, как плакал несчастный, обнимая своих избавителей.
А из трюма мы вытащили пятнадцать юных невольников — девятерых парней и шесть девиц в первом цвете юности. Все были не старше 15–16 лет, хороши собой, все — христиане, захваченные в плен корсарами на итальянских и испанских берегах и предназначенные на продажу в Константинополе. Нетрудно представить, какая судьба в дальнейшем ожидала бы тех и других, если вспомнить необузданную похотливость турецких пашей, отличающихся в этом деле прихотливым разнообразием вкусов. Но самой примечательной добычей была фаворитка кипрского паши, происходящая, как выяснилось, из Московии, — голубоглазая, высокая и весьма изобильная дама лет тридцати, красивей которой я никогда не видал ни раньше, ни потом: у дверей каюты, куда поместили ее под присмотр капеллана Нисталя и под охраной четырех солдат, получивших от дона Агустина Пиментеля приказ убивать на месте всякого, кто ее обидит, — выстроились мы в длинную очередь, чтобы поглядеть на нее, пышно разряженную, сопровождаемую двумя хорошенькими служанками-хорватками, и так странно было видеть подобное чудо посреди нашей корявой и еще заскорузлой от крови братии. Поглядением дело и кончилось, ибо через два дня прекрасную пленницу отправили в Неаполь вместе с освобожденными и турецким кораблем, дав им в сопровождение «Вирхен дель Росарио», благо турецкая галера благополучно затонула, а уж потом — да не галеру, ясное дело, а московитку! — выкупили за триста тысяч цехинов, причем нам-то, честно и с большим риском для жизни заработавшим их своими шпагами, не дали даже послушать, как цехины эти звенят. Позднее стало известно, что кипрский паша, узнав про такое дело, занемог от ярости и поклялся отомстить. Отдуваться за всех пришлось бедному нашему штурману Бракосу спустя полтора года: корабль его, севший на мель неподалеку от Лимоса, захватили турки, среди которых оказался один из тех, кто был тогда на борту и уцелел во время нашего предприятия. Турки, не торопясь, заживо содрали с Бракоса кожу, набили ее соломой, чучело прикрепили к марсу галеры и возили напоказ от острова к острову.
Да, история вполне в духе тесных средиземноморских берегов, где все друг друга знают и где счеты у всех со всеми, военное же счастье и корсарская удача, как известно, переменчивы: сегодня — ты, завтра — тебя. Это я к тому, что тогда, на траверзе островов Хорна, по полной огребли, конечно, турки: человек полутораста их сбросили мы тогда в море — может, чуть больше, может, чуть меньше, раненых заодно с убитыми, и утопли все как есть. Полсотни уцелевших судовые альгвазилы потом приковали к веслам, невзирая на протесты бискайцев, которые намеревались истребить их всех до одного и до того разгорячились, что слушать ничего не желали и даже капитану своему отказались повиноваться, так что дону Агустину Пиментелю, чтобы малость охладить страсти, пришлось разрешить им отрезать уши и носы у христиан-вероотступников, буде таковые найдутся среди пленных, и душ пять или шесть отыскалось. Что же касается добычи, то она, как я уже сказал, оказалась знатной и богатой, и когда приказали прекратить грабеж, в карманах у меня уже лежали серебряные браслеты, пять длинных ниток жемчуга, пригоршни цехинов турецких, венецианских и венгерских. С каким наслаждением делили мы трофеи! Стоило бы взглянуть на этих заматерелых, в семи щелоках мытых, всеми родами смерти испытанных бородатых солдат в железе и коже, когда они, смеясь, как малые дети, набивали свои фельтрикеры, карманы и заплечные мешки, ибо не для того ли, в конце концов, мы, испанцы, покинули мирную сень отеческой земли, отринули домашний уют, лары заодно с пенатами и семьями, согласились претерпевать тяжкие лишения, опасности, коварство стихий, бешенство ветров, ярость морей, кровь и пот войны? Ибо совершенно справедливо заметил еще в прошлом веке Бартоломе де Торрес Наарро:
Чем солдату жить без боя: Нет войны — какой доход? Ждем ее, браток, с тобою, Как тепла бродяга ждет.«Лучше быть мертвым, чем богатым», — слыхали мы не раз, но сколько же нищих и убогих идальго гнуло шею попеременно перед епископом и маркизом? Идею сию отстаивал из книги в книгу сам дон Мигель Сервантес, вдоволь повоевавший на своем веку: он вложил ее в уста своему Дон Кихоту, а славу, обретенную шпагой, ставил превыше славы, завоеванной пером. Но если бедность так хороша, что ее и сам Христос любил, отчего ж, спрошу, не наслаждаются ею те, кто ее проповедует? Порицать солдат, которые за раздобытое ими золото расплатились собственной кровью, будь то в Теночтитлане или вот как мы — повыщипав малость бороду Великому Турку, значит не понимать, каково этому самому солдату живется и ценой каких страданий достается ему на войне добыча, сколько раз приходится ему подставлять грудь под пули, увечиться и калечиться, глотать сталь, свинец и огонь ради того, чтобы добыть себе доброе имя, либо денег на прожиток, либо то и другое вместе:
Уйдем, не числясь в немощных и хворых, Вам порошки судил Господь, нам — порох, Нам — шпагу в грудь, вам — в задницу клистир, Нам — пули градом, вам — пилюлек ворох.А потому, рассуждая о добыче солдатской или о жалованье его, не следует забывать, что движут человеком чаянье награды и славы: во имя их бороздят моря моряки, пашут землю крестьяне, возносят молитвы монахи, а солдаты воюют. Однако слава, хоть и достигается ранами и преодолением опасностей, изменчива и недолговечна, если не подкреплена, так сказать, материально, и вот уж недавний герой, истинное зерцало доблести, сделался жалкой развалиной и сидит на паперти, побираясь Христа-ради, и люди с ужасом отводят глаза при виде его увечий, полученных на поле битвы. Тем паче что в отношении воздаяния за пролитую кровь наша отчизна всегда отличалась поразительной забывчивостью. Хочешь есть, говорит она, милости просим на приступ вон того форта. Денег надо? — возьми-ка ты, братец, на абордаж вражью галеру. И — Бог тебе в помощь. Потом, в сторонке став, смотрит, как ты дерешься, рукоплещет твоей отваге, благо рукоплеск обходится бесплатно, а потом бегом бежит на ней нажиться да к ней примазаться, живописно драпируясь в государственный флаг, продырявленный картечью, от которой остался ты калекой. Ибо среди нашего бессчастного народа немного найдется полководцев и еще меньше — венценосцев, поступающих по примеру генерала Гая Мария[164]: тот в благодарность за помощь, оказанную наемниками-варварами в галльских войнах, сделал их вопреки закону гражданами Рима. А когда его упрекнули в этом, ответил, что за лязгом оружия голос законов ему не слышен. Ну и я уж не говорю про самого Иисуса Христа, который не только обессмертил двенадцать своих солдат, но и кормил их.
Х. Бухта Искендерон
В предыдущей главе тонко подмечено было, что, мол, сегодня ты, а завтра — тебя, и это совершенно справедливо. Не менее верно и то, что, по меткому выражению мавра Гурриато, Бог ослепляет тех, кого желает погубить. Я же от себя добавлю насчет того, что не рой другому яму и прочая. Ибо не прошло и пяти дней, как захватили мы турок, — и вот пожалуйста: и нас заманили в ловушку. Вернее будет сказать — мы сами в нее угодили, потому что злоупотребили своим везением. Дело было так: дон Агустин Пиментель, окрыленный удачным исходом операции, решил податься на север, высадиться да разграбить Фойавеккиа, маленький турецкий городок на анатолийском побережье, в заливе под названием Искендерон. Ну и вот, отмерив на острове Хорна по сажени турецкой землицы каждому из наших, павших в бою, — навсегда остались лежать там сержант Сугастьета, капрал Конеса и много других славных ребят, — поплыли мы на юг, прошли через Хиосский пролив, почистили днище на самом острове, а потом, обойдя с востока мыс Кабо-Негро и бухту Смирны, вошли в вышеуказанный залив и на приличном удалении от побережья легли в дрейф, дожидаясь темноты. Уверенность нашу не поколебало даже и дурное предзнаменование, томившее нас смутной тоской, ибо высланный вперед на разведку мальтиец «Сан-Хуан де Баутиста» назад не вернулся, и мы так больше никогда его не увидели, и по сей день неизвестно, был ли он пущен на дно или захвачен, сумел ли кто из команды выжить или нет — и даже турки ничего о том не сообщали. И, подобно многим иным, таинственно и бесследно исчезнувшим кораблям, мальтийская галера со всеми своими тремястами сорока рыцарями, солдатами, палубной командой и гребцами, канула в неизвестность — то ли на дно морское, то ли в анналы Истории.
И недаром говорится: «Беда одна не ходит». Несмотря на то что «Сан-Хуан де Баутиста» к нам не присоединился, как было условлено, решил дон Агустин Пиментель, что ждать его не будет и что трех галер хватит, чтобы справиться с немногочисленным гарнизоном маленькой крепости, которую еще в 16-м году брали и грабили мальтийцы. Ближе к вечеру, так и не дождавшись каких-либо вестей, поужинали мы вымоченными в воде холодными бобами — огонь-то развести было нельзя, — горстью оливок да луковицей, выданной из расчета одна на четверых, а потом, после «Аве-Марии», по спокойному морю, под хмурым небом и при полном безветрии двинулись на веслах, с потушенными огнями к берегу. Ночь была темная, держались мы очень близко друг к другу и находились примерно в миле от города, когда вахтенный доложил, что у нас по корме, в открытом море, виднеются какие-то тени — вроде бы корабли под парусами, но точно сказать не может из-за темноты. Остановились, подошли вплотную к флагману и стали держать совет. Подумалось, что это могут быть низко нависшие тучи, озаренные последним светом дня, или же корабль, в отдалении входящий в залив, однако же нельзя было исключать и то, что один или несколько неприятельских парусников с умыслом отрезали нам путь в открытое море, либо намереваются напасть на наши галеры, когда причалим к берегу и высадим бо́льшую часть людей для боя на суше. Ну и вот, флотоводец наш дон Агустин Пиментель, пребывая в сомнении, велел спустить вельбот и разузнать, что к чему, поточнее, а мы с весьма понятным волнением остались разведчиков ждать. К началу второй вахты посланные воротились и доложили, что видели пять или шесть темных силуэтов — предположительно, галеры, а ближе подходить не осмелились из опасений быть замеченными и захваченными. Получив такие сведения, каковые с полным на то основанием позволительно будет уподобить грому среди ясного неба, дон Агустин принял решение дальше не идти. Корабли эти могли бы оказаться турецким купеческим караваном с Хиоса или Метелина, идущим под пресловутым конвоем взаимной защиты, а могли — и флотилией корсаров, решивших спуститься к западу. Стали обсуждать все возможности, включая и попытку проскользнуть мимо них в темноте, но тотчас же и отвергли ее как заведомо невыполнимую, ибо незаметно улизнуть в таких обстоятельствах вообще невозможно, а тем более — когда не знаешь, с кем придется иметь дело. Так что было приказано огней по-прежнему не зажигать, удвоить число тех, кто «наблюдал море» во избежание внезапной атаки, а команде отдыхать посменно. И вот, держа оружие под рукой, разлеглись мы на палубе, спя вполглаза и с тревогой в сердце ожидая, когда забрезжит рассвет и заодно с небосводом прояснится и наше положение.
— Сеньоры, пахнет жареным, — подвел итог капитан Урдемалас.
Капитан, некоторое время назад вытребованный на «Каридад Негра», где происходил военный совет, только что поднялся на «Мулатку» по трапу, спущенному с правого борта, куда доставила его шлюпка. Три наших галеры стояли очень близко одна к другой, носом к морю, и весла лежали в свинцовой воде неподвижно. Небо по-прежнему было задернуто низкими тучами, и в воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения.
— Одно из двух, а третьего не дано: ужинать нам с вами либо в райских кущах, либо в Константинополе.
Диего Алатристе вновь стал всматриваться в турецкие галеры, что делал уже в бессчетный раз с тех пор, как рассвет позволил различать их силуэты на темном горизонте, обещавшем шторм. Семь обычных, однопалубных и одна — большая, трехпалубная, флагманская, надо полагать. Значит, на борту никак не меньше тысячи с лишним душ, не считая гребцов. Двадцать четыре носовых орудия и еще сколько-то кулеврин и фальконетов по бортам. Поди догадайся, искали нас турки или же это судьба подгадала, что заплыли они сюда в самый подходящий момент. Так или иначе, но вот они, тихо и терпеливо выжидавшие всю ночь, теперь, убедившись, что добыча попала в мешок и все лазейки для выхода в открытое море христианским кораблям перекрыты наглухо, стоят менее чем в миле отсюда и уже в боевом порядке. Тот, кто ими командует, дело свое знает.
— Первым пойдет мальтиец, — сообщил Урдемалас. — Мунтанер вытребовал себе такое право. Уверяет, что так предписано статутом ордена.
— Хорошо, что не мы, — с облегчением переводя дух, сказал комит.
— Какая разница? У них на всех хватит, каждому достанется.
Стоящие на мостике командиры переглянулись. Мыслей своих вслух не высказывал никто, но каждый легко мог прочесть их на лице другого. Слова Урдемаласа только подтверждали то, что Алатристе и прочие знали и сами, а сознавали более чем отчетливо: на каждую христианскую галеру приходится по две оттоманских, да еще две в запасе и в придачу, а на берег не сойти и там не схорониться, потому что берег этот — турецкий. Что ж, остается идти ва-банк, ставя на кон жизнь и свободу. В случае проигрыша — смерть или рабство. Если не случится чуда. Что ж, попробуем стать чудотворцами.
— Идти придется только на веслах, — продолжал меж тем Урдемалас. — Ну, разве что вон те черные тучи на западе приманят ветер… Тогда шансов будет больше. Однако рассчитывать на это не стоит.
— Каков план? — осведомился прапорщик Лабахос.
— План проще некуда, тем более что другого нет: мальтиец пойдет первым, а мы с «Каридад» замыкающими.
— Это плохо, — возразил Лабахос.
— Говорю же: головными, хвостовыми, первыми, последними — что в лоб, что по лбу. Не верю я, что хоть кто-нибудь сумеет прорваться. Потому что эти собаки ударят в тот самый миг, как увидят, что мы начали движение. Но в любом случае Мунтанер постарается пробить брешь, и, может быть, кому-то и удастся выскользнуть в эту щелочку. Перед самым их фронтом сделаем «поворот все вдруг» — левое крыло у них вроде бы пожиже и сильнее растянуто.
— Взаимная защита? — полюбопытствовал сержант Кемадо.
Капитан «Мулатки» мотнул головой и, тотчас схватившись за щеку, забористо и витиевато выругался сквозь зубы, терзавшие его сейчас, после бессонной ночи, еще сильнее. Диего Алатристе понимал состояние его духа. Для Урдемаласа, как и для всех прочих, минувшая ночь была хоть и бесконечно долгой, да все получше той, что придет ей на смену, когда они будут либо на дне морском, либо в кандалах в турецком трюме. Так что совсем скоро Урдемалас сочтет зубную боль наименьшим из зол.
— Какая там защита? — с досадой ответил капитан. — Каждый за себя, и в лоб всех драть.
— Как бы нас не отодрали, — находчиво ввернул сержант Кемадо.
Урдемалас испепелил его взглядом:
— Это я так, к слову, неужто не понятно? Если не будем рваться на выручку друг другу и гребцы расстараются, может, кто-нибудь и улизнет.
— Для мальтийцев ваши слова — смертный приговор, — хладнокровно возразил прапорщик Лабахос. — Они ввяжутся первыми, на них турки и навалятся прежде всего.
Урдемалас неприязненно скривился, как бы желая сказать, что это не его, прапорщика, собачье дело.
— Они же назвались рыцарями и принесли в свое время обеты, а по смерти отправятся прямиком в царствие небесное… Им, стало быть, и карты в руки. А нам, которым дорожка в райские кущи не так гладко укатана, на рожон лезть не приходится…
— Святую истину рекут уста ваши, сеньор капитан, — одобрил Кемадо. — Видал я как-то на одной фламандской картине преисподнюю, так я вам скажу — торопиться туда расчета нет…
Знакомые разговоры, подумал про себя Алатристе. Другого и не ждал. Все происходит в полнейшем и привычном соответствии с обычаями и традициями — даже этот полушутливый легкий тон, который не сменят, даже оказавшись у самого дьявола в когтях. Опасения и страх остаются личным делом каждого и огласке не подлежат. Восемьсот лет воевали с маврами, а последние полтора столетия только тем и заняты, что приводим в трепет весь мир, — немудрено, что выработали особый склад речи и манеру поведения: испанский солдат, сколь бы солоно ни пришлось, как попало убить себя не даст и подохнуть согласится не иначе как в соответствии с тем, чего ждут от его репутации друзья и враги. Люди, собравшиеся сейчас на мостике «Мулатки», это знали, да и все остальные — тоже. За то им и жалованье платят, хоть оно и не покрывает таких вот издержек, что предстоят сегодня… С этими мыслями Алатристе оглядел воинство. Любой из этих моряков и солдат, что стояли сейчас вдоль бортов и на куршее, предпочел бы метаться в жару на лазаретной койке, чем наслаждаться отменным здоровьем здесь: они смотрели на своих командиров в мертвой тишине и знали, что решать исход партии их пикам да бубнам. В гребной команде, впрочем, настроения были другие — кто давал волю страху, кто предвкушал долгожданную свободу, ибо для человека, прикованного к веслу из-за того, что он не тому богу молится, каждый мелькнувший на горизонте парус всегда возвещал надежду.
— Как людей расставлять? — спросил Лабахос.
Капитан сделал характерное движение, словно ребром правой ладони перепиливал левую:
— Для прорыва по фронту. Для того, чтоб не допустить возможных абордажей… Если пройдем, то два фальконета — на корму. Погоня может быть упорной.
— Покормить, стало быть?
— Да. Но огня не разводить. Дайте побольше чесноку и вина — это природная жаровня…
— Гребцам потребуется что-нибудь посущественнее, — заметил комит.
Урдемалас оперся о резные перила ограждения под фонарем на корме. Вид у него был утомленный, под глазами набухли мешки, кожа на лице — немытом, осунувшемся от зубной боли, от неопределенности и тревоги — посерела и засалилась. Алатристе подумал, что, наверно, и сам выглядит примерно так же. Разве что зубы не болят, а так все одно к одному.
— Проверьте замки и кольца у всех закованных. Турок и мавров, помимо ножных кандалов, — в наручники. Потом раздайте понемножку арака, который мы захватили в трюме, — полковшика на банку. Сегодня это будет действовать лучше плети. Но никаких поблажек! Чуть что — без разговоров голову долой, даже если мне самому придется платить королю за убыток… Вам ясно, сеньор комит?
— Ясней быть не может. Сейчас распоряжусь.
— Если галернику дают выпить, — с шутовской гримасой вставил сержант Кемадо, — то, значит, либо его уже употребили, либо приступают.
Против обыкновения острота никого не рассмешила. Урдемалас же поглядел на него весьма неприязненно и сухо сказал:
— Палубной команде и солдатам — кроме винной порции и чесноку, тоже выдать араки. А потом пусть будет под рукой обыкновенное вино, из тех, что поплоше, да разбавить его как следует, не жалея! Что же касается вас, ваша милость, — тут он повернулся к немцу-артиллеристу, — зарядите пушки всякими железяками и жестяными обрезками, стрелять будете по моему приказу и когда сблизимся вплотную. Вам, сеньор прапорщик, быть на полубаке, сержанту Кемадо — на правом борту, сеньору Алатристе — на левом.
— Гребцов надо будет по мере сил уберечь от огня, — сказал тот.
Урдемалас несколько дольше, чем нужно, задержался на нем колючим пристальным взглядом.
— Да, — кивнул он наконец. — Прикажите накрыть куршею, чем только можно, включая паруса… Если выбьют много гребцов, мы пропали. Штурман, все навигационные инструменты — убрать в безопасное место и тоже накрыть чем-нибудь… Со мной на мостик — двух лучших рулевых, вашу милость и восемь метких стрелков с мушкетами. Вопросы?
— Нет вопросов, — после краткого молчания ответил за всех Лабахос.
— Ну, разумеется, нам про абордаж и думать нечего. Стрельба и стрельба, пули, камни, картечь. И не медлить, кота за хвост не тянуть: ай, здравствуй и прощай, как говорится. Замешкаемся — пропадем. Ну а прорвемся — грести так, чтоб весла в дугу!
Присутствующие принужденно улыбнулись.
— Дай-то Бог, — пробормотал кто-то.
Капитан пожал плечами:
— А не даст, мы, по крайней мере, будем точно знать, где встретим день Страшного суда.
— Хорошо бы туда еще целенькими попасть, а не по кусочкам себя собирать, — заметил сержант Кемадо.
— Аминь, — сказал комит и осенил себя крестным знамением.
И вслед за ним, искоса переглянувшись, сделали то же все. И Алатристе.
Врут те, кто уверяет, будто не знает страха, — просто еще не довелось познакомиться: всему свое время. И в то раннее-раннее утро, при виде восьми турецких галер, перекрывающих нам выход в открытое море, в последние минуты перед столкновением, ныне именуемым в трудах по истории «морским сражением при Искандерене, или у Кабо-Негро», я, например, в полной мере сумел почувствовать ощущения, памятные мне по иным случаям: сводит желудок, и сосет под ложечкой, и даже чуть подташнивает, и мурашки бегают по коже. Со времен всяких приключений бок о бок с капитаном Алатристе я сильно подрос, а за два года, протекшие после приснопамятных боев за Руйтерскую мельницу, траншей Бреды и взятия Терхейдена, я, несмотря на немалое юношеское высокомерие и дерзкую уверенность, что держу Бога за бороду, набрался ума-разума и научился оценивать степень опасности. И то, что предстояло, я видел, отрешась от ребяческого легкомыслия, с коим недавно еще прыгал на борт неприятельского корабля, но здраво и трезво: дело было очень и очень серьезное и с совершенно непредсказуемым исходом. Оно могло кончиться смертью, что было не худшим, кстати, вариантом, а могло — пленом или тяжким увечьем. Да, я повзрослел настолько, чтобы ясно сознавать — через несколько часов могу на всю жизнь оказаться в кандалах на гребной палубе турецкой галеры — кто это, интересно знать, заплатит выкуп за бедного солдатика из Оньяте? — или вцеплюсь зубами в кусок сыромятной кожи, чтобы не кричать, когда будут мне отнимать руку или ногу. Сильней всего пугала меня и мрачила мой дух именно возможность получить тяжкую рану и стать калекой: глядеть на мир одним глазом или ковылять на деревянной ноге, сделаться изуродованной и смятой восковой фигуркой, какие мастерят, когда обет приносят, обречь себя на чье-то жалостливое милосердие, на нищету и подаяние — и все это в самые благодатные годы, в расцвете сил. Помимо многого прочего, очень бы не хотелось в таком виде предстать очам Анхелики де Алькесар, если, конечно, Бог приведет снова с нею встретиться. Не утаю, что именно от этой мысли начинали предательски дрожать у меня поджилки.
Вот примерно такими были те не слишком отрадные размышления, которым предавался я, покуда вместе с товарищами обкладывал борта и полубак «Мулатки» свернутыми парусами, матрасами, циновками, заплечными мешками, мотками тросов и бухтами канатов и всем прочим, что могло бы послужить препоной турецким пулям и ядрам, что очень скоро посыплются на нас чаще града. Каждый из нас, как и я, терзался внутри себя страхом, однако же сердце, что называется, зажимал в горсти и виду не подавал. Разве что и самое большее — руки дрожали, бессвязица какая-то срывалась порою с уст, взгляд блуждал, произносились полушепотом слова молитвы, звучала макабрического рода шуточка или беспокойный смешок: у каждого проявлялось это по-своему, дело известное. Три галеры стояли почти что борт к борту, уставя тараны на турок, которые находились на пушечный выстрел от нас, хоть никому и в голову не приходило палить, чтобы проверить дистанцию: и мы, и неприятель знали, что еще представится случай сжечь порох с большим толком и пользой, когда сблизимся: в нужный момент каждый постарается открыть огонь первым, а при этом подобраться как можно ближе. На турецких галерах, как и на наших, царила мертвая тишина; море, по-прежнему неподвижное, словно раскатанный в лепешку кусок свинца, отражало облака, меж тем как «на двенадцать часов», то есть прямо у нас по корме, над анатолийским побережьем собирались, предвещая шторм, темные тучи. Мы были уже готовы к бою и запалили фитили; не хватало лишь команды «Весла на воду!». Я был приписан к отряду, которому надлежало укороченными копьями, протазанами и пиками отбивать по левому борту попытки абордажа, когда будем прорываться сквозь строй турецкой флотилии. Гурриато-мавр стоял рядом со мной — предполагаю, во исполнение воли капитана Алатристе — и выглядел столь безмятежно-спокойным, словно все происходящее никак его не касалось. Он, хоть и готовился, как все, драться и умирать, был похож на отчужденного наблюдателя, случайно оказавшегося рядом и глубоко безразличного к собственной судьбе, а она была бы весьма и весьма незавидна, попади наш мавр, которого немедля выдал бы любой галерник или даже собственные его товарищи, к туркам в руки. Ибо сила духа, не дающая человеку дрогнуть в бою, слабеет и гаснет, когда возникает надобность пережить поражение, а тем паче — плен, где совесть так заманчиво обменять на свободу, жизнь или на жалкий ломоть хлеба. Мы, в конце концов, всего лишь люди, и не всем дано одинаково стойко и бестрепетно сносить изнурительные труды.
— Вместе будем, — сказал мне Гурриато-мавр. — Все время.
Эти слова согрели мне душу, хоть я и знал слишком даже хорошо, что на пороге небытия каждый — за себя и не бывает на свете большего одиночества. Но мавр произнес то, что и нужно было произнести в эту минуту, и я был благодарен и за слова, и за дружеский взгляд, их сопроводивший.
— Куда ж тебя занесло от родины… — заметил я.
Он улыбнулся и пожал плечами. Голый по пояс, в штанах и альпаргатах испанского кроя, с ятаганом за поясом, со шпагой на боку и с абордажным топором в руке — никогда еще не чувствовал я сильнее, как веет от него спокойной и беспощадной жестокостью.
— Моя родина — капитан и ты, — ответил он.
Я растрогался, но постарался скрыть это и произнес первое же, что подвернулось на язык:
— Пусть так, но местечко для смерти можно было бы выбрать и получше.
Мавр склонил голову, как бы в раздумье.
— Сколько людей, столько и смертей, — промолвил он. — На самом деле никто свою смерть не ждет, хоть и уверен в обратном. — Гурриато замолчал, уставившись на просмоленный настил палубы у себя под ногами, а потом вновь взглянул на меня: — Твоя смерть неразлучна с тобой, моя — со мной… Каждый носит ее у себя за плечами.
Я поискал глазами капитана Алатристе и вот наконец заметил его на галерейке по левому борту ближе к носу, где он расставлял по местам отряженных под его начало аркебузиров. В помощники себе он взял Себастьяна Копонса. Мне показалось, что он хладнокровен и спокоен, как всегда: орлиный профиль; надвинутая на глаза шляпа, большие пальцы сунуты за оттянутый шпагой и бискайцем ремень, которым туго перепоясан исполосованный следами давних ударов нагрудник из буйволовой кожи. Мой прежний хозяин приготовился в очередной раз все, что уготовила ему судьба, принять без бравады, кривляния и зряшной суеты. Со спокойным достоинством, присущим ему — или тому, кем он старался быть. «Сколько людей, столько и смертей», — сказал только что Гурриато. Что ж, капитановой смерти, когда случится она, можно будет позавидовать.
Рядом вновь прозвучал мягкий голос могатаса:
— Не пришлось бы тебе пожалеть когда-нибудь, что не простился с ним.
Я обернулся к нему, встретив пристальный взгляд черных глаз, опушенных девичьими ресницами.
— Бог разделяет две непроглядных ночи кратким промежутком света.
Мгновение я рассматривал его — бритый череп, серебряные серьги в ушах, остроконечная борода, вытатуированный на скуле крест. И, покуда смотрел, не гасла на устах его улыбка. Потом, повинуясь безотчетному порыву, родившемуся в тронутой его словами душе, направился, обходя толпившихся на галерейке солдат, к моему хозяину. Подошел и молча стал рядом, потому что, что говорить, не знал. Оперся об ограждение борта, глядя на турецкие галеры. Подумал об Анхелике де Алькесар, вспомнил мать и сестричек, представив, как шьют они, устроившись у очага. Вспомнил, как, вскоре по прибытии в Мадрид, сидел однажды зимним утром в дверях таверны Каридад Непрухи. И еще подумал, что те — многие и многие, — которыми я когда-нибудь мог бы стать, пойдут, весьма вероятно, на дно морское и рыбам на корм, не дав мне воплотиться ни в одного из них.
Потом я почувствовал у себя на плече руку Алатристе.
— Постарайся, чтоб живым не взяли, сын мой.
— Обещаю, — ответил я.
Плакать захотелось — но не от страха, не от горя, а от странной грусти — светлой и тихой. В отдалении, над беспредельной безмятежной тишиной морского простора вспыхнула зарница — такая далекая, что раскат грома до нас не докатился. И тотчас, словно этот ослепительный ломаный зигзаг послужил сигналом, забили барабаны. Выпрямившись на мостике «Каридад Негра», стоял у кормового фонаря брат Франсиско Нисталь и, воздев руку с распятием, благословлял нас всех, а мы, обнажив головы, преклонив колени, молились, подхватывая прерывающиеся надтреснутые слова: «In nomine… et filii… Amen»[165]. И еще не успели подняться, как на корме флагманской галеры взвился королевский флаг, на «Крус де Родес» — мальтийский, с серебряным восьмиконечным крестом, а у нас — белое полотнище, крест-накрест перечеркнутое старинным мотовилом святого Андрея, и каждая галера приветствовала подъем флага протяжным пением горна.
— Рубахи долой! — скомандовал комит.
После этого, в подавленном молчании, мы разошлись по местам, и корабли наши двинулись навстречу туркам.
В отдалении продолжала бушевать безмолвная гроза. Вспышки зарниц распарывали серый горизонт, бросая отблеск на свинцовую неподвижную воду. Гребли тоже пока еще неторопливо и в тишине, нарушаемой лишь сопением галерников и мерным звяканием оков, и даже комит до поры не свистел — берег их и свои силы для окончательного рывка. Молчали и мы, одевшись железом и изготовясь к бою, не сводя глаз с турецких кораблей. Примерно на середине пути, когда «Мулатка» стала забирать чуть левее, мальтийская галера сначала поравнялась с нами, а потом, обойдя по правому борту, вырвалась вперед, и мы совсем близко увидели торчащие ружейные стволы и пики, лопасти весел, которые, повинуясь дружным и точно выверенным усилиям гребцов, то погружались, то выныривали, убранные паруса на низких реях, а на корме, откуда снят был навес, — седобородого Фулько Мунтанера, с непокрытой головой и со шпагой в руке, красовавшегося на мостике в красной тафтяной тунике поверх панциря, и стоявших вокруг него офицеров: брата Хуана де Маньяса из Арагона, брата Лючиано Канфора из Италии и странствующего рыцаря Гислена Барруа из Прованса. Когда они прошли мимо, едва не задев наши весла своими, капитан Урдемалас снял шляпу, приветствуя их, и крикнул:
— Дай вам Бог удачи! — на что старый корсар с таким безмятежным спокойствием, словно стоял в порту у причала, пренебрежительно ткнул пальцем в сторону турок и, пожав плечами, ответил со своим неистребимым выговором уроженца Майорки:
— Да не о чем говорить!
Мальтийская галера оставила нас позади и пошла головной, а следом пронеслась мимо «Каридад Негра», где гребцы тоже, вероятно, наддали: флаг с королевским гербом у нее на корме трепыхался слабо, потому что единственное движение воздуха создавалось только усилиями весел, несших галеру вперед. И вот, приветственно махая нам руками, шляпами, касками, проплыли бискайцы, которые пойдут в атаку перед нами, и капитан Мачин де Горостьола со своими угрюмо молчащими людьми, и дымящиеся вдоль борта от носа до кормы фитили мушкетов и аркебуз, и сам дон Агустин Пиментель, напряженно застывший на мостике в баснословно дорогих доспехах миланской работы, импозантно-воинственно уперший руку в навершие шпаги, — шлем его держал паж — и всем своим величественным видом соответствовавший высокому чину, который носил, державе, которую представлял, королю, которому служил, и Богу, во имя которого мы и собирались разодраться в клочья.
— Помогай им Пречистая Дева, — пробормотал кто-то.
— Да и нам тоже… — отозвался другой голос.
Теперь три галеры шли вереницей, так близко одна к другой, что задние едва не касались тараном фонаря на корме впереди идущих, меж тем как над свинцово-гладким морем продолжали беззвучно вспыхивать молнии. Я стоял на своем месте: рядом с мавром Гурриато и солдатом у камнемета; в одной руке артиллерист держал дымящийся запальник, другой перебирал четки и при этом, не произнося ни слова, шевелил губами. Я попытался сглотнуть, но ничего не вышло: глоток арака и разведенное вино высушили нёбо и глотку.
— Навались! — скомандовал капитан Урдемалас.
Это слово, и свисток комита, и щелкание его бича, прошедшегося по спинам галерников, слились воедино. Стараясь как-то размять сведенные судорогой пальцы — слушались они, прямо скажем, плохо, — я обвязал голову платком, поверх нахлобучил каску, затянул на подбородке чешуйчатый ремень. Проверил, легко ли расстегиваются пряжки по бокам кирасы — на тот случай, чтобы сбросить ее одним махом, если окажусь в воде. Мои альпаргаты на веревочной подошве были крепко завязаны шнурками на щиколотках, руки сжимали копьецо — древко было густо намазано салом примерно на треть от навершия, а наконечник отточен как бритва. У пояса висели моя сабля с зубчатым лезвием и бискаец. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Все было в порядке, если не считать того, как безбожно сосало под ложечкой. Ни на кого не обращая внимания, расстегнулся и, хоть не больно-то и хотелось, помочился с борта, целясь меж мерно движущихся весел. Почти все стоявшие рядом последовали моему примеру. Мы были люди бывалые.
— Все на весла! Навались! Навались!
С носа ударила пушка, и мы приподнялись на цыпочки, чтобы лучше видеть. На палубах турецких галер, приближавшихся с каждой минутой, но пока не открывавших огонь, замелькали тюрбаны, красные фески, высокие шапки янычар, мавританские разноцветные бурнусы. С бака ближайшей к нам поднялось облачко белого дыма, и, когда стихло эхо выстрела, оглушительно завыли флейты и дудки, а с палуб полетел многоголосый вой, которым турки горячат себя перед боем. В ответ с «Крус де Родес» трижды отрывисто протрубил горн, следом раскатилась барабанная дробь и грянули крики «Святой Иоанн! Святой Иоанн!» и «Разочтемся за Сент-Эльмо!».
— Мальтийцы пошли, — сказал старый солдат.
Над турецкими галерами повисли гирлянды вспышек: носовые пушки открыли огонь по «Крус де Родес», и ядра засвистели над нашими головами тоже. По куршее от носа к корме и обратно носились комит, подкомит и альгвазил, бичами подгоняя гребцов.
— Навались, навались! — неистовствовал капитан Урдемалас. — Загреби их в доску, дети мои!
Пальба участилась, небо заволокло дымом, в воздухе густо засвистели турецкие стрелы. Турки бросились на головную галеру, без труда разгадав ее отважное намерение, а она с такой решимостью рванулась в заволоченный дымом узкий зазор меж двух неприятельских кораблей, что мы услышали треск обшивки и ломающихся весел. За нею устремился флагман — до нас донеслись крики Мачина де Горостьолы и его бискайцев, громогласно твердивших наш боевой клич — «Испания и Сантьяго!» — а следом за ним в громе канонады, под вопли людей, дерущихся за свою жизнь, ринулась и «Мулатка».
…Свистки комита, хлеставшего бичом по спинам гребцов, чьими усилиями галера, казалось, летела по морю, терзали наш слух, ибо эти пронзительные, непрерывные звуки отмеряли расстояние, отделившее нас от гибели и рабства. Все еще не до конца уверовав в милость судьбы, мы глядели на бросившиеся вдогонку турецкие галеры: да, мы пронизали их строй и прорвались, но дистанция между нами и ними была ничтожна. Свинцовое море оставалось гладким, как масло, безмолвные сполохи молний остались на западе, и по-прежнему — ни намека на ветер, могущий даровать спасение. На «Каридад Негра», державшейся слева по носу, тоже гребли отчаянно, силясь оторваться от пяти турецких кораблей, начавших травлю. Позади, на расстоянии фальконетного выстрела, то есть еще очень близко, лишенный хода и окруженный тремя галерами, которых взял на себя, насмерть дрался в дыму и пламени мальтиец, и грохот безнадежного боя еще перекрывали долетавшие до нас крики «Святой Иоанн! Святой Иоанн!».
Да, произошло чудо, хотя и не вполне. После того как орденская галера врезалась в строй эскадры и завязла в нем на какое-то время, «Каридад Негра», воспользовавшись этим, сумела под жестоким артиллерийским огнем, снесшим ей паруса на фок-мачте, проскользнуть в створ между мальтийцем и турком, переломав при этом часть весел правого борта. Нам, державшимся у нее за кормой, это открыло возможность не подставлять себя в свой черед орудийному огню, но вытерпеть всего лишь град ружейных пуль и стрел. И мы проскочили, левым бортом едва не чиркнув по правому борту мальтийца, намертво склещенного с двумя турецкими галерами — остальные поспешали на выручку — и уже взятого на абордаж одновременно тремя партиями: две зашли с носа, одна — с левого борта. Лишь краем глаза мы видели, как кипит на мостике ожесточенная рукопашная схватка и с заполнившими его турками режутся грудь в грудь капитан Мунтанер и его рыцари: нам в эту минуту было не до того, чтобы оценить их жертвенный героизм, потому что все наши пять чувств устремлены были на то, чтобы обогнуть и оставить по левому борту неприятельскую галеру. Сущий творился пандемониум — треск ружейных выстрелов, свист стрел, впивающихся в доморощенные наши брустверы вдоль бортов, в мачты или в живую плоть, гром разноязыкой брани, вопли, крики, а когда наш рулевой — ему в самое ухо орал команды капитан Урдемалас, коего можно было смело уподобить дьяволу из старинного ауто[166] — отвернул чуть вправо, чтобы не столкнуться с «Каридад Негра», волочащей по воде размолоченную рею, турецкая галера вскользь проехалась тараном по борту в кормовой его части. Три или четыре весла разлетелись в щепы, завыли гребцы, загалдели турки, а мы с криком «Сантьяго!» кинулись отбивать попытку абордажа. Соприкосновение длилось минуту, не больше, но и этого хватило, чтобы на палубу с громкими криками посыпались, являя большую отвагу и решимость, янычары. Но достойный натиск получил и должный отпор: ударами наших укороченных пик, огнем аркебуз и мушкетов, камнями из камнеметов, горшками и склянками с кипящей смолой, которыми юнги с вант швыряли во врага, мы отбросили врага и, довольно дешево отделавшись, двинулись дальше.
— Давай, дети мои! Навались! — завывал с мостика Урдемалас. — Еще немного! Наддай еще! Чуточку осталось! Почти проскочили! Наддай!
Командир «Мулатки» едва ли пребывал в плену иллюзий или под сенью химер — скорее действовал во исполнение своего служебного долга, не давая гребцам с исхлестанными до живого мяса спинами пасть духом, притом что они готовы были с ним заодно сами пасть замертво над веслами.
— Альгвазил! Дайте им еще хлебнуть! Взбодрись, сучье племя!
Но и крепкое турецкое спиртное чуда не сотворило. Гребцы, обезумев от неистовой работы, от ударов бича, гулявшего по их мокрым от пота и крови, исполосованным рубцами спинам, были при последнем издыхании. «Мулатка» летела стремглав, как я уже докладывал, но и пять вражьих галер висели у нас на хвосте, совсем неподалеку от кормового фонаря, и пушки их время от времени посылали нам выстрел, за которым тотчас следовал треск раскрошенного дерева и страдальческие вопли раненых — или же, если канониры брали выше, ядро с таким звуком, словно рвалось полотно, прошивало воздух у нас над головой и обрушивалось, взметнув столб пены, в море.
— «Каридад» отстает!
Мы сгрудились на правом борту поглядеть, что случилось, и крик отчаяния пронесся по всему кораблю. Флагманская галера, сильно поврежденная при прорыве через фронт, потеряв много весел и гребцов — кто убит, кто ранен, кто вконец изнемог, — сбилась с согласного и скорого хода, и мы постепенно уходили вперед. Еще минута — и вот она уже на пистолетный выстрел от нашей кормы и отстает все больше. Мы видели, как дон Агустин Пиментель, Мачин де Горостьола и прочие командиры в отчаянии глядят назад, меж тем как турки, с каждым взмахом весел неумолимо сокращая расстояние, нагоняют их. Весла «Каридад» двигались вразнобой, иногда цепляясь друг за друга, а кое-какие и вовсе уже замерли и теперь бессильно волочились по воде. Заметили мы и то, как нескольких убитых галерников, расковав, сбросили в море.
— Эти свое отплавали, — сказал какой-то солдат.
— Лучше они, чем мы, — заметил другой.
— Хватит и на нашу долю.
«Каридад Негра» окончательно отстала. Кое-кто из нас еще пытался кричать им что-то ободряющее, но все это было уже бесполезно. Мы видели с бортов, что обессилевшую, окончательно потерявшую ход галеру вот-вот настигнут турки, и наши товарищи смотрели, как мы уходим прочь, оставляя ее врагу. Они выкрикивали слова, которых мы уже не слышали, и несколько бискайцев, вскинув руки, прощались со своими земляками на «Мулатке», прежде чем собраться на корме и запалить фитили аркебуз и мушкетов. Что ж, по крайней мере, пока живы Мачин де Горостьола и его люди, туркам эта добыча обойдется недешево.
— Командиров на мостик! — от одного к другому побежал приказ.
На галере наступила мертвая тишина. Собрались пастухи, гласит старинная поговорка, жди, овечка, вертел. Люди расступались, давая дорогу сержанту Кемадо, прапорщику Лабахосу и комиту, угрюмо шагавшим на корму. Прошел следом и капитан Алатристе. Прошел мимо, то ли в самом деле не заметив меня, то ли мне так показалось. Во взгляде ледяных глаз отсутствовало всякое выражение, и казалось, он созерцает такое, что не имеет отношения ни к морю, ни ко всем нам. Мне хорошо знаком был этот взгляд. И я понял, что бискайцы с «Каридад» сейчас всего лишь торят путь, в который вскорости тронемся и мы.
— Гребная команда выдохлась окончательно, — промолвил капитан Урдемалас.
Диего Алатристе взглянул на куршею. Даже удары бичей, которыми подкомит и судовой альгвазил охаживали окончательно выбившихся из сил галерников, уже не могли заставить их грести, как того требовала обстановка. Подобно «Каридад», наша галера постепенно замедляла ход, меж тем как турки приближались неуклонно.
— Через четверть часа догонят и вцепятся.
— Может, все-таки господа солдаты соблаговолят погрести, а? — спросил комит. — Хоть кто-нибудь…
Прапорщик Лабахос очень раздраженно отвечал, что нет, ни за что на свете не согласятся. По его словам, он уже потолковал кое с кем из своих людей — нет, даже при том, как оборачивается дело, никто не желает сесть на весла. Боже упаси, говорят. Лучше сдохнуть, чем стать галерником.
— Да и потом… когда на хвосте висят пять галер, ничего уже не сделаешь, хоть в лепешку расшибись. Мои люди — солдаты и дело свое исполняют толково и храбро. А дело их — воевать, а не веслом махать.
— Смотрите, как бы при таком раскладе не пришлось веслом махать в цепях да под полумесяцем, — с сердцем сказал комит.
— Это если сдадимся. А сдаваться, нет ли — каждый за себя сам решает.
Диего Алатристе разглядывал солдат, стоявших по бортам. Лабахос не кривил душой. Даже в нынешнем своем и более чем печальном положении, ожидая, когда исполнят над ними приговор, кассации не подлежащий, люди не утратили свой свирепый, грозный и воинственный вид. Это была лучшая в целом свете пехота, и Алатристе прекрасно знал, почему она так хороша. Уже почти полтора столетия доводили ее до совершенства сменяющие друг друга поколения этих солдат — «господ солдат», как требовали они, чтобы к ним обращались, — и это продлится до тех пор, пока из их скудного военного лексикона не исчезнет слово «репутация». Они соглашались терпеть лишения, сносить голод и жажду, подставлять грудь свинцу и стали, готовы были принять смерть или тяжкие увечья, воюя, как в песне поется, «не из чести, не из платы», но лишь потому, что рядом есть товарищ, и стыдно сплоховать перед ним, осрамиться, не соблюсти себя. Нет, разумеется, даже во спасение жизни своей они за весла не сядут. Вот если бы никто не узнал и не увидел, чем приходится жертвовать ради жизни, ради свободы, — тогда дело другое. Алатристе и сам в случае крайней необходимости не погнушался бы усесться на гребную банку и взяться за скобу-рукоятку на вальке — да что там «не погнушался»! — первым бы пошел! Однако ни он, ни самый что ни на есть лихой здешний вояка никогда не согласятся на это прилюдно, чтобы не утерять в глазах всего мира то единственное, чего не смогли бы их лишить ни короли, ни вельможи, ни монахи, ни враги, ни даже болезнь и смерть: образ, который они сами себе выковали, великую мнимость, состоящую в том, что назвавший себя «идальго» никогда ничьим рабом не будет. Испанский солдат честь своего ремесла не уронит. Все это, разумеется, глубоко противно здравому смыслу, о чем, помнится, говорил один берберский пират в комедии, вдруг вспомнившейся Алатристе. Будто сами собой сказались сейчас в голове такие слова:
Пока христианин-ворона хранит достоинство и честь, и, чтоб им не нанесть урона, гнушается на весла сесть, — Мы, наш бесчестный чтя обычай, гребем — и прошибаем борт: христианин дворянством горд, а мы — победой и добычей.Вслух, впрочем, он их не повторил. Было не до стихов, да и не в его обычае вести такие речи. Но, без сомнения, заключил он, опять же про себя, такой подход решает судьбу «Мулатки», а когда-нибудь, в иные времена, вгонит в гроб и саму Испанию, но, правда, тогда уж ему никакого дела до этого не будет. По крайней мере, пусть такое вот отчаянное высокомерие послужит утешением ему и ему подобным. Как только узнаёшь, из какой материи знамена шьют, иных правил уже не придерживаешься.
— Чертов гонор, — подвел итог сержант Кемадо.
Все переглянулись с таким важным и значительным видом, словно это было нечто большее, а не просто слова. Они отдали бы все, что угодно, лишь бы нашлись не эти слова, а иные, но откуда ж им было взяться? У них, у заскорузлых вояк, сделавших войну своим ремеслом, умение красно́ говорить в числе навыков не значится. Мало в их жизни роскошеств, но все же одного никому не отнять — кто еще, кроме них, может выбрать себе и место, и способ жизнь эту окончить? И на том стоят они.
— Надо бы развернуться да ударить, — предложил прапорщик Лабахос. — Не набегаешься.
— Я давно говорю! — поддержал его сержант Кемадо. — Тут вопрос в том, кто где желает нынче ужинать — с Христом или в Константинополе.
— Лучше с Христом, — мрачно подытожил Лабахос.
Все взоры обратились к Урдемаласу, продолжавшему осторожно ощупывать бородатую щеку, за которой ныл зуб. Но капитан только пожал плечами, словно предоставляя решать им самим. Потом взглянул через ограждение рубки. За кормой и уже вдалеке, по-прежнему сцепленная с тремя турецкими кораблями, в густом дыму и частых вспышках выстрелов все еще отбивалась флагманская галера мальтийцев. Между нею и «Мулаткой» «Каридад Негра», которая вот-вот должна была подвергнуться атаке своих преследователей, — по бортам у них так и роились турки, готовясь к абордажу, — развернулась к ним носом, приемля неизбежное.
— Пять галер по нашу душу, — угрюмо сообщил штурман Бракос. — Дайте срок, и остальные подтянутся, вот только покончат с мальтийцами.
Лабахос сдернул с себя шляпу и швырнул ее на пол.
— Матерь Божья, царица небесная, да хоть пятьдесят!
Капитан Урдемалас взглянул на Диего Алатристе. Было со всей очевидностью ясно — хочет услышать его, потому что тот за все это время не проронил ни единого слова. Но Алатристе, так и не разомкнув уста — слова беречь надо, — только сумрачно кивнул. Да, впрочем, не слов от него и ожидали.
— Значит, так, — подвел итог капитан. — Пойдем выручать бискайцев. Обрадуются, надо думать, что не им одним сегодня умирать.
XI. Последняя галера
Я при Лепанто не дрался, как там было, не знаю, но бухту Искандерон, пока жив, не забуду, помнить буду шаткую, кренящуюся под ногой палубу, сверзишься с нее — тотчас поглотит тебя пучина, которая только того и ждет, крики тех, кто убивает и умирает, кровь, потоками скатывающуюся по бортам, густой дым и пламя. Море по-прежнему оставалось серым и гладким, как черенок оловянной ложки, а странная беззвучная гроза продолжала бушевать в отдалении, чертя небо зигзагами зарниц и жалко подражая тому, на что оказались способны мы, люди, одной своей волей.
Когда решение стиснуть, так сказать, зубы наконец было принято и рулевой взял «лево на борт», поворачивая «Мулатку» на помощь «Каридад Негра», та уже была взята в клещи передовыми турецкими галерами, и у нее по всей палубе, содрогавшейся от воплей и грома выстрелов, кипел бой. Рассудив, что драться сообща лучше, нежели порознь, капитан Урдемалас с помощью гребцов, вдохновленных свистящими бичами комита и его помощников, произвел искуснейший маневр и притерся тараном и носовой частью к самой корме «Каридад», а потом стал борт к борту так, что оба корабля оказались словно пришвартованы друг к другу, чтобы в случае надобности можно было переходить отсюда туда и обратно. Излишне будет говорить, какое ликование охватило воспрянувших духом бискайцев капитана Мачина де Горостьолы, какие радостные клики встретили наше появление, ибо до того сражались они безо всякой надежды, хоть и стойко отбивали абордажные атаки двух турецких галер. Две другие набросились на нас, пятая же стала заходить к нам в корму, намереваясь сперва ошеломить артиллерийским огнем, а потом уж взять на абордаж с этой стороны. В конце концов обе испанские галеры — мы с «Каридад» — обвязались найтовами по мачтам, чтоб течение не разлучило, образовав такой вот плацдарм и заняв, стало быть, круговую оборону, тем паче что и лезли на нас со всех четырех концов, с той лишь разницей, что бастион наш стоял посреди моря, а вместо толстых каменных стен от вражьего огня и натиска защищали нас, помимо, разумеется, собственных наших пик, клинков и аркебуз, брустверы по бортам, смастеренные из тюфяков да мешков, и с каждой минутой защищали все хуже, потому что пули и стрелы раздербенили их вконец.
— Bir mum kafir!.. Baxa kes!.. Alautalah!
Янычарам отваги было не занимать. Волна за волной они накатывали на палубы наших галер, горяча себя именем Аллаха и Великого Турка и клятвами перебить неверных собак. И выказывали при этом такое презрение к смерти, словно все гурии их мусульманского рая уже поджидали их у нас за спиной. Они прыгали к нам на борт с таранов, с переброшенных на манер сходней рей и весел. Сильное, прямо скажем, действие производили их неистовые гортанные крики, а равно также, впрочем, и красные долиманы, бритые или покрытые остроконечными шапками головы, устрашающие усищи и ятаганы, коими владели они, как волк зубами, и тщились сломить наше сопротивление. Однако и Господь Бог с католическим нашим государем без прикрытия сегодня не остались: косой на камень наткнулась янычарская храбрость с легендарной вековой стойкостью испанской пехоты, шансы уравнивавшей. И каждая новая волна разбивалась о стену беглого огня: аркебузы и мушкеты гремели чередой частых залпов, и стоило посмотреть, какую бестрепетную невозмутимость хранили в этом кромешном аду наши старые солдаты, с обычной, но оттого не менее завидной отчетливостью исполнявшие свою солдатскую должность: как стреляли, заряжали и снова стреляли, как, в лице не меняясь, когда истощались заряды, требовали у пажей и юнг пороха и пуль. Меж тех и этих плечом к плечу дрались мы, легконогие и юношески проворные молодые солдаты и моряки, дрались сперва пиками да копьями, а потом, сойдясь поближе, пустили в ход шпаги, кинжалы, топоры, ну и это вот сочетание свинца и стали с отвагой и решимостью внушало янычарам невольное почтение и, стало быть, сдерживало, ибо, так сказать, не поспевала собачка выкусывать блох из шерсти. И вот по прошествии того уже немалого времени, что длилась эта безжалостная схватка на утлом бастионе «Мулатки» и «Каридад», сцепленных вместе и огрызающихся огнем на турецкие галеры, из коих одни приближались к нам, а другие — отходили, чтобы дать своим командам передышку, ударить по нам из пушек и вновь ринуться на абордаж, осознал неприятель с непреложной ясностью, что победа обойдется ему большой кровью — нашей и своей.
— Сантьяго!.. Сантьяго!.. Испания и Сантьяго!..
Мы уже охрипли, и глотки у нас саднили от дыма, криков и едкого запаха крови. Иные, и вовсе не стесняясь в выражениях, поносили турок на чем свет стоит, а те, разумеется, в долгу не оставались, и вот на всех языках — испанском, баскском, турецком, греческом и лингва-франка — неслась забористая брань и много чего лестного было сказано про свиней-неверных и собак-обрезанцев, о сукиных сынах с обеих противоборствующих сторон, о хряках, обрюхативших соответственно ту или иную мамашу, давно уже себя зарекомендовавшую отпетой потаскухой, о содомских пристрастиях приверженцев пророка Мухаммеда, о сомнительной непорочности Пречистой Девы и несомненных пороках Иисуса, ну и, как водится, опять о распутных, с кем попало путающихся мамашах — уже, сами понимаете, других. Все это было в порядке вещей, широко распространено и бытовало повсеместно, а в подобных ситуациях — попросту необходимо.
Но, если отставить браваду, и мы, и турки сознавали очень ясно, что дело всего лишь в том, достанет ли у них терпения и умения вовремя перетасовать колоду, ибо их численное превосходство было, самое малое, троекратное и они могли без труда восполнять потери, давать бойцам подмену, то есть роздых, не ослабляя при этом напора, тогда как нам подобное не светило. Кроме того, турецкие галеры, отходя, всякий раз использовали дистанцию, чтобы садить по нам из пятидесятифунтовых баковых орудий и пушек помельче, устраивая на палубе форменную бойню: рушились развороченные настильным огнем надстройки, разлетались в стороны осколки и обломки, круша все на своем пути, а уберечься можно было, только если, заслышав грохот и свист, бросишься ничком на палубу — вот тебе и вся защита. И повсюду — разорванные на куски, распотрошенные трупы, и кишки вон, и мозги наружу, и кровь лужами, а в воде, между кораблями, плавают десятки трупов тех, кто погиб на абордаже или кого скинули за борт, дабы не загромождать палубу. Немало убитых и раненых было и среди гребцов, наших и турецких, ибо они, удерживаемые своими окровавленными цепями, только и могли, что пластаться вповалку меж гребных скамей, прикрываться расщепленными, переломанными веслами, кричать от ужаса при виде бушующей вокруг бранной ярости да молить о пощаде.
— Алла-ут-алла! Алла-ут-алла!
Шел уже, наверно, третий долгий час боя, когда одна из турецких галер ловким маневром сумела все-таки дотянуться тараном чуть ли не до самой нашей фок-мачты, и по нему снова ринулась на палубу «Мулатки» туча янычар и солдат, твердо намеренных на этот раз занять полубак. Хоть, обороняя каждый дюйм палубы, мы и отбивались с поистине волчьим упорством и заслуживающим удивления мужеством, однако слишком силен был натиск, так что пришлось отдать банки возле такелажной кладовой. Я знал, что капитан Алатристе и Копонс сражаются где-то там, но так густо стлался дым мушкетных выстрелов, что во всеобщем столпотворении разглядеть их я не мог. Тут раздались крики о помощи, и все, кто мог, по куршее и галерейкам вдоль бортов устремились на этот призыв туда, откуда донеслись они, — к носу, а я — в числе первых, ибо ни за что на свете не согласился бы оставаться в стороне, покуда моего хозяина рубят в куски. Выставив щит и саблю, прыгнул на сбитую, перегородившую всю палубу рею грот-мачты, наступая на несчастных, придавленных ею галерников, распростертых меж скамей, и когда один из них — показалось по виду, что турок — в последних конвульсиях ухватил меня за щиколотку, я ударил его клинком так, что едва не напрочь отсек руку с браслетом кандалов на запястье — разум в таких обстоятельствах отказывает человеку первым.
— Испания и Сантьяго! Вперед!..
Мы смогли наконец ударить на врага, и я опять же был в первых рядах и не слишком заботился о себе, ибо, слишком уж взбудораженный яростью боя, забыл про осторожность. Черноватый, щетинистый, как кабан, турок в кожаной феске выскочил на меня со щитом и саблей в руках и, поскольку негде было размахнуться для удара, я выпустил из рук свою саблю, ухватил его за горло и, хоть пальцы скользили по мокрой от пота коже, сумел все же, яростно дернув его на себя, повалиться с ним вместе на палубу. Хотел вырвать у него саблю из рук — не смог: темляк придерживал ее на запястье, а турок, не переставая испускать пронзительные вопли, вцепился в мой ребристый шлем, запрокидывая мне голову, чтобы добраться до горла. Не выпуская его, не ослабляя хватки, похожей на дружеское объятие, я нашарил сзади за поясом и обнажил кинжал, раза два-три кольнул или слегка ранил турка — слегка, но, должно быть, чувствительно, потому что он вскрикнул по-другому. Вскрикнул и тотчас смолк, когда чья-то рука сзади оттянула ему голову назад и лезвие, полоснув по горлу, глубоко рассекло его. Я выпрямился, чувствуя, как ноет тело, утер кровь, хлынувшую прямо в глаза, но прежде чем успел поблагодарить неведомого избавителя, Гурриато-мавр уже приканчивал другого турка. Я высвободил кинжал, подобрал саблю, взял щит и вновь бросился в гущу схватки.
— Сдавайтесь, собаки! — кричали турки. — Алла! Алла!
Тут я и увидел, как погиб сержант Кемадо. Водоворот боя вынес меня к нему в тот миг, когда он, собрав вокруг себя нескольких человек, намеревался отбросить янычар с галереек. Прыгая по банкам, где едва ли оставался хоть один живой гребец, мы по правому борту ударили на турок, мало-помалу вернув себе все пространство, что они у нас отняли, так что схватка кипела у нашей фок-мачты и оконечности их тарана. И только лишь сержант Кемадо, ободрявший нас словом, а замешкавшихся — делом, то бишь пинком, собрался вырвать стрелу, что вошла ему в одну щеку, а из другой не вышла, как получил аркебузную пулю в грудь и скончался на месте. При виде такого несчастья иные из нас дрогнули и пали духом, и казалось, что сейчас потеряем мы все, что достигнуто было такой отвагой и кровью, но, возведя очи к небу, хоть даже и не думали молиться в такой миг, и остервенясь, как звери, ринулись вперед, желая либо отомстить за сержанта Кемадо, либо оставить клочки своей шкуры на турецком таране. Дальнейшее пером не описать, а я и пытаться не буду — про то знают один Бог да я. Скажу лишь, что вся носовая часть «Мулатки» осталась за нами, а когда немало пострадавшая турецкая галера, отодвинув свой таран от нашего борта, отошла, ни один турок из пошедших на абордаж на нее не вернулся.
Вот так примерно коротали мы остаток дня — не хуже арагонцев, чье упорство вошло в поговорку, — выдерживая орудийный огонь, отбивая абордажные атаки с галер, которых стало уже не пять, а семь, ибо трехпалубный турецкий флагман и еще один корабль к вечеру ближе присоединились к остальным, привезя на мачтах отрубленные головы Фулько Мунтанера и его рыцарей. Пришлось им довольствоваться этими трофеями, ибо иной добычи туркам не досталось: «Крус де Родес» они получили разбитым в щепу, залитым кровью и голым, как понтон: все с него было стесано в бою. И не имелось решительно никакого смысла брать его, тем паче что, как впоследствии узналось, мальтийцы дрались столь ожесточенно, что живым к туркам в руки ни один из них не дался. На наше счастье, ни турецкий флагман, ни эскортировавшая его галера в тот день сражаться толком больше не могли и лишь время от времени приближались, чтоб дать по нам залп. Что же касается восьмой галеры, то мальтийцы в предсмертном усилии сомкнули, так сказать, зубы на ее горле, и она пошла на дно.
Под вечер испанцы и оттоманы вконец изнемогли: мы были довольны, что оказываем сопротивление такому множеству врагов, они же корили себя, что не в силах переломить нам хребет. Небо, остававшееся сумрачным, и по-прежнему свинцово-серое море придавали происходящему еще более зловещий вид. Когда начало смеркаться, задул вдруг легчайший бриз-левантинец, но проку от него не было никакого, ибо дул он в сторону побережья. Да и самый что ни на есть попутный ветер ничего бы не изменил — галеры наши после такого многочасового обстрела пребывали в плачевном состоянии: снасти изодраны, паруса на реях буквально изрешечены, а сами реи снесены и переломаны, «Каридад Негра» же лишилась и грот-мачты, плававшей невдалеке вместе с мертвыми телами, канатами, обломками весел, кусками палубного настила и прочим добром. С галер, как и прежде пришвартованных борт к борту и покачивавшихся на воде, монотонным хором поднимались к небесам жалобные стоны раненых и хрипы умирающих. Турки, отойдя к побережью примерно на фальконетный выстрел, сбрасывали за борт трупы, чинили снасти, заделывали пробоины, пока их капуданы держали на флагмане совет, а нам, испанцам, только и оставалось, что зализывать раны да ждать. И, надо полагать, довольно прискорбное зрелище являли мы собой, лежа вповалку и вперемежку с каторжанами меж переломанных банок, или на куршее, или в галерейках вдоль бортов: драные, рваные, битые, грязные, закопченные пороховым дымом, в запекшейся крови, своей и чужой, коростой покрывавшей лица, одежду и оружие. Для поднятия духа капитан Урдемалас распорядился раздать остатки арака, коего оставалось на донышке, и кое-какой припас, чтобы подкрепиться всухомятку — плита была разворочена, а кок убит, — а именно: по ломтю солонины, толику разбавленного вина, капельку оливкового масла и сухарь. То же самое происходило и на другой галере, и мы переговаривались с бискайцами, обсуждая перипетии минувшего дня, справляясь о судьбе того или иного знакомого, горюя о тех, кто погиб, и радуясь, что кто-то сумел выжить. Мы несколько приободрились — и до такой степени, что иные даже стали высказывать предположения о том, что турки, мол, обломали о нас зубы и уйдут, а иные — что уйти-то, конечно, не уйдут, это вздор, но мы, глядишь, сумеем отбиться, когда они завтра утром, если не сегодня ночью, полезут снова. Было, впрочем, заметно, что им досталось никак не меньше нашего, и это подавало надежду, что упорное наше сопротивление станет той соломинкой, которая переломит спину верблюду, — и вот за эту-то соломинку мы, утопающие, и хватались. Да, выказанная нами отвага грела душу, и кто-то даже удумал такую проказу: воспользовавшись легким ветерком, задувавшим порывами, взяли мы двух кур, содержавшихся на камбузе в клетках на тот случай, чтоб, если кто заболеет, кормить его яйцами и поить бульоном, так вот, взяли, говорю, этих курочек, посадили их, привязав весьма хитроумно, на подобие плотика, сколоченного из обломков настила и снабженного даже маленьким парусом, и отправили под всеобщий хохот и ободряющие выкрики к туркам, каковая затея вызвала дружное ликование у нас, особенно когда турки выловили кур из воды и подняли к себе на борт. Нам это подняло настроение до того, что кто-то даже затянул, причем с таким расчетом, чтобы слышно было на неприятельских галерах, старинную песню, которую палубная команда, когда поднимает лебедкой рею, повторяет в такт своим усилиям, и песню эту подхватил целый хор голосов, охриплых, но бодрых, и все мы встали и повернулись лицом к туркам:
Ту-рок, мавр и са-ра-цин, что ни пес, то — су-кин сын, глаз нель-зя под-нять от сра-ма, все — уб-люд-ки А-вра-ама.И вскоре все уже сгрудились у борта и, надрывая глотки, со свистом и улюлюканием кричали туркам что-то вроде того, мол, что суньтесь только снова, еще и не то вам будет, взгреем вас раза два и спать ляжем, а кишка тонка — убирайтесь тогда в свой Константинополь к своим отцам и братьям, если вы их, проходимцы безродные, знаете, да к матерям и сестрам своим, потаскухам подзаборным, для коих мы припасем, конечно, чего-нибудь особенного. Право, стоило взглянуть, как даже раненые, замотанные окровавленным тряпьем, привставали, приподнимались на локте, чтобы поулюлюкать с нами заодно да избыть в этих криках ярость и глухую тоскливую тревогу, грызшую нам нутро, — и вправду легче становилось, и, видно, понимая это, никто из начальства, даже сам дон Агустин Пиментель, не унимал нас. Даже напротив — сами горланили с нами заодно и поощряли орать и бесноваться еще пуще, сознавая, вероятно: таким, как мы, приговоренным к смерти, сгодится все, чтобы взять за свои головы как можно дороже. Ибо если турки хотят вывесить их на своих реях, пусть сначала попробуют отрубить.
В тот же вечер был неприятелю брошен еще один вызов — наше начальство велело зажечь кормовые фонари, дабы указать, где мы находимся. Мы покрепче подтянули найтовы, бросили якоря — глубина там была небольшая, — чтобы ветром, нежданно налетевшим, либо течением не унесло нас куда-нибудь не туда, после чего разрешено было спать-отдыхать, но — с оружием, а вахтенным велено смотреть в оба, как бы турки в темноте не предприняли новых поползновений. Ночь, однако, прошла спокойно — по-прежнему царило полное безветрие, и в прогалинах раздернувшихся туч проглянули звезды. Отстояв свое на вахте, я в полусне побрел, натыкаясь на спящих и слыша, как с обеих галер доносятся жалобные стоны и причитания раненых, и добрался до борта, где за подобием бруствера, устроенного из скатанных драных одеял, свернутых тросов, парусов и снастей, устроились капитан Алатристе, Гурриато-мавр и Себастьян Копонс, храпевший так, словно душа у него расставалась с телом. Всем троим, как равно и мне, посчастливилось не только пережить этот жуткий день, но и не получить ни царапины — разве что мавру слегка и неглубоко распороли ятаганом бок, но рану эту, предварительно плеснув на нее вином, хозяин мой, со сноровкой старого солдата вооружась большой иглой и суровой ниткой, самолично зашил, да не наглухо, а оставив сток для дурных гуморов.
Да, так вот, я подошел к ним и молча — от усталости у меня и язык не ворочался — пристроился рядом, но поначалу даже не смог забыться тяжким сном: в совершенное изнеможение привели меня схватка со щетинистым турком, а потом еще со сколькими-то. Думал я — полагаю, и не я один, а все — о том, что уготовит нам завтрашний день. Ни в цепях на гребной палубе турецкой галеры, ни в подземелье башни где-нибудь на Черном море я себя представить не мог, но будущее мое рисовалось столь же несомненно, сколь сомнительна была наша завтрашняя победа. Я спрашивал себя, как будет выглядеть, свисая с реи, моя голова и как понравится она Анхелике де Алькесар, если владычица моего сердца каким-то тайным зрением сумеет увидеть ее. Мне скажут, пожалуй, что подобные мысли способны увлечь человека в самую пучину беспросветного отчаяния, и что ж, отчасти это будет справедливо. Однако вспомните, что, как говорится, у того, кто в седле и кто под седлом, — думы разные. По-разному, знаете ли, смотришь на вещи, когда сидишь у пылающего камелька, или за столом, снедью уставленным, или нежишься в тепле перины — и когда месишь жидкую грязь в траншее, качаешься на дыбом встающей палубе галеры, когда казенные свои харчи, солдатскую пайку получаешь за то, что ежедневно ставишь жизнь и свободу на кон. Что говорить — отчаяние, оно, конечно, имело место. Но все же дело было наше такое — телячье, куда денешься: отчаяние как-то очень давно и естественно вошло в нашу жизнь. Мы, испанцы, со смертью накоротке, а потому умеем встречать ее достойно, более того — просто обязаны это делать, ибо, не в пример другим нациям, судим и оцениваем меж собой, кто как ведет себя в минуту опасности. Вот почему так неразрывно переплелись в нашем характере жестокость, щепетильность в вопросах чести и забота о репутации. И прав был Хорхе Манрике, утверждая, что столетия войны с исламом сделали из нас людей свободных, гордых и твердо помнящих свои права и привилегии, как и то, что бессмертием будет:
И к безгрешным, в вере твердым, Под молитвы и рыданья Смерть нагрянет, Тем, кто бился с мавром гордым, Избавленьем от страданий Тяжких станет[167].И это объясняет, почему же мы, выдубленные суровыми превратностями судьбы, вверив устам имя Христово, а дух — лезвию клинка, готовы были прожить последний свой день так же, как до этого проживали множество схожих с ним и будто готовивших нас к нему, принять свой жребий с безропотным смирением крестьянина, чьи посевы погублены градом, или рыбаря, чьи сети пришли пустыми, или матери, уверенной, что дитя ее умрет при рождении или будет еще в колыбели унесено горячкой. Ибо только те, кто превыше всего ценит житейские удобства и покой, наслаждения и изыски, кто малодушно отворачивается от действительности бытия, только те, говорю, сетуют на непомерность платы, которую на этой земле рано или поздно придется платить всем.
Грянул аркебузный выстрел, и мы приподнялись, прислушиваясь в тревоге. Даже раненые перестали стонать. Но продолжения не последовало, и мы вновь улеглись.
— Ложная тревога, — проворчал Копонс.
— Судьба… — философски заметил наш стоик Гурриато.
Я примостился подле, укрывшись, за неимением иного, своим рваным колетом, а сверху положив кирасу. Ночная роса уже вымочила настил палубы, пропитала одежду. Продрогнув, ближе придвинулся к капитану в поисках тепла и ощутил такой знакомый запах ременной кожи, стали, пота, пролитого в сегодняшнюю страду и давно уже просохшего, — я знал: он не подумает, что меня трясет от страха. Заметил: он не спит, но лежит неподвижно. Потом он очень осторожно откинул кусок драного парусинового полотнища, которым укрывался, и укутал им меня. Хоть я был уже не тот, что когда-то во Фландрии, но движение это согрело мне не столько тело — парус вообще неважная защита от холода, — сколько душу.
На рассвете раздали нам еще вина и сухарей, и, покуда мы отдавали дань скудному угощению, прозвучал приказ расковать тех гребцов, кто изъявит желание сражаться. Услышав такое, мы понимающе переглянулись: если уж на такое решились, то, значит, все, самый край пришел. Приказ не касался, понятное дело, турок, мавров и представителей наций, короне нашей враждебных — англичан и голландцев, — а всем остальным, если, конечно, покажут себя в бою и, главное, останутся живы, обещали по ходатайству нашего генерала скостить срока полностью или частично. Сосланным на галеры испанцам и иным, исповедующим католическую веру, это давало известный шанс, ибо, оставшись на веслах тонущей галеры, пошли бы они на дно с нею вместе: в сутолоке и панике терпящего бедствие судна никому и в голову не пришло бы снимать с них цепи — не до того; а выловили бы их, остались бы они в рабстве, но уже у турок, и ворочали веслами у них и на них, избавиться же от этой участи и получить свободу возможно было, только если отречешься от истинной веры и примешь ислам — в Испании, кстати говоря, раб, даже окрестившись, рабом оставался, — а прельщала такая стезя по причинам, которые понять нетрудно, хоть и многих, особенно молодых, однако число их вовсе не было столь велико, как принято думать, потому что даже для каторжанина вера есть дело столь серьезное, глубоко и прочно укорененное в душе, что большинство испанцев, взятых в плен турками и маврами, сохраняли веру эту, невзирая на жалкую жизнь в рабстве, и потому никак нельзя отнести к ним такие строки Мигеля де Сервантеса, который и сам досыта хлебнул и плена, и неволи, однако от веры не отступился:
Им, измытаренным в юдоли дольней, стал минарет милее колокольни. солдатчину окончив раньше срока, стезей пошли Мухаммеда-пророка — дабы жилось вольготней и привольней.Ну так вот, это я веду к тому, что сколько-то испанцев, итальянцев и португальцев, изъявивших готовность повоевать, взамен своих цепей получили копья и полупики, а потерявшие за вчерашний день до трети личного состава галеры — пополнение человек в шестьдесят-семьдесят, которые предпочли достойно пасть в бою, нежели захлебнуться в воде или подвернуться под горячую руку той и иной стороне. Среди них и в числе первых, попросивших снять с них оковы и выдать оружие, оказался наш с капитаном Алатристе знакомец — цыган Хоакин Хрипун, жемчужина в короне малагского отребья, загребной на «Мулатке», человек весьма опасный, а потому уважаемый среди галерников до такой степени, что мы одно время отдавали свое жалованье ему на сбережение, полагая, что так оно будет надежнее, чем у какого-нибудь генуэзского банкира. Ну и вот, предстал перед нами этот самый Хрипун — бритый череп, черная, отороченная красной каймой альмилья, в глазах коварство; да не один предстал, а в сопровождении еще трех-четырех дружков-братков вида столь же авантажного, в ту самую минуту, когда прапорщик Лабахос — кстати, он да Диего Алатристе были единственными, кто уцелел из командиров, — собирал нечто вроде резервного отряда, отданного под начало опять же моему бывшему хозяину, с тем чтобы он поспевал туда, где туго придется, а пока взял под охрану и особый пригляд оба кормовых трапа, ибо по ним туркам было бы очень способно проникнуть на корабль. И Лабахос держал перед нами речь, призывая зубами держать каждую пядь палубы, и с мостика «Каридад» снова благословил нас патер Нисталь, а бискайцы Мачина де Горостьолы, с которыми в буквальном смысле связались мы отныне на жизнь и на смерть, желали нам удачи, а мы разошлись по своим местам, как только при первом свете дня, выдавшегося погожим и, наподобие вчерашнего, безветренным, на веслах двинулись к нам, оглашая пространство диким ором, воем, лязгом и грохотом своих цимбал, барабанов, флейт, дудок, семь турецких галер.
Лабахос пал мертвым где-то в середине сражения, когда отбивал очередную — неведомо какую по счету — атаку на мостик «Мулатки», где был ранен и капитан Урдемалас. Диего Алатристе, чувствуя, как ноет и ломит все тело, стоял у борта и морской водой промывал мелкие ранки и царапины на лице и руках и поглядывал при этом, как в море швыряют трупы, расчищая залитую кровью, развороченную палубу, заваленную обломками надстроек, настила и клочьями такелажа. Бой длился четыре часа, и когда наконец турки отошли, чтобы заменить весла, расщепленные и переломанные во время абордажа, обе мачты на «Мулатке» были свалены вместе с реями и парусами: одна плавала в воде, другая упала на «Каридад Негра», тоже лишившуюся фок-мачты полностью, а грот-мачты — наполовину. Обе галеры, хоть потери на них были ужасающими, по-прежнему были пришвартованы одна к другой и оставались на плаву. На «Мулатке» погибли и комит, и его помощник, а немец-артиллерист взорвал носовое орудие, отправив на тот свет и себя, и прислугу. Что же до капитана Урдемаласа, то Алатристе только что оставил его в кормовой каюте — или в том, что от нее осталось: тот лежал вниз лицом на палубе, а цирюльник и штурман силились унять кровь, хлеставшую из рассеченной ятаганом поясницы.
— Принимайте… команду… — еле выговорил он между стонами и проклятиями тому, кто взрезал его от одной почки до другой.
«Команду…» Нельзя сострить ядовитее, думал Алатристе, оглядывая залитые кровью развороченные обломки, бывшие некогда галерой «Мулатка». Все погреба, включая пороховой, были завалены грудами раненых, во имя всего святого жалобно просивших пить или чтоб хоть чем-нибудь заткнули их раны. Но воды не было, и перевязать тоже было нечем. Наверху, на куршее, в лужах крови и обломках гребных скамей, мачт, в клочья превращенных снастей стенали в цепях полумертвые галерники. На галерейках вдоль бортов, под солнцем, немилосердно калившим железо кирас и шлемов, солдаты, моряки и раскованные гребцы перевязывали раны себе или товарищу, точильным камнем водили по иззубренным, затупившимся лезвиям клинков, выскребали последние щепотки пороха и пули для тех немногих мушкетов и аркебуз, что еще оставались в исправности.
Чтобы хоть на несколько мгновений отвлечься от этого жуткого зрелища, Алатристе даже не сел, а почти рухнул на палубу, привалился спиной к фальшборту, распахнул на груди колет и машинально извлек из кармана томик «Сновидений» дона Франсиско де Кеведо. Он любил перелистать эту книжку в свободную минуту, однако сейчас, как ни старался, не сумел прочесть ни строчки — буквы прыгали перед глазами, а в ушах еще стоял гром и звон недавнего боя.
— Вашу милость требуют на флагман.
Алатристе посмотрел на пажа, передавшего приказ, и не сразу понял, чего от него хотят. Потом уразумел, бережно сунул томик в карман, поднялся и по галерее правого борта, перешагивая через бесчисленные тела, вповалку лежавшие там, прошел на бак, ухватился за канат и перебрался на палубу «Каридад». Уже оттуда окинул взглядом турецкие галеры — те снова отошли на фальконетный выстрел, явно готовясь к очередному приступу. Одна, сильнее прочих пострадавшая в последнем бою и полузатопленная, уже по самые борта погрузилась в воду, а на палубе у нее царила очень большая суета; у другой, трехпалубной, снесена была фок-мачта. Да, туркам тоже минувший день недешево обошелся.
Капитан очень скоро убедился, что «Каридад» досталось ничуть не меньше, чем «Мулатке»: прикованные к месту гребцы пережили — а иные и нет — сущую бойню и резню. Черные от пороховой гари, с блуждающими глазами, бискайцы Мачина де Горостьолы расселись на палубе, воспользовавшись кратким затишьем, чтобы опомниться и хоть немного передохнуть. Никто не нарушил угрюмое молчание, никто даже не приподнялся, когда Алатристе шел мимо них на корму. Он спустился в кают-компанию, где, топча бумаги, усеявшие палубу, и по очереди прикладываясь к кувшину с вином, стояли вокруг стола дон Агустин Пиментель с обвязанной головой и рукой на косынке, Мачин де Горостьола, комит «Каридад» и капрал с трудным именем Сенаррусабейтиа. Штурман Горгос и патер Франсиско Нисталь погибли при последнем абордаже: Горгос получил пулю в горло, а монаха мушкетный выстрел уложил в тот миг, когда, с распятием в одной руке и со шпагой — в другой, пренебрегая опасностью, он бежал по куршее, обещая всем сражающимся вечную славу, которую теперь снискал и сам.
— Как себя чувствует капитан Урдемалас? — осведомился Пиментель.
Алатристе только пожал плечами. Он не хирург. А если стоит здесь в одиночестве, это значит, что на «Мулатке» никого старше чином на ногах не осталось.
— Сеньор ен’рал высказывается тут насчет сдаться, — выпалил Мачин де Горостьола, глотая слова на бискайский манер. Кое-кто — и даже многие — подозревал, что он делает это намеренно, чтобы стать похожим на своих солдат, которые его обожали.
Алатристе взглянул ему в глаза. Нет, не дону Агустину, а этому бискайцу — маленькому, бровастому, светлокожему и чернобородому человеку с длинным носом и огрубелыми руками солдата. Настоящий баск, деревенщина, лоска ни на грош, зато отваги не занимать. Полнейшая противоположность изысканному генералу, который и так-то был бледен от потери крови, а услышав эти слова, совсем побелел и протестующе воскликнул:
— Не надо упрощать!
Алатристе перевел взгляд на Пиментеля и вдруг почувствовал безмерную необоримую усталость.
— Упрощай не упрощай, — продолжал Мачин как ни в чем не бывало, — а по-вашему выходит так: дрались мы достойно и, если спустим флаг, чести своей не уроним.
— Чести… — повторил Алатристе.
— Ну да.
— Перед турками.
— Перед ними.
Тогда Алатристе вновь пожал плечами. Сообразовывать урон чести с количеством жертв — нет, это тоже не его дело.
Горостьола меж тем наблюдал за ним с интересом. Дружбу они не водили, однако знали, чего стоит каждый, и за это уважали друг друга. Капитан теперь взглянул на комита и капрала и заметил на их суровых лицах отблеск беспокойства.
— Люди с «Мулатки» готовы сдаться? — спросил Горостьола, протягивая ему кувшин.
Алатристе, давно уже мучимый жаждой, выпил и вытер усы.
— Да они сейчас на что хочешь готовы… Драться, сдаваться… У них сейчас уже ум за разум зашел.
— Они сделали больше, чем было в силах человеческих! — воскликнул Пиментель.
Капитан поставил кувшин на стол и внимательно оглядел генерала, потому что раньше не предоставлялось случая увидеть его вблизи. Чем-то он неуловимо напоминал ему графа де Гуадальмедину — повадкой ли, статной ли фигурой, закованной в умопомрачительно дорогие доспехи миланской работы, белыми ухоженными руками, выхоленными усами и бородкой, золотой ли цепью на груди, а может, рубином, украшающим навершие эфеса. Та же порода — высшая знать, испанская аристократия, хоть безотрадное положение и поумерило ему высокомерия: с грандом хорошо дело иметь после того, как морду ему разобьешь, подумал капитан. Дон Агустин де Пиментель, несмотря на бледность, бинты и пятна крови на одежде, сохранял, тем не менее, прежнюю импозантность облика. И вправду похож на Гуадальмедину, хотя Альваро де ла Марка и в голову бы никогда не пришло сдаться туркам. Пиментель, впрочем, все это время держался хорошо — лучше, чем на его месте держались бы многие щенки того же помета… Алатристе ли было по собственному опыту не знать, что и храбрость истощается, особенно если у человека в теле несколько лишних дырок, а на плечах бремя такой ответственности. Нет уж, он не будет судить и осуждать того, кто двое суток дрался, как простой солдат. Просто свой предел всему положен.
— У вашей милости с собою книга?
Алатристе скосил глаза на выглядывающий из кармана томик, рассеянно ощупал, потом достал его и протянул генералу. Тот с любопытством перелистнул несколько страниц.
— Кеведо? — не без удивления спросил он, возвращая книгу. — Зачем он вам на галере?
— Чтобы пережить такой день, как сегодня.
Он снова запрятал книжицу поглубже. Горостьола и остальные взирали на все это в растерянности. Понятно бы еще, если б человек носил с собой псалтирь или молитвослов, но — это? По всему было видно, что никто из них слыхом никогда не слышал о Кеведо, или как его там.
— Уверен, — сказал генерал, берясь за кувшин, — что сумею добиться достойных условий.
Два последних слова заставили Алатристе и Горостьолу многозначительно переглянуться. В этом не было ни удивления, ни презрения, а лишь всезнание, дающееся долгим опытом. Они понимали, что под достойными условиями генерал имеет в виду не слишком крупную сумму выкупа, в ожидании которой его будут вполне сносно содержать в Константинополе. Может, пришлют из Испании денег и еще за какого-нибудь офицера. А все прочие — моряки и солдаты — останутся в цепях и на веслах до конца дней, пока Пиментель в Неаполе или при дворе, окруженный восхищением дам и уважением кавалеров, будет рассказывать подробности этой гомерической битвы. Если уж сдаваться, так вчера надо было сдаваться, до начала этой бойни, подумал Алатристе, мертвые были бы живы, а раненые и искалеченные не корчились бы сейчас на палубе, не выли бы от мучений…
Мачин де Горостьола отвлек его от этих размышлений:
— Ваша милость, сеньор Алатристе, нам охота смертная послушать, что ты на это скажешь. Как-никак единственный офицер с «Мулатки»…
— Я не офицер.
— Неважно. Ну, старший по команде. Не один ли хрен?
Алатристе оглядел бумагу и рваное тряпье под своими драными, вымазанными засохшей кровью альпаргатами. Одно дело — иметь мнение, но держать его при себе, другое — если спрашивают, есть ли оно у тебя, и просят его высказать.
— Что скажу?.. — пробормотал он.
На самом деле он знал это с той минуты, как переступил порог каюты и увидел эти лица. И все, кроме генерала, тоже знали.
— Скажу: нет.
— Простите? — переспросил Пиментель.
Но капитан смотрел не на него, а на Мачина де Горостьолу. Решать это не дону Агустину, а солдатам.
— Экипаж галеры «Мулатка» сдаваться не согласен.
Наступило долгое молчание. Только слышно было, как за переборками стонут где-то наверху раненые.
— Недурно бы его, экипаж то есть, об этом спросить, — вымолвил наконец Пиментель.
Алатристе с большим хладнокровием покачал головой. Глаза, ставшие совсем ледяными, впились в лицо генерала.
— Вы, ваше превосходительство, сию минуту сделали это.
По обросшему бородой лицу Горостьолы скользнула потаенная усмешка, а Пиментель скривился от неудовольствия.
— Ну и?
Алатристе продолжал невозмутимо рассматривать его:
— Бывали дни, когда ходили мы убивать. Сегодня, должно быть, настал черед умирать.
Краем глаза он видел, что комит и капрал одобрительно кивают. Мачин де Горостьола повернулся к дону Агустину. Бискаец казался очень довольным и будто сбросил с плеч тяжкую кладь.
— Сами видите, ваш’дитство, мы все ‘динодушны.
Дон Агустин здоровой, но задрожавшей рукой поднес ко рту кувшин. Отхлебнул и, скривясь, словно отведал чистого уксуса, поставил его на стол, явно не зная, что делать — яриться или смириться. Ни один генерал, сколь благосклонны бы ни были к нему при дворе, не имеет права капитулировать без согласия своих офицеров. Это будет стоить ему, самое малое, репутации. А иногда и головы.
— Половина наших людей перебита… — сказал он.
— В таком случае, — отвечал Алатристе, — второй половине следует отомстить за них.
То, что началось ближе к вечеру, иначе как светопреставлением и не назовешь. Одна из турецких галер затонула, но шесть других с флагманом во главе, выгребая против вдруг налетевшего восточного ветра, ринулись на нас со всех сторон, имея целью пойти на абордаж все разом и одновременно, а иными словами, сбросить к нам на палубы человек шестьсот-семьсот — ну то есть целый полк — янычар, и это против полтораста испанцев, которых мы еще могли выставить. И, покрошив нас несколько из пушек, врезались нам в самую середку, с ужасным треском в щепки круша весла и пытаясь пробить нам борта таранами, чтобы, если получится, сразу потопить. Кого-то на время удалось сдержать огнем, но другие сумели все же забросить крючья и вцепиться. Хлынули они так густо, что, когда на «Каридад» бискайцы схватились с турками, даже невозможно стало стрелять по врагам из опасения попасть в своих, а у нас на «Мулатке» им поначалу удалось отбить у нас правый борт и фок-мачту, продвинуться почти что до самой грот-мачты, захватив, стало быть, половину нашего корабля. Но тут — и уж не спрашивайте как — удалось нам стать насмерть, упереться, а затем и потеснить неприятеля. Повезло, конечно, в том отношении, что турками командовал, ободряя их зычными криками, рассыпая вокруг себя смертоносные удары, гороподобный янычарище — здоровенный, как тот филистимлянин; уже потом узналось, что это был их знаменитый командир, любимец самого султана, звавшийся Улух Симарра, — и вот, когда, оттеснив наших, дрогнувших под таким напором, дошли они до самого шлюпочного трапа, там их встретили раскованные галерники под предводительством цыгана Хрипуна и его присных, подобравших у павших оружие — полупики, топоры, копья, ятаганы, шпаги и прочее, благо валялось оно на каждом шагу, — и ударили на турок с неописуемой яростью, причем Хрипуну первым же ударом повезло вонзить копьецо в глаз янычару, и тот, издав страшный вопль, вскинул руки и рухнул на палубу замертво, после чего на великана, как все равно свора псов на кабана, всем скопом набросились каторжане и, достав неведомо откуда ножи, какими на бойнях скотину колют — такие вот, с желтыми роговыми рукоятями, — во мгновение ока истыкали его, только что ломтями не нарезав. Турки, увидев, как круто обошлись с их начальником, невольно уняли прыть, замялись в нерешительности, воздев свои ятаганы. И капитан Алатристе, воспользовавшись заминкой, криком и пинками погнал всех, кто оказался поблизости, а оказалось нас человек двадцать, резать турок, и мы ринулись вперед, сознавая, что либо мы их всех перебьем, либо нам тут конец придет. И поскольку к этому времени было нам уж безразлично, убивать, умирать или еще чего, то плечом к плечу ударили мы на врага — капитан Алатристе, Себастьян Копонс, Гурриато-мавр и ваш покорный слуга, — а к нам, увидав, что мы выступаем стройно и в порядке, тотчас присоединилась вся шайка Хрипуна. Ибо в час поражения и разгрома ничто не производит действия столь ободрительного, как вид отряда, который сохраняет строй и повинуется приказу, не разравнивает рядов, так что и те, кто был дотоле рассеян или дрался в одиночку, поспешили примкнуть к нам и занять свое место в каре. И вот, шагая прямо по лежащим меж банок телам гребцов — мертвым, по большей части, телам, хотя оставались среди них и раненые, — обрастая по дороге новыми бойцами, двинулись мы вперед и поначалу неуклонно теснили турок, отчасти даже и оробелых, а затем заставили их показать спину и очистили все пространство палубы и добрались до самого тарана неприятельской галеры. И при виде того, как многие турки в поисках спасения бросаются за борт, кое-кто из самых отчаянных у нас сумел по тарану перебраться даже на самую вражескую галеру, явив мужество, о коем предоставляю судить вам, ибо пошли на абордаж и заняли вражескую галерейку полтора человечка; лично я вместо «Сантьяго! Сантьяго!» кричал «Анхелика! Анхелика!» — противник же при нашем появлении, а были мы черны от пороховой гари и красны от чужой крови, свирепством и отчаянностью подобны вырвавшимся из преисподней бесам, — так вот, противник, говорю, еще в большем, чем прежде, числе принялся сигать в воду или устремился на корму, дабы забаррикадироваться на мостике. И потому взяли мы без потерь и особых усилий фок-мачту, а если бы решились, то и грот-мачта стала бы нашей.
Капитан Алатристе остался на «Мулатке», обороняя ее от абордажных команд с других галер, я же, очертя, что называется голову, вместе с самыми отчаянными соскочил на палубу турецкого корабля и по истечении известного времени и неизвестно какого количества крови едва не погиб, когда после яростного удара сломал свой клинок. Обломком его я все же дотянулся до ближайшего ко мне турка и нанес ему ужасающую рану в шею, но другой тотчас рубанул меня секирой, и счастье еще, что древко повернулось у него в руке и первый удар пришелся плашмя, второго же не последовало, ибо Гурриато-мавр располовинил турку голову от тюрбана до подбородка. Валявшийся на палубе янычар ухватил меня за ноги, дернул и свалил на себя, а потом ткнул кинжалом и, конечно, убил бы, если бы хватило сил, но, по счастью, трижды заносил он руку, однако поразить так и не сумел. Когда ж я зажатым в руке обломком стал резать ему лицо, он наконец отпустил меня и, перескочив через борт, бросился в море.
Добыча нам досталась знатная — целая галера, но, памятуя, что опаснее самих злосчастий неумеренная отвага в преодолении оных, мы похватали что смогли, забрали двоих убитых и благоразумно отступили восвояси, меж тем как с кормы летели в нас в изрядном количестве стрелы и мушкетные пули. В эту минуту кому-то из нас при виде запаса пороха, дымящихся фитилей и горшков с горящей смолой, оставленных в такелажной кладовой, пришла в голову мысль поджечь турецкую галеру — мысль, надо сказать, довольно дикая: «Мулатка»-то была сцеплена с неприятельским кораблем, так что, случись пожар, никому бы не поздоровилось. Тут подали свой жалобный голос прикованные к банкам гребцы-христиане, среди которых оказалось много испанцев, уверовавших было при нашем появлении, что свобода близка, а теперь, заметивших, чту мы творим, и заклинавших не предавать галеру огню, пока они в цепях, ибо иначе они все сгорят вместе с нею. Однако заниматься этими несчастными нам было некогда и сделать мы ничего для них не могли, отчего и остались глухи к их мольбам, хоть, сами понимаете, далось нам это нелегко. Ну и, стало быть, вернулись на «Мулатку», шпагами и топорами поспешно обрубили концы и абордажные крючья, пиками и обломками весел оттолкнулись от турецкой галеры, над которой уже взметнулись языки пламени, тем более что задул благоприятный ветер, и мало-помалу стали отдаляться от нее, а из окутавшего ее черного дыма и огня, что взметывался все выше, пожирая фок-мачту, доносились до нас, разрывая сердце, крики тех, кто сгорал заживо.
К концу дня, когда в проломанный борт «Каридад Негра» стала поступать вода, а сама она — медленно погружаться, турки предприняли очередной и столь яростный штурм, что выжившие испанцы, очистив полубак и едва ли не всю гребную палубу, отступили на мостик, где и заняли оборону. Генерала Пиментеля снова ранили, на этот раз — сразу несколькими стрелами, и в таком вот образе святого Себастьяна его перенесли на «Мулатку», где было безопаснее. Затем пришел черед Мачина де Горостьолы: когда мушкетная пуля перебила ему руку и та повисла буквально на ниточке, он хотел было оторвать ее да и дальше сражаться, но силы ему изменили, колени подогнулись… ну и турки добили его лежачего и прежде, чем подоспели на помощь к своему капитану бискайцы. Других, может, это и обескуражило бы и заставило даже пасть духом, однако на них возымело действие совершенно обратное — и вот, загоревшись, как это у этой нации водится, жаждой мести, они, ободряя друг друга на родном наречии, а страшно матерясь, естественно, — на чистейшем кастильском, ринулись на турок и всех до единого отправили в те края, которых не ищи на карте. Увлеченные своим порывом, они не только свою палубу очистили, но и вступили на вражескую, турецкая же галера, вероятно попорченная ранее нашим артиллерийским огнем, тоже дала сперва течь, а потом и сильный крен на борт, иначе говоря, стала заваливаться набок, а «Каридад», с которой была она сцеплена, продолжала уходить под воду. Вернувшиеся на нее бискайцы, увидев, что дело плохо — совсем то есть швах, и лежать им скоро на дне морском, — принялись через борт перебираться к нам, прихватив своих раненых и не позабыв знамя. Вскоре принуждены мы были обрубить найтовы, чтобы нас не утянула за собою тонущая «Каридад», которая в самом деле через несколько минут утонула вместе с турецкой галерой, перевернувшейся перед этим вверх килем. Страшное было зрелище, когда на поверхности моря посреди обломков и всякой судовой всячины забарахтались и страшно закричали гребцы, уходя под воду и тщетно пытаясь освободиться от своих оков, — столь страшное, что даже приостановилось сражение и турки принялись спасать терпящих бедствие. Под конец опять же на выстрел отошли пять уцелевших турецких галер — сильно потрепанные, с изодранными снастями, с переломанными или бессильно повисшими, оттого что некому было ворочать ими, веслами, с потоками крови, льющимися вдоль бортов.
В этот день атак больше не предпринималось. Когда зашло солнце, «Мулатка», неподвижная и одинокая в кольце неприятельских галер, окруженная трупами, покачивающимися на тихой воде, со ста тридцатью ранеными, уложенными чуть не штабелями под навесом, с семьюдесятью двумя выжившими, которые напряженно всматривались во тьму, — зажгла, вновь бросая вызов, кормовой фонарь. Однако песен в эту ночь мы не пели.
Эпилог
А наутро, когда Господь возжег свет дня, стало видно, что турки исчезли. Вахтенные разбудили нас при первых лучах зари, тыча пальцами в пустынное море, где, кроме нас, покачивались на волнах только обломки кораблей. Неприятельские галеры ушли в темноте, среди ночи, рассудив, вероятно, что не стоит одна-единственная несчастная исковерканная галера того, чтобы без счета платить за нее жизнями своих людей — а платить бы пришлось. И поначалу мы, все еще не веря своим глазам, вертели головами во все стороны, а потом убедились, что след оттоманов и в самом деле простыл, и стоило бы поглядеть, как обнимались мы, как лили слезы радости, как благодарили небеса за такую неслыханную милость, которую бы назвали чудом, если бы не знали, какой кровью и какими жертвами обошлись нам жизнь и свобода.
Больше двухсот пятидесяти человек, считая мальтийцев, погибли в этом сражении, а из четырехсот каторжан всех наций и вероисповеданий, составлявших гребную команду «Мулатки» и «Каридад», в живых осталось не больше пятидесяти. Из офицеров же — всего двое: дон Агустин Пиментель и капитан Урдемалас, сумевший впоследствии оправиться от своей тяжкой раны. Выжили Диего Алатристе, штурман Бракос, капрал Сенаррусабейтиа, вместе с генералом и двумя десятками бискайцев успевший перебраться на нашу галеру. Выжил и цыган Хоакин Хрипун, и ему по ходатайству дона Пиментеля, которому доложили, как молодецки тот обошелся с великаном-янычаром, был сокращен срок: вместо шести оставшихся лет предстояло теперь махать веслом только год. Ну а сам я, если не считать, что в последнем бою угодила мне в ногу стрела, но, попав в мякоть правого бедра, особого ущерба не причинила, кость не задела, очень дешево отделался: два месяца похромал и забыл.
«Мулатка», как уже было сказано, осталась на плаву, хотя повреждения были бесчисленны и нуждались в устранении. Откачали воду из трюма, заделали пробоины, починили кое-как настил, смастерили из чего пришлось подобие мачты, скрепили треснувшие весла, изготовили, сшив вместе несколько полотнищ, парус, с помощью которого с грехом пополам при посильном участии уцелевших гребцов и смогли добраться до суши. Там, на берегу, оказавшемся, по счастью, скалистым и диким, то бишь безлюдным, мы выставили караулы на тот случай, если нагрянут местные жители, и через двое суток авральных работ привели галеру в относительный порядок. За это время отдали Богу душу многие из наших раненых, и вместе с другими убитыми испанцами, лежавшими на борту «Мулатки», и теми, кого выловили из воды и с прибрежных отмелей, мы, прежде чем поднять якорь, схоронили их с глубокой печалью на Кабо-Негро. На погребальной церемонии надгробную речь пришлось держать моему бывшему хозяину, потому что капеллана у нас не было и отслужить литанию было некому, а генерал Пиментель и капитан Урдемалас пластом лежали по койкам. И вот, окружив свежие могилы, обнажив и скорбно склонив головы, пропели мы «Отче наш», после чего капитан Алатристе вышел, крепко почесал в затылке, сглотнул, прокашлялся и прочел за неимением лучшего четыре стихотворные строчки, которые, хоть и были взяты вроде бы из какой-то солдатской комедии или чего-то подобного, прозвучали чрезвычайно уместно и удивительно своевременно:
Вы пали с честью; нет на вас вины, И в горние поднялись вертограды Из рук Господних обрести награды, Какими были здесь обделены.Все вышеописанное, как уж было сказано, происходило в сентябре тысяча шестьсот двадцать седьмого года на Кабо-Негро, находящемся на анатолийском побережье, в виду залива Искендерон. И, покуда капитан Алатристе читал молитву, столь далекую от заупокойного канона, закатное солнце, заиграв лучами, осветило нас, застывших в неподвижности над могилами стольких добрых наших товарищей, а каждую из могил этих венчал крест, сколоченный — таков был последний высокомерный вызов — из турецкого дерева. И в турецкой земле, под рокот волн и крики морских птиц остались они лежать, чая воскресения мертвых, когда, быть может, доведется им восстать из могил с оружием своим, во славе и гордости, подобающими тем, кто служил верно. И там, над морем, куда привели их, быть может, сребролюбие и страсть к наживе, но где так дорого продали они свои жизни за отчизну свою, за своего Бога и короля, до сего отдаленного дня спят испанцы глубоким и крепким сном, какой дано вкушать одним лишь храбрецам.
Приложение
Извлечения из
«ПЕРЛОВ ПОЭЗИИ, СОТВОРЕННЫХ НЕСКОЛЬКИМИ ГЕНИЯМИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
ДОН МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРАСОНЕТ В ПАМЯТЬ ИСПАНСКИХ СОЛДАТ, ПАВШИХ ПРИ ОБОРОНЕ КРЕПОСТИ ЛА-ГОЛЕТА
На сей земле израненной, бесплодной, Где в прах была повержена твердыня, Три тысячи солдат легли, и в сини Стремят их души свой полет свободный. Сперва они стеной стояли плотной, Их тщился выбить враг в своей гордыне. Но руки слабли, ряд редел, и ныне Лег под мечами строй их благородный. И та страна, где кровь лилась обильно, Сейчас и в прошлом знала слез немало, Живет и ныне в битве да заботе, Но в рай она с тех пор не посылала Душ, что пылали б доблестью столь сильно, И столь же мощной не держала плоти[168].ЛИЦЕНЦИАТ ДОН МИГЕЛЬ СЕРРАНОСОНЕТ-ПОСЛАНИЕ ИЗ САНТА-ФЕ-ДЕ-БОГОТА ЮНОМУ СОЛДАТУ ИНЬИГО БАЛЬБОА
Измлада приохотившийся к чтенью, Сервантеса и Лопе ученик, Влачась за Алатристе верной тенью, Ты жизни суть изведал не из книг. Поддавшийся сердечному круженью Погибельной красой плененный вмиг, Ты злобы стал Алькасара мишенью — Невинной жертвой низменных интриг. О, сколь же часто, с капитаном купно — Друг неразлучный, спутник неотступный, — Своею рисковал ты головой! Но и доселе, чуждый суесловью, Остался, отрок, раненный любовью, Непобедим — как и наставник твой.ТОГО ЖЕ АВТОРАСОНЕТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДОНУ ДИЕГО АЛАТРИСТЕ-И-ТЕНОРЬО, ВЕТЕРАНУ КАМПАНИЙ ФЛАМАНДСКИХ, ИТАЛИЙСКИХ, БЕРБЕРИЙСКИХ И ЛЕВАНТИЙСКИХ
С Аточе — к Аркебузе…[169] здесь и там Как тень он бродит, не простив обиду. Окликнувший — пусть прячется во храм, Задевший — пусть закажет панихиду. Все дальше он идет — туда, во тьму, Где покушенью совершиться не́ дал, Жизнь сохранив монарху своему… Тот, впрочем, инцидент забвенью предал. Как прежде, он на многое горазд, Внаймы сдаст шпагу — чести не продаст: Жизнь без нее — кромешный срам, о коем И не помыслив, в тот предел шагнет, Где бытия земного сбросит гнет И вечным будет награжден покоем.ДОН ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО ПАМЯТИ ДОНА ПЕДРО ХИРОНА, ГЕРЦОГА ОСУНА, УМЕРШЕГО В ТЮРЬМЕ
Осуна! О, потеря для Державы! Заставивший Фортуну подчиниться, В Испании снискал он Смерть в Темнице. И подвиг — не помеха для расправы. Завидовал весь мир любимцу славы, Свой и Чужой скорбит, презрев границы. Фламандские Поля — его гробница, Стихом надгробным — свет Луны кровавой. В Тринакрии пылает Монджибелло, Партинопей зажег огонь прощальный. Весь мир — в слезах. Война осиротела. Он рядом с Марсом встал в сей миг печальный. Маас и Рейн вздыхают неумело И вторят Тахо в песне погребальной[170].СЕСТРА АМАЙЯ ЭЛЕСКАНО, НАСТОЯТЕЛЬНИЦА МОНАСТЫРЯ СВЯТОЙ УРСУЛЫ ЛЕТРИЛЬЯ НА ОБРАЗ КАПИТАНА ДОНА ДИЕГО АЛАТРИСТЕ
Солдат, венчанный славой, боец неустрашимый, средь пламени и дыма ты в бой идешь кровавый отстаивать державы величье и права! ревнитель чести ярый! натура такова: скупее на слова — щедрее на удары.VII. Мост Убийц
Хорошие солдаты ценою собственной жизни продлевают жизнь отчизне. Неся тяготы и лишения, жизнь если и берегут, то лишь для того, чтобы в должную минуту поставить ее на карту, а смерть их производит шума не более чем удар, ее принесший. Стяжание доброй славы — вот единственная их цель. Заслужить себе славу они умеют, а воспевать ее — нет. Это дело тех, кто превзошел такое искусство. Красноречивое перо обязано даровать бессмертие пламенному клинку.
Хуан де СабалетаI. Сталь и золото
Поединок шел в утренних сумерках, в робком сероватом свете, медленно наползавшем с востока. Островок был небольшой и совсем плоский. Оголенные отливом берега тонули в тумане, который оставила за собой ночь. И оттого сам этот клочок земли казался призрачным видением, частью то ли неба, а то ли воды. Из грузных темных туч на венецианскую лагуну сеялся мокрый снег. Очень холодно было в тот день — двадцать пятый день декабря в лето тысяча шестьсот двадцать седьмое.
— Рехнулись, — промолвил мавр Гурриато.
Укрытый моим мокрым плащом, он по-прежнему лежал на тронутой изморозью земле и сейчас слегка приподнялся на локте, чтобы следить за поединщиками. А я, недавно перевязавший ему рану в боку, стоял рядом с Себастьяном Копонсом и дрожмя дрожал в своем колете, который плохо спасал от стужи. Стоял и смотрел на то, как в двадцати шагах от нас двое мужчин, с непокрытыми, несмотря на сквернейшую погоду, головами и без колетов, дерутся на шпагах и кинжалах.
— Кого Бог решает погубить, того лишает разума, — процедил Гурриато сквозь зубы, стиснутые от боли.
Я не стал отвечать. Потому что, хоть и был вполне согласен, что поединок этот — чистая нелепость, порожденная нелепостью иной, самой обширной и кровавой из всего, что до сей поры выпадало нам на долю, ничего не мог поделать. И просьбы, и уговоры были тут заведомо бесполезны, дуэлянты пренебрегли той бросающейся в глаза очевидностью, что подвергают себя и нас всех опасности едва ли не смертельной — ничто не помогло удержать их от схватки на островке. На клочке земли, названье которого, как по мерочке, годилось нашему нынешнему положению, смутному и зыбкому: Остров Скелетов — так именовалось это славное место, куда со своих переполненных кладбищ жители Венеции уже много лет перевозили останки давно почивших. И валялись они тут на каждом шагу. В мокрой траве, в грязи и в перекопанной земле — всюду; словом, куда ни бросишь взгляд, упадет он на кости и черепа.
Слышался только негромкий звон клинков. Отведя на миг глаза от дуэлянтов, я взглянул вдаль — туда, где на юге лагуна открывалась в Адриатику. И хотя дневной свет прибывал с каждой минутой и, соответственно, убывали наши шансы выжить, меня все же тешила надежда рано или поздно различить белое пятнышко на горизонте — парус корабля, посланного забрать нас отсюда и доставить в безопасное место, пока наши преследователи, которые в ярости рыщут по соседним островкам, не добрались до нашего, не накинулись на нас сворой бешеных псов. И, видит бог, для бешенства имелись у них мотивы, резоны и основания. Чудом, истинным чудом следовало признать уж и одно то, что мы с Гурриато-мавром, подколотым, но живым, находились здесь и дрожали от холода, наблюдая за капитаном Алатристе, который, нечего сказать, улучил минутку свести старые счеты. Нас на этом островке было пятеро — пятеро из тех немногих, что еще числились на этом свете: двое затеяли пляску с клинками, трое, как я уж сказал, наблюдали. А другие наши товарищи в эту самую минуту, невдалеке отсюда, были уже замучены и удавлены в застенках Серениссимы[171], или болтались в петлях на Сан-Марко, или плыли по каналам, окрашивая воду кровью из ловко взрезанной глотки.
Все началось два месяца назад, в Неаполе, по возвращении с набегов на греческое побережье. После морского сражения с турками при Искандероне, где мы потеряли стольких товарищей и сами не раз оказывались на волосок от гибели, капитан Алатристе и я, его, можно сказать, оруженосец, наконец-то ставший настоящим солдатом и во весь опор мчавший к своему восемнадцатилетию, — некоторое время поправляли здоровье, тешили плоть и возвеселяли дух в удовольствиях, на которые так богата древняя Партенопея, твердыня и оплот нашего владычества в Средиземноморье, истинный рай для всех испанцев, пребывающих в Италии. Сладостные досуги наши вышли недолги. Кабаки и притоны Чоррильо, по которым мы (тут особенно отличался папаши моего сынок) таскались без устали, развлечения и многообразные беспутства, столь щедро предоставляемые этим волшебным городом, в скором времени выгребли из и так не слишком тугой мошны все, что там было. И потому нам, мужам брани, не оставалось ничего иного, как снова пытать счастья, искать заработка и, стало быть, подниматься по сходням. Отважная «Мулатка», потрепанная в бою у анатолийских берегов столь сильно, что еле-еле смогла дотащиться до причала, отстаивалась в доке. И потому мы погрузились на сорокавосьмивесельную галеру «Вирхен дель Росарио». К вящему разочарованию нашему, первый поход был не к островам Леванта, сулившим столь обильную добычу, но — к берегам Греции, в местность Брасо-де-Майна, куда надлежало доставить оружие и припасы для тамошних христиан, которые, засев в горах, перестреливались с турками, двести лет назад захватившими этот край.
Задание было незамысловатое, не сказать чтоб уж страх какое ответственное, а выгод и подавно не сулившее никаких: в Мессине поднять на борт сто аркебуз, триста копий, пятнадцать бочонков пороху, перевезти все это добро и потом тайно выгрузить в небольшой бухточке за мысом Матапан, которую греки называют Порто-Кайио, а испанцы — Пуэрто-Коалья. Мы все так и сделали, и все прошло гладко, а я получил возможность увидеть вблизи греков-маниотов, которые от житья на этой черствой, скудной и бесплодной земле сделались все, как на подбор, вороваты, туповаты, грубы и неотесанны так, что дальше некуда. Большие, надо сказать, упования и надежды возлагали эти люди, измученные турецкими зверствами, на испанского короля, справедливо почитая его могущественнейшим в свете властелином; однако государь наш Филипп IV на пару со своим министром графом-герцогом Оливаресом вовсе не желал из-за каких-то угнетенных греков ввязываться в войну — да еще на таком отдаленном театре, да притом с неясным исходом — против Оттоманской империи, которая мало того, что была в ту пору в полной силе, но и прекратила враждебные вылазки против нас в Средиземноморье. Возобновившиеся во Фландрии и в Европе боевые действия пожирали людей и деньги, а потому наши природные, исконные недруги — мятежные голландские провинции, равно как и Франция, Англия, Венеция и сам папа римский — были бы несказанно рады, если бы мы увязли в кампании на Востоке, оттягивающей силы и средства с европейского театра, где дряхлеющий испанский лев бился в одиночку против всех и благодаря золоту Индий и старой своей доблестной пехоте — порой даже не без успеха. По всему по этому содействие наше обитателям Брасо-де-Майна, которые резали сборщиков пошлин, устраивали засады и тому подобное, можно, не покривив душой, назвать символическим, — и мы, побуждая их спуску оттоманам не давать, не давали им и сами ничего, кроме туманных посулов да посылаемой время от времени скудной помощи вроде той, что «Вирхен дель Росарио» выгрузила в Пуэрто-Коалья. Спустя всего несколько лет случилось то, что и должно было случиться: турки потопили восстание в крови, а Испания предоставила маниотов их собственной печальной участи.
Так или иначе, но возвращались мы в Неаполь без приключений, при попутном ветре и потому уже через несколько дней увидели Везувий. Пришвартовались у большого причала возле маяка и внушительных черных башен Кастильнуово, и, когда начальство разрешило, сошли на берег, стряхивая с себя клопов по дороге в наше обиталище в квартале, так и называвшемся Испанским. Хотя после резни в бухте Искандерон мы с капитаном Алатристе снова сблизились и предали забвению кое-какие прежние размолвки, порожденные моей юношеской горячностью, которую правильней было бы назвать щенячьей запальчивостью, и — не в последнюю, по правде говоря, очередь — пороками, присущими солдатской жизни, тем не менее в нашу комнату на постоялом дворе Аны де Осорио я не вернулся и продолжал жить отдельно, в казармах на Монте-Кальварио. Это давало мне должную независимость и облегчало общение со сверстниками — с тем же Хайме Корреасом, например, остававшимся неизменным моим сотоварищем в Неаполе, как и во Фландрии, с которым по-прежнему были мы неразлейвода. И дружок мой, с каждым годом все сильнее приверженный проказам и проделкам, картам и костям, склонный усердно и рьяно служить Бахусу, безрассудно ввязывавшийся в любую переделку и потасовку, воздействие на меня оказывал не самое благотворное. Принадлежал он к числу тех, кто, как говорится, ангела божьего во грех введет, обморочит и опорочит. Тем не менее я был к нему очень привязан. И неразлучными друзьями шлялись мы по тавернам и кабакам — и не только по ним, и славные парнасские[172] вирши не менее славного дона Мигеля де Сервантеса, если чуточку их переиначить, будут в точности как про нас обоих писаны:
И молвил я себе: «Верны твои слова, Неаполь предо мной, где я, бывало, Бабенок шелушил не год, не два»[173].И вот в то утро, когда с нашими солдатскими пожитками за спиной мы с капитаном в густой толпе прохожих, что заполняла улицы Испанского квартала, добрались наконец до постоялого двора, какой-то человек, явно поджидавший нас, отделился от стены и шагнул навстречу. Был он весь в черном, словно адвокат или чиновник, в узкополой шляпенке на голове; без шпаги. И с первого взгляда ясно становилось, что́ это за птица — всем видом своим незнакомец отчетливо свидетельствовал о принадлежности к той стае зловещего воронья, которая неизменно сопровождает судей и инквизиторов и строчит без устали нечто такое, что в самом скором времени может сильно испортить человеку жизнь. Живя при капитане, едва ли не прежде всего прочего усвоил я непреложно, что меньше следует опасаться того, кто чистит ногти ножичком, годным и чтоб кошелек срезать, и кабанчика заколоть, а доведется — и человеку под ребро его сунуть; так вот, говорю, меньше надо опасаться такого душегуба, нежели особей этой породы, которые с помощью гусиного пера, чернильницы, листка бумаги и петлю тебе намылят, и в каталажку засадят, да и в могилу спровадят.
— Не ваша милость ли будет Диего Алатристе?
Спрошено было на чистом кастильском наречии, без малейшего намека на итальянский выговор. Мы с капитаном, не переставая жевать ломтики овечьего сыра, купленного в лавке по пути, воззрились на незнакомца с естественным недоверием. Одно дело, когда по прибытии твоей галеры в порт приветствует тебя товарищ, весело указуя на дверь ближайшего питейного заведения, и совсем другое — когда такая зловещая птица произносит твои имя и фамилию. Я заметил, как капитан весь подобрался, поставил баул на землю и заиндевелым своим взглядом окинул незнакомца с головы до ног.
— Ну а если и моя, то что?
— Мне дано поручение сопроводить вашу милость в некое место.
Затененное широким полем шляпы, посмуглевшее под греческим солнцем орлиное лицо моего бывшего хозяина закаменело. Левая рука, словно невзначай, тронула навершие эфеса.
— Куда?
Субъект покосился на меня с сомнением, покуда я быстро соображал, что все это значит. Отбросил вздорную мысль, что за приглашением маячит камера в тюрьме Сантьяго или Викария. Всякий, кто слышал имя Диего Алатристе — и, стало быть, понимал, с кем имеет дело, — никогда в жизни не поручил бы кому-то в одиночку приглашать капитана туда, куда он идти не желает. Для такого дела следовало отрядить никак не меньше шести стражников, обвешанных всяким железом, словно витрина оружейной лавки.
— Приглашение относится только к вашей милости, — ответил меж тем человек в черном.
— Куда, я спрашиваю? — повторил Алатристе бесстрастно.
Повисло молчание. Посланный уже не чувствовал себя так уверенно, как раньше. Он метнул на меня еще один быстрый взгляд, а уж потом посмотрел в льдистые глаза, наблюдавшие за ним из-под шляпы.
— В Пьедигротту. Вас хотят видеть.
— Это что, по службе?
— Некоторым образом.
С этими словами он извлек из кармана вдвое сложенный засургученный лист и подал его капитану. Тот сломал печать, развернул, глянул — и я, отступивший чуть в сторону, чтобы не показаться нескромным, хоть мне до смерти хотелось сунуть нос, увидел, как он двумя пальцами пригладил усы. Потом свернул бумагу, сунул ее в поясную суму-фельтрикету и на миг задумался. И вслед за тем обернулся ко мне:
— Скоро вернусь, Иньиго.
Я разочарованно кивнул. По тону его понятно было, что говорить больше не о чем. Молча поклонился, взвалил на плечо баул и двинулся по склону вверх в сторону Монте-Кальварио, в казарму, где вместе с Хайме Корреасом и другими жил и Айша Бен-Гурриат или, как мы все его называли, — Гурриато-мавр: могатас, после набега на Оран завербовавшийся в испанскую пехоту. Человек весьма своеобразный, примечательный и опасный, но питавший искреннюю привязанность к Алатристе. Хоть за то время, что мы корсарили на «Мулатке», он в полной мере доказал нам свою беззаветную, как принято говорить, преданность, доселе оставалось для меня тайной, что́ таилось на дне его души, что́ скрывалось за тем стоически бестрепетным спокойствием, с каким он глядел в лицо смерти или оценивал поступки людей. Добавлю, раз уж упомянул об этом, что здесь, в Неаполе, выбыл из нашего дружеского круга капитан Алонсо де Контрерас, назначенный в это время губернатором в Пантеларию, но по-прежнему входил в него арагонец Себастьян Копонс, который не ушел с нами на «Вирхен дель Росарио», потому что служил капралом в гарнизоне крепости Дель-Уэво. Несколько дней погостил у нас и мимоездом оказавшийся в Неаполе Лопито де Вега, сын великого Лопе, уже произведенный к этому времени в первый офицерский чин. Мы рады были повидаться с этим отважным малым, хоть к радости нашей и примешивалась печаль его совсем недавнего вдовства: юная Лаура Москатель, настигнутая гнилой горячкой, умерла вскоре после свадьбы. Сын Испанского Феникса еще появится на страницах этой книги, так что речь о нем впереди.
Диего Алатристе вылез из кареты и недоверчиво огляделся. Он давно уж вменил себе в закон, святой и нерушимый, непременно определять, оказываясь в незнакомом или подозрительном месте, как выбираться из него в том случае, если события примут неблагоприятный оборот. Записка, приказывавшая ему следовать за подателем сего, человеком в черном, была подписана доном Эстебаном Эспинаром, командиром Неаполитанской бригады, и тон ее не предполагал возражений или, тем паче, ослушания, но более ничего не проясняла. И потому, прежде чем направиться к трехэтажному зданию, возвышавшемуся по правой стороне улицы Пьедигротта, почти у самого берега, капитан оглядел окрестности. Место было ему знакомо — испанцы часто устраивали в этом квартале свои празднества и пирушки. Здесь, у подножия Посиллипо, за купами деревьев имелось несколько славных трактиров; Торрета стояла на другой стороне, а церковь Санта-Мария — на этой, в конце улицы, рядом со входом в древнюю знаменитую пещеру, еще в античные времена давшую название этому месту. А в это время суток было оно почти безлюдно: несколько женщин с кувшинами возвращались от недальнего ручья, да под сине-белым полотняным навесом на углу улицы Сан-Антонио сидел холодный сапожник.
— Прошу вашу милость следовать за мной.
Почти все ставни в доме были затворены. Сдвоенное гулкое эхо шагов — слышнее, разумеется, стучали сапоги Алатристе — уходило, казалось, куда-то в бесконечность. Внутри было душно и полутемно; вдоль стен с облупившейся росписью — остатками былого великолепия — как попало стояла старая мебель. С первого этажа лестница вела в широкий и длинный коридор с дверями по обе стороны, а тот переходил в залитый солнцем зал. Это было единственное пригодное для жизни помещение — по стенам висели картины, каменные плиты пола покрывал восточный ковер с замысловатым орнаментом. Перед большим нерастопленным камином стояли четыре стула и заваленный книгами и бумагами письменный стол, а на нем — бронзовый пятисвечник, бутылка вина, два резных хрустальных бокала. У окна, за которым в отдалении высились башни Мерджеллины и колокольня собора Санта-Мария-дель-Парто, беседовали двое мужчин, окутанные столь ослепительным светом с улицы, что различить можно было только контуры их фигур.
— Разрешите, ваша светлость?
С этими словами спутник Алатристе остановился на пороге и снял шляпу. То же сделал и капитан, когда один из двоих силуэтов, вырисовывавшихся на сияющем фоне, повернулся, приблизился и предстал кабальеро средних лет приятной наружности, подчеркнутой нарядным костюмом. Лицо его было незнакомо Алатристе, от внимания которого не укрылось ни титулование, ни золотой эфес висевшей на бедре шпаги, ни изумрудные пуговицы на бархатном лиловом колете с вышитым на груди крестом ордена Калатравы. Курчавая голова была коротко острижена, усы и узкая остроконечная бородка уже сильно серебрились сединой. Заложив руки за спину, человек этот довольно продолжительное время стоял неподвижно и рассматривал вошедшего.
— Опаздываете, — произнес он наконец.
Сказано было брюзгливо и высокомерно. Подумав мгновение, Алатристе пожал плечами:
— Путь неблизкий.
— От порта?
— От берегов Греции. — И, не моргнув глазом в кратчайшей паузе, добавил: — Ваша светлость.
Тот сморщил лоб. Бросалось в глаза, что он не привык к такому тону, однако Алатристе до того не было ни малейшего дела. Отрекомендуйся, назови свое имя и звание, говорил он про себя, не разжимая губ, и я подмету перед тобой пол перьями шляпы. Я слишком устал и не собираюсь играть здесь в угадайки, вместо того чтобы сидеть на постоялом дворе в лохани с горячей водой да отскребать с себя соль и грязь. Что с того, что совершенно неведомый мне хмырь обратился к тебе «ваша светлость»: мне ничего это не говорит и никак меня не трогает.
— Нам донесли, что ваша галера ошвартовалась на рассвете, — резко заметил кабальеро.
Алатристе снова пожал плечами. Все это, возможно, его позабавило бы, если бы он не поглядывал время от времени на окутанную светом вторую неподвижную фигуру у окна. Этот человек хранил молчание, и оно начинало тревожить капитана. Пастухам — ужин, вспомнилось ему, а барашку — вертел. В этом случае барашком быть выпало ему.
— Солдат сходит на берег не когда вздумается, а когда прикажут.
Кабальеро взирал на него молча и критически. Алатристе чувствовал, что тот остановил взгляд на шрамах, пересекавших лицо и руки, на исцарапанной, в зазубринах и вмятинах, чашке его шпаги. И вслед за тем эта светлость — кто бы он ни был — очень медленно покачал головой. Медленно и задумчиво.
— Ну, вот он перед вами, — промолвил он наконец, полуобернувшись к человеку у окна.
Тот шевельнулся, шагнул вперед, и когда ослепляющий блеск соскользнул с его головы и плеч, открывая лицо, Алатристе узнал дона Франсиско де Кеведо.
— …Венеция, — завершил Кеведо.
Он говорил довольно долго, и никто его не перебивал. Кабальеро стоял молча, облокотившись о каминную доску в изящно-непринужденной позе: в одной руке — бокал вина, другая уперта в бок, на эфес шпаги. Он был явно чем-то недоволен и не спускал глаз с солдата, застывшего посреди зала.
— Есть вопросы?
Диего Алатристе слегка повернул к нему голову, продолжая раздумывать над только что услышанным:
— Есть. И много.
— Задавайте по одному.
Капитан покосился на дона Франсиско. Поэт кивнул со своим обычным дружелюбием, как будто лишь накануне в харчевне «У Турка» они усидели вдвоем бутыль «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас». Серьезный предмет разговора никак не отразился на его доброжелательности.
— А почему именно вы, дон Франсиско?
Улыбка стала заметней. За то время, что они с капитаном не виделись, у поэта прибавилось седины, явственней проступили следы усталости. Неудивительно, впрочем: он проделал долгий и трудный путь — из Мадрида в Картахену, а оттуда морем в Неаполь. Да и протекшие годы, как видно, не прошли ему даром. Как и всем нам.
— Потому что приехал сюда в пятнадцатый раз. Я ведь был близок с покойным доном Педро Тельесом Хироном, герцогом Осуной… И кое-что изучил здесь. Ну а благодаря моему теперешнему положению, при дворе вспомнили о моих былых заслугах и услугах. О моем опыте. О полезных связях. И когда возникла надобность решить деликатное дело, меня призвали. Дело важное и тайное.
Да уж, конечно, подумал Алатристе, как же иначе. Очень важное и очень тайное: как же при сей счастливой оказии не обратиться к посредству дона Франсиско? Все знали, в каких тесных и дружеских отношениях состоял поэт со злосчастным герцогом Осуной, будучи его советником и исполняя его дипломатические поручения, когда тот, вице-король Испании в Сицилии и потом в Неаполе, был острием испанского копья в Средиземноморье, неумолимым гонителем турок и венецианцев. Когда же герцог впал сначала в немилость, а потом в ничтожество — чему немало споспешествовали и завистники при дворе, и золото Серениссимы, — его опала рикошетом ударила и по Кеведо, которому не сразу удалось вернуть себе былое влияние; и снова в фавор он попал благодаря близости с окружением королевы Изабеллы и своему смертоносно-острому перу, в котором не менее остро нуждался сейчас граф-герцог Оливарес.
— Север Италии — это ключ, дорогой мой капитан, — продолжал тем временем Кеведо. — Ключ ко всему и для всех — для Испании, для Франции, Савойи, Венеции. Нам необходимо удерживать собственный и надежный путь, чтобы по суше перебрасывать войска из Ломбардии во Фландрию. Французов по-прежнему снедает зависть от того, что мы присутствуем в Милане. Савойе не дает покоя Монферрато, неизбывный предмет их алчности. Венецианцы разевают пасть на Фриули, мечтая оттяпать тамошние порты, ныне принадлежащие императору.
Он подошел к столу, где в прямоугольном пятне света из окна лежала среди бумаг карта Апеннинского полуострова. Поднял на нос очки, болтавшиеся на шнуре, продетом в петлю на черном колете, и пальцы его пробежались снизу вверх по сапогу между Адриатическим и Тирренским морями: на юге нашей короне принадлежали обширные владения в Сицилии и Неаполе, на севере — Милан, и это не считая острова Сардиния, прибрежных тосканских крепостей, области Финале в Лигурии и форта Фуэнтес в предгорье Альп. Как видите, весьма внушительный конгломерат земель собрался под нашим владычеством, и сопротивляться ему могли только три итальянских государства — Папская область, Савойя и Венеция.
— Венеция… Морская потаскуха, лицемерная и бесстыжая…
Палец дона Франсиско уперся в завиток, тянувшийся на севере полуострова от Адриатического залива до испанских владений Миланского герцогства. Поэт произносил слова отрывисто, будто сплевывал их, и Алатристе знал почему: ни для кого — а для Кеведо уж подавно — не было тайной, что несчастием своим герцог Осуна был обязан не только козням придворных завистников, но и казне Серениссимы.
— Республика захребетников, аристократия торгашей… — продолжал дон Франсиско. — Только и знает, что пакостит всем вокруг, и этим живет. С теми государями, которых боится, вступает в союз, чтобы потом исподтишка вернее погубить их. Победоносный мир чаще снискивает себе в войнах, куда втягивает своих друзей, чем в тех, что ведет с врагами. Ее послы шпионят и сеют смуту, ее золото подстрекает к мятежам и возмущениям. Ее подданные поклоняются только Мамоне и исповедуют религию корысти. Она позволяет открывать у себя школы, где проповедуют ересь Кальвина и Лютера. Армии она берет в аренду, побеждает не в сражениях, а в купле-продаже. Распутная девка, как я уже сказал, шлюха, которая телом своим платит тем, кто ее защищает, а в сутенерах держит французов и савояров. И так было всегда. Сразу после битвы при Лепанто, когда Рим, Испания и вся Европа свято блюли подписанные договоры, эта гнусная блудная лисица поспешила заключить тайный пакт с турками.
Дон Франсиско по обыкновению красноречив, но на этот раз как-то очень уж по-книжному, отметил капитан. Инвективы его казались несколько чрезмерны даже для такого давнего и убежденного врага Венеции, каков был его друг. Создавалось впечатление, будто он декламирует на память какие-то свои недавние опусы, написанные к вящему удовольствию графа-герцога. И Алатристе понял причину этого, покосившись на второго кабальеро, который по-прежнему стоял, опершись на камин, и внимал речам Кеведо с явным одобрением: поэт излагал официальную версию готовящихся событий. Оправдание завязывающейся интриге, которое впоследствии наверняка будет предано гласности. И капитан, с полным основанием могший считать себя как стреляным воробьем, так и пуганой вороной, ощутил холодок тревоги и спросил себя, какая же часть интриги — наверняка не самая легкая и не щедрее всего оплаченная — выпадет на его долю?
— Мерзостные веницейские республиканцы, — продолжал Кеведо, — устремляют все свои помыслы на Адриатику и называют залив своим. Рядясь в тогу защитников Италии и христианской веры, они твердят, что должны владеть этим морем ради того, чтобы очистить его от корсаров, а меж тем допускают плавать по нему в свое удовольствие безбожных еретиков-голландцев, нехристей-турок и басурман-мавров, то есть всех злейших врагов святой католической веры…
Он вдруг замолчал, словно исчерпав свои доводы. Наморщил чело, припоминая, не позабыл ли чего. Очки свалились с кончика носа и повисли на шнурке. Потом дон Франсиско взглянул на кабальеро у камина, наполнил второй бокал и выпил его единым духом, не отрываясь, как бы желая размочить ссохшиеся слова. Человек в лиловом колете отошел от камина, приблизился к столу и задумчиво воззрился на карту Италии. Рука его при этом была по-прежнему уперта в бедро, а игравшая на губах улыбка показалась Алатристе странноватой. Так улыбается банкомет, тасуя подмененную колоду, где червей, к примеру, больше, чем в тухлой туше.
— Ничего, — сказал он, — мы им дадим урок.
— Дадим окорот мерзавцам! — молодецки отрубил поэт и, прищелкнув языком, поставил пустой бокал на бумаги.
Стало быть, речь об этом, понял Алатристе и снова внутренне содрогнулся. Не первый год жил он на свете и теперь уже догадывался, какую кашу собираются здесь заваривать.
— Нечто вроде того заговора, что был девять лет назад? — отважился он задать вопрос и тотчас замер в бесстрастном ожидании.
Кабальеро скользнул по нему взглядом — поначалу надменным, а потом задумчивым. Но, вероятно все же, и он, и Кеведо сочли, что в подобных обстоятельствах подобная любознательность уместна. И заслуживает утоления.
— Да не было никакого заговора, — ответил он с вальяжным спокойствием. — Или, по крайней мере, все было не так, как болтают. Можете мне поверить — я, как и дон Франсиско, был в те дни рядом с герцогом Осуной… В восемнадцатом году венецианцы, встревоженные ропотом и брожением в своем наемном войске, состоявшем из всякого рода бродяг, авантюристов, ворья, корсаров и прочего сброда, уже готового взбунтоваться из-за того, что им не платили жалованья, решили, так сказать, опорожнить свои выгребные ямы. А как предлог использовать Испанию… Статочное ли дело, чтобы двое корсаров, один старый пьяница и еще кучка проходимцев без роду, без племени, без средств и возможностей могла устроить переворот и свалить республику?
Он замолчал, переведя взгляд на Кеведо, а потом — опять на Алатристе. Молчание затягивалось так, что капитан счел нужным наконец разверзнуть уста. Тем более что его собеседники явно ждали этого.
— Да-а, сомнительно, — сказал он.
Сказал не очень уверенно, но кабальеро, судя по всему, одобрил ответ. Полуобернулся к Кеведо, распушил бородку с таким видом, словно они оба сию минуту к вящему своему удовлетворению выбрались наконец из трясины на твердую почву. Представить дело как заговор, объяснил он уже более любезным тоном, было просто перлом венецианского хитроумия. Раз-раз — и разразился скандал — и не стало больше в Италии того триумвирата, который и поддерживал там цвета Кастилии: из Венеции исчез посол Бедмар, из Милана — маркиз де Вильяфранка, из Неаполя — герцог Осуна. Сего последнего мало того, что обесчестили и опозорили, но и отдали под суд, и в итоге он умер в заключении. После этого восторжествовала политика Совета Десяти: едва лишь Осуну удалили из Италии, Серениссима снюхалась с турками, упрочила дружеские связи с Савойей и Пьемонтом, снова разожгла войну в Вальтеллине[174], а два года назад сколотила Авиньонскую Лигу — этот противоестественный союз может объясняться только тем ужасом, который внушала Испания всем его членам. Папа римский, Франция, Англия, Дания, Голландия, Савойя и протестантские княжества Германии сплотились ради погибели католической монархии и падения Габсбургского дома.
— Испанский двор с опозданием понял, какую ошибку совершил, — продолжал вельможа. — Наш государь и император Фердинанд совсем уж было собрались двинуть в Венецию войска, но тут война во Фландрии и в Европе оттянула на себя наши силы. Начинать кампанию на севере Италии сейчас никак нельзя. Однако можно ведь и по-иному привести дела в порядок, сделать то, чего не сделали девять лет назад. Но только на этот раз — не понарошку. А взаправду.
Алатристе силился уразуметь сказанное. Более всего смущал доверительный тон, каким с ним говорили. Так, по-свойски, как к равному, обращаются к тому, с кем обтяпывают общее дело. Дон Франсиско и незнакомец сейчас смотрели на него, как два бульдога — на лакомую мозговую кость. Капитан и сам невольно сглотнул и подумал в сердцах, что его в очередной раз втравливают в какую-то гадостную историю.
— Второй заговор? — снова отважился он на вопрос.
Кабальеро воздел указательный перст — предостерегающе, но не сурово. И от этого сообщнического жеста капитану стало не по себе пуще прежнего.
— Я ведь вам сказал, что первого никогда и не было. Ловкий фортель венецианцев. Это они повсеместно распространяли россказни о заговоре. А теперь все будет по-настоящему.
— Я тут с какого боку?
Дон Франсиско де Кеведо с ласковой улыбкой — вполне искренней, можно не сомневаться, вполне — взял со стола пустой бокал, налил вина и протянул Диего Алатристе. Тот подержал его в руке и после краткой заминки смочил усы, не спуская при этом глаз с креста ордена Калатравы, блестевшего у незнакомца на левой стороне груди. То, что ему поднесли вина, пугало больше, чем беседа всухомятку.
И ему припомнилась старинная поговорка, утверждавшая, что солдат вино получит, когда его отдрючат. Уже или вот-вот.
— Царица небесная, Иньиго! Тебя и не узнать! Был дитя, а стал детина!
Я счастлив был снова увидеть дона Франсиско де Кеведо. Минуло уже полтора года со времени нашей последней встречи, когда мы распрощались с ним после достославной истории с желтым колетом, едва не стоившей жизни нашему государю на охоте в Эскориале.
— Хорош! Молод и хорош! Видный, статный, бравый! Не то что мы с вами, дорогой капитан… Мы-то помаленьку начинаем выглядеть на свои годы.
Это была его обычная ласковая шутливость. По счастью, воротилась прежняя наша близость. И мы отмечали встречу за ужином в остерии на Пиццофальконе, сидя в беседке, увитой засохшей лозой, под парусиновым навесом, защищавшим от буйного великолепия неаполитанского солнца: а подаваемое нам угощение — цукини с маслом и уксусом, жареные голуби, жаркое из козленка — очень щедро орошалось греческим и лакрима-кристи. Расстилавшийся перед нами вид поражал воображение — нестерпимо-синее море с белевшими там и сям парусами, темный, окутанный дымком склон отдаленного Везувия и простершийся у наших ног в предгорье волшебный Неаполь. Галеры и парусники в порту, слева — Кастильнуово и дворец вице-короля, за спиной — внушительная громада замка Сан-Эльмо, справа — побережье Чиайа с протяженной линией особняков и дворцов и прекрасным пляжем, который по дуге уходил к Мерджелине и зеленеющим вершинам Посиллипо.
— Я так полагаю, без Иньиго не обойдется.
Дон Франсиско произнес эти слова как бы между прочим — между двумя глотками вина, я хочу сказать, — но краем глаза наблюдая за капитаном Алатристе. Я заметил, что и тот бросил на меня короткий выжидательный взгляд. Потом откинулся на спинку стула — колет расстегнут, рубашка на груди распахнута — и уставился куда-то в синий горизонт, примерно в ту точку, где вдалеке смутно виднелся остров Капри.
— От него зависит, — сказал он.
О деле Кеведо рассказал бегло, в подробности не вдаваясь и не слишком отвлекаясь от голубей. Устроить под Рождество переворот в Венеции. Свести счеты с этими пожирателями печенки в луковом соусе, переменчивыми и неверными, как гулящие девки. Всякие мелочи он обговорит со мной и с капитаном попозже, в свое время. В том, разумеется, случае, если я, фигурально выражаясь, попрошу у банкомета карту, благо колода уже распечатана.
— От тебя зависит, — эхом отозвался Кеведо, глядя мне прямо в глаза.
Я пожал плечами. Жизнь рядом с капитаном Алатристе, Мадрид, Фландрия, Средиземноморье сделали меня таким, каков я был, — проворный и ловкий парень с крепкими руками и зорким глазом; научили не терять головы, когда приходит минута обнажить клинок; преподали высокое искусство умерщвления человека. Накопился у меня кое-какой опыт, и возраста я достиг подходящего, чтобы принимать решения.
— С капитаном, — воскликнул я, — хоть к черту на рога!
Прозвучало как залихватская похвальба какого-нибудь уличного задиры, а если бы я добавил что-то вроде «вот и весь мой сказ», то и совсем бы вышел волонтер, только что вступивший в службу и куражащийся за бутылкой. Но я к тому времени был уже не тот дерзкий и драчливый юнец, вспыльчивый, как порох, или, вернее, как истый баск, донельзя щепетильный во всем, что касается репутации и чести, и всегда готовый заявить об этом во всеуслышание; ибо хорошо известно, что избыток юного пыла часто возмещает ущерб, причиненный нехваткой благоразумия.
— Ну да, — заметил дон Франсиско, — тебе ведь не впервой.
И с мягкой насмешливостью улыбнулся моей по-львиному свирепой решимости. Я, впрочем, не обиделся нимало, ибо он тысячу раз доказывал свое безусловное и великодушное расположение ко мне. Капитан Алатристе же чуть округлил глаза, все так же неотрывно устремленные туда, где по синему пространству моря шла с востока галера — шла на веслах, убрав паруса, и потому издалека похожа была на сороконожку.
— Замысел в том, — сказал Кеведо, понизив голос, хотя мы были одни, — чтобы отправленные нами надежные люди малыми группами, скрытно, постепенно просачивались в город. Одни доберутся из Милана по суше, другие прибудут морем. Все должны быть готовы действовать в указанный день и час.
— Испанцы?
— Не только. Можно будет рассчитывать на далматинцев и немцев из числа наемных солдат венецианской службы… Их начальники получат недурные деньги за это. Будут там и подданные Серениссимы.
Дон Франсиско снова хлебнул лакрима-кристи, которого, к слову сказать, мы втроем оприходовали почти полторы асумбре[175]. И я отметил, что с годами поэт не меняет ни склонностей своих, ни привычек, оставшись таким же рьяным винопийцей, каким был в Мадриде. Дон Франсиско любил выпить — все равно, на радостях или с горя, — хотя, конечно, за капитаном Алатристе, у которого, казалось, не утроба, а губка, ему было не угнаться. В ту пору, впрочем, судьба благоприятствовала поэту, и повод был радостный, и зримой приметой того, что солнце выглянуло из-за туч и пришли тучные годы благоденствия и достатка, рядышком на стуле лежала аккуратно свернутая обновка — черный бархатный плащ с шелковыми отворотами. Недавняя кончина богатой тетки — доньи Маргариты Кеведо — вкупе с милостями графа-герцога Оливареса и ее величества королевы вознесли нашего поэта на вершину преуспеяния. На олимпе политическом и пиитическом пребывал он и раньше.
— Недели через две губернатор Милана, — продолжал дон Франсиско, — начнет размещать войска на границе с Венецией, с тем чтобы в случае надобности через Брешию, Верону и Падую двинуть их на помощь. Одновременно десять галер под австрийским флагом, взяв на борт испанскую пехоту — Неаполитанскую и Сицилийскую бригады, — перекроют выход в Адриатику под тем официальным предлогом, что направляются в какой-нибудь имперский порт.
— Декабрь — не лучшее время для галер, — возразил я.
— Для этих — годится. А для нашего дела любое время года подойдет.
— А чего вы ждете от нас?
— В свое время все узнаешь. — Дон Франсиско взглянул на моего хозяина, по-прежнему созерцавшего море. — Но вам, капитан, отводится важнейшая роль. Важнейшая и секретнейшая. Расскажу по дороге… Путешествие пройдет в два этапа — Рим и Милан. На первом я буду вас сопровождать, а потом передам в надежные руки и пожелаю удачи.
Капитан Алатристе, откинувшись на спинку стула, оставался все так же безучастен и неподвижен. От сияющего дня, от блеска воды под солнцем устремленные в неведомую даль глаза на посмуглевшем орлиноносом лице казались еще светлее, чем обычно, и приобрели прозрачно-зеленоватый оттенок.
— Вот не думал, дон Франсиско, что будете ворочать делами такого калибра.
Я сказал это задумчиво, не глядя на поэта. А тот улыбнулся и ответил, что и сам не предполагал ничего подобного, но ведь от теней прошлого никому не дано избавиться. Граф-герцог, хорошо осведомленный об итальянском прошлом Кеведо, потребовал сослужить ему эту службу и дал понять, что отказа не примет. Это было вполне в духе и стиле Оливареса, привыкшего решать все единым волевым усилием, а решения — осуществлять железной рукой. Кроме того, в заговоре состояли люди, которых дон Франсиско хорошо знал, — посол Испании в Риме был его близким приятелем, с губернатором Милана он с незапамятных времен водил тесную дружбу, а с той поры, когда состоял при герцоге Осуне, сохранил и бесценный архив, и полезные связи. А тот кабальеро, с которым мы видели его на Виа Пьедегрутта, — это ни больше ни меньше как дон Васкес де ла Корунья, маркиз де лос Марискалес, давний друг Кеведо и правая рука вице-короля Неаполя. Так что уклониться от предложения Оливареса не было решительно никакой возможности.
— Так что, — повторил Кеведо, — нынешнее мое положение при дворе обязывает. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, как сказал апостол Павел… Да, впрочем, я бы в любом случае не отказался. Покойный Осуна был мне другом, и я никогда не забуду, какую роль сыграла Венеция в его падении. Он не желал сносить заносчивость и наглость этих торгашей, не собирался смиряться ни с их упорным противодействием нашему присутствию в Адриатике, ни с тем, как мало у них веры и как много — бесстыдства… Мы с ними враги, и вот пришел час встретиться на узкой дорожке.
Капитан Алатристе оторвался наконец от созерцания пейзажа. Перевел глаза на свою шпагу, прислоненную к стулу, на котором лежали плащи дона Франсиско, его собственный и мой. Блестела под солнцем старая чашка, исцарапанная чужими клинками.
— Я покуда еще все же не знаю, какую роль вы отводите мне.
— В этой затее — несколько клавиш, и каждая будет нажата в свой черед. Вам, капитан, предназначена одна из них — и далеко не маловажная.
Алатристе понес было к губам стакан, но на полдороге придержал руку.
— Людей убивать, я так понимаю? И в немалом количестве?
Дон Франсиско едва ли не весело прижмурил глаз:
— Правильно понимаете. А также — жечь, громить, крушить и рушить. Отряд, который решено отдать вам под начало, будет взаимодействовать с другими. И каждый получит свою особую задачу.
Капитан слегка кивнул, выпил и налил еще.
— И что за люди пойдут со мной?
— Ну, первого добровольца вы только что слышали. — Поэт заговорщически подмигнул мне. — С вами, говорит, хоть в преисподнюю.
— Отбирать буду я сам?
— Да это необязательно, друг мой… Но, насколько я вас знаю, вам будет уютней и спокойней, если возьмете нескольких старых товарищей. Я уже уведомил об этом. И вы можете составить небольшой списочек — если хотите, разумеется. Вояк, лично известных вам и пользующихся вашим доверием. Как водится, тяжелых на руку и таких, кто язык будет держать на привязи, даже когда самого привяжут к кобыле… Людей, знающих, что клинок — это сталь, а молчание — золото.
Мы с капитаном переглянулись. Танцоры мы были опытные и умелые и, что называется, скользить и без мыла умели.
— А если что пойдет не так? В Венеции нас, испанцев, и так-то терпеть не могут, а после этого дела едва ли полюбят сильней…
— Все будет хорошо.
— Ну да, ну да… И все же хотелось бы знать: предусмотрен ли выход, вернее, более или менее надежный путь отхода?
— Думаю, да.
— А ничего посущественней ваших дум, дон Франсиско, предложить не можете?
— Всем вертит и распоряжается губернатор Милана. Подробности — его дело.
Хотя лицо капитана оставалось непроницаемо-бесстрастным, изменившееся выражение глаз все же выдало его мысли: не губернатору Милана придется тесно общаться с разъяренными гражданами Венеции, о которой доподлинно известно, что там шпионы и иностранные лазутчики имеют обыкновение умирать молча, без приговора суда, без шума — а просто — были и нет, только их и видели. Поняв ход его мыслей, дон Франсиско постарался внести некое успокоение:
— Я никогда бы не втравил вас в это предприятие, если бы считал его гибельным.
Я-то в этом не сомневался, но капитан, судя по его виду, моей уверенности не разделял. Жизнь научила его, что своекорыстие, необходимость или слепая приверженность каким-то идеям вполне способны запорошить глаза даже самым верным и преданным. И люди — даже самые порядочные — в конце концов видят лишь то, что хотят видеть.
— И заплатят, вероятно?
Поэт перевел дух. Говорить о деньгах было не в пример легче.
— Заплатят?! Еще бы! Можете не сомневаться! Восемьдесят эскудо в месяц — командирам и полсотни — рядовым бойцам. Не говоря уж о том, какие лестные строки будут вписаны в ваши аттестаты. Особенно это касается Иньиго. По окончании дела он непременно будет зачислен в корпус королевских курьеров и принят ко двору. Сама королева его отрекомендует.
Я видел, как при упоминании послужного списка у Алатристе встопорщился ус. Мой бывший хозяин предостаточно навидался, как мертвым грузом, ненужным бумажным хламом лежат они в сундучках отставных солдат, как трясут ими на папертях всей Испании бездомные, увечные воины. Однако же для меня, юнца годами, пусть и повидавшего всякие виды на своем очень недолгом веку и вдосталь повоевавшего, слова эти прозвучали совсем иначе. И приятно пощекотали мое самолюбие.
— Вы говорили обо мне с ее величеством? — с замиранием сердца спросил я.
— Разумеется, говорил. Если я в фаворе, не понимаю, отчего бы не распространить его и на моих друзей. Твоя давняя история с инквизицией и твои подвиги во Фландрии тронули сердце беарнезки[176] … Да, кстати. Раз уж я упомянул о сердце… У меня для тебя новости.
Он сделал паузу и улыбнулся — того и другого вполне хватило, чтобы у меня перехватило дыхание. Я уже довольно давно не получал писем из Новой Испании.
— Ходят слухи, что Луис де Алькесар сможет вернуть себе расположение короля. Он, судя по всему, сказочно разбогател на серебряных рудниках в Таско[177], а теперь, как человек ловкий и умелый, набивает мошну всякому, кто может пригодиться ему в Мадриде, включая и самого государя. Передают за верное, что Филипп, как всегда отчаянно нуждающийся в деньгах, намерен вернуть его из ссылки. Доброхотное даяние умягчает наказание.
Дон Франсиско снова замолчал, и на этот раз — молчал дольше, а потом улыбнулся ласково и чрезвычайно многозначительно:
— Так что в скором времени следует ожидать возвращения в Мадрид Алькесара и его племянницы, которую, без сомнения, вновь возьмут ко двору.
В мои года вроде бы уже не подобало вспыхивать зарей, да и жизнь моя, прежняя и нынешняя, отучила краснеть. Тем не менее я залился румянцем. И краем глаза заметил, что капитан Алатристе смотрит на меня с прежней невозмутимостью. «Фамилия Алькесар навлекает на нас несчастья», — сказал он мне однажды, по обыкновению спокойным и безразличным тоном, когда слова, казалось, приходят из дальней дали. И был прав. Из-за моей сумасшедшей любви к Анхелике мы с капитаном не раз оказывались на волосок от плахи или петли. И ни он, ни я этого не позабыли.
— И будет очень и очень недурно, — продолжал Кеведо, — если свежеиспеченный королевский курьер вступит в новую полосу своей жизни не с пустым карманом. Фрейлины ее величества — уж ты мне поверь — обходятся дорого.
И продекламировал с лукавым прищуром:
Купи ее любовь, скажу как другу. За побрякушки отдал Марс кольчугу, Меч променял на тряпки и конфеты. Коль в кошелек Юпитер превратится, То, чтобы дождь собрать весьма доходный, Охотно юбку задерет девица[178].— И это, достопочтенные мои сеньоры, возвращает нас к Венеции… Вообразите, что один из самых, если не самый, богатых городов мира отдается на поток и разграбление. И как там можно будет озолотиться.
Капитан меж тем положил обе руки на стол, справа и слева от кувшина с вином, и глядел на поэта задумчиво. Этими самыми руками он убивает, сказал я себе. Эти самые руки его кормят.
— Почему я? — спросил он.
Кеведо сделал неопределенное движение и взглянул вниз, по направлению к дворцу вице-короля. Как будто ответ крылся именно там.
— Я не могу сейчас раскрывать вам замысел во всех подробностях. Но повторяю: для исполнения той его части, что касается вас непосредственно, нужен человек с крепкой умелой рукой и в высшей степени надежный. Перебирая с графом-герцогом имена, мы разом, будто озарение нашло, назвали вас. Оливарес не позабыл вашего участия в той эскориальской истории. И того обещания, что вы дали ему в моем присутствии на аллее Прадо. Помните? Когда просили помочь Иньиго, схваченного инквизицией. «Он передо мной в долгу», — сказал Оливарес с этой памятной вам, должно быть, свирепой ухмылкой, пресекающей возражения… И — я здесь. И вы тоже.
Повисло молчание; дон Франсиско и капитан глядели в глаза друг другу и благодаря старой дружбе понимали друг друга без слов.
— Жаль… — со вздохом произнес наконец Алатристе. — В Неаполе мне было хорошо.
Речь свою он сопроводил легкой, немного усталой улыбкой. Я заметил, как дон Франсиско пожал плечами, показывая, что разделяет, не испытывая надобности облекать это в слова, мысли и чувства моего хозяина. Такие люди, как вы, капитан, говорил, казалось, этот жест, не вольны выбирать, где жить и где сражаться. Хотя порой, в виде особенной милости судьбы и в самом лучшем случае, им позволительно выбрать, где умереть.
— Венеция тоже хороша, — заметил он вслух.
— Зимой там дьявольски холодно.
Капитан глядел на пейзаж, и тень улыбки еще истаивала у него под усами. И я подумал, что ему в самом деле нелегко расставаться с этим городом, где некогда прошли лучшие годы юности и где все было по нраву и вкусу: в Неаполе жизнь определялась простыми и внятными правилами воинской дисциплины, а рядом были — Средиземное море и его берега, столь подходящие для доброй охоты, хорошее вино и надежные товарищи. И все так же не похоже на северные кампании с их траншеями, походами и переходами под дождем, с нескончаемо тянувшимися осадами, как на тревоги и ловушки опасного и двоесмысленного Мадрида, средоточия нашей буйной, бурной, противоречивой и несчастной отчизны, злой мачехи, которую Алатристе, ее наемный клинок, всегда покидал без сожалений. Печальной Испании, которую любишь только в разлуке с нею, вдали от нее, когда, стиснув зубы, ждешь вместе с безмолвными однополчанами неприятельской атаки, а над головой реет истрепанное непогодами и пулями старое знамя.
А вот мне с недавних пор приелся Неаполь. И не столько даже имя Анхелики де Алькесар грело мне душу, сколько будоражащее предвестие неминуемого. С вершины этого холма, за синим морем и высотами Посиллипо под итальянскими звездами, за берегами Адриатического залива провидел я новые приключения, схватки, пламень чистых чувств, мешки с золотом, ожидающие меня в легендарно богатом краю. И чтобы заполучить все это, довольно было всего лишь подчинить шаг своей жизни мерному рокоту полкового барабана, решиться — с тем же примерно чувством, как выбрасывают кости из стаканчика или прикупают карту. И мне ли, проведшему дерзновенно-отважную младость рядом с капитаном Алатристе, привыкать было к этому чувству? Новое приключение манило меня, влекло и прельщало, как блистающая золотом и изумрудами куртизанка. Венеция, повторял я с упоением. И это удивительное имя ласкало мне слух, распаляло воображение, как обольстительный сокровенный шепот красавицы.
II. Старые друзья
Вербовка много времени не заняла. Наведавшись несколько раз в казармы и переговорив кое с кем из однополчан, причем переговоры эти очень уместно орошались выдержанным вином в тавернах Чоррильо, мой хозяин набрал команду ушлых и дошлых, тертых и битых, в семи щелоках вываренных, все на свете видавших молодцев, которые все как один состояли на действительной службе, а потому получили особый трехмесячный отпуск с сохранением содержания. Условились, что часть отряда морем отправится в Геную, а оттуда — в Милан, погрузившись на корабль через три дня после того, как мы — Алатристе, дон Франсиско де Кеведо и ваш покорный слуга — направимся, по морю же, во Фьюмару-ди-Рома, переправимся через Тибр и окажемся в столице папского государства. Среди тех, кто входил в первый отряд, были и наши старинные знакомцы Себастьян Копонс, Гурриато-мавр и еще четверо однополчан, вкрутую, как говорится, сваренных, испытанных и неболтливых, с которыми Алатристе вместе служил на галерах ли, во Фландрии или где там еще на долгом военном веку сводила его с ними судьба. Один, кстати, участвовал и в бою при Искандероне: был он бискаец, и звали его, представьте, так: Хуан Зенаррузабейтиа. Двое — Мануэль Пимьента и Педро Хакета — были андалусцами, а Хорхе Куартанет — каталонцем. О каждом в должное время будет рассказано.
Что же касается нас троих, то пять лиг пути от Фьюмары до Рима проделали мы без приключений, если не считать одного происшествия, имевшего место, когда впереди уже почти показались стены Вечного города. В карете, запряженной четверкой мулов, поднялись мы на левый берег Тибра и покатили по дороге, проложенной еще древними римлянами. Ландшафт был приятен глазу, широкие кроны пиний умеряли зной долины Лацио, а по обочинам тут и там попадались приметы античной цивилизации — то живописные развалины, то арки или поваленные надгробные плиты. И вот, немного не доезжая церкви Сан-Паоло-Эстрамурос, наш экипаж вдруг остановился. Я дремал, откинув голову на жесткую спинку сиденья, и дон Франсиско, сложив руки на животе и похрапывая почище епископа, крепко спал рядом со мной. А вот капитан Алатристе бодрствовал, судя по тому, что когда карета остановилась и раздались голоса — кучера, почтальона и еще чьи-то незнакомые и очень громкие — а я открыл глаза, то наткнулся на предостерегающий взгляд моего бывшего хозяина, который прижал палец к губам, требуя молчания. Я прислушался к звукам снаружи — и убедился, что чужие голоса звучат еще громче, а возница и почтальон жалобно чему-то возражают.
— Бандиты, — прошептал капитан.
Богом клянусь, он улыбался — ну, или почти улыбался, — доставая из-под сиденья один из пары дорожных пистолетов, смазанных и заряженных. Дремота вмиг с меня слетела. Еще часу не прошло, как мы болтали с Кеведо о том, что на дорогах, ведущих в Рим — ну, не на всех, вопреки поговорке, но на больших, уж точно, — расплодилось неимоверное количество разбойников и грабителей, освобождающих путешественников от лишней клади. И подобно тому, как в нашей отчизне с ее несуразной географией, вывихнутой юстицией и переломанными нравами никогда не случалось недостатка в тех, кто добром или силой отнимал у проезжающих их достояние, так и итальянцы не желали в этом смысле отставать от собратьев по преступному промыслу: войны, мятежи, голод и бессовестность в изобилии поставляли злодеев, на все готовых, ничего не боявшихся и законов никаких — ни божеских, ни человеческих — не признававших. Не представляло собой исключения и государство, коим правил его святейшество папа Урбан VIII. Что же касается шайки, на которую посчастливилось нарваться нам, то, я полагаю, она пряталась в соседней сосновой роще или за арками разрушенного древнего акведука, проходившего в тех местах примерно в четверти лиги от дороги. По голосам я определил, что налетчиков четверо или пятеро. Один орал особенно громко, через каждые пять слов на манер припева уснащая речь свою безобразной бранью и беспрестанной божбой. Я подумал, что это, наверно, главарь.
— Какого дьявола?.. — заплетающимся со сна языком заворчал дон Франсиско, заерзав на сиденье.
По примеру капитана я жестом призвал его к молчанию. В этот миг в открытое окошко кареты просунулась косматая голова в узкополой остроконечной шляпе, увешанной образками, крестиками и ладанками на разноцветных ленточках. Дремучие заросли бороды и усов, черные глаза под медвежьими бровями. Ствол охотничьего карабина. Бандиту, желавшему узнать, кто сидит внутри кареты, и явно уверенному, что это мирные и насмерть перепуганные путешественники, судьба даровала еще одно мгновенье, чтобы он мог убедиться во всей пагубности своего заблуждения: да, не более мгновенья отделило черную дырку дула, внезапно уставившегося ему меж глаз, от выстрела, который разнес ему череп и отбросил назад. Одурев от грохота и едкого порохового дыма, забившего ноздри, я поспешил распахнуть дверцу кареты и выскочить наружу, меж тем как Алатристе уже выхватил второй пистолет, а окончательно проснувшийся дон Франсиско заворочался на сиденье, хлопотливо отыскивая свое оружие.
Помимо разбойника, валявшегося на земле безжизненной тушей, неотличимо схожих с ним наружностью злодеев оказалось еще четверо: двое, вооруженных длинными ножами, с плащами через плечо, держали под уздцы наших мулов, еще один с бердышом стоял у козел, а последний и сам держался чуть поодаль и держал на мушке своей укороченной аркебузы кучера с почтальоном. Выстрел застал их всех врасплох, а когда из обеих дверец кареты одновременно выпрыгнули мы с капитаном, они просто замерли в столбняке ошеломления, уподобившись восковым фигурам. Я бросился на бандита с бердышом, не упуская из виду и стрелка, но Алатристе, уложив его из второго пистолета, тотчас прикрыл мне фланг. К этому моменту я благодаря проворству — драгоценному дару моей младости — парировал удар, отбил в сторону бердыш и, проскользнув вдоль древка, всадил злодею клинок в самую печень. Вскрик его был почти не слышен за громовым ором дона Франсиско, который выбрался наконец из кареты и со шпагой в руке, с проклятьями на устах напал на последнего разбойника. Впрочем, исход дела был уже решен. Когда я выдернул кинжал, мой противник сперва упал на колени, а потом повалился ничком, припав к мощеной дороге. Капитан Алатристе серией яростных выпадов теснил своего. Четвертый злодей увидел, что до него пока никому нет дела, и, недолго думая, опрометью кинулся прочь.
— Vieni qua, sfachato! — орал ему вслед дон Франсиско на чистом тосканском диалекте. — Vieni, que ti tallo la grondalla!
В примерном переводе это значило, что наш поэт собирается перерезать негодяю глотку, если тот предоставит такую возможность. Разбойник, однако, ее не предоставил: помчался напрямки через поле и вскоре исчез среди сосен. Победа была полная: бандит, который первым сунулся в карету, и бандит с аркебузой лежали там, где их уложили, и готовились отдать душу тому, кто дал ее им когда-то; мой противник истекал кровью, хлеставшей из проделанной мною прорехи, и беспокоиться на его счет не приходилось, а своего капитан Алатристе притиснул к колесу кареты. И как раз в этот миг почти небрежным движением шпаги обезоружил и приставил острие к его горлу, явно собираясь нанести последний удар.
— Пощадите! — в ужасе вымолвил разбойник.
Он был далеко не первой молодости — сильно за тридцать, и на смуглом небритом лице лежала печать той же свирепости, что и у его дружков. В точности, как они — и в этом состояло едва ли не главное отличие итальянских душегубов от нашенских, — обвешан ладанками, медальонами, скапуляриями, распятиями, свисавшими с полей его шляпы, с воротника и петель его грязного полукафтанья. Казалось, что даже на расстоянии чувствовался исходивший от него ужас: сверху вниз, от паха к ляжкам по его штанам расползалось влажное пятно. Я ждал, что капитан со свойственной ему деловитой отчетливостью сейчас его прикончит: нажмет чуть сильнее — и аминь. Но Алатристе отчего-то медлил. Вглядывался в лицо злодея, будто что-то отыскивая в нем. Воспоминание, быть может. Образ или слово.
— Смилуйтесь, синьор! — снова взмолился злодей.
Я увидел, как мой бывший хозяин медленно покачал головой, словно отрицая что-то. Несчастный закрыл глаза, издал стон, полный бесконечной смертельной тоски, и откинул голову к колесу, сочтя, что — нет, не пощадят и не помилуют. Но я-то слишком хорошо знал капитана Алатристе, а потому знал и то, что он имел в виду другое. Нет, это не вопрос милосердия, будто говорил его жест. Совершенно нет. Я мог бы оказаться на твоем месте. А ты — на моем. Все дело в том, какие карты сдаст тебе судьба из своей засаленной колоды. И тогда, как пресытившийся убийствами лев, который заносит когтистую лапу не потому, что голоден, а по привычке, и вдруг останавливает ее, не нанеся рокового удара, Алатристе отвел острие шпаги от кадыка жертвы.
Рим, caput mundi, властелин мира, колыбель католичества, царь городов и, как аттестовал его дон Мигель де Сервантес, оказался уж таким Римом, что ах. Я был здесь во второй раз в жизни и снова с восхищенным изумлением смотрел на его дворцы и пышные сады, на часовни и колокольни его соборов, на древние постройки, на площади с прекрасными фонтанами, на мрамор и гранит, придающие городу апостола Петра и его наместников столь благородный облик. Мы вступили в его пределы во второй половине дня через Паолинские ворота, стоявшие вблизи от пирамидальной гробницы Цестия[179], и, покружив немного по улочкам, оказались перед еще не рухнувшими стенами величественного здания, которое древние римляне именовали Колизеем. И при виде его дон Франсиско не мог, разумеется, не прочесть, к вящему моему удовольствию:
О, пилигрим, ты ищешь в Риме Рим, Но Рима нет. Великий Рим — руина, Стал Авентин могилой Авентина И Палатин надгробием своим[180].Он явно гордился этими строками, хоть и продекламировал их немного небрежно и так, будто они сию минуту пришли ему в голову. Позабыв, вероятно, что не раз уж, воспламененный вином, читывал нам их раньше в таверне «У Турка». Капитан подмигнул мне, я изобразил на лице простодушное восхищение, а дон Франсиско, весьма польщенный и довольный действием, которое произвела его муза, потрепал меня по коленке и вновь принялся просвещать насчет того, что открывалось нам слева и справа и что было ему превосходно известно и по предыдущим его приездам в Рим, и из бесчисленных книг. Вскоре мы пересекли площадь Навона — и мне показалось, будто я вдруг очутился в родной Испании, потому что многое из того, что воздвигнуто было там при императоре Карле V, относилось к нашей нации, тем паче, что ко мне в карету из уст слуг, трактирщиков, уличных торговцев, разносчиков, солдат, женщин и прочих людей всякого вида, рода и сословия долетала знакомая речь, слегка приправленная и сдобренная итальянскими словечками и оборотами: именно на этом языке говорили в Италии мы, испанцы. Невдалеке были церковные школы, основанные испанцем Хосе де Каласансом, жившим некогда подле Сан-Панталеона и к тому времени признанным уже il piú grande catechista di Roma[181]. Здесь же, в соседнем дворце, исстари и до недавних пор, пока резиденция не переехала поближе к Тринита деи Монти, жили испанские послы. Здесь же в бесчисленных лавках выставлены были испанские книги и гравюры, а в восточной части площади вдобавок высились церковь и больница Сантьяго, называемые «испанскими» же, где равно пеклись как о спасении души наших соотечественников, так и об их телесном здравии.
Но утолялись там не только эти надобы. В соседнем квартале Поццо-Бьянко у церкви Санта-Мария-ин-Космедин располагались в неимоверном изобилии бордели, веселые дома и тому подобные заведения. И рядом, у самого престола Святого Петра, выставлено было на продажу великое множество тех, с позволения сказать, ворот, откуда весь народ, — и блудные девки числом, не говоря уж об уменье, никак не уступали монахам. Часто встречались приехавшие покорять Италию андалуски — пышно цветущие или худосочные, истинные уроженки Севильи и Кордовы или самозванки, выдававшие себя за оных: одни увязались за солдатами, других привезли сводники, третьи пустились в неблизкий путь на свой трах и дрызг, то есть, виноват, страх, риск и кошт, ибо ведь недаром говорится, что житье молодке — в римском околотке, а как увяла — богомолкой стала. Все эти отъявленные потаскухи прозывались не иначе как донья Эльвира Нуньес де Толедо или донья Луиза де Гусман-и-Мендоса: если помните, мне уже случалось упоминать, что ни разу в жизни не встретил я испанской проститутки, не исключая трепаных и траченых шкур самого последнего разбора и нижайшего пошиба, которая не кичилась бы голубой кровью рыцарей, пусть даже предки ее из рода в род не латы носили, а латки ставили и не копьем кололи, а подошвы приколачивали. В кварталах Регола и Сан-Анджело обосновались другие женщины, предки которых — так называемые марраны, или крещеные иудеи — в давние времена были изгнаны из Испании. И, как убедится в дальнейшем пытливый читатель, одна из них, хоть дело будет происходить в другом городе и при других обстоятельствах, да и сама она будет птицей другого полета, примет участие в этой истории.
Мы тем временем добрались до нашего постоялого двора под названием «Медведь», где, по словам превозносившего это заведение сеньора Кеведо, недурно кормили, еще лучше поили и давали сносный ночлег. Стоял «Медведь» на одноименной улочке, почти на самом берегу Тибра, и вообще цены бы ему не было, если бы не опасная близость — не дальше аркебузного выстрела — к печально знаменитой Торре-де-Нона, зловещей папской тюрьме с железными брусьями на фасаде, на которых принято было вешать приговоренных, причем трупы казненных долго еще оставались выставлены на всеобщее обозрение. Весь Рим, как и прочие области папского государства, находился в юрисдикции его святейшества Урбана VII, а тот правил в своих владениях как самодержавный монарх. Что же до нашей гостиницы, то существовала она уже очень много лет, занимала здание внушительного вида и считалась одной из лучших в городе. С постояльцев драли по тридцать эскудо в месяц, и мы с капитаном по скудости наших эскудо нипочем бы не смогли позволить себе проживанье там, если бы не дон Франсиско, который пребывал в Риме по служебной надобности с официальным, хоть и негласным, поручением, а потому жил на казенный счет. Отведенный нам номер был просторен и светел, и через арочное окно, украшенное романскими капителями, виднелся кусочек Тибра, замок Сан-Анджело и исполинский купол собора Святого Петра — славы и чуда всего христианского мира.
Услаждая зрение этим прекрасным видом, мы отлично поужинали, а потом еще лучше выспались на мягких кроватях с чистыми простынями. А наутро, чуть рассвело, капитан Алатристе и дон Франсиско отправились по каким-то важным делам, в суть которых меня не посвятили. Неожиданно предоставленный самому себе, я повозился немного со служанкой, чистившей мое платье — молоденькой, смазливой и довольно бесстыжей римлянкой, — потом взял свою украшенную вышивкой и перьями шляпу, плащ и шпагу и побрел по улице куда глаза глядят в рассуждении побродить без определенной цели по Вечному городу. По пути восхитился несколькими очень приятными личиками, припомнив кстати старое солдатское присловье: «Римское личико, фигурка веронская, поступь флорентийская, ученость болонская». День был зимний, холодный, но приятный: яркое солнце взошло над городом, отчего поголубела вода в фонтанах и укоротились тени церквей, колоколен и палаццо. Ноги сами принесли меня на берег реки, к мосту Сикста. Панорама оттуда открывалась волшебная — помимо стен и купола Ватикана, на другом берегу величественно возвышался круглый замок, в античные времена служивший мавзолеем императору Адриану. Как было не вспомнить, озирая его, что сто лет назад, 6 мая 1527 года, когда Рим подвергся разграблению, за стенами Сан-Анджело нашел себе убежище папа Клемент VII.
Мог ли я, солдат, не остановиться на мосту, вопрошая себя в изумлении, каким образом войску императора Карла — десяти тысячам германских ландскнехтов, шести тысячам испанцев, четырем тысячам итальянцев и валлонов — голодному, оборванному, изнуренному долгим переходом, без артиллерии — удалось взять приступом этот огромный город? Первыми по штурмовым лестницам на стены полезли наши ветераны-аркебузиры. Испанцы, с лестницами и кошками, с криком «Испания, Испания! Бей-убивай!» ударили через Бельведер и ворота Святого Духа после того, как уже на стене пал, сраженный пулей перед свой ротой, капитан Хуан де Авалос, и рубили и резали всех, кто попадался им под руку, сдавались они или нет, и самому Иисусу Христу не было бы пощады, попроси он ее, так что по мере их продвижения во всю ширь улицы Лунгара не оставалось за ними ни единой живой души — но сплошь мертвые тела. А на том месте, где стоял я нынче, другая рота испанской пехоты под началом капитана, чье имя история не сохранила, бешеным, безумным броском по открытому пространству, по голым камням моста Сикста, который насквозь простреливался папскими пушкарями и аркебузирами, под градом ядер и пуль прорвалась к самым воротам, и не вернулся ни один. Спору нет, испанцы, когда по окончании битвы город был отдан на поток и разграбление, не только не остались в стороне и не отставали от других победителей, но и превзошли их в насилиях, бесчинствах и лютой жестокости; но ведь правда и то, что не в пример другим солдатам — так же точно было и при взятии Павии и многих прочих городов, в случае отказа капитулировать предаваемых огню и мечу — мои соотечественники, свято чтившие обычай нашей нации держаться под огнем необыкновенно стойко и дисциплинированно, принимались за грабеж и бесчинства не прежде, чем бывала одержана полная победа и исполнен их долг перед капитанами и императором.
Ну а про ту печальную участь, что выпала Риму, отданному во власть победителям, понаписано очень много, и к этим книгам отсылаю я любознательного читателя. Он узнает — и лучше, чем я бы мог ему про это рассказать, — что всему виною были подлый нрав, злая воля и нечеловеческая жадность папы Клемента VII, решившегося сыграть на руку Франции, вступить в антииспанскую лигу и воспрепятствовать тому, чтобы на голове Карла, помимо императорского венца, утвердилась и корона неаполитанских королей. Узнает и о том, что в ужасные дни, последовавшие за взятием Рима, так же мало боялись Бога, как стыдились людей, разоряя церкви и святыни заодно с дворцами вельмож и домами простых горожан. Сорок тысяч убитых — таков был итог, и живые порою могли бы позавидовать павшим, ибо ярость победителей не щадила и соотечественников, включая и послов Испании и Португалии; и если германские ландскнехты, свирепые, беспощадные и упитые, как и положено немцам, вспоминали о своем лютеранстве — да, такие вот имперские парадоксы, — чтобы свести давние счеты с любым патером, епископом или кардиналом, до какого только могли дотянуться, то испанцы, к прискорбию, не уступали им в издевательствах, бесчинствах и зверстве, каких не видано было и в землях дикарей-карибов. Солдаты врывались в дома, убивали всякого, кто пытался сопротивляться, грабили и насиловали, обращали в рабство богатых людей, сотнями бесчестили монахинь, гоняли по улицам в шутовских процессиях священников и монахов. Всеобщая резня, бессчетные жертвы. В скором времени приняли во всем этом участие шайки дезертиров, разбойников и разнообразного отребья, которые, как стервятники, ища поживы, всегда следуют за войском, — и в городе на несколько месяцев воцарился сущий ад. Немцы и испанцы, оспаривая женщин и добычу, грызлись меж собой, как псы, и любую матрону или девицу, попавшую им в руки, насиловали, проигрывали в кости, обращали в проститутку или наложницу. А потом, пресытившись, выбрасывали из казарм на потеху и поругание вышеуказанному сброду, кружившему там же, и в конце концов — на погибель от рук этой мрази. Хорошо передает обстановку романсеро, сложенный в то время о взятии Рима:
По семи холмам несется Вопль горестный и стон: Дочерей лишают девства, Сыновей ведут в полон.Ну а я, знающий, какие бесчисленные беды обрушились на город сто лет назад, не переставал дивиться, что жители его, узнавая во мне испанца, не кривились злобно, не плевали в лицо, не набрасывались с кулаками. И это лишний раз убедительнейшим образом доказывало, что человеку свойственно забывать великие горести и стараться совершенно изгладить их из памяти. Иные видят корень этого в доктрине христианского всепрощения, но я, солдат по ремеслу и по обстоятельствам, то есть тот, кому на протяжении долгой и изнурительной жизни чаще случалось быть палачом, нежели жертвой, считаю, что так показывает себя склонность человека примиряться с действительностью. И проявляется здесь инстинкт выживания, переплетенный с сиюминутными надобностями и с интересом к будущему, позволяющий вслед за Сенекой сказать, что забвение обиды есть лучшее отмщение. Впрочем, иные — и мы с капитаном Алатристе в их числе — с этим не согласятся и заявят, что есть способ отомстить и получше, а именно: сунуть обидчику в кишки шесть дюймов хорошей толедской стали.
Стоя в приемной дворца Мональдески, Диего Алатристе видел в открытое окно церковь Тринита-деи-Монти на крутом склоне, поросшем сорняками и заваленном мусором. По всему дому стучали молотки, перекрикивались рабочие. Во дворце, номинально считавшемся резиденцией испанского посла в Риме, кипела работа. Везде стояли козлы, сновали маляры и штукатуры, и широкая лестница из камня и дерева, по которой капитан и дон Франсиско поднялись на второй этаж, гудела и скрипела под ногами. На самом деле, пояснил Кеведо, посол бывает здесь лишь изредка, потому что проводит почти все время на великолепной Вилле Медичи, расположенной на горе, за церковью Тринита и за Пинчо. Дворец Мональдески, который уже стали называть «Палаццо ди Спанья», короне не принадлежит: он взят в аренду на то время, пока не будет определен его статус. Граф-герцог Оливарес — человек, родившийся в Риме, где его отец был послом, — мечтал превратить это шестиэтажное величественное и очень удачно расположенное здание в цитадель и средоточие испанской дипломатии. И попутно — насолить кардиналу Ришелье, тоже имевшему виды на палаццо.
Алатристе был с непокрытой головой — шляпу, плащ и портупею со шпагой и кинжалом он отдал слуге. По настоятельной просьбе дона Франсиско, собираясь сюда, он тщательно вычистил свои солдатские сапоги, надел чистую сорочку с валлонским воротником и, как мог, привел в относительно божеский вид платье — собранные под коленями полотняные штаны и замшевый колет с костяными пуговицами. В одном из больших зеркал на стене мельком оглядел себя — сухощавого, жилистого, среднего роста, по обыкновению коротко стриженного, с густыми усами, с внимательными глазами, меняющими цвет, как морская вода. Со шрамами на щеках, на лбу, на руках. Вы из тех людей, капитан, ласково улыбаясь, сказал ему дон Франсиско, покуда они завтракали в остерии кашей и дынным вареньем, которые вживе являют то, что изображают обычно на гравюрах.
Глаза Алатристе задержались на большой картине: это было батальное полотно, где в немыслимом ракурсе и с нарушенной перспективой на фоне зимнего пейзажа, то есть — на дальнем плане, представлен был осажденный город. На среднем плане тянулись оборонительные линии, траншеи и войска, идущие в атаку, а на переднем — справа и слева — в сопровождении тощих верных псов, под знаменем с андреевским крестом шли на приступ солдаты. Оборванные, обтрепанные, почти в лохмотьях, в бесформенных шляпах и продранных дырявых плащах; однако внимательный наблюдатель, знающий, что внешность обманчива, отметил бы, как умело несет это свирепое воинство оружие — пики, шпаги, аркебузы — и в каком неукоснительно строгом порядке держит строй, уходящий к самым траншеям. Алатристе, как ни старался, не мог узнать место действия. А ведь в свое время и сам мог быть под стенами осажденного города. Хальста, Амьена, Бомеля? Остенде, или Берг-оп-Зоома, или Юлиха? Или Бреды? За тридцать-то лет столько было этих осад и штурмов, что в его памяти все воюющие города стали неотличимы один от другого. Тем более что уж ему-то никогда не доводилось смотреть на битву так вот, сверху, издали, с птичьего полета — это больше подобает полководцам, которые на переднем плане полотен, написанных, чтобы увековечить их славу и блеск, при полном параде, красуясь верхом на вздыбленных скакунах, бестрепетно указывают жезлом на врага. Нет, в воспоминаниях капитана Алатристе неизменно скуден был пейзаж, и куц обзор, и видел он это все вплотную, и точка его зрения не поднималась выше бруствера: какая там перспектива в грязи и сырости траншей, в голоде, холоде и вечном недосыпе, в шмыгающих под ногами крысах, в клопах, вшах и блохах, которыми кишит одеяло, в дожде, под которым безнадежно мокнут часовые, в кровопролитных атаках, в резне нос к носу и пальбе в упор? Служба такая. Такое уж ремесло у верной пехоты его католического величества, воюющей с целым светом, измытаренной, плохо оплачиваемой, ненасытно-алчной до трофеев и добычи, склонной иной раз взбунтоваться, но под неприятельским огнем — неколебимо стойкой, а в рукопашной — беспощадно мстительной. Даже в лохмотьях неизменно остававшейся горделивой и грозной.
Бесшумно, не скрипнув смазанными петлями, отворилась дверь. Диего Алатристе заметил это, когда она уже была открыта, и, обернувшись, увидел, что с порога смежной комнаты, обставленной дорогой мебелью и устланной коврами, смотрят на него три человека. Один из них был дон Франсиско де Кеведо. Другой — высокий, осанистый, одетый в зеленый атлас, затканный серебром, с золотой цепью на шее. Третий — длинноволосый и усатый, с клочком волос под нижней губой — был весь в черном, и однотонность костюма нарушали только белый накрахмаленный воротник сорочки и крест ордена Сантьяго, вышитый красным на груди слева. Все трое продолжали молча рассматривать Алатристе. И, почувствовав себя неловко от этих пристальных взглядов, сделал легкий почтительный поклон, ожидая, что Кеведо подаст какой-нибудь знак, но поэт оставался бесстрастен и смотрел точно так же, как остальные двое, и лишь спустя минуту чуть повернул голову к зеленоатласному и очень тихо произнес несколько слов. Тот кивнул, не сводя глаз с капитана. Алатристе по наружности и осанке догадался, что это, наверное, дон Иньиго Велес де Гевара, граф Оньяте, посол Испании в Риме, по словам Кеведо — приближенный короля и ставленник Оливареса. Кто такой кабальеро в черном, осталось неизвестным.
Прошло еще полминуты, и вельможа с золотой цепью дважды кивнул, как бы давая понять, что удовлетворен. Длинноволосый закрыл дверь, и Диего Алатристе вновь остался в одиночестве. Звякнул где-то колокольчик, и вскоре показавшийся из другой двери слуга повел его вниз по лестнице. Наконец капитан очутился в комнате с выбеленными голыми стенами, где кроме стола и четырех стульев стояла железная печка с трубой до потолка, а в зарешеченное окно виднелась площадь с Палаццо ди Пропаганда Фиде[182], на который указал капитану дон Франсиско, когда они вышли из кареты, доставившей их с улицы Орсо. Алатристе еще смотрел в окно, гадая, за каким дьяволом он тут торчит и чего дожидается, когда за спиной у него отворилась дверь. И, еще не успев обернуться и взглянуть на вошедшего, услышал музыкально высвистанную руладу. От столь знакомого ему зловещего «тирури-та-та» по коже побежали мурашки. Капитан повернул голову так резко, напряженно и настороженно, словно сам сатана тронул его сейчас за плечо.
— Мне это по вкусу, — промолвил Гуальтерио Малатеста.
Он был, как всегда, в черном с ног до головы. Без шляпы, без плаща. Зато с издевательской усмешкой, зазмеившейся по губам при виде того, как рука Алатристе инстинктивно дернулась к бедру схватиться за шпагу, которой при нем не было. Итальянец, казалось, наслаждался его удивлением, но сам удивлен не был. Мрачные, твердые, как полированные агаты, глаза — правый чуть косил из-за шрама, задевшего уголок верхнего века — искрились прежним блеском, стальным и опасным. Но капитан с облегчением отметил, что и Малатеста тоже безоружен. Хотя наверняка припас что-нибудь за отворотом ботфорта, так же, как и сам Алатристе спрятал в сапоге неразлучный обвалочный нож — короткий, с желтой роговой рукоятью.
— В самом деле, по вкусу, — повторил Малатеста.
Он еще больше высох и похудел. Заметно постарел. Жизнь, судя по всему, обходилась с ним в прошедшие годы не очень-то ласково. И следы этого обхождения были налицо — на лице. Еще сильнее ввалились побитые оспой щеки, под глазами залегли круги, а в углах рта — морщины, которых Алатристе раньше не помнил. Прочертили их, надо понимать, недавно перенесенные страдания. Седые нити проглядывали в усах, остававшихся, впрочем, такими же тонкими и тщательно выстриженными, седая щетина пробилась на подбородке. Капитан пришел к умозаключению, что досталось итальянцу за минувшие полтора года крепко, а пришлось несладко. В последний раз они виделись дождливым утром под Эскориалом, когда королевские гвардейцы увозили закованного в цепи итальянца по дороге, которая, скорей всего, вела в камеру пыток и на эшафот.
— Срань Господня, — сказал Алатристе спокойно.
Малатеста обратил к нему взор внимательный и чуть задумчивый. Словно богохульство старинного недруга заключало в себе смысл, с которым он был согласен.
— Именно так, — сказал он.
После этого оба замолчали, оглядывая комнату, куда их привели. Точно так же пять лет назад произошло их знакомство. Тогда, в приемной какого-то заброшенного мадридского дома неподалеку от Приюта Духов, впервые оказались лицом к лицу два эспадачина, ожидавшие, что им предложат какую-то нетрудную работу. На поверку все вышло совсем не так.
— Что ты здесь делаешь? — наконец нарушил молчание Алатристе.
— В испанском посольстве?
— В Италии.
Изжелта-зеленоватое лицо наемного убийцы пересекла белая полоска улыбки. И обнаружила щербину — два резца были сломаны почти пополам. Алатристе же запомнился сплошной ряд белых зубов.
— То же, что и ты. Жду заказа. Похоже, это наша с тобой судьба, сеньор капитан. По какой-то забавной причине мы никак не можем отделаться друг от друга.
Алатристе смотрел на него, не веря своим ушам и не в силах скрыть изумления:
— Работать вместе? Мне — с тобой?
— Похоже на то. Так мне сказали, по крайней мере.
— О черт… Они, должно быть, спятили.
— Да нет, пожалуй… — Итальянец показал пальцем на не стянутую ремнем поясницу капитана. — Иначе не разоружили бы тебя, как и меня.
После этого оба замолчали надолго. С площади доносились грохот колес и голоса торговцев, зазывавших покупателей, а в доме по-прежнему стучали молотки и перекликались каменщики.
— Я думал, ты давно покойник, — сказал наконец Алатристе.
Он смотрел на итальянца с удивлением и любопытством. Как же, черт его дери, он умудрился выпутаться? Взят с поличным, на месте преступления — и какого преступления!.. неудавшейся, слава богу, попытки цареубийства, покушения на священную особу могущественнейшего монарха мира. И вот стоит здесь как ни в чем не бывало, а бывало такое, что вспомнить жутко. Жив-здоров, цел и невредим и не в кандалах, но с этой своей опасной ухмылочкой, все говорящей без слов. Если у Гуальтерио Малатесты, как у кота, семь жизней, хотелось бы знать, сколько он уже истратил?
— Было дело. Одной ногой стоял в могиле. Но — выбрался.
— Быть не может! Шаг, на который ты решился тогда, неминуемо должен был стоить тебе головы.
— Я и был на волосок от плахи. А перед тем подвергся более чем неприятным — уж ты мне поверь — процедурам, так скажем…
Он помолчал в злобной задумчивости:
— Никому не пожелаю… Впрочем, нет. Тебе бы пожелал.
Теперь он шевельнулся. Шагнул в сторону, перенеся тяжесть тела с одной ноги на другую. Только и всего, но Диего Алатристе был начеку и в чутком ожидании. Слишком хорошо он знал Малатесту, чтобы не опасаться и самого безобидного движения итальянца, стремительного и смертоносного, как змея.
— Меня свежевали, как кабана, подвешенного на крюк, — продолжал тот. — Терзали и мучили сутками, неделями и месяцами напролет… Но, как ни странно, дыба с кобылой меня и спасли. Кое-что из того, что я рассказал — ибо уверяю тебя, умолчать мне удалось мало о чем, — привлекло внимание людей, которые мною занимались.
Он вдруг замолчал, стал очень серьезен и уставился в окно, явно не видя его. Или видя одну лишь решетку. Алатристе не без растерянности снова отметил, как преобразился итальянец за то время, что они не виделись. Краткий рассказ о своих злоключениях он вел тихим, тусклым голосом. Будто был погружен в себя, вернее — в пучины пережитого некогда ужаса. Никогда прежде Алатристе не слышал у него такого тона.
— Не верю, — сказал он, взяв себя в руки. — Никто в твоем положении…
Его прервал взрыв хохота — прежнего, хорошо знакомого. Сухого и жесткого, как раньше. Как всегда. Больше похожего на треск или скрип.
— …не смог бы спастись, хочешь сказать? Ну а я вот смог, как видишь.
Малатеста отвел глаза от окна и опять уставил на капитана невозмутимо-уверенный и жестокий взгляд.
— Не сочти за неучтивость, но я не стану рассказывать, что да как там было… Мне велено онеметь. Тебе довольно знать вот что: сочли, что живой я окажусь полезнее, чем дохлый. И что доходней будет держать меня на воле, а не в цепях на галере. Ну и вот, сеньор капитан, я перед тобой. И у тебя в товарищах.
День сюрпризов, подумал Алатристе. И, несмотря на нелепость происходящего, едва сдержался, чтобы в свою очередь не расхохотаться.
— Иными словами, мы отправимся в путь вместе?
— Вот этого не знаю. Но когда прибудем к месту назначения — вместе или порознь, — заниматься будем одним делом.
— А как же наше с тобой дело? Счет-то не закрыт.
Итальянец бессознательно поднял руку к шраму, чуть оттягивавшему в сторону правое веко, отчего глаз немного косил. Это была память об ударе, полученном от Алатристе в устье Гвадалквивира, во время ночного боя на «Никлаасбергене». И слегка прикоснулся к давно зарубцевавшейся ране кончиками пальцев, словно она все еще болела.
— Это ты мне говоришь? Мне? Да моя бы воля — я бы сию минуту свел с тобой счеты… Где-нибудь в тихом месте — и на чем скажешь: на шпагах, кинжалах, ножах, аркебузах, пехотных копьях… да хоть на мортирах. Но кто платит, тот и заказывает музыку, сам знаешь. А я из этого дела извлеку не только то, что мне причитается, но и то, что с меня не взыщут.
— Ты, выходит, особо ценная персона.
Малатеста крепко выругался по-итальянски и добавил:
— Можешь за эти слова счесть меня фанфароном, но это — чистая правда.
Он подошел поближе, понизил голос. Улыбаясь так, словно они с Диего Алатристе были всю жизнь необыкновенно близки. Да ведь в определенном смысле, сказал себе капитан, так оно и есть. И сам удивился, до чего же это точно. Есть ли кто ближе заклятого, смертельного врага?
— Я лично знаю людей, которые будут всем заправлять там, куда мы отправляемся. Они, что называется, удобно расположены для дела, которым мы займемся. Мы, уроженцы Палермо, сам знаешь, везде как дома и всюду находим своих.
Он нагловато рассмеялся. Оттого, что итальянец придвинулся вплотную, Алатристе ощущал особый, очень хорошо знакомый, въевшийся и неистребимый запах ружейного масла и насаленной кожи, который исходил и от него самого. Запах профессионального вояки. Запах, заставивший его вспомнить про нож за отворотом правого ботфорта. Словно угадывая его мысли или намерения, итальянец медленно отступил.
— Так что, сеньор капитан, личные счеты давай-ка мы с тобой слегка отложим.
Алатристе двумя пальцами погладил усы. Он знал, что слово «отложим» ничего не гарантирует и что, если хочет выжить, надо почаще оглядываться. Для Гуальтерио Малатесты всаженный под лопатку нож послужит острой приправой к любой договоренности.
— Отложим? Пусть та потаскуха, что тебя снесла, яйца откладывает, — ответил он твердо и спокойно. — Ты предатель и негодяй.
Малатеста неторопливо повернул и склонил к нему голову, шутовски изображая, что малость глуховат. Потом оглядел капитановы сапоги — угадывая или вспоминая, что там может скрываться за голенищем. И наконец обвел взглядом комнату из конца в конец — голые стены, железную печку, — словно сомневаясь, что они в ней только вдвоем.
— Полноте, капитан Алатристе. Не раз и не два я тебе говорил: мы с тобой одной веревочкой связаны… Впрочем, неважно. Так или иначе, у тебя будет случай повторить мне это в более подходящих обстоятельствах. Как я уже сказал, сейчас я не вполне распоряжаюсь тем, что у меня на плечах. Но клянусь, когда сделаем дело, непременно встретимся и настругаем друг друга ломтиками сообразно твоей мечте и моему желанию. А пока объявляется перемирие.
Он протянул руку — осторожно, примирительно. Диего Алатристе мгновение смотрел на нее, прежде чем демонстративно отвернуться. И от его маневра на рябоватом лице наемника вновь заиграла улыбка.
— Как там поживает этот паренек, Иньиго Бальбоа? — Итальянец оглядел свою повисшую в пустоте руку, словно пытаясь уразуметь, чем же она не понравилась собеседнику. — Говорят, он тоже в Неаполе. Совсем, должно быть, взрослый стал… Смелый и умелый. Я помню, как он дрался во Фреснеде и как удержал тебя, когда ты уже — по глазам было видно — собирался меня прирезать. Черт возьми, если бы не он, мы бы сейчас не разговаривали…
Теперь черед горько улыбнуться пришел капитану.
— Да уж можешь не сомневаться. Приколол бы, как кабанчика.
— А я и не сомневаюсь. Хотя, когда вспоминаю, чего мне стоил этот год, не знаю, благодарить ли мальчугана… — Он чиркнул себя пальцем по кадыку. — Один хороший удар избавил бы меня от больших тягот…
Произнеся это, он стал с терпеливо-кротким видом ждать ответа. И Алатристе наконец пожал плечами:
— Иньиго отправляется с нами. Он в отряде.
— Да что ты говоришь?.. Жизнью своей увлекательной клянусь, — снова раздался скрипучий смех, — это просто замечательно: столько старых друзей встречается вновь!
В тот же вечер, славно отужинав в траттории на Кампо деи Фьоре, где было воздано должное тибрской рыбе, изжаренной особым образом, и зайчатине с вермишелью по-сицилийски, капитан Алатристе и ваш покорный слуга распрощались с доном Франсиско. По его словам, поручение графа-герцога Оливареса было исполнено как нельзя лучше. Исчерпывающий отчет обо всех его давних дружеских связях, коды к зашифрованной переписке, которую в свое время вел с агентами герцога Осуны в Венеции, все, что знал и помнил о своей службе при вице-короле Неаполя, — все это, черным по белому изложенное, было передано в собственные руки испанского посла и его шпионов, призванных довести дело до победного конца. Так что дон Франсиско со спокойной душой возвращался в Мадрид. Двойной долг — перед покойным Осуной и живым Оливаресом — исполнен, оставаться в Италии больше незачем, и он может теперь в отчизне заняться собственными делами — трудами, стихами и книгами. И попутно воспользоваться теми выгодами, которые его видная и блестяще сыгранная роль во всем этом могла принести ему при дворе.
— Никто не знает, сколько продлится фавор, — заключил он. — И потому, покуда звезды мне благоприятствуют, надо успеть обмакнуть корочку в подливку… В Испании, друзья мои, взобраться на вершину успеха почти всегда значит вскоре сверзиться вниз:
Остановись, коль путь наверх идет, Спустись, коль добрался ты до вершины; Твой путь наверх — извилистый и длинный, Кратчайший — тот, что вниз ведет с высот[183].Он прочитал эти строки, достойные философических откровений Сенеки, несколько приподнятым тоном. Вслед за тем вылил из бутылки в стакан последние капли мальвазии, уплатил по счету серебром — для прощального ужина он назаказывал всего самого дорогого — и, завернувшись в плащи, мы вышли на широкую эспланаду под круглую римскую луну, заливавшую высокую стройную колокольню Апаркаты столь ярким серебристым светом, что можно даже было разглядеть циферблат часов. В такое время тут тихо и покойно, сказал дон Франсиско, нет этой оравы ротозеев, зевак, разного рода шарлатанов, которые днем роятся вокруг лотков и палаток. Времени года вопреки вечер был хорош, так что шли мы неспешным шагом, приятно беседуя и рассеивая винные пары. Поэт не обращал внимания на свою хромоту, обычно донимавшую его, как если бы сладостное сознание того, что он — в Риме, заставило позабыть о ней, а выпитое, клоня долу, помогало не заваливаться назад и сохранять равновесие. Несколько больше обычного отяжелел он оттого, что сегодня налегал на мальвазию, сильно ударявшую в голову: по мнению Кеведо, местному, римскому вину отпущено не свыше года жизни, так что если уж минул сентябрь, его в рот не возьмешь, даже томясь в узилищах Тетуана, в плену у алжирских пиратов. Капитан Алатристе же, хоть и усидел, глазом не моргнув, не менее асумбре, был, что называется, ни в одном глазу: шел твердо, глядел ясно, ни ноги, ни язык у него не заплетались. Я же, по части выпить-закусить несколько переусердствовав на дармовщинку, что, как известно, просто так не проходит, малость окосел и был из нас троих самый хмельной.
Прежде чем свернуть налево к площади Парадизо, получившей прозвание благодаря знаменитой гостинице, там стоявшей, дон Франсиско обернулся ко мне и обратил мое внимание, что здесь, на Кампо деи Фьори, на том самом месте, где теперь фонтан, двадцать семь лет назад был сожжен на костре доминиканец Джордано Бруно, выданный папе венецианской инквизицией, — и об этом мутном, как выразился Кеведо, персонаже не должно было сожалеть ни одному испанцу, ибо он при жизни зарекомендовал себя упорным и последовательным врагом католической веры и монархии как таковой и длительное время был английским шпионом, внедренным в качестве капеллана во французское посольство в Лондоне. Несмотря на такие доводы, от поведанной истории дрожь проняла меня до самого нутра, потому что всего несколько лет назад в Мадриде я и сам едва не изжарился по милости свирепого падре Боканегра. А чудесным спасением своим был обязан прежде всего бесстрашию и хорошему отношению того же дона Франсиско, не побоявшегося ввязаться в опасную авантюру.
— Я вам более не нужен, — заключил Кеведо, когда мы пошли дальше. — Все идет, как было предначертано: карета с паспортами и деньгами будет ждать завтра утром в час «ангелюса» у ворот Популо и доставит вас в Милан. При карете будет, само собой, кучер и некий… гм… слуга, так скажем. Мне гарантировали, что первый — человек абсолютно надежный. А второй вообще служит в нашем посольстве… В столице Ломбардии получите дальнейшие инструкции и проследуете в Венецию.
— А почему таким кружным путем? — спросил я, все еще не вполне уверенно ворочая языком.
— Милан, наш основной плацдарм в Италии, расположен вблизи Венеции. Именно поэтому губернатор дон Гонсало Фернандес де Кордова и назначен руководить переворотом. Он и сообщит каждому предметно и подробно, кому что надлежит делать.
— А Гуальтерио Малатеста?
И тут заметил, как дон Франсиско покосился на капитана Алатристе. Тот, по своему обыкновению, за ужином был крайне скуп на слова. И сейчас шел молча, ступал, как я уже отметил, твердо, невзирая на выпитое, кутаясь в свой бурый грубошерстный плащ и надвинув широкополую шляпу так, что лицо оставалось в тени.
— Я же в подробности не посвящен, — продолжал поэт. — Знаю только — во всей нашей затее он фигура ключевая и потому окажется в Венеции непременно. А как именно — мне невдомек.
Мы пересекли площадь Парадизо, где двумя факелами освещен был вход в знаменитую гостиницу. В конце короткой улицы четко выделялся против серебристого ночного света исполинский купол собора, который дон Франсиско назвал Сан-Андреа-делла-Валле. Второй по величине после собора Святого Петра. Я взирал на него в восхищенном ошеломлении. За год до этого, когда навигация прекратилась, я уже побывал в Вечном городе, но разве можно сравнить это с нынешней прогулкой — после веселого ужина, да в обществе Кеведо, который прочел о нем гору книг и знал тут каждый камень. Тысячелетний прекрасный Рим поражал воображение, превосходил всякие ожидания. Повсюду на фасадах виднелись надписи на латыни: «Меня построил такой-то император или папа». Люди, правившие здесь на протяжении веков, завещали его грядущим поколениям в сознании собственного своего величия и величия того, что представляли. И я с невольной завистью спросил себя: а что останется от нас, испанцев, тратящих золото и серебро Индий на бесконечные войны вдали от своих границ, на корриды, на празднества и охоты королей и грандов? Что станется с нашей империей, разъедаемой гордыней, нищетой и мздоимством? И припомнил Мадрид — заурядный, ничем не замечательный город, который, хоть там имелись всего лишь единственная площадь Пласа Майор, недостроенный королевский дворец Буэн Ретиро и четыре фонтана, иные мои соотечественники в слепой патриотической спеси провозглашали самым красивым и благоустроенным на свете. И с горечью заключил, что как постранствуешь да посмотришь — иные фанфаронады рассеются дымом и что, наверное, у каждого — тот город и та память, каких он заслуживает.
— Наша встреча в посольстве была, разумеется, не случайна, — сказал вдруг капитан Алатристе.
Сказал — и снова замолчал надолго. До тех пор, пока, добравшись до площади Навона, мы не оказались перед собором Святого Иакова. В лунном свете, разливавшемся над соседними домами, я заметил улыбку на губах Кеведо.
— И попросили вас, сеньор капитан, и его перед тем сдать оружие — тоже, — объяснил он. — Я рассказал о ваших давнишних отношениях, и посол решил принять меры предосторожности. Нужно было выяснить, как пойдет ваша беседа. Понять, возможно ли примирение, пусть хоть временное, или ваша вражда поставит под угрозу всю нашу затею.
— И вы слышали наш разговор?
— От первого до последнего слова. Железная печка посреди комнаты — это на самом деле хитроумное подслушивающее устройство, так что, находясь этажом выше, вам внимали и ваш покорный слуга, и граф Оньяте, и тот кабальеро, которого вы видели чуть раньше, когда мы заглянули в дверь.
— И кто же он такой?
Поэт, слегка покривившись, ввел нас в курс дела. Тот, кто сопровождал посла, был доверенным лицом кардинала Борха — Диего де Сааведра Фахардо, человек, вхожий в покои Ватикана, прекрасный знаток итальянских дел: родом из Мурсии, сорока лет, большой аккуратист и педант, ведавший всеми секретными документами, шифрами и кодами. Одним словом, человек, полезный для службы его величеству. Ибо Рим — это ведь не только средоточие католической дипломатии, но еще возня кардиналов, не остающихся нечувствительными к звону испанского золота, и центр всех религиозных орденов, письменно извещающих своих генералов обо всем, что происходит в мире. Все клавиши инструмента, играющего вселенский концерт, нажимаются здесь.
— Так вот, он ведает всеми невоенными вопросами нашей венецианской затеи, согласует их и упорядочивает. Ему вверены все дипломатические рычаги… Признаюсь, я не люблю его, потому что в Неаполе, когда на герцога Осуну обрушилась опала, он вел себя, скажем так, совсем небезупречно. Однако дело свое знает и успеха добиваться умеет. Вот увидите, чего он стоит.
— Весомая фигура?
— Чрезвычайно весомая… Красноречив, изобретателен, блестяще владеет пером и иностранными языками: свободно говорит, насколько я знаю, по-латыни, по-итальянски, по-французски и по-немецки… Можно сказать, что он — тайный солдат того войска, которое в кабинетах и канцеляриях вертит ось монархий.
— Шпион, иными словами. Но — в колете тонкого сукна и с ящерицей Сантьяго на груди.
— Нет, не только шпион… Но, если надо, — и шпион.
Я попытался вернуть моих спутников к другому:
— Чушь все это.
Дон Франсиско воззрился на меня с любопытством:
— К чему именно относится просвещенное мнение нашего юного друга?
— К истории с Малатестой. Это же настоящая змея! Доверять ему невозможно.
Поэт добродушным смехом изъявил свое согласие. Потом пожал плечами под черным плащом, взглянул сперва на капитана, который шел молча, будто не обращая на нас никакого внимания, а потом повернул голову ко мне:
— Затея, которая нас заботит, требует разнообразных подходов. И дело нам придется иметь, и ложе делить бог знает с кем…
— Как он мог спастись, если его взяли при покушении на цареубийство? Как?
Патруль — шесть папских стражников с копьями и фонарем — прошел мимо и внимательно оглядел нас, но останавливать не стал: в этом городе привыкли к чужестранцам. Пройдя мимо собора Святого Людовика Французского, мы вступили на широкую длинную улицу. Тут дон Франсиско ответил, что знает эту историю не вполне точно. Ему известно лишь, что Малатеста выдал сообщников и купил себе жизнь сведениями, правдивость коих подтвердили шпионы графа-герцога. Что-то там, связанное с тем, что его родственник, капитан венецианской службы, недоволен своим положением и особенно — жалованьем. Принять участие в этой кадрили должны еще два продажных сенатора и куртизанка с обширными связями.
— И кое-кто из них смог бы сыграть решающую роль в затеваемом перевороте, так что Оливарес, который привык всегда действовать железной рукой и превыше всего ставит интересы государства, счел, что живой итальянец ценней, чем дохлый, и в Венеции от него будет больше проку, нежели в застенке… И вот он здесь. И вы, сеньоры, тоже.
— Он может нас предать, — возразил я.
— Скорее всего, ему это сейчас ни к чему. Да и сомневаюсь я, что Оливарес пощадил бы его, не будь он совершенно уверен, что тот будет вести себя правильно.
— А что будет с ним, когда все кончится? — спросил капитан Алатристе.
Мы как раз пришли в ту минуту на площадь Редонда и остановились у фонтана напротив античного храма, переделанного в собор. Римляне называли его Пантеоном. В свете луны зрелище было удивительно величественное и прекрасное. Но мой бывший хозяин, не пленяясь им, обернулся к Кеведо. Левая рука его под плащом лежала на рукояти шпаги.
— …все кончится хорошо, хотите вы сказать? — уточнил поэт.
— Или плохо.
Дон Франсиско, казалось, внимательно изучал три наши тени, четко обрисованные на земле.
— Насколько я знаю, он перестанет представлять интерес для начинаний и затей нашего доброго государя. Иными словами, вы с Малатестой сможете наконец свести счеты. И тут уж — кто окажется проворней.
Произнеся, как оракул, эту тираду, он продекламировал, безупречно произнося по-итальянски:
Questa vita terrene e quasi un prato Che’l serpente tra fiori e l’herba giace[184].Капитан Алатристе, совсем не проникшись Петраркой — или кто это был? — по-прежнему стоял недвижно и не сводил глаз с Кеведо:
— Значит ли это, что он лишится покровительства графа-герцога?
Дон Франсиско неопределенно развел руками.
— Для меня все завершилось в этой точке, — сказал он. — Прочего как не знал, так и сейчас не знаю. Но вот что могу вам сказать по секрету, друг мой. Чем бы дело ни кончилось, обещаю: будут, будут у вас и время, и место свести счеты с этим Малатестой. И, думаю, не обману вас, если еще более доверительно скажу, что Оливареса это не обеспокоит ни в малейшей степени.
И вы лишь приведете в исполнение отсроченный приговор, — договорил он. — Именем короля… Ну, или почти. Вы понимаете меня?
— Граф-герцог сам сказал так вам?
Повисло молчание. Дон Франсиско, казалось, подыскивает подходящие слова. Он снял шляпу, и луна, посверкивая в стеклах очков, освещала теперь его длинные полуседые волосы и встопорщенные лихие усы, закрученные не без фатовства. Он повел глазами по площади, потом остановил их на мне, подмигнул как сообщнику. Ну, или мне так показалось.
— Вам угодно, сеньор капитан, чтобы я повторил собственные его слова?
— Я был бы вам за это чрезвычайно признателен.
Поэт улыбнулся чуть заметно, краешком губ. И, подражая торжественно-значительному тону графа-герцога Оливареса, произнес:
— По окончании дела при первом же удобном случае, не колеблясь, убейте его как собаку.
III. Железный город
Милан оказал на меня такое же магическое действие, как некогда Бреда, куда я безусым юнцом по пятнадцатому году вступил в рядах Картахенского полка. День был дождливый и хмурый, когда мы с капитаном Алатристе по мосту через реку Версельину вошли в город. Небо грозило бурей, на горизонте уже сверкали зарницы, и невольное почтение, которое внушали в этом мрачном неверном свете высокие черные стены, двойным железным обручем опоясывавшие город, только возрастало при виде громады исполинского замка, приютившего в оны дни великолепный двор Лодовико Сфорцы, прозванного Мавром. В продолжение многих лет военная инженерия одаривала замок лучшими плодами своей изобретательности: куда ни глянь, везде стены, башни, кронверки, рвы, равелины и бастионы. И если случалось мне в долгой и прихотливо-разнообразной моей жизни испытывать высокомерную гордость за то, что принадлежу к испанской нации, что я — солдат испанской державы, одной половиной мира повелевающей, а другой — внушающей трепет, то именно этот город — памятник нашей военной мощи, вершина нашего надменного могущества — как нельзя лучше тешил это чувство.
Ломбардия — так же как Неаполь, Сардиния и Сицилия — входила в состав нашего католического королевства, которое держало там одиннадцать полков, укомплектованных испанцами, итальянцами, немцами и валлонами. Фламандские неприятности превратили эту провинцию в ключ к Альпам. Морское сообщение на севере Европы было ненадежно, и потому именно там, в Милане, накапливалась наша пехота, чтобы потом, усиленная итальянскими частями — под Бредой я имел случай убедиться, что дерутся они очень даже недурно, — погрузиться в Генуе на корабли, отплыть в мятежные провинции, а там соединиться с войсками австрийского императора, родственника и союзника государя нашего. Эта долгая, трудная, требующая постоянных усилий история обогатила наш язык выражением «поставить копье во Фландрии». Оттуда, из Милана, основного нашего плацдарма на севере Италии да и всей Европы, войско могло держать под наблюдением швейцарские долины и стратегически важную союзницу Вальтеллину, где большинство жителей были католиками. Оттого и стояли во множестве испанские крепости на ломбардской равнине и на прилегающих к ней землях: наши солдаты заняли Саббионету, Корреджо, Монако и форт Фуэнтес рядом с озером Комо — и это не считая гарнизонов в Понтремоли, Финале и в окрестностях Тосканы. Такие предосторожности объяснялись постоянной враждебностью соседа — герцога Савойского — и неуемными притязаниями Франции: война с Людовиком XIII и кардиналом Ришелье еще не разразилась, но уже маячила на горизонте, потому что Милан с конца XV века не раз становился полем сражения, и полы в его соборах были покрыты отбитыми в бою французскими знаменами. После долгой и тяжкой борьбы, после победы при Павии, когда взяли в плен короля Франциска I, наши легионы вымели французов с Апеннинского полуострова, но те спали и видели, как бы вернуться. Стальная щеколда Милана не впускала их назад на полуостров, обеспечивая как спокойствие Неаполя и Сицилии, так и послушание Генуи, ее портов и ее банкиров. Потом, когда мы изнеможем и война с целым светом поставит нас на колени, Франция, которой семьдесят лет и духа не было в пределах Италии, сумеет все-таки вклиниться в нее и занять крепость Пиньероло. И наступят для нас печальные времена поражений и бедствий, и придет конец нашему господству в Европе. Фландрия, война с французами, возмущение в Каталонии и отложение Португалии истощат наше золото, а нас самих обессилят и обескровят — и вот, наконец, при Рокруа и в других печальной памяти сражениях мы, немногочисленные и смертельно усталые, сложим голову на шпагу неприятеля.
Однако в двадцать седьмом году моего века, когда происходили описываемые мною события, далеко еще было до того последнего поля, где среди трупов солдат, сохранивших верность, встанет каре, над которым мне самому доведется вздымать старое знамя с андреевским крестом. Милан, истинная кузница Вулкана, соперничавший с Толедо в выделывании всякого рода оружия, пока еще оставался для нас превосходным плацдармом, а наши полки, как и прежде, наводили страх на всю Европу. И внушительного вида миланский замок служил едва ли не символом тогдашней нашей мощи. В этом городе, как и повсюду, мы, испанские солдаты, свысока глядели на Италию и на весь остальной мир. И в самой бедности своей обретая повод для надменности, в горделивом осознании того, что внушаем ужас, мы, рьяные католики и отъявленные суеверы, обвешанные ладанками, скапуляриями, четками и печатными образками, неизменно держались наособицу и считали себя выше любого иностранного монарха, да и самого папы римского. И это только усиливало опасливую неприязнь со стороны остальных наций, ибо не в пример всем прочим, которые в чужих краях умаляются и покорно следуют местным обычаям, мы лишь сильней надувались спесью, еще пуще бахвалились, бесчинствовали, беспутствовали и вслед за Кальдероном могли бы сказать о себе так:
Задорный и задиристый народ, Такой-сякой, а также разный-всякий, Всегда и всюду он охоч до драки, Пусть даже и сомнителен исход.Надобно сказать, что по прибытии в Милан, едва лишь мы внесли в замок свои дорожные мешки, ожидал нас с капитаном большой и приятный сюрприз. Мы простились с кучером и посольским, сопровождавшим нас от самого Рима. Назвали наши имена у наружной караульной будки, пересекли подъемный мост, который вкупе со рвом и передним, расположенным меж двух башен бастионом «Сантьяго» оберегал замок. И тут из кордегардии — при шпаге и шляпе, в высоких сапогах с отворотами, с красной перевязью поперек кожаного колета — вышел и, лучась улыбкой под негустыми, но все же способными придать лицу известную солидность усиками, устремился к нам навстречу юный прапорщик. Мы с капитаном смотрели на него и глазам своим не верили. Не в обычае было, чтоб офицер расточал улыбки двум вымокшим и перепачканным грязью солдатам, но он тем не менее улыбался и одновременно распахивал нам гостеприимные объятия, восклицая:
— Вовремя прибыли, господа! Через полчаса сыграют «на ужин».
Наконец, когда нас отделяло от него шага четыре, мы узнали в нем Лопито де Вегу. И сколь ни радостно нам было лицезреть его, поистине райской музыкой прозвучали для нас эти слова, ибо мы с капитаном маковой росинки во рту не держали с прошлого вечера, когда перепрягали лошадей на почтовой станции вблизи Павии. Так что мы поспешили заключить нашего милого прапорщика в объятия, не обращая внимания на тот ущерб, что долгий путь из Рима, дождь и скверные дороги причинили нашему платью. А он со всем радушием повел нас через плац к жилым помещениям, сиречь казармам, где, по его словам, приказано было отвести нам отдельную комнату возле часовни. Правда, без окон, прибавил он, и немного сыроватую, потому что расположена у самого рва, но вполне пригодную для житья. Лопито дождался, пока мы разложим свой скарб и, входя во всякую мелочь нашего обустройства, велел принести два прекрасных тюфяка и пару одеял. Между делом сообщил, что три дня назад из Генуи прибыли и остальные наши сотоварищи — Себастьян Копонс, бискаец Зенаррузабейтиа, андалусцы Пимьента и Хакета, каталанец Куартанет и Гурриато-мавр. Всех разместили неподалеку от нас, приказав держаться от гарнизонных подальше и не вступать с ними в разговоры. Приказ относился в равной мере и к нам, и потому Лопито поручили следить, чтобы мы ни в чем не терпели недостатка. Клянусь богом, наш прапорщик расстарался на славу: так что когда пропел горн и с кухни нам принесли большую оплетенную бутыль вина (скорее басурманского, нежели христианского), полковриги белого хлеба и огромный чугунок фасоли со свиным салом и свиными ушами, без зазрения совести уведенный с офицерского стола, я с ложкой в руке от благодарности чуть не прослезился, а капитан Алатристе молча, но зверски встопорщил усы.
Я уплетал, что называется, за обе щеки, глотал, не жуя, успевая еще и рассматривать Лопито и отмечая, как сильно переменился сын Испанского Феникса с того уже далекого теперь дня, когда он скрестил шпаги с моим бывшим хозяином: впрочем, обмен ударами не помешал искренней дружбе, вскоре после того завязавшейся меж ними, и тогда капитан Алатристе и я, при живейшем содействии дона Франсиско де Кеведо и капитана Контрераса, помогли ему умыкнуть Лауру Москатель и обвенчаться с нею. Раннее вдовство и превратности воинской службы, пятилетие которой он как раз мог бы отметить в те миланские дни (а вступил он в нее в пятнадцать лет), несколько утишили беспокойный нрав юного Лопито, а его самого — остепенили.
— Ну и как здесь идут дела?
Лопито, и себе не забывший налить стакан вина, отвечал с той неопределенностью, что отличает хорошего терпеливого солдата. Как всегда, мол. Ни шатко ни валко. Зависят от того, что творится по ту сторону Альп. Войска императора Фердинанда продолжают побеждать на севере Германии — и не в последнюю очередь благодаря действенной поддержке испанцев. После сокрушительных поражений под Тили и Валленштейном датский король пребывает в самом плачевном положении, и по Милану ходят упорные слухи, что в скором времени он подпишет мир с Австрией. И тогда испанские полки смогут наконец обрушиться на мятежных голландцев.
— А что шведы? — осведомился я. — Двинулись?
— Двинутся, куда денутся. Никаких сомнений, что со дня на день вступят в войну — разумеется, на стороне протестантов. А король Густав Адольф — серьезный противник.
— Печальная картина, — высказался Алатристе. — Не много ли цыпляток на одно зернышко?
Лопито засмеялся сравнению. Потом пожал плечами:
— Цыпляток еще прибавится, когда Ришелье овладеет наконец Ла-Рошелью и у него будут развязаны руки… Мы только что узнали, что город взят в правильную осаду… Дело может затянуться на несколько месяцев, но результат предрешен. Французы по-прежнему одним глазом смотрят на Ломбардию, а другим — на Вальтелину.
— Однако двадцать лет назад наши полки стояли у ворот Парижа, — возразил я.
— И где теперь те полки? — сказал капитан, не отрываясь от еды. — Не там ли, где прошлогодний снег?
Ему ли было того не знать? Он ведь и сам воевал в тамошних местах, штурмовал Кале, брал и грабил Амьен, и было это во времена эрцгерцога Карла и короля Генриха IV, прозванного Беарнцем. Лопито высказал полнейшее согласие с тем, что с той поры все переменилось. И боюсь, прибавил он, что очень скоро враги наши умножатся.
— Испания — одна против всех, как всегда. Ни вы, господа, ни я без работы не останемся.
Я рассмеялся так, как подобает человеку закаленному, умудренному опытом фламандских траншей и неаполитанских галер:
— Зато останемся без денег. Опять же как всегда.
Лопито не сводил с нас пытливого взора. Ясно было, что ему до смерти хочется узнать, зачем мы здесь и что все это значит, но, как настоящий друг, он боялся быть навязчивым.
— Я не осведомлен, с какой целью и куда вы направляетесь, — не выдержал он наконец. — И мне запретили лезть к вам с расспросами… Но, судя по тому, как идет подготовка и сколько предосторожностей, дело затевается нешуточное…
И, не желая продолжать, улыбнулся и благоразумно замолчал. Спокойный взгляд капитана Алатристе встретился на мгновение с моим. И снова заскользил по лицу прапорщика.
— Что же вам сказали?
Тот всплеснул руками:
— Боже упаси! Ничего особенного… Сказали, что набран отряд удальцов. И что будет переворот.
— А что болтают насчет нашего маршрута?
— Одни говорят — в Мантую, другие — в Монферрато.
У меня отлегло от сердца. Венеция даже не упоминалась. А капитан, который как будто вообще ничего не услышал, все не сводил с Лопито взгляд, лишенный всякого выражения.
— А при чем тут Мантуя? — спросил я.
При том, что этот пирожок сам в рот просится, отвечал Лопито. Здоровье герцога Винченцо сильно пошатнулось, детей у него нет, и французская сторона — поддержанная втихомолку папой — нагло ввела туда свои войска.
— И здесь поговаривают, что мы могли бы сыграть на опережение и нагрянуть туда на рассвете, поздравить с добрым утром… Это было бы так по-испански… — Лопито выразительно чиркнул себя по кадыку. — Раз-раз… Раз — и нету.
Сказавши это, прапорщик уставился на Алатристе — верно, ждал, что капитан, пусть и с присущей ему сдержанностью, но все же как-нибудь, так или иначе, подтвердит его слова. Но мой бывший хозяин оставался непроницаем и невозмутим. Потом он взглянул на свой стакан, поднес его к губам, очень осторожно вымочил в нем усы и, не изменившись в лице, вновь взглянул на Лопито.
— Мы сделались молчальниками, сеньор прапорщик, — сказал он мягко.
Тот изобразил на лице нечто вроде — «ничего не попишешь, впрочем, другого и не ждал». И, приветственно поднимая стакан, добавил:
— Ясно. Я понял.
Мы допили бутыль и, выскребая котелок, вели разговор о предметах близких и понятных, как то — о здоровье великого Лопе, батюшки нашего хозяина, который как раз недавно получил от него письмо. Как я уже имел случай докладывать, Лопе Феликс де Вега Карпьо-и-Лухан был законно признанным плодом любви Испанского Феникса и комедиантки Микаэлы Лухан, которую он в стихах неизменно называл Камилой Лусиндой. Отношения между отцом и сыном поначалу не складывались, поскольку паренек был неслух и озорник и не выказывал особенной тяги к учению. «Из-за огорчений, доставляемых мне сыном, — писал Лопе, — я был не в состоянии завершить работу. И по причине его распущенности и неразумия мы редко видимся». И вот наконец, решив в военной службе искать спасения от всех этих неурядиц и разногласий, юноша завербовался на галеры, где поступил под покровительство маркиза де Санта-Крус, который дружил с его отцом и сам приходился сыном легендарному адмиралу дону Альваро де Басане. Столь ранняя солдатчина вдохновила великого Лопе, ко времени, о котором я веду рассказ, примирившегося с отпрыском, на ласковые строки в бурлескной поэме «Котомахия», позже целиком посвященной Лопито:
Дитя с оружием — Эрот! как есть Эрот! — Поднявшись на корабль маркиза-морехода, Впервые в плаванье идет, Чтоб славою своей умножить славу рода.«Дону Лопе Феликсу де Вега Карпьо, солдату флота его величества» — это посвящение юный злосчастный прапорщик, которым отец так явно гордился, прочитать не успеет, ибо в самый год публикации, то есть в тысяча шестьсот тридцать четвертом, когда мы с капитаном Алатристе будем драться в Нордлингене со шведами, отправится в рискованную экспедицию за жемчугом на остров Маргариты и погибнет при кораблекрушении. Это в высшей степени печальное событие подвигнет безутешного отца на иные строки:
Безжалостных судеб закон несправедлив: Ты чуть расцвел и — мертв, я, старец ветхий, — жив.Однако в ту пору, в Милане, бесконечно далеки мы были от возможности предвидеть, какая судьба ожидает бедного нашего Лопито, как и то, что именно припасла она для нас с капитаном. Да если бы человек мог ведать такое, он тотчас сник бы, отказался от всякой борьбы и от любых усилий и сел бы сложа руки на манер древних философов ждать кончины. Но мы-то были не философы, а люди, которые передвигаются по враждебной и неверной стране, именуемой «жизнь», и наши помыслы и мечтания не простирались дальше, чем похлебать горячего да переночевать не в чистом поле, а под крышей, и уж совсем как предел желаний — в обществе, приятном глазу и на ощупь; не имея притом иного достояния, кроме скудного солдатского жалованья, шпаги — кормилицы нашей, да ожидающих где-то шести футов земли, куда положат нас — в том, конечно, случае, если не отправят на корм рыбам. Ибо мы, испанцы, как дети своего века, как жертвы суровых наших обстоятельств, считаем удачным и бестревожным только тот день, что уже прожит.
— Когда начнется заутреня в Сан-Марко, все четыре отряда приступят к согласованным действиям, — объяснял долговолосый. — Первая займется Арсеналом, вторая — Дворцом дожей, третья — еврейским кварталом, а четвертая — теми, кто придет на мессу. Одновременно, сразу после смены караула, выступят наемники-далматинцы, расквартированные в замке Оливоло, немцы, несущие охрану Дворца дожей, шведы и валлоны из гарнизона фортов, защищающих устье Лидо, позволив нам перебросить подкрепления из Адриатики… К этому времени туда подойдут десять испанских галер с десантом, который высадится в случае надобности, а верней — самой крайней нужды. Все должно выглядеть так, будто восстали сами венецианцы, недовольные правлением дожа Джованни Корнари и — самое большее — попросившие Испанию не оставаться в стороне.
Диего Алатристе на миг отвел глаза от разостланного на столе плана Венеции и посмотрел по сторонам. Грязновато-серого света, проникавшего через освинцованные оконные стекла, не хватало для такого просторного помещения, и потому в двух канделябрах горели толстенные свечи. В пламени горящего воска виднелись лица еще трех человек, которые сидели вокруг стола и всматривались в план, покуда кабальеро по имени Диего де Сааведра Фахардо — длинноволосый, с усами и крошечной бородкой под нижней губой (это его капитан видел тогда в посольстве вместе с Кеведо и графом де Оньяте) — в подробностях излагал распорядок действий каждого. Никого из этих троих Алатристе прежде не знавал, но облик их показался ему знакомым, ибо совпадал с его собственным: замшевые или кожаные колеты, загрубелые, обветренные, будто выдубленные непогодами и военным лихолетьем, твердо очерченные лица со шрамами, густые усы. Войдя, эти люди сняли и грудой сложили на диван у дверей свою амуницию — длинные кинжалы-«бискайцы» и хорошие шпаги из Толедо, Саагуна, Бильбао, Милана или Золингена. И с первого взгляда в их хозяевах можно было признать испытанных, закаленных солдат-ветеранов из числа самых отборных.
— Никто, разумеется, не поверит, будто мы к этому непричастны, — продолжал Сааведра Фахардо. — Но это не наше дело. А наше — сделать так, чтобы Венеция подпала под нашу власть. Чтобы правил там дож, удаленный от Франции, Англии и Ватикана. Друг и союзник его католического величества и императора Фердинанда.
Секретарь испанского посольства говорил с непринужденностью человека, поднаторевшего в государственных делах, но при этом — немного отстраненно, чуть свысока, слегка пренебрежительно, как, по его мнению, и подобало объяснять важные вопросы тем, кто ни бельмеса не смыслит в высокой политике. Вот он замолчал и оглядел присутствовавших, как бы желая убедиться, что они постигли суть его речей, а потом полуобернулся к тому, кто был в комнате шестым — и занимал место во главе стола, но сидел не вплотную к нему, а слегка отодвинувшись и не на стуле, а в высоком кресле с затейливой резьбой. Сааведра полуобернулся весьма предупредительно, будто испрашивая позволения продолжать, и позволение это было обозначено едва заметным кивком.
— Венецианцы тоже примут участие. Несколько недовольных своим положением капитанов, которым платят то золотом, то посулами, поддержат переворот.
Вот это всегда восхитительно у власть имущих, размышлял меж тем Диего Алатристе, не сводя глаз с человека во главе стола. Им порой даже не надо трудиться размыкать уста, чтобы отдать приказ, за них говорит должность — и довольно взмаха ресниц, чтобы повеление было исполнено незамедлительно. А этот человек принадлежал к ним — к тем, кто умеет повелевать и заставлять повиноваться, — это был Гонсало Фернандес де Кордова, миланский губернатор. Пропасть разделяла их, но Алатристе узнал его, как только вельможа вошел в комнату (все встали при его появлении) и без церемоний и представлений присел в сторонке, а Сааведра Фахардо начал говорить. Капитан никогда прежде не видел его так близко — даже когда дороги их сошлись на одном и том же поле битвы, и нынешний губернатор носил латы, был окружен свитой и сидел на коне. Прославленному военачальнику, потомку Великого Капитана[185], человеку, которому вверили миланские дела сразу после приснопамятного марша под командованием его шурина, герцога де Фариа, не исполнилось еще сорока. Сегодня вместо стальной кирасы, ботфортов со шпорами и шляпы с пышным плюмажем на нем были сафьяновые башмаки, черные шелковые чулки, темно-синие бархатные штаны и такой же колет с валлонским плоеным воротником. Затянутая в тонкую замшу правая рука сжимала перчатку, а левая — такая же аристократически тонкая, как меланхолическое лицо, украшенное подвитыми бакенбардами и остроконечными нафабренными усами — не указывала вдаль жезлом, но с томной расслабленностью лежала на подлокотнике, поблескивая перстнем с драгоценным камнем, которого хватило бы, чтобы месяц выплачивать денежное содержание целой роте немцев.
— Кроме того, кое-кто из людей, назначенных Республикой, тоже это поддерживают, — продолжал Сааведра Фахардо. — Они в случае успеха возьмут бразды правления, примут на себя бремя власти в стране. Впрочем, это уже дела политические, вам, господа, неинтересные.
Один из вояк хлопнул по столешнице ладонью и негромко засмеялся.
— Наше дело — глотки резать, — сказал он вполголоса. — И точка.
Остальные, включая и Алатристе, заулыбались, переглянувшись. Они внезапно почувствовали свою общность. Тот, кто подал реплику — широкоплечий, круглолицый, густобородый, — посмеялся еще немного и искоса взглянул на губернатора, как бы желая убедиться, что его слова не сочли непозволительной дерзостью. Однако Гонсало Фернандес де Кордова оставался бесстрастен и невозмутим. Зато Сааведра Фахардо посмотрел на шутника неодобрительно. Заметно было, что выражение «глотки резать» резануло ему и уши. Показалось неуместным, как пистолетный выстрел посреди точно выверенной и дипломатически взвешенной речи.
— Можно, конечно, и так сказать, — согласился он, смирив себя.
— И попутно хотелось бы узнать насчет дувана, — выговаривая слова на португальский манер, отважился встрять другой солдат — худощавый, с сильно поредевшими соломенными волосами и такими же светлыми усами.
— Насчет чего?
— Насчет добычи.
Вояки за столом снова заулыбались. Но на этот раз губернатор счел нужным вздернуть бровь и слегка похлопать перчаткой по ручке кресла. Даже в таком обществе и в таких весьма особых обстоятельствах не следовало все же переходить известные рамки. Улыбки исчезли так быстро, что, казалось, кто-то открыл окно, и их вытянуло сквозняком. Сааведра, почувствовав поддержку, воздел указательный перст и продолжил:
— В этом вопросе не должно быть недомолвок: да, это допускается, но в строго определенных местах. Будет составлен список домовладельцев, к этому времени уже убитых или взятых в плен. И в любом случае, пока не достигнута главная цель, всякий, кто остановится, чтобы прикарманить хотя бы цехин, поплатится за это жизнью.
Он остановился и молчал довольно долго, давая слушателям глубоко, всем сердцем, прочувствовать эти — и особенно последние — слова. Потом суховато добавил, что убийство или захват самых видных сенаторов будет задачей самих венецианцев. Этим займется капитан — один из местных заговорщиков. Что же касается испанцев, то хорошо бы каждому неукоснительно придерживаться предначертаний. Тут Сааведра Фахардо опять помедлил и указал на чернобородого солдата: дону Роке Паредесу — так его звали — со своими людьми надлежит устроить пожары в еврейском квартале. Что будет уместно и своевременно, ибо пожары отвлекут внимание. Одновременно необходимо пустить слух, что евреи — суть главная пружина мятежа и ополчились на своих соседей. Это вызовет в городе возмущения и обратит против евреев то, что в других частях города было бы сопротивлением мятежу истинному.
— Другие семь испанцев под началом дона Диего Алатристе, — продолжал он, — при содействии пяти шведов, опытных в обращении со взрывчатыми веществами, и далматинцев-наемников из соседнего замка в то же самое время должны поджечь Арсенал. И заодно — десяток кораблей в доках, да и вообще постараться причинить как можно больший ущерб венецианскому флоту, пусть даже в скором будущем он перестанет быть неприятельским. Но — мало ли что…
— С этими пожирателями печенки в луковом соусе никогда наперед не знаешь, — поддержал его Роке Паредес, подмигивая Диего Алатристе.
— Сущая правда, — припечатал Сааведра Фахардо. — Лучше сначала уберечься от друзей, чем потом плакаться на врагов.
Алатристе воздержался от комментариев, поскольку был занят вычислениями — соображал, во что ему обойдется выпавшее на его долю. Сжечь Арсенал — ни больше ни меньше! Обратить в пепел крупнейшую в Средиземноморье верфь, если не считать, понятно, Константинопольской — имея всего двенадцать человек, опять же не считая наемников? Под такую музыку как-то не тянет плясать…
— Дворец дожей поручаем дону Мануэлу Мартиньо де Аркаде. — Секретарь показал на тощего, с соломенными усами. — И его восьмерке. Их радушно встретят дворцовые караулы, которые к этому времени будет нести рота немцев, перешедших на нашу сторону. Дон Мануэл, помните, что, когда займете дворец, его надо будет удерживать любой ценой. Да, господа, это всех касается — вам надлежит неукоснительно и очень точно исполнять инструкции, которые вы сейчас получите от руководителя всей операции… Как вы уже поняли, это дон Бальтасар Толедо.
Все взгляды устремились на кабальеро, сидевшего на другом конце стола — лет под сорок на вид, с очень коротко остриженными, преждевременно поседевшими волосами, с густыми солдатскими усами, со спокойным, невеселым лицом. Имя его было знакомо Алатристе. Побочный сын маркиза де Родеро, признавшего его своим законным отпрыском, он был женат на бедной племяннице герцога Фериа, а репутацию умелого военачальника создал себе боями во Фландрии, а потом — победой над голландцами, от которых года два назад очистил Баию-де-Тодос-ос-Сантос.
— Я буду находиться в Венеции официально, по службе, как дипломат, — продолжал Сааведра Фахардо. — А дон Бальтасар возьмет на себя всю военную сторону. Согласовав действия и проверив исполнение, он присоединится к дону Мартиньо де Аркаде во дворце. И с этой минуты все его приказы будут сводиться к тому лишь, чтобы освободить некоторых узников из тюрем и принять нового дожа.
— Кто ж этот счастливец? — спросил Роке Паредес.
— Господа, ну вот это вас не касается.
— А кто нас поддержит, когда будем брать дворец? — с мягким португальским выговором спросил Мартиньо де Аркада.
— Рота, которая в полночь заступит в караул во дворце, а командует ею капитан-венецианец по имени Лоренцо Фальеро… И он, и его лейтенант — немец родом — действуют на нашей стороне.
Смешливый Роке Паредес снова хлопнул ладонью по столу:
— Ни черта себе! Да за это небось пришлось отдать все сокровища Перу. А вот мне не плачено за три месяца!..
Все взгляды вновь обратились к губернатору, который и на этот раз остался невозмутим. Гонсало Фернандес де Кордова хоть одного только официального жалованья получал двадцать четыре тысячи серебряных испанских дукатов в год, не считая разного рода побочных доходов, бонусов и казенных сумм, которыми распоряжался полновластно — благо своя рука владыка, — как никто понимал солдатское житье-бытье и тонко разбирался, где бахвальство, где брехня. Своими глазами наблюдая мятежи во Фландрии, он умел отличить дезертиров от солдат, которые, сколько бы ни ворчали и ни роптали на задержки выплат и на скудость рациона, неизменно поднимали бунт только после сражения и никогда — до, чтобы никто, боже упаси, не подумал, что они хотят уклониться от опасностей. Хранил молчание и Диего Алатристе, поскольку от дона Франсиско знал, что венецианская затея обойдется в тридцать тысяч эскудо золотом, полученных от миланских и генуэзских банкиров и купцов вдобавок к деньгам из секретных сумм, выделенных губернатором Милана и послом Испании в Венеции. Большая часть этих средств, как водится, не достанется людям, на самом деле рисковавшим своей шкурой, а осядет в карманах частных лиц — частных и к событиям непричастных, прилипнет к рукам тех, кто держался в сторонке от событий.
— Взять дворец — очень важно, — продолжал Сааведра Фахардо, — но еще важней — заутреня в соборе Сан-Марко. Именно там надо будет сделать основной ход, с козыря пойти… Когда начнется служба и дож преклонит колени перед главным алтарем, двое наших людей должны будут подскочить к нему и зарезать — очень быстро и, что называется, отчетливо.
Все переглянулись. Люди, здесь сидевшие, давно уже крови не боялись, но даже им эти слова представились чем-то из ряда вон выходящим. Трудно и вообразить себе такое — зарезать венецианского дожа посреди рождественской мессы. Все же это чересчур. Это дерзость небывалая, неслыханная.
— Испанцы? — удивленно спросил Паредес.
— Нет. Но во всяком случае — годные для такого дела люди. — Сааведра Фахардо коротко взглянул на капитана Алатристе, а потом показал на Бальтасара Толедо. — Мы с доном Бальтасаром — каждый в рамках своих обязанностей — будем пристально следить за происходящим, оставаясь при этом в стороне от всего, а особенно — от убийства дожа. Что касается непосредственных исполнителей, то один — это священник-ускок[186], люто ненавидящий Венецию… Второй — итальянец. Сицилиец, точнее говоря. — Он опять метнул быстрый взгляд на Алатристе. — Человек крайне опасный и большой мастер своего дела и вдобавок еще — состоит в родстве с капитаном Фальеро. Вот этим двоим и поручено убрать дожа.
— Живыми из собора не выйдут, — предположил Мартиньо де Аркада.
— Внезапность и дерзость нападения могут сыграть им на руку. Впрочем, выйдут или не выйдут — это их дело.
Сааведра говорил с безразличием канцеляриста. И опять взглянул на Диего Алатристе, но на этот раз — пытливо.
— Этот сеньор, сдается мне, знает одного из них. Хотелось бы узнать его мнение.
Ага, теперь все стало на свои места. Алатристе смотрел на огонь свечей. Венеция, участие капитана Фальеро в заговоре и голова дожа — вот цена, которую уплатил Гвальтерио Малатеста за свою жизнь и свободу. Сокрушительный замысел графа-герцога Оливареса, предавшего забвению происшествие в Эскориале, благо за него уже расплатились другие.
— Нет у меня мнения, — ответил он, помолчав. — А когда появится — оставлю, пожалуй, при себе.
— Но я прошу вас, — настойчиво сказал дипломат. — И присутствующие здесь сеньоры — тоже… Вы уж постарайтесь.
Алатристе в раздумье погладил двумя пальцами усы. Он чувствовал, что все взгляды обратились к нему.
— Если это — тот, о ком я думаю, то убивать он умеет.
— А как, по-вашему, важно для него — выйти из собора живым или нет?
— Если согласился войти, так уж, наверно, придумал, как выйти, — пожал плечами Алатристе. — В этом я уверен.
— Так каков же вывод, сеньор солдат?
— А таков, сеньор секретарь, что я бы не хотел оказаться на этой рождественской мессе и на месте дожа — тем паче.
Паредес и Мартиньо де Аркада захохотали, улыбнулся Бальтасар Толедо. Только губернатор, непроницаемый, как всегда, не шевельнулся в кресле. Сааведру же ответ, судя по всему, не устроил. Он всматривался в Алатристе, словно пытался для себя что-то уяснить. «Я был о вас лучшего мнения», — словно говорило его лицо.
— Ладно, — сказал он наконец ледяным тоном. — Итак, намечено, что между восемнадцатым и двадцать четвертым декабря испанцы в числе двадцати семи человек разными путями, мелкими отрядами, не привлекая к себе внимания, просочатся в Венецию… И вам, сеньоры, как командирам этих отрядов, надлежит согласовывать каждый шаг и глаз не сводить со своих людей. И помните: никому ни слова о рождественской мессе. Завтра утром, разными дорогами, переодевшись сообразно обстоятельствам, отправитесь в путь. Полагаю, что на сегодня — это все.
«Совершенно даже не все, — подумал Алатристе. — Небом клянусь, не все».
— А если не заладится?
Этот вопрос, казалось, застал Сааведру Фахардо врасплох. Он посмотрел на капитана, потом на губернатора — и опять на капитана.
— Что?
— Если не выгорит, говорю. Если пойдет не так, не туда… Наперекосяк или прямо, но — к чертовой матери? Придумали, как вытаскивать нас оттуда?
— Уверен, что все будет так, как должно. Ручаюсь вам.
— Чем же вы ручаетесь?
— Я рискую не меньше вашего.
— Вот в этом я сильно сомневаюсь. Вы, ваша милость, — дипломат и сидите за стенами посольства, под крышей его. А вот мы — под открытым, так сказать, небом. В чистом поле.
Молчание в комнате словно сгустилось. Алатристе с удивлением почувствовал безмолвную поддержку со стороны Бальтасара Толедо. Паредеса и Аркаду положение ни к чему не обязывало, и потому они выражали одобрение кивками.
— Я положительно лишился дара речи, сеньор солдат, — сказал на это Сааведра. — Знаете, мне вас отрекомендовали как человека закаленного и выдержанного.
— Какое отношение это имеет к моим словам?
— А такое, что оные свойства не предполагают умствований и словесных узоров. Разве может удаться предприятие, если оно еще не началось, а вы не верите в успех?
— Сказано красиво. И раз уж пошли красоты слога, скажу и я: на войне опасно жить чужой верой.
Дипломат побледнел, словно получив оскорбление. Может быть, так оно и было.
— Вы уверяете нас, что…
Алатристе поднял левую руку: по тыльной стороне кисти тянулся длинный рубец — память о Приюте Духов в тысяча шестьсот двадцать третьем году.
— Никто никого ни в чем не уверяет, — ответил он спокойно. — Я с тринадцати лет на королевской службе. И очень редко совался куда-либо, не зная, как в случае чего буду выбираться. Иное дело, что порой и нет его — выбора, то есть выхода… Однако все же, как старый солдат, знаю: много полезней для здоровья — прикинуть, куда отступать, если прикажут свернуть знамена.
Паредес и Аркада продолжали кивать в знак согласия. Тогда Алатристе обернулся к дону Гонсало Фернандесу де Кордове, который сидел, внимательно слушая, но за все время ни разу не разомкнул уста.
— Вот его превосходительство — тоже солдат, и не из последних, он понимает, о чем я говорю.
Это «и не из последних» вызвало улыбки на лицах почти всех присутствовавших. Дерзость была умерена должной почтительностью. Его превосходительство — свой, так следовало это понимать. Это звучало лестно, это вводило их в круг единого сообщества, исключая из него лишь Сааведру Фахардо. И вопиюще неуместная вольность Алатристе, который своим высказыванием напоминал миланскому губернатору о его славном военном прошлом, обращался к нему как к товарищу по оружию, причислял вельможу к солдатскому братству, была извинительна. И улыбка, скользнувшая под нафабренными усами Кордовы, показала, что расчет капитана оказался верен.
Ничего больше от него и не требовалось. Сааведра Фахардо с чуткостью исправного служаки и исполнительного канцеляриста моментально уловил чуть обозначенную мелодию.
— Мы предусмотрим такую возможность, — вымолвил он наконец. — Можно снарядить баркас, на котором, буде возникнет надобность, заговорщики доберутся до какого-нибудь островка в открытом море, — он показал на карте, — откуда их снимет галера, дрейфующая в Адриатике. Итак, в случае необходимости определим точку, с которой вас заберут, — завершил он. — С учетом приливов-отливов и всего прочего.
Тут он замолчал и одного за другим со значением оглядел солдат:
— Однако вот что вам надлежит помнить твердо и ни на миг не упускать из виду: в случае неудачи Испания будет отрицать все. Посол получил четкие инструкции на этот счет, и если разразится скандал, вам, господа, рассчитывать будет не на что. Выбор пал на вас именно потому, что все вы люди цельные, люди стойкие и живыми не дадитесь. А если такая неприятность все же произойдет, ничего не выболтаете.
— Это уж само собой, ремесло наше такое, — ответил Роке Паредес и оглядел остальных с таким видом, словно говорил: «Попробуйте только возразить!»
Возражать никто не стал, и военный совет покатился к концу; Сааведра дал последние инструкции:
— Каждому из вас, господа, надлежит собрать своих людей, следя при том неукоснительно, чтобы разные отряды не перемешивались, и назавтра начать выдвижение по заранее установленным маршрутам.
С этими словами он обернулся к губернатору, чтобы справиться, не хочет ли тот добавить что-либо. Гонсало Фернандес де Кордова качнул головой и поднялся, а за ним — и все остальные. Однако прежде чем уйти, он задержался еще на минуту:
— Алатристе, не так ли?
Он вглядывался в лицо капитана, как будто упорно силился вспомнить его — и не мог.
— Точно так, ваше превосходительство.
— Говорят, вы воевали под моим началом во Флерюсе в двадцать втором году?
Капитан кивнул так же непринужденно, словно речь шла о прогулке в хорошей компании по берегу Мансанареса:
— Точно так. И при Флерюсе, и под Вимпфеном, и в Хёксте[187].
— Вот как… — Держа в правой руке, затянутой в тонкую замшу, вторую перчатку, губернатор похлопывал ею по ладони левой. — И, вероятно, мы с вами в какую-то минуту не могли не оказаться рядом.
— Точно так. — Алатристе не моргая смотрел в глаза своему бывшему начальнику. — В Вимпфене вы, ваше превосходительство, довольно долго пробыли между рощей и берегом реки под артиллерийским огнем, в боевых порядках нашей роты, пока не приказали нам атаковать… А при Флерюсе, где я служил с доном Франсиско де Ибаррой и остатками Картахенского полка, вы, ваше превосходительство, тоже оказали нам честь драться вместе с нами и отбить две атаки протестантской кавалерии подряд… Дело было возле хутора Шассар.
Судя по тому, как изогнулась бровь губернатора, воспоминание особенного удовольствия ему не доставило. Капитан Алатристе тоже не забыл этот день. Немцы и валлоны, неся огромные потери, сдерживали натиск лютеран, меж тем как Брунвик и Мансфельд напирали на полки испанской и итальянской пехоты, не отступавшей ни на пядь. Беспрестанные атаки неприятельской кавалерии побудили Гонсало Фернандеса де Кордову занять место в рядах испанских ветеранов, державших строй, бившихся бесстрашно и стойко и с обычным своим хладнокровием.
— Вы были одним из тех аркебузиров, что так свирепо орудовали в рукопашной прикладами и кинжалами?
— Точно так. Ваше превосходительство оставались с нами, когда пришлось бросить телеги и с боем отступать к изгородям.
— Да-да. — Чело губернатора прояснилось. — Помню, как же. Очень хорошо помню. Нам тогда солоно пришлось. Там ведь остался бедный Ибарра… И еще многие.
— Вот и я тоже не добрался до изгородей.
— Ранили?
— Мы с каким-то протестантом сцепились и пропороли друг друга.
— Вот как… И сильно?
Повисло молчание. Сааведра и прочие с удивлением слушали этот ветеранский диалог. Диего Алатристе безотчетным движением ощупал себя слева и сзади. Ощупал с угрюмой покорностью судьбе — и без малейшей рисовки. Потом пожал плечами:
— Могло быть хуже.
В ответ — и ко всеобщему удивлению — губернатор Милана дон Кристобаль Фернандес де Кордова стянул вторую перчатку и протянул руку капитану Алатристе.
Кто-то сказал и написал, что в те славные и ужасные времена воевали все испанцы — от первых грандов до последних пахарей. Да, так оно и было. Одни алкали славы или денег, другие алкали в прямом, а не фигуральном смысле, то есть мечтали поесть досыта и никогда больше не жить впроголодь. На полсвета раскинулось поле сражения, которое мы — идальго и крестьяне, пастухи и бакалавры, родовитые кабальеро и проходимцы без рода и, само собой, племени, слуги и хозяева, солдаты и поэты — вели в Индиях и на Филиппинах, в Средиземноморье, на севере Африки и по всей Европе, против разнообразнейших стран — диких и приобщившихся к цивилизации. Воевали Сервантес, Гарсиласо, Лопе де Вега, Кальдерон, Эрсилья. Воевали без устали и передышки в Альпах и в Андах, в италийских долинах, на мексиканских плоскогорьях, в Дарьенской сельве, на берегах Эльбы, Амазонки, Дуная, Ориноко, в Английском море, в Ирландском море и в море Эгейском, в Алжире, Оране, Баии, Отумбе, Павии, Ла-Голете, в Константинопольском проливе, иначе именуемом Босфором, во Франции, Италии, Фландрии, Германии. По всем землям — ближним и дальним, холодным и жарким, в стужу и в зной, под снегом, дождем, ветром или палящим солнцем — шли низкорослые, тощие, бородатые испанцы, свирепые, хвастливые и бесстрашные, привычные к нищете, к усталости и тяготам; готовые на все люди, которым, кроме собственной шкуры, терять было нечего; шли, бормоча молитву, либо накрепко затворив уста и стиснув зубы, либо понося на каждом шагу господа бога и непорочно зачавшую мать его и всех святых, офицеров и злую долю свою и самое жизнь на всех языках Европы; время от времени поднимали мятеж, потому что жалованье им задерживали или не платили вовсе, но все равно шли они — мы — под рваными знаменами вслед за своими капитанами и заставляли трепетать весь мир. Примерно как те, кого описал поэт и солдат Андрес Рей де Артиэда, те, которые, многократно прокляв военную службу, все и вся и поклявшись ни за что и никогда больше не воевать, все же:
…пошли на штурм, и враг не взвидел света! И не было в округе лучшей шпаги, и не было проворнее кинжала. Дай Бог и нам хоть каплю их отваги!Вот, значит, какие мысли приходили мне в голову в последнюю нашу ночь в миланском замке, когда я рассматривал своих товарищей. Мы сошлись вместе в час ужина, и после крепких объятий с Себастьяном Копонсом, Гурриато-мавром и прочими, капитан Алатристе поведал о том, что надлежит нам делать в Венеции, куда наутро, чуть только рассветет, мы тронемся — попарно, чтобы не вызывать подозрений, и разными дорогами: к примеру, капитан, переодетый купцом, и я под видом его слуги — через Брешию, Верону и Падую. Еще действовал запрет покидать отведенную нам комнату и сноситься с кем-либо из посторонних, так что нам ничего не оставалось, как убивать время в ожидании. И потому сидели мы ввосьмером у большого камина, где славно и жарко пылал огонь, и без неуместной застенчивости расправлялись сперва с огромнейшей бутылью тревизского, а потом — с не меньшей монтефрасконского, доказывая, что по части ненасытности обштопаем любого паломника. Лопито де Вега, хотя сам и не мог присоединиться к нам, потому что был назначен в караул на бастион Падилья, явил беспримерную любезность, прислав нам вина от собственных щедрот — не всухомятку же было нам жевать изжаренного в оливковом масле ягненка и запеченных перепелов, которыми капитана Алатристе почтил лично губернатор Милана. Довольно скоро не осталось ничего, кроме дочиста обглоданных костей и порожней посуды.
Я заметил, что каждый из нас коротает время в соответствии со своим нравом. Не ведая, что припасла нам судьба, но из слов капитана заключив, что затея наша никому не покажется увеселительной прогулкой, мы предавались не слишком веселым думам. И все отчетливо понимали, что если попадемся в руки венецианцам до или после поджога Арсенала, то, вероятней всего, влипнем в передрягу наподобие тех, когда горько сетуешь, что на свет родился, и ставишь это матери в упрек. И потому от вполне, надо сказать, обоснованной тревоги перед тем, что сулила нам судьба, выступавшая на этот раз под легендарным именем «Венеция», размеренное течение беседы то и дело прерывалось угрюмым молчанием.
Молчал по своему обыкновению Гурриато-мавр. Не притрагиваясь к вину, он сидел у камина в той расслабленной неподвижности, что свойственна в минуты отдыха людям, избравшим войну своим ремеслом: блики пламени играли на бритом черепе, отблескивали в серебряных серьгах и браслете на запястье, заставляли лосниться, как насаленную, кожу его ременной сбруи. Отдавала в рыжину бородка и заметней выделялась татуировка на левой щеке — причудливый крест с ромбовидными концами. Могатас, впервые оказавшийся в том конце Италии, который можно было отнести к полночным странам, впервые вступил в пределы столь неколебимо могучей твердыни, каков был Милан под испанским владычеством, — и впечатление оказалось не слабым. Наш друг был малоречив, однако наблюдателен и, наподобие старых крестьян, наделен способностью облекать самые сложные мысли в емкие и краткие сентенции — плоды не книжного умствования, но мудрости, почерпнутой из жизни, природы и сердца человеческого. И, как профессиональный солдат, Айша Бен-Гурриат еще сильней, чем в Неаполе или в Оране, оценил, сколь могуча армия той страны, которой он служил, сколь неукоснительна в ней дисциплина, как ладно пригнаны и смазаны все маховики и шестерни этой огромной военной машины.
Рядом с мавром посасывал тосканское винцо и глядел на огонь Себастьян Копонс, давно вам, господа, известный — маленький, сухой, жилистый, твердый как кирпич, так же просто и незатейливо выглядящий и устроенный. Человек надежный и верный до самопожертвования, он был годами постарше капитана Алатристе, с которым солдатчина свела его почти тридцать лет назад, при последних содроганиях прошлого столетия: вместе они были во Фландрии, вместе штурмовали Бомель, обороняли Дуранго, невозмутимо и бестрепетно отступали с остатками картахенцев в дюнах Ньюпорта. Сейчас, наверно, прикидывает, подумал я, наблюдая за ним, чем еще под конец долгой жизни со всеми ее мытарствами, опасностями и тревогами угостит его венецианская затея. Арагонец, давно растерявший все мечты на полях сражений, хотел только скопить денег, обзавестись женой и домиком в родной Уэске, чтоб смотреть, сидя в удобном кресле, как закатывается солнце за верхушки высоких сосен, да тихо стариться, радуясь, что раскаты барабанной дроби, выкрики команд, звон и лязг стали, пыль бесконечных маршей отошли в область далеких воспоминаний. Что можно не спрашивать себя каждый день, кто кому перережет глотку — ты или тебе.
В тот вечер в миланском замке я постарался повнимательней приглядеться и к другим своим товарищам, потому что мне с ними вскоре предстояло делить опасности, и от их силы или слабости могла зависеть собственная моя судьба. Единственный, кого я знал и кто не внушал мне опасений в этом отношении, был Хуан Зенаррузабейтиа, капрал, служивший на галере «Каридад Негра», один из тех немногих бискайцев в роте капитана Мачина де Горостьолы, кто остался в живых после кровопролитного боя в бухте Искандерон. Хотя в армии, как, впрочем, и везде в Испании, всех басков — даже тех, кто, подобно вашему покорному, родом был из Гипускоа, — чохом называли бискайцами, Зенаррузабейтиа был бискаец самый натуральный, происходил из Дуранго и наружностью своей — немалым носом, черными сросшимися бровями, тянувшимися от виска до виска, густейшей бородой, крупными руками — происхождению не противоречил. Вида он был угрюмого, а если в спокойной обстановке говорил по-испански так же чисто и правильно, как я, то в горячке боя путал род, вид, зад и перёд, рассыпая отрывистую скороговорку слов, которые ставил как бог на душу положит. Впрочем, когда он, весь в крови, едва ли не последним перепрыгнул с уже тонущей галеры на борт «Мулатки», держа в одной руке королевский флаг, а в другой — обломок шпаги, и, едва переводя дыхание, что-то сказал, нетрудно было догадаться, что относилось это высказывание к туркам и нелицеприятно оценивало нравственность их матерей.
Мануэль Пимьента и Педро Хакета убивали время, допивая оставшееся вино и перекидываясь засаленными картами со скругленными от ветхости углами. Не в пример капитану Алатристе и Себастьяну Копонсу, оба они были сквернословоохотливые весельчаки, всегда пребывавшие в добром расположении духа, со всеми державшие себя по-свойски и бесцеремонно, как подобает ребятам удалым, бойким и к бою привыкшим. В игре оба мухлевали совершенно безбожно и для пущей убедительности сопровождали крепкой божбой каждую взятку.
Тот и другой были дюжие, с кудрявыми сальными волосами, с косматыми бакенбардами и буйными усищами, с золотыми серьгами в ушах, которые у них совершенно не вяли от беспрестанной брани. Шпаги носили на широких, тисненой кожи перевязях, одевались в добротное сукно, а на шее у каждого висело по золотому распятию, по серебряному «агнцу божьему», по скапулярии, и крестились они так же охотно и часто, как святотатствовали, тревожа забористой бранью небеса. По сходству черт можно было их принять за братьев, но на самом деле они если и состояли в родстве, то — как сами говорили — только через какую-нибудь потаскушку. Пимьента был из Кордовы, гордость квартала Дель-Потро, можно сказать, жемчужина в его венце, а Хакета трубил славу не менее знаменитому кварталу Перчель в Малаге, но при этом оба в тюрьме не сидели и веслом на галерах не ворочали. Горластые, скандальные, задиристые, вечно нарывавшиеся на ссору, с легкостью переходившие от шутейных слов к нешуточному делу, они на первый взгляд казались людьми из разряда «конторщик-забияка», которые горазды бахвалиться своим неукротимым нравом, но сами могут только языком молоть — но горе тому, кто поверил бы этому. Ибо послужные списки у обоих производили сильное впечатление и делали своих обладателей полной противоположностью вышеназванным фанфаронам — те звенят шпагой, буянят в кабаках и в борделях ярятся, но кротче ярочки делаются при первом признаке настоящей опасности. Оба перед тем, как попасть в Неаполь, принимали участие в осаде и штурме Лараче и Ла-Маморы, плавали на галерах испанских и сицилийских, воевали в Вальтеллине, были под Флерюсом и Хёксте.
— Не угодно ли попытать счастья, сеньор Куартанет? Промечу.
— В другой раз. Мерси.
Так ответил на предложение сыграть тот, кто был в комнате шестым: Жорже Куартанет, тридцатилетний белокурый здоровяк, человек учтивый в речах, суховатый в обращении, стойкий и надежный в самых скверных переделках, почему капитан Алатристе и выбрал его, благо вместе были они под Белой Горой и Берг-оп-Зоомом. Куартанет происходил из Лериды, из семьи крестьян-горцев, но рано ушел из дому и записался в полк. Как и все его земляки, был он терпелив, вынослив, неприхотлив — и хороший солдат. Из тех, что, крепко упершись ногами в землю, обнажают шпагу, замыкают уста, и ты с места его не сдвинешь, покуда все не кончится и его в эту самую землю не положат. Куартанет — случай почти невиданный среди испанских солдат — не любил кабаков, чурался карт и женщин и был едва ли не единственный на моей памяти, кто из своего скудного жалованья еще кое-что откладывал. В битве при Белой Горе, где семь лет тому назад дрался он вместе с Алатристе в роте капитана Брагадо и под командой сеньоров Букуа и Вердуго, именно Куартанет взял в плен юного принца Ангальтского — после того как католическая кавалерия ударила с фланга на его закованных в сталь конников и, расстроив их ряды, погнала в беспорядке на богемцев, которые к этому времени дрогнули и уж готовы были отступить. Как раз тогда, заметив в сумятице боя, что принц сшиблен наземь и придавлен конем, наш каталонец пробился к нему, приставил острие к сонной артерии и потребовал по-испански — причем принц каким-то чудом понял, о чем речь, ибо нет толмача лучше обнаженного клинка, — чтобы тот либо сдался на милость победителя, либо простился с жизнью.
И эта история под Белой Горой принесла нашему горцу солидный дивиденд: помимо трофеев от принца, вышедшего на битву не с пустым карманом, получил он кошелек с золотыми эскудо от сеньора де Букуа, полковник же Вердуго, не монетами по скудости средств своих одарил героя, но не менее золотыми — ибо верны они были — словами признательности и похвалы, тем более ценными, что испанцы на них исключительно скупы. И каталонец, в отличие от нас от всех, носивших деньги в поясе либо в подкладке и спускавших их чуть только кончался бой, капитал свой не трогал, но предусмотрительно вверил его попечению генуэзского банкира, имевшего контору в Барселоне.
И, разумеется, молчал в тот вечер капитан Алатристе, покуда то и дело, верный своим привычкам, стремительно и неустрашимо атаковал содержимое бутылок. Он сидел, подстелив сложенный плащ, на каменной приступочке, прислонив шпагу к стене, и, склонив голову, всматривался в вино так, словно вопрошал его о нашем будущем. Огонь в камине освещал левую сторону его лица, четко вырисовывая орлиный профиль, густые усы и несколько помутневшую — выпито было немало — зелень прозрачных глаз, перед которыми проплывали, наверно, ему одному видные образы или картины. В отблеске пламени заметней делался шрам на руке, сжимавшей стакан, и два других, пересекавших лоб — один был получен при Остенде в тысяча шестьсот третьем, второй оставлен на память в театре Принсипе двадцать лет спустя. Но я, не раз видевший своего хозяина нагишом, знал, что имеется у него на теле еще семь рубцов, не считая следа от ожога, который причинил он себе сам, допрашивая в Севилье итальянца Гараффу по поводу приснопамятного золота короля: тот, что на груди, достался ему под Белой Горой; давний, длинный извилистый шрам от удара шпагой на левом предплечье и по одному на каждой ноге — в Босфоре и в Минильясе, когда попали мы в засаду; звездчатая отметина от аркебузной пули под лопаткой появилась в Остенде, за год до шрама на лбу; а две на левом боку — от кинжала Гуальтерио Малатесты в закоулке возле Пласа Майор и от пики при Флерюсе, едва не отправившей капитана к праотцам. Располосован, словом, и дран был капитан, как пес после кабаньей травли. И, поглядывая, как он молча потягивает вино и как медленно мутнеет прозрачная стынь его глаз, я и предположить не мог, что придет день — и буду молчать точно так же, и мое тело будет так же распорото и зашито.
Потому что, идя по этой дорожке, я скоро должен был обогнать моего былого хозяина. Мне не исполнилось еще восемнадцати, а на теле моем уже светились три шрама: памятка о том, как брали на абордаж «Никлаасберген», рубец на бедре, полученный в бою при Искендероне, и другой — на спине — от кинжала Анхелики де Алькесар, прошептавшей тогда: «Как я рада, что еще не убила тебя». Пройдет время, годы и стычки на войне и при дворе оставят новые шрамы на теле и на сердце, и тут опять не обойдется без Анхелики. Все их прочертит лезвие жизни, и ни одним из них я не буду особо гордиться — я жил как живется, жил, сообразуясь с велениями времени и памятуя, что хороша всякая дорога, которая не приводит на виселицу. Но сейчас, когда я не вижу ничего, кроме прошлого и навеки ушедших теней, есть один шрам, прикасаясь к которому я невольно вздрагиваю от гордости: это след от раны, полученной в десять утра девятнадцатого мая тысяча шестьсот сорок третьего года под Рокруа, когда французская кавалерия, разметав немцев, бургундцев, итальянцев и валлонов, наткнулась в чистом поле на последнее и единственное препятствие — шесть полков испанской пехоты, стоявших сомкнутыми рядами неподвижно и невозмутимо, и прошибить наше каре удалось только после того, как артиллерия, вызванная герцогом Энгиенским, стала бить в эту живую стену (как некогда назвал нас Боссюэ), как бьют по стенам крепостным, бить, проламывая в наших шеренгах кровавые бреши, которые мы заделывали собственными телами снова и снова, до тех пор, пока наконец некем стало заделывать.
Я часто вспоминаю Рокруа. И часто, когда в одиночестве своей комнаты пишу о том, какими были мы, мне чудятся вокруг спокойные лица дорогих мне людей, навсегда оставшихся там в тот день. Ревностно и рьяно оберегая наше доброе имя и нашу славу, в самом поражении умея сохранить надменность, противостоя всей мощи французов, мы, бедные солдаты той армии, что полтора века кряду внушала трепет целому свету, дорого продали жизнь. Губительный огонь постепенно выкашивал полк за полком, но люди под старыми знаменами в редеющих с каждой минутой шеренгах, держались стойко, дрались со спокойным мужеством, повиновались приказам офицеров, которых становилось все меньше, просили, не дрогнув ни голосом, ни единым мускулом на лице, пороха и пуль, и, когда оставались в ничтожном количестве, занимали место в строю соседнего полка. Пребывали тверды и безмолвны и питали надежду единственно на то, что в смерти снищут уважение врага, а перед смертью — убьют еще скольких-то. В один из кратких промежутков боя герцог Энгиенский, восхищенный таким упорством и доблестью, через парламентера предложил Картахенскому полку — жалким его остаткам — почетную сдачу. Наш полковник был к этому времени уже убит, сархенто-майор дон Томас Перальта — ранен в горло и говорить не мог, а я, прапорщик, стоял со знаменем в середине поредевшего каре. Стало быть, некому было отдавать приказы, и тогда предложение сложить оружие обратили к капитану Алатристе — самому старому из уцелевших к этому времени капралов, уже совсем седому, с бесчисленными морщинами на лбу и вокруг усталых глаз, — но тот пожал плечами и ответил словами, которые сохранились в Истории и от которых до сих пор мороз по коже — по старой, по сморщенной моей солдатской коже.
— Передайте сеньору герцогу Энгиенскому, что мы благодарим за предложение… Но это — испанский полк.
Тогда по нам опять ударила картечь, а потом — кавалерия; началась третья атака, и на этот раз всадники добрались до меня, и я успел еще увидеть, что капитан Алатристе, который с поистине дьявольским проворством отбивался от неприятеля, половодьем подступавшего со всех сторон, — упал. А вскоре, захлестнутый людским валом, выбившим у меня из рук знамя и шпагу, свалился, едва успев обнажить кинжал, и сам.
Я выжил в этой резне, где легло шесть тысяч испанцев. «Сочтите убитых — узнаете», — таков был мой ответ начальствующему над французами, когда тот, по красной перевязи на кирасе признав офицера, спросил меня, едва ли не умирающего, сколько нас было здесь. Я так и не увидел тело капитана Алатристе, но мне говорили, будто он остался лежать без погребения, окруженный мертвыми врагами, на том самом месте, где сражался без отдыха с пяти до десяти утра. Судьба, хоть и долго потом носила меня с места на место, оставалась ко мне неизменно благосклонна, так что казалось порой, что гибель моего былого хозяина разомкнула цепь злосчастий, тяготевших над ним при жизни и всю жизнь: я командовал ротой, был лейтенантом, а потом капитаном гвардии короля Филиппа IV. В должное время заключил брачный союз с Инес Альварес де Толедо, вдовой маркиза де Альгуасаса, женщиной красивой и богатой, подругой нашей королевы. Так что я, сын своего века, вытянул, можно сказать, счастливый жребий. Не обделен был ни званиями, ни наградами, достиг видного положения при дворе, взыскан был монаршими милостями. Но всю жизнь, сколько бумаг ни проходило бы через мои руки, неизменно — и даже в ту пору, когда командовал королевской гвардией, — подписывался: «Прапорщик Бальбоа». Ибо этот чин носил я в тот день, когда в битве при Рокруа погиб у меня на глазах капитан Алатристе.
IV. Морской город
Налетая с недальних Альп, северный ветер нес безжалостно-жестокий холод, кусавший с волчьей свирепостью. Съежившись от стужи, пробиравшей до костей, несмотря на толстый плащ и подбитую бобровым мехом шапку, Диего Алатристе вышел из ворот и спустился в гондолу — одну из тех, что за два медяка доставляли желающих от таможни до площади Сан-Марко. Попасть из Дорсодуро в другую часть города можно было только по мосту через Риальто, а до него пришлось бы идти полчаса, следуя изгибам широкого Гран-Канале, вдоль живописных палаццо под свинцовыми крышами и высоких колоколен.
Покуда гондольер на корме, вяло загребая веслом, лавировал меж бесчисленных кораблей, борт к борту стоявших на якорях в устье канала — здесь собрались суда со всего Средиземноморья и всех видов и мастей: от тяжелых торговых галеонов до убогих лодчонок, называемых сандалиями, — Алатристе солдатским глазом присматривался ко всему вокруг: на фоне серого неба возвышалась над крышами, за двумя колоннами[188] главной площади города часовая башня собора Сан-Марко. Город — (слева виднелся вход в канал Джудекка, справа — остров Сан-Джорджо) — окаймлял свинцовую узкую полосу воды, уходившей к Лидо и в открытое море: проходы были узкие, с топкими песчаными берегами, с многочисленными коварными мелями, и без опытного лоцмана ходить в них было опасно. Алатристе провел в Неаполе только четыре дня, но по въевшейся в плоть и кровь привычке военного человека присматриваться к тем местам, где придется рисковать головой, старался получше узнать топографию этого удивительного запутанного города, будто подвесившего между морем и небом лабиринт своих островов, каналов и узких улочек.
Он бросил прощальный взгляд на оставшееся позади здание с его обширными пакгаузами и башней из белого камня. Как и в предыдущие дни, он приходил туда вызволять грузы, числящиеся за толедским оружейником и купцом Педро Тобаром — под этим именем находился он в Венеции. Для правдоподобия в Анконе в самом деле погружены были на корабль четыре больших ящика со шпагами, кинжалами и «бискайцами», а также образчики клинков с золотыми насечками. Как и следовало ожидать, груз задержали на венецианской таможне до уплаты пошлин. Пошла обычная канцелярская канитель, что было на руку Алатристе, который для пущего отвода глаз дважды в день в обличье купца являлся на таможню и, очень натурально разыгрывая нетерпение и досаду, требовал уладить дело, причем для ускорения формальностей щедро, но не расточительно — во-первых, средства его были ограничены, а во-вторых, не следовало привлекать к себе излишнего внимания — совал золотой цехин-другой в надлежащие загребущие руки.
Он вышел на берег у моста Дзека, плотнее завернулся в плащ — оружия при капитане никакого не имелось, кроме подвешенного сзади доброго кинжала — и неторопливо двинулся меж торговцев и прохожих, сновавших у колонн и у Дворца дожей. Потом, пройдя под аркой, углубился в Мерсерию по длинной, мощеной (так же, как и все прочие в Венеции), узкой улице — единственной, насчет которой был уверен, что дойдет по ней до Риальто, а не заблудится в лабиринте проулков, упирающихся в площади, крытые галереи или в каналы. Этот путь, как и несколько других основных маршрутов, позволяющих ориентироваться в Венеции, он изучил по карте, которую купил в первый же день в книжной лавке: хорошо гравированная, дорогая, величиной в шесть дюймов карта давала вид на город с птичьего полета — со множеством полезных подробностей.
Раза два капитан останавливался как бы случайно — чтобы поглядеть то на витрину лавки, то на встретившуюся на пути женщину, а на самом деле — чтобы незаметно удостовериться, что за ним не следят. На первый взгляд все казалось спокойно, но Алатристе знал, что это ничего не значит и ни от чего не упасет. Дон Франсиско де Кеведо помимо прочего рассказал ему, что венецианские тайные службы — лучшие в мире и что местная инквизиция, очень тесно связанная с властями Серениссимы — из трех главных инквизиторов двое входили в Совет Десяти — широко раскинула сеть своих шпионов, осведомителей и доверенных лиц, разработав изощренную систему доносов и подкупов. И злокозненная до последней степени вероятия Венеция, со всех сторон окруженная врагами, веками не допускающая к браздам правления никого, кроме нескольких патрицианских кланов, сменяющих друг друга и действующих по строжайшим внутренним законам, напоминала паучиху, которой самим богом заповедано ткать свою сеть с благоразумной предусмотрительностью и безо всяких моральных ограничений. И достаточно было занести аристократа или плебея, венецианца или чужестранного подданного в списки врагов Республики, чтобы он, под пыткой признав свои истинные вины или возведя на себя напраслину, был удавлен и исчез бесследно.
Алатристе меж тем добрался до Риальто и перешел мост, лавируя среди бесчисленных попрошаек, рассыльных, бродячих торговцев и зевак. Рассказывали, что мост этот, поставленный сорок лет назад взамен предыдущего — венецианские мосты большей частью возводились из просмоленного дерева, сгнивали от вечной сырости и рано или поздно рушились — состоял из одной мощной арки, внешней балюстрады с ювелирными лавками, которые располагались в самой широкой его части, выстроенной из белого камня. Алатристе, однако, был не из тех, кто дивится достопримечательностям и примечает диковины. И сама Венеция со всеми ее палаццо и выставленными на всеобщее обозрение богатствами не производила на него особого впечатления. Мир для капитана был местом, где он переходил с одного поля битвы на другое, от схватки к схватке. И от красоты статуй и памятников, от возвышенности искусства, от каменных идолов и измазанных красками холстов было ему не жарко и не холодно. И к музыке тоже оставался он нечувствителен. Только театр, который он, как истый испанец, любил без памяти, да книги, помогавшие терпеливо сносить злосчастья, вызывали у Диего Алатристе интерес и до известной степени умягчали его дух. Все прочее же он расставлял по степени самой низменно-незамысловатой и приземленной полезности, понимавшейся им с почти спартанской простотой. Война и прочие бедствия приучили его не только довольствоваться малым, но и нуждаться лишь в самом необходимом: желательно иметь кровать, еще лучше — женщину в ней, да еще шпагу, чтобы с ее помощью снискать хлеб насущный. Прочее он почитал ненужным и излишним роскошеством: появлялось — брал, но ничего не алкал, ни к чему не стремился, ни на что не уповал. Ему, Диего Алатристе-и-Тенорио, сыну своего века и заложнику своей корявой биографии, вполне хватало этого, чтобы убивать отмеренное ему время в ожидании урочного часа.
Он оставил позади мост, прошел мимо лавочек, торговавших тонкими сукнами и, свернув налево, через десяток-другой шагов снова попал к каналу и к молу под названием Дель-Вино. Крытая галерея, темная и длинная, вывела его на маленькую площадь, каких так много было в этом городе: посредине стоял фонтан, а торцом к каналу, напротив остерии с образом Мадонны в нише, освещенной лампадкой, — хороший трехэтажный дом с балконом в стрельчатой арке. Обиталище капитану подыскали люди из посольства, и выбор сделали как нельзя более верный: место было людное — у остерии вечно толпился народ, а совсем недалеко находился Риальто, где на чужестранцев никто не обращал внимания. Кроме того, темная аркада, выходившая на площадь, не позволяла соглядатаю вести скрытое наблюдение, ибо, в свой черед, он был бы тотчас замечен из окна. В довершение всего в доме имелся второй выход прямо на берег узкого канала, протекавшего под самыми окнами. И это достоинство, позволявшее появляться и исчезать незаметно, с лихвой искупало и предназначение дома, и особенности его хозяйки.
— Доббро поджаловать, синьор Педро. Господжа ждет вас.
— Спасибо, Люциетта.
Диего Алатристе отдал плащ и шапку в руки служанке — молоденькой, изящной, миловидной и бойкой. Медленно поднялся по лестнице, зашел в свою комнату, вымыл лицо в тазу, отстегнул и бросил на кровать кинжал — и по навощенному, поскрипывающему под ногами паркету направился к двойным, наполовину открытым дверям в главную гостиную. Пол в ней был устлан персидским ковром, на столе стоял стеклянный канделябр с незажженными свечами, а в камине, облицованном мрамором, жарко пылал огонь.
— Staga comodo[189], — услышал он женский голос.
Та, кому он принадлежал, сидела в парчовом кресле в сероватом свете, падавшем из стрельчатого окна. Домашнее платье, покроем напоминавшее восточный халат; бархатные комнатные туфли на босу ногу — виднелись голые щиколотки, отделанная кружевами шаль на плечах. Кружевной чепчик покрывал пышные волосы — чересчур черные, чтобы быть натуральными.
— Добрый день, — не вполне уверенно поздоровался капитан.
Женщина кивнула в ответ, показывая на табурет, но Алатристе сдержанной улыбкой обозначил отказ. Он предпочел остаться на ногах и подойти поближе к камину, чтобы отогреться.
— Вуаша милость очень вуовремя, — сказала женщина.
Теперь она говорила по-испански — бегло, но с сильным венецианским акцентом. Мило с ее стороны, подумал Алатристе, придвигаясь еще ближе к огню. Впрочем, это естественно: она привыкла угождать мужчинам, с которыми имела дело.
— Был на таможне: там задержали мой груз.
— Что-нибудь серьезное?
— Нет.
Алатристе обстоятельно рассматривал хозяйку. Донна Ливия Тальяпьера считалась одной из самых известных венецианских куртизанок. У этой брюнетки со смуглым, еще красивым лицом, с манерами и воспитанием как нельзя более подходящими для ее ремесла, были испанские корни — ее иудейских предков Тахапьедра изгнали с Пиренеев больше века назад. Даже без каблуков она была почти одного роста с капитаном. На вид ей можно было дать лет сорок, прожитых со вкусом и с толком: недаром (даром, что отказу не было никому) в былые времена меньше чем за полсотни дукатов она даже перед маркизом не расстегнула бы и крючочка на платье. Впрочем, ремесло свое она оставила уже довольно давно, а занималась сводничеством на дому, посещаемом днем и вечером избранными питомицами и состоятельными доверенными клиентами. Иногда — по особой рекомендации — предоставляла кров и стол тем, кто предпочитал выгоды и достоинства ее гостеприимства проживанию в обычной гостинице. Именно таков был случай капитана Алатристе, который поселился здесь по указанию секретаря испанского посольства Сааведры Фахардо, прибывшего в Венецию из Милана на день раньше и остановившегося в миссии. Было вполне в порядке вещей, что преуспевающий коммерсант-оружейник поселился у Тальяпьеры. Женщина надежная и достойная всякого доверия, прибавил Сааведра с многозначительным видом человека, который говорит несравненно меньше, нежели знает. Помолчал и добавил: «Несмотря на иудейскую кровь».
— Вуаш слуга ушел. Просил передать, что вуоротится к обеду.
— Больше никаких сообщений для меня не было?
Женщина на миг задержала на нем взгляд. Алатристе не знал, насколько посвящена она в подробности заговора и вообще осведомлена о нем. Но всегда — а в таких делах особенно — лучше, чтобы всем причастным вообще было известно как можно меньше. Чтобы, когда притянут, ничего из тебя не вытянули. Ну, разве что жилы. Потому что чего не знаешь, того не выдашь.
— Вас, синьор, оджидают в посольстве к чьетирем чьясам.
Алатристе кивнул. Его люди жили в других кварталах города и должны были встречаться с ним в строго определенный час в условленном месте, чтобы узнавать новости и получать дальнейшие распоряжения. Что же касается хозяйки, он по-прежнему не вполне понимал, чего ради ввязалась она в заговор и рискует так, как рискует. Всегда трудно провести грань между корыстью, преданностью делу и неведомыми личными побуждениями, а уж в переменчивой Италии — особенно. Сааведра Фахардо говорил, что верность этой дамы испанскому королю проверена неоднократно и на деле. Благополучная, привыкшая угождать богатым клиентам, со связями в самых верхах венецианского общества, о виднейших представителях которых знала немало, донна Ливия была поистине кладезью полезных сведений и бесценным соучастником заговора.
— Об-бедали, синьор?
— Перекусил немного. Благодарю.
— Оч-чень скудно, мне сказали.
Сказали ей правду. Алатристе, всегда умеренный в привычках, перед уходом на таможню выпил стакан вина и сжевал ломоть хлеба, а к обеду, поданному ему молоденькой горничной, не прикоснулся. Сейчас он заметил, что Тальяпьера разглядывает его с любопытством. Было очевидно, что она, поднаторевшая в общении и в беседах с мужчинами, два дня прикидывала, к какой бы категории причислить нового постояльца. Должно быть, бывшую куртизанку удивило, что, не в пример прочим ее гостям, Алатристе отказывается от подобающих и вполне доступных благ — возможности вкусно поесть за столом с чистой скатертью и вкусить иных услад, о которых гремела молва. Ибо этот сумрачный испанец был воздержан не только в еде. Прошлой ночью, не утруждая себя поисками предлога, но лишь качнув головой и учтиво улыбнувшись в усы, он отклонил услуги хорошенькой аппетитной барышни, которая заглянула к нему в комнату с устным посланием от хозяйки, имевшей сообщить через ее посредство, что все, находящееся под ночной сорочкой с многообещающе полуразвязанной лентой под грудью, предоставляется бесплатно, в качестве знака внимания.
— Peccato… То есть — джалько! Мне сказали, Гаспарина не понравилась синьору. Но, моджет, вам придется по вкусу…
Она замолчала, словно давая постояльцу возможность рассказать о своих предпочтениях, каковы бы они ни были. Алатристе, продолжавший греться у камина — ледяная венецианская сырость намертво, казалось, засела в складках его одежды, — состроил на лице такую же вежливую и несколько утомленную улыбку, как и накануне ночью:
— Голова другим занята, синьора. Но я благодарен вам за внимание.
Это была сущая правда. Он никогда не чурался красивых женщин, в разряд коих входила и давешняя барышня. Но Венеция была опасна, и постоянное напряжение заставляло его столь же постоянно пребывать настороже и не доверять никому. Дать себе волю, отпустить вожжи, воспользоваться радушием этих ляжек — значило бы уменьшить свои шансы на выживание, ибо человек в его положении должен спать вполглаза и с кинжалом под подушкой. Да не он ли сам какое-то время назад, когда выполнял по обычному тарифу заказ обманутого мужа, убил в Мадриде человека, застигнув его врасплох в постели с женщиной. И проще простого, до нелепости просто оказалось прийти в указанный дом, вломиться в спальню и, застав злосчастного любовника в самый разгар утех, дать ему еще время обернуться и потянуться за шпагой — а потом ударом в грудь пригвоздить к кровати под отчаянные вопли прелюбодеи, верещавшей так, будто ее уносили черти.
— В другой раз, — прибавил он.
Куртизанка пристально поглядела на него. В глазах мелькнула искра внезапного интереса. Потом скорчила гримасу, которую только совсем недалекий человек мог бы принять за улыбку.
— Поччиему бы и нет? — щедро показались белые ровные зубы. — Пуодберем вам, синьор, что-ниббудь раз-зясчее, сраджаюсчее наповал…
Если уж зашла речь о сражениях, подумал Алатристе, в свой черед задерживаясь взглядом на донне Ливии, то она могла бы стать достойным противником, хотя лучшие ее годы и остались позади. Крупное, но соразмерно статное тело, привлекательное даже без косметических ухищрений лицо с большими карими глазами миндалевидной формы. Длинный, дерзко торчащий нос придавал ему особую надменность. Что касается прочего, то под домашним нарядом угадывались пышные и упругие округлости, а выглядывали из-под него точеные белоснежные лодыжки. Без сомнения, некогда эта женщина была очень хороша. Да и сейчас блещет изобильной, чуть перезрелой красотой.
— Угуодно что-ниббудь, дон Педро?
Она продолжала смотреть на него так, словно читала его мысли. Или пыталась прочитать. Капитан мягко покачал головой. Задержав взгляд еще на миг, куртизанка отвернулась к окну, к лучам сероватого света. Алатристе меланхолически подумал, что в иных обстоятельствах, случись ему выбирать женщину, он выбрал бы эту. В том, разумеется, случае, если она еще практикует. Сааведра Фахардо, помнится, упомянул, что Тальяпьера сама больше не обслуживает клиентов, даже самых выгодных, а лишь торгует свежим телом своих питомиц.
— Тут зубы обломаешь, — процедил Себастьян Копонс с присущим ему лаконизмом.
Мне оставалось лишь согласиться, хотя я старался помалкивать. Здание Арсенала с высокими кирпичными стенами, рвами и башнями, будто врезанными в свинцовое небо, и в самом деле внушало почтение. Мы втроем с арагонцем и Гурриато-мавром отправились изучить местность, благо в этот час народу там было — море, и ничего не стоило затеряться в толчее. Вход в знаменитые венецианские верфи находился в конце широкого канала, тянувшегося от причалов перед лагуной, где борт к борту теснилось множество судов. Две высокие квадратные башни стояли по обе стороны исполинских двойных ворот из бронзы и дерева, указывая проход по воде — по ту сторону можно было различить пришвартованные или вытащенные на берег галеры, — а слева помещался проход сухопутный, и на фасаде здания надменно красовался огромный мраморный барельеф с изображением льва Святого Марка. Все свидетельствовало о прочности, о твердости, о мощи, и караульные солдаты службу несли дисциплинированно и бдительно.
— Далматинские наемники, — пробурчал Копонс.
Задумчиво поскреб в бороде и сплюнул под ноги, в сине-зеленую воду канала. Чуть сощурив веки, отчего заметней стали морщины на висках, он с приметливостью старого солдата вел наблюдение, зная, что на войне глаз рыщет впереди руки — в точности, как капитан Алатристе, когда тот принимался взвешивать возможный риск и прикидывать возможности. Я проследил направление его взгляда, стараясь увидеть то же, что он, ибо помнил, что несколько лет назад с насмешливой улыбкой ответил мой хозяин на какую-то мою ребяческую браваду, а какую именно — сейчас уже запамятовал:
Упрямых дурней в мире большинство, А самый олух всех самодовольней: Он со своей взирает колокольни, И знать не хочет больше ничего.Часовые были все один к одному — крепкие и рослые ребята, как водится за уроженцами их краев. Без сомнения, это были солдаты из гарнизона соседней крепости, которых привлекали нести охрану верфей. Немного утешала меня мысль, что, если все пойдет как задумано, в решительную ночь они окажутся на нашей стороне. Ибо иным манером решительно невозможно взять вчетвером эти внушительные ворота, чтобы потом, прорвавшись внутрь, в Арсенал, учинить задуманное. Я взглянул на Гурриато-мавра, молча озиравшегося по сторонам, но по его каменно-бесстрастному лицу нельзя было догадаться, дивится он величественной мощи этого земноводного города, которую как нельзя лучше олицетворял Арсенал — творение Венеции и ее же символ, — или размышляет о поджидавших нас опасностях. Мы трое стояли, завернувшись в плащи и облокотившись на перила деревянного подъемного моста, соединявшего берега канала, как бы защищенные многолюдством и растворенные в нем: народ беспрестанно курсировал с той стороны на эту и обратно.
— Ну, мавр, что ты думаешь об этом?
Айша Бен Гурриат только чуть повел головой, словно давая понять, что думам его грош цена. Отгадать их я не мог, однако, достаточно зная его к тому времени, знал и то, что ему свойственна простодушная вера в нас, в наши знамена и в наши возможности. Да, Венеция была воплощенной надменностью, но за ним-то стояла держава, повелевавшая целым светом. Для такого, как он, для пропащего солдата с вытатуированным на щеке крестом, для человека, живущего в поисках дела, которое придало бы смысл его верности, именно могущество Испании и вера в людей, подобных капитану Алатристе, побудили его связать свою судьбу с нашей. Путь его, воина племени Бени-Баррани — «сынов чужбины», принявших христианство еще в ту пору, когда на севере Африки жили готы, — лежал в один конец, и возврата не было. Однажды дав слово, он слепо двинулся следом за нами и готов был идти навстречу смерти, как это было в бухте Искандерон, как это могло быть сейчас в Венеции или там, куда занесли бы нас превратности солдатского ремесла. Идти, не задавая вопросов, не ожидая ничего, храня верность своей судьбе, вместе с товарищами на жизнь и на смерть, которых он избрал себе сам, по доброй воле.
— Все они выходят отсюда, — сказал я. — Все галеры, что не дают нам житья в Адриатике… Как тебе это место?
— Мекран. — У него пресеклось дыхание. — Большое.
Я засмеялся.
— Бросьте болтать, — вмешался Копонс.
Я огляделся по сторонам, скользнув взглядом поверх голов тех, кто заполнял причалы по обоим берегам канала: моряки и уличные музыканты, жители окрестных домов, зеленщики, причалившие к левому берегу свои лодки с грудами фруктов и овощей, рыбаки с корзинами извивающихся угрей. На влажных ступенях моста сидели и просили милостыню нищие: их здесь было больше, чем в Мадриде или Неаполе. Внезапно я различил в толпе знакомую фигуру: между матросской харчевней и кордегардией, перед которой вяло свисало с мачты большое полотнище красного венецианского флага, неподвижно стоял человек в черной шляпе и черном плаще. Казалось, он издали наблюдает за нами. До него было шагов пятьдесят, но я узнал бы его даже в сонмище грешных душ в преисподней. И потому, сказав товарищам подождать, незаметно ощупал кинжал под плащом и двинулся к нему.
— Да… Много воды утекло, мальчуган…
Он постарел. Еще больше высох и как-то выцвел; в усах и длинных волосах, падавших из-под шляпы, появилась седина. От шрама, задевшего правое веко, казалось, глаз стал косить сильнее, чем при нашей последней встрече в Эскориале, когда, взвалив на спину мула, гвардейские стрелки везли его под дождем, закованного в кандалы по рукам и ногам.
— А ты подрос… Giuraddio[190]! Скоро меня догонишь!
Он рассматривал меня пристально, со злой насмешкой. С прежней своей улыбочкой — жестокой и самодовольной. И, узнав ее, я разозлился.
— Что делаете здесь, сеньор?
— В Венеции? А то ты не знаешь?
— Здесь, в Арсенале.
Он поднял руку ладонью вверх, как бы показывая, что она пуста. Я взглянул на его левое бедро. Под черным плащом длиной до пят угадывалась шпага.
— Да я же ничего… Прогуливался всего лишь… Увидел тебя издали. И сначала не был уверен, что это ты, но потом убедился — так и есть.
Вздернув подбородок, он показал на деревянный мост. Приоткрыл улыбкой два резца, сломанных почти пополам. Раньше этой щербины не было, вспомнил я. Наверно, появилась, когда он сидел в каталажке. От дона Франсиско я знал, что его зверски пытали.
— От твоих товарищей на пол-лиги несет испанской пехотой. Посоветуй им не высовываться. Нечего шляться по городу — пусть сидят в таверне или в гостинице, пока время не приспело.
— Это не ваше дело.
— И то верно, — улыбка сделалась еще более зловещей. — У каждого своих дел хватает. У меня вот их — выше крыши.
И, словно засомневавшись в этом, обернулся назад. За спиной у него оказалось то, что французы называют fritoin, то есть маленькая дешевая харчевенка, где жарят мясо и рыбу в оливковом масле. Потом сделал приглашающий жест. Я мотнул головой. Он кивнул, как бы отдавая должное моей щепетильности, счел за благо не настаивать и, стянув перчатки, сделал несколько шагов к жестяной жаровне под навесом. И принялся греть над нею руки, а когда я все же подошел ближе, сказал внезапно:
— Вид у тебя — прямо загляденье. Уверен, девицы на тебя так и вешаются, и перепортил ты их уже немало. Ты что, — в самом деле не желаешь выпить стакан вина под жареную сардинку? В конце концов, у нас — у тебя, у меня и твоего разлюбезного капитана — перемирие.
Обеспокоившись за меня, стали подходить поближе Копонс и Гурриато-мавр. Гуальтерио Малатеста был им незнаком, а иначе они обеспокоились бы еще больше. Я сделал им знак, чтобы подождали в сторонке, у баркасов.
— Ты, наверное, знаешь, что у нас с твоим капитаном был разговорец в Риме…
Он продолжал растирать над огнем худые узловатые пальцы в таких же, как у Алатристе, мелких шрамах и рубцах. Я заметил, что на двух пальцах левой руки не было ногтей.
— Жаль, что приходится откладывать на потом — и немалое, — сказал я задумчиво. — Но в свой срок все придет.
Молчание было долгим. Я уже собрался уйти, но итальянец взглядом остановил меня:
— Я до сих пор не поблагодарил тебя за то, что там, в Минильясе, ты не дал Алатристе меня приколоть.
— Вы нам нужны были живым, — отвечал я сухо. — Иначе мы бы не доказали свою невиновность.
— Пусть так, мальчуган. И все же если бы ты не удержал его руку…
Он сузил глаза, и веко со шрамом слегка задрожало, не закрывшись до конца.
— …то избавил бы меня от очень многих неприятностей. Уж поверь мне.
Он вытянул руки, словно они все еще болели после пыток, приоткрыл в ядовитой улыбке выщербленные зубы. Я разозлился еще сильней. Если бы можно было, ткнул бы его кинжалом прямо на месте. Так хотелось это сделать, что пальцы, нашаривавшие под плащом рукоять, зудели.
— Надеюсь, — сказал я, — что отдрючили на славу.
— Можешь не сомневаться, — отвечал он с полнейшей естественностью. — Постарались. И у меня был случай поразмыслить о тебе и о капитане. И о том, как с вами расквитаться… Ну да ладно. Сейчас мы здесь. В этом прекрасном городе.
Он посмотрел по сторонам, будто то, что видел, доставляло ему наслаждение. И прежде чем обернуться ко мне, снова улыбнулся.
— Я уже не раз имел счастье убедиться, что ты очень недурно управляешься со шпагой… Но все же мой тебе совет: не зарывайся. Помнишь ту ночь в Мадриде, когда вы вломились в женский монастырь, что потом чуть не стоило тебе костра инквизиции? Или тот случай на Аламеде-де-Эркулес в Севилье, когда ты кинулся на меня очертя, что называется, голову?
Он похлопал себя по бедру, где висела шпага. И расхохотался так, словно ему сию минуту рассказали нечто необыкновенно забавное. Как хорошо я знал этот сухой скрипучий смех, сколь памятен был он мне. Вот только глаза его, неотрывно устремленные на меня, не смеялись.
— Черт возьми, у нас с тобой поднакопилось общих воспоминаний.
— Все вы врете. Ничего общего с такой тварью у меня быть не может.
— Ну-ну-ну, мальчуган. — Он по-прежнему глядел на меня пристально и в лице не изменился. — Ты, я вижу, раздухарился всерьез. Такие слова произносишь…
— Есть язык, чтобы их произнести, и хватит духу за них ответить.
— Ну, раз ты так считаешь… Тебе, конечно, видней…
Он с совершеннейшим бесстыдством в последний раз потер руки над огнем, потом вытащил из-за пояса и надел перчатки.
— Ладно, все на этом. Я ведь хотел всего лишь посмотреть, какой ты стал. Раз уж счастливый случай свел нас.
Я взглянул на Копонса и Гурриато, которые, стоя у баркаса, посматривали на нас с явными признаками нетерпения. Видно было, что оба еле сдерживаются, чтобы не подойти и не полюбопытствовать. Итальянец будто прочел мои мысли.
— Мне пора. Снеси поклон капитану Алатристе… На днях, полагаю, увидимся…
— Малатеста, — перебил я.
Он недоуменно устремил на меня взгляд, как если бы вдруг ему открылось нечто новое — такое, чего раньше не замечал. Я никогда прежде не обращался к нему по имени или по фамилии, но сегодня впервые взглянул на нашего с капитаном недруга глазами взрослого человека, как настоящий мужчина. Который так же близок от клинка его шпаги, как он — от моей (будь она сейчас при мне).
— Что?
— Вы постарели, ваша милость.
Снова мелькнула жестокая усмешка. На этот раз он лишь на мгновение обозначил ее. И рассеянно провел ладонью по лицу, покрытому давними оспинами.
— Ты прав, — согласился он с печальным цинизмом. — Последние годы не пошли на пользу моему здоровью.
— Но тем не менее остаетесь, я полагаю, смертоносной змеей.
Он секунды три-четыре помедлил с ответом, меж тем как черные холодные глаза пытались определить, куда я клоню.
— Я защищаюсь, мой мальчик, — наконец промолвил он. — Я защищаюсь. Каждый делает что может. Но не тебе меня упрекать. Вспомни-ка пословицу, что больше толку от умного во врагах, чем от дурня — в друзьях. По крайней мере, так считается.
Я решительно мотнул головой. Придет и судный день, подумалось мне, и все всплывет наружу.
— Насчет капитана вы ошибаетесь. Не он вас убьет, а я.
Снова мелькнула злобно-насмешливая гримаса:
— Ого! Я запомню эти слова.
— Не стоит трудиться. Я сам напомню, когда предъявлю счет.
Эти слова были сказаны не ею. Я произнес их негромко и ровно. И еще больше понизил голос, когда добавил:
— Клянусь вам.
Усмешка медленно улетучивалась с его лица. Змеиные неподвижные глаза по-прежнему меня буравили. И никогда прежде я не видел в них такого серьезного выражения.
— Да, — сказал он наконец. — Очень может быть.
Диего Алатристе вылез из гондолы у посольства Испании и, стараясь не поскользнуться на влажном мху, покрывавшем ступени, поднялся, пересек превращенный в сад внутренний дворик за главным входом. В том, что испанский купец пришел уладить кое-какие личные дела, не было ничего особенного, так что он отодвинул тяжелую красную бархатную портьеру, назвал свое имя — «Педро Тобар» — привратнику, прошел по длинному сводчатому коридору, увешанному по стенам гобеленами — фламандской, как показалось ему, работы — и спустя мгновение, скинув шапку и плащ, уже сидел со стаканом горячего вина в руке перед столом, на котором среди разбросанных бумаг стояли чернильница, стаканчик с короткими перьями, песочница, а на полу источала запах лаванды медная жаровня, где тлели раскаленные угли. В комнате находились еще двое — секретарь посольства Сааведра Фахардо и дон Бальтасар Толедо, который отвечал за всю военную сторону операции. Переодевшись доминиканским монахом и сбрив усы, чтобы не узнали, он приплыл по Бренте накануне вечером. И привез с собой для нужд Алатристе и прочих вексель на девятьсот пятьдесят реалов: рачительный Сааведра уже успел получить по нему мешочек золотых и другой — со старыми серебряными полуцехинами. И капитан, медленно — поскольку был не счетовод, а солдат, — пересчитав деньги, рассовал их по карманам, выпил стакан горячего вина, не отказался от второго, вытянул ноги поближе к жаровне и приготовился слушать последние новости.
— Переворот начнется через три дня, — сообщал Бальтасар Толедо. — Десять галер с испанскими солдатами приближаются к Венеции. А те, кого пока нет в городе, прибудут сегодня или завтра. Впрочем, командиры уже здесь и, как и вы, сеньор Алатристе, знакомятся с местностью, где им предстоит действовать.
Капитан смотрел на него, словно мерку снимал. От этого человека будет в определенном смысле зависеть его собственная жизнь и жизнь его людей. Побочный сын маркиза Родеро был мужчиной видным и статным. Лицо имел смуглое, с правильными чертами; ранняя седина придавала особенное благородство его облику, по которому так легко угадать, как молодой человек из хорошей семьи, начав службу с жалованьем в шесть эскудо при каком-нибудь полководце, дальше двинулся без задержки и стремительно сделал военную карьеру. И Алатристе, в тринадцать лет ставший барабанщиком и мочилеро, а потом еще тридцать месивший грязь и дерьмо под знаменами короля, не мог не сравнить судьбу свою и этого господина.
— Посол, дон Кристобаль де Бенавенте, остается в стороне, — продолжал Толедо. — Даже я не буду сноситься с ним. Это должно быть ясно — на тот случай, если кто-нибудь влипнет, куда не надобно влипать… Потому что последняя история, случившаяся во времена Бедмара и герцога Осуны, наделала слишком много шуму, и на испанцев повесили всех собак. Так что официально его превосходительство решительно ни о чем понятия не имеет.
Сааведра Фахардо слушал молча, нахмурив лоб с видом школьного учителя, вызвавшего ученика отвечать трудный урок. Он чем-то напомнил Алатристе счетовода Ольмедилью, с которым познакомился в Севилье, куда тот был прислан оприходовать контрабандное золото — и где во исполнение своего долга геройски погиб на борту «Никлаасбергена». А вот насчет честности Сааведры капитан за неимением сведений сказать не мог ничего. Обликом своим — черным колетом тончайшего сукна с вышитым на груди крестом Сантьяго и белым накрахмаленным воротником-голильей — дипломат удивительно вписывался в представления о том, как выглядит высокопоставленный чиновник испанской монархии, который в канцелярии, в окружении сонма помощников, но и сам не гнушаясь выпачкать пальцы в чернилах, отсылает и получает бумажки, однако имеет в руках власти больше, чем иной вельможа или генерал, ибо от него зависят могущество и слава королей и министров — тех, кому он служит. Впрочем, он и сам — не что иное, как результат сложных расчетов, — сумм и разностей, — между верностью и подлостью.
— Однако и вы, и я, — возразил Алатристе, отхлебнув еще вина, — знаем, что посол — в курсе дела.
Оба воззрились на капитана. Сааведра — с любопытством, Толедо — несколько высокомерно. Последнему как будто не понравилось, что подвергнута сомнению его умопостигаемая стойкость на допросе в застенке.
— Говорят, вы — немы.
Он сказал «вы», а не «мы», и это слегка взбесило Алатристе. Он, старый пес, все на свете видевший, прекрасно знал, что при должном навыке и соответствующем подходе язык можно развязать у любого. И вся разница лишь в том, что у одних раньше, у других — позже. Знал и то, что если очень повезет, испустишь дух, прежде чем с тебя спустят шкуру, — и ничего не скажешь.
— Да, мы — не вы. Но иногда такую музыку заведут, что не захочешь, а запоешь.
Бальтасар Толедо, по-прежнему с недовольным видом хмуря чело, показал на Сааведру. В этом случае, сказал он, даже если подозрения не превратятся в уверенность, след выведет на господина секретаря испанского посольства в Риме, оказавшегося по несчастной случайности в Венеции, но защищенного разнообразными охранными грамотами, дипломатическими паспортами и прочей канцелярской чепухой. Никто, конечно, не поверит по-настоящему, будто все сводится к его персоне, но какая разница? И ограничатся тем, что вышлют его из Венеции под крепким конвоем, предварительно доставив ему несколько неприятных минут. И не более того. Нерушимые законы дипломатии оказываются весьма полезны в час, когда начинают искать козла отпущения.
Сааведра слушал с едва заметной улыбкой — одновременно и лукавой и смиренной.
— Все это, кстати, напомнило мне еще об одном чрезвычайно важном обстоятельстве, — сказал он, когда Толедо замолк. — Вы, сеньоры, должны напомнить своим людям, чтоб и не думали искать убежища здесь, в посольстве… Во избежание этого мы и решили удовлетворить требование, выдвинутое вами, капитан, в Милане. Два парусника из разных мест подойдут к островку в лагуне, где будет сборный пункт, и заберут вас оттуда.
— Что за островок?
Сааведра Фахардо расстелил на столе карту. Большую, рисованную от руки, подробную — лучше той, что купил Алатристе на Мерсерии, — и показал на точку, отстоявшую на лигу северо-восточнее от двух островов покрупнее, обозначенных как Торчелло и Бурано.
— Называется Сан-Ариано. Маленький, почти незаметный, недалеко от канала Трепорти. Оттуда вас снимет парусник побольше.
Он держал карту развернутой столько времени, чтобы Алатристе и Толедо успели запечатлеть ее в памяти. Потом снова скатал в рулон.
— И позвольте, сеньоры, еще раз настоятельно вам напомнить… Про убежище в этом доме и думать забудьте… У ворот будут выставлены караул с приказом и близко никого не подпускать.
Он говорил, обращаясь главным образом к Алатристе. А тому очень хотелось бы посмотреть, как это посол Бенавенте откажет в убежище дону Бальтасару Толедо. Другое дело — он сам и прочая солдатская кость, пушечное мясо.
— Кто будет новым дожем? — спросил он.
Последовало неловкое молчание. Сааведра Фахардо быстро переглянулся с Бальтасаром Толедо.
— Это не должно вас занимать, — сухо ответил последний.
Диего Алатристе с намеренной медлительностью поставил пустой стакан на стол.
— Как сказать… Мне пора бы уж знать это. Чтоб не убить его по ошибке.
От дерзкой бравады этой фразы брови Бальтасара сошлись у переносицы.
— Я не намерен…
Сааведра Фахардо светски-умиротворяющим жестом вскинул руку:
— Сеньор Алатристе до известной степени прав. В самом деле, приспела пора сообщить ему это… И под его ответственность.
Лицо Толедо по-прежнему выражало сильнейшие сомнения. Он, казалось, вовсе не был в этом убежден. Но дипломат закрыл вопрос. Сеньор Алатристе, повторил он, должен быть осведомлен. Это может ему понадобиться.
— Риньеро Дзено. Член Совета Десяти.
Последовали подробности. Смертельный враг нынешнего дожа Джованни Корнари, Дзено с полным на то основанием обвинил его в том, что дож со своими присными и родней устроил сущую вакханалию неправедных приговоров, убийств, лихоимства, порчи нравов — и это в Венеции, и без того растленной по самой своей сути. Дзено, бывший посол Республики в Турине и в Риме, был человеком порядочным — насколько может быть порядочен венецианец. Твердый и неуступчивый, он выражал чаяния той части местной аристократии, которая считала, что ее на этом пиру обнесли чашей, и всего неделю назад добился, чтобы выборы двух сыновей Корнари, которых последний лишь в мае, поправ все законы и представления о приличиях, протолкнул в сенат, признали незаконными. С другой стороны, Дзено тяготел к Испании и терпеть не мог французов и папистов. Еще не позабылся наделавший много шуму скандал с кардиналом Дольфином, родственником прежнего дожа: Дзено публично обвинил кардинала в том, что он состоит на жалованье у Ришелье, и подтвердил это документами, которые — добавим, кстати, — предоставило ему посольство Испании.
— В том случае, если нынешний дож исчезнет, — договорил Сааведра Фахардо, — а это предполагает и принятие кое-каких мер в отношении его родни, что, впрочем, не наша печаль: пусть этим занимаются сами венецианцы… Так вот, в этом случае его преемником будет избран Риньеро Дзено. Нетрудно представить себе, какие выгоды получит Испания от такой замены. Лютеране и фламандцы получат смертельный удар… Уж не говоря о Франции и ее закадычном друге папе Урбане.
Алатристе кивнул. Последствия просчитать было нетрудно. Даже он, последняя спица в колесе заговора, понимал, что́ сулит Испании воцарение Дзено. Но произнес только одно слово:
— Ловко.
Бальтасар Толедо провел рукой по бритому лицу, словно тоскуя по исчезнувшим усам. Так или иначе, сказал он, после того как сенатор Дзено станет дожем — это не будет касаться ни Алатристе, ни его самого, — найдутся грамотеи, которые озаботятся дальнейшим.
— А у нас — иные докуки, столь же безотлагательные. К примеру, два капитана, вовлеченные в заговор, желают повидаться с вами. И со мной. Поглядеть на нас.
Он протянул руку к бутылке вина, поставленной рядом с жаровней, и вопросительно взглянул на Алатристе. Казалось, Толедо хочет как-то загладить свою недавнюю сухость. Но капитан лишь качнул головой. Он бы с удовольствием выпил третий стакан, но это было бы не ко времени. Нужна исключительно ясная, хорошо соображающая голова.
— Зачем мы им? — спросил он.
— Одного зовут Лоренцо Фальеро, его немецкая рота будет нести караулы во дворце дожа. Другой — некто Маффио Сагодино, который командует далматинцами из гарнизона замка Оливоло. Он обеспечит нам проход в Арсенал.
Алатристе счел такое любопытство вполне резонным.
— Естественно, что они желают познакомиться с нами. Рискуют-то больше нашего.
— Все не так просто, — возразил Толедо. — Начать с того, что они требуют выплатить им загодя некую сумму, о которой раньше речи не было. Большие, говорят, расходы.
— И это тоже понятно. За спасибо и слепец нынче не споет.
— Это не тот случай, — вмешался Сааведра Фахардо. — На те деньги, что они уже получили, можно было купить пол-Венеции. А им все мало.
— Меня несколько беспокоит место, в котором они назначили встречу, — сказал Толедо. — Оно мне не нравится. Я нынче утром побывал там и скажу вам: в самый раз для засады. Просто богом создано.
Он помолчал, желая, чтобы слово «засада» впечаталось в сознание Алатристе. Потом сделал какое-то беспомощное движение, будто желал ухватить нечто в пустоте:
— Время, время… — прибавил он. — Время идет. А у Серениссимы превосходные ищейки. И чем ближе день выступления, тем больше народу осведомлено о наших планах. И оттого — выше вероятность, что заговор будет раскрыт.
Диего Алатристе невозмутимо выдержал его взгляд:
— И что же?
— Ну-у… — Толедо искоса посмотрел на Сааведру Фахардо и пожал плечами. — В худшем случае они попытаются вытянуть из нас побольше денег, прежде чем отдать палачу.
— Надо быть осторожней, — заметил дипломат. — Здесь предают как дышат.
— Так что за место?
— Таверна из разряда самых захудалых и с нехорошей репутацией. Там собираются потаскухи, разного рода темные личности, подают скверное вино… А находится вблизи Кампо де Сан-Анджело, возле самого Моста Убийц.
— Красивое имя.
Бальтасар Толедо взял со стола четвертушку бумаги, обмакнул перо в чернильницу и короткими штрихами начертил приблизительный план местности: канал, мост, узкий проулок.
— Стоит в конце улицы, носящей то же название. Там всегда можно принанять наемного убийцу — вроде как у нас в Апельсиновом Дворе в Севилье или в мадридском Сан-Хинесе. В прежние времена они там стаями бродили в ожидании заказа. Сейчас их стало меньше, но все равно встречаются.
Алатристе встал, чтобы взглянуть на чертежик.
— Одни пойдем? — осведомился он.
— Охрана привлечет ненужное внимание… Да и потом, проку от нее будет мало. Это место, зажатое меж мостом и узкой улочкой, — сущая мышеловка.
— Весь остров — одна сплошная мышеловка… Вернее, одна мышеловка в другой.
Бальтасар Толедо, поигрывая пером, смотрел на капитана с едва заметной досадой:
— Что вы хотите этим сказать? Вы пойдете со мной или нет?
Вопрос Алатристе не понравился. А тон, каким он был задан, — еще меньше. Прозвучали эти слова как-то свысока, пренебрежительно, и сквозило в них нежелание пускаться в дальнейшие объяснения. И потому капитан ответил лишь безмолвным взглядом.
— Извините, — сказал Бальтасар Толедо, но так небрежно, что это опять же противоречило смыслу. — Но ведь я вас мало знаю.
— Да и я вас — не больше.
Не туда ты клонишь, сказал он себе. Впрочем, мы оба. Бальтасар Толедо, неприязненно сморщившись, показал, что оценил насмешку. Потом положил перо и налил себе еще вина.
— В Милане дон Гонсало Фернандес де Кордова отзывался о вас в высшей степени лестно… Он вас помнит по Флерюсу, вы ведь были там, — сказал Толедо, поверх стакана очень пристально глядя на Алатристе.
— Служба такая: послали, вот и был, — отвечал тот. — Только ни хрена ваш дон Гонсало меня не помнит. Что вполне естественно.
— Вы — человек особенный… Говорят, вы заставили называть себя капитаном, им не будучи? Правда это?
Это «заставили называть» тоже очень не понравилось Алатристе. Безотчетным, очень медленным движением он провел двумя пальцами по усам. Потом безразлично глянул в окно, за которым виднелся сад.
— Правда в том, сеньор Толедо, что, если напоретесь в этом дворике на мою шпагу, вам будет не до чинов. И ни до чего иного.
Бальтасар Толедо порывисто поднялся на ноги, почти вскочил. Вино расплескалось по полу, прежде чем он поставил стакан на стол, выпачкав бумаги.
— Черт возьми, — сказал он.
— Черт или бог — в данном случае не важно.
Капитан, ощущая, как сзади оттягивает пояс тяжелый «бискаец», не сводил с него пристального и спокойного взгляда своих заиндевелых глаз. И он, и Толедо были без шпаг — один переоделся монахом, второй рядился в купца — но дело поправимое: чего другого, а оружия в этом доме наверняка в избытке.
— Ради всего святого, сеньоры! — вмешался Сааведра Фахардо. — Нечего сказать, нашли время!.. Утихомирьтесь, прошу вас!
Повисло тяжелое и долгое молчание. Наконец Бальтасар Толедо слегка кивнул, словно подводя итог длительным размышлениям. Вслед за тем Алатристе удовлетворил его, сделав то же самое.
— Деньги возьмете с собой? — спросил Сааведра Фахардо, которого, как исправного чиновника, интересовала прежде всего практическая сторона вопроса.
— Ничего другого не остается. Сейчас мы зависим от Фальеро и Сагодино… Если их солдаты пойдут на попятный, вся наша затея обречена на провал…
Толедо озабоченно всматривался в разостланную на столе карту. Когда же поднял голову и взглянул на Алатристе, стало заметно, что оба они смотрят друг на друга без враждебности.
— …и мы не успеем даже добраться до этого окаянного островка.
V. Откровения старых волков
«Живешь на кухне — с голоду не пухни», — гласит венецианское присловье, и поистине безмерная правота заключена в этих словах. На третий день нашего с капитаном Алатристе житья в доме донны Ливии Тальяпьеры, который, как уже знает читатель, был дом совсем и очень даже не простой, я спознался со служанкой Люциеттой. Сообщаю эту подробность не затем, чтобы похвастаться победой: обольстить горничную — не столь уж трудная задача для пригожего молодца, каким я был в ту пору, но исключительно из-за тех последствий, которые эта связь возымела в дальнейшем. Люциетта была девушка хорошенькая и бойкая до бесстыдства, ни в каких ухищрениях, столь излюбленных иными женщинами, не нуждалась, благо принадлежала к той их разновидности, где совершенство господнего изделия заметно само по себе, без прикрас и приправ. Люциетта, как ни юна была, невинность свою оставила далеко позади, я же к этому времени оказался достаточно сметлив и пройдошлив, чтобы добиться ее благосклонности, тем более что недурному собой и опрятному парню с горячей испанской кровью это было, повторяю, несложно. Кроме того, меня принимали за слугу богатого купца-оружейника Педро Тобара и, угадывая приятное звяканье в его кошельке, предполагали, что и я не бедствую. Ибо подобно тому, как мужчина прежде всего запускает глаз женщине за корсаж, так и иные женщины перво-наперво тщатся определить, насколько объемиста у мужчины мошна. Так или иначе, но я не нуждался в том, чтобы донна Ливия присылала мне своих питомиц — тем более что, в отличие от хозяина, слуге такие роскошества были не положены, — а равно и в платных услугах, которые в этом заведении, потаенном, прославленном и дарующем благодаря богатому выбору отрадное разнообразие, обходились очень недешево. Я сумел устроиться сам и если и потратился, то лишь на своевременные улыбки, уместные речи, где слова испанские звучали вперемежку с итальянскими, да на тот поистине боевой задор, с коим во исполнение моих обязанностей ходил на нежный приступ. Словом, ночами напролет являл я, несгибаемый воин, чудеса стойкости, да и днем, когда Люциетте удавалось улучить минутку и освободиться от дел по дому, подавалась команда «в ружье» и отдавалось должное ее прелестям.
Дается многим место, время, случай, Благорасположенье даже — но Не упустить удачи миг летучий — Искусство, что не всякому дано.В этом месте моего повествования уместно будет заметить, что мир знает шлюх всякого вида, сорта и пошиба: шлюх по рождению, шлюх по воспитанию, шлюх по призванию и душевной склонности, шлюх-недотрог, шлюх, так сказать, в окошке и шлюх за ставнями, знает путан-распутан, заявляющих о своем распутстве громогласно, и таких, о ком даже и не подумаешь ничего такого, пока не разоблачишь и не увидишь истинное их… гм… лицо. Любезная моя принадлежала как раз к последнему разряду, и, когда миновала пора первых стыдливостей — краткая, надо сказать, — дала она себе волю, так что мне порой, чтобы не переполошить весь дом, приходилось зажимать ей рот ладонью, а она эту ладонь кусала, оповещая о силе своих чувств в выражениях сильных и безыскусно-простых, понятных и на венецианском диалекте без перевода: «Крепче… чаще… глубже… сильней… авось не сломается, бог даст, не смылится» и прочее в том же пленительно-похабном роде.
Уже смеркалось, когда, измочаленный, надо сказать, от тех утех и почти не спав от тех забав, я вышел из комнаты, чтобы подкрепить силы пищей, что обещала сготовить на кухне Люциетта, босиком и на цыпочках выскользнувшая из дверей чуть раньше. И в коридоре, где на крюке уже горел фонарь, встретил капитана Алатристе. Удивился, увидев его при шпаге — короткой, с замысловатой гардой и хорошим клинком золингеновской стали: он привез ее с собой в багаже (наши-то остались в Милане) и, выходя на улицы Венеции, до сих пор ни разу не цеплял к поясу. На плечах у него был бурый плащ, и, покуда капитан не запахнул его, можно было разглядеть рукояти пистолета и кинжала. Свой старый нагрудник из буйволовой кожи он надевать не стал, опасаясь, не без оснований, что тот придаст недвусмысленно боевой вид, однако под расстегнутым колетом я заметил короткую и тонкую стальную кольчугу, которую у нас по числу колец прозвали «одиннадцать тысяч»: штука эта была тяжелая и неудобная, особенно летом, однако отлично защищала туловище от неожиданных ударов спереди и сзади. И я до того оторопел от подобной предусмотрительности моего бывшего хозяина, что с разинутым ртом и с мурашками вдоль хребта буквально влип в стену.
— Черт возьми! — воскликнул я. — Никак мавры высадились?
От этого вопроса Алатристе слегка улыбнулся в усы, оставшись, впрочем, весьма серьезным. «Встреча», — молвил он негромко. Назначили ему и Бальтасару Толедо свидание в не очень удобном месте, где народ бывает такой, сякой и всякий-разный. Он как раз шел за мной. Мое дело будет — стоять в сторонке, не вмешиваясь. На всякий случай.
— Возьми-ка это, — сказал он, протягивая мне пистолет. — И кинжал свой прихвати. Если все пойдет путем, выпьешь стаканчик или сделаешь вид, что пьешь, и останешься на бережку. А если нет — действуй по обстоятельствам. Но зря не рискуй. Если увидишь, что дело совсем дрянь, дай знать в посольство.
Я взял пистолет, взвесил его на руке. Это был хороший пуффер, короткоствольный, с колесцовым замком, из тех германских игрушек, какими вооружают наших конных латников. При хорошем порохе, да если зарядить пулей в полторы унции свинца, на пятнадцати шагах пробивает стальную кирасу. Я сунул его за пояс, потом вернулся к себе в комнату и вымыл лицо, чтобы смягчить запах женщины, которым, кажется, пропитался насквозь. Потом взял кинжал, плащ, шляпу и, ни о чем больше не спрашивая, двинулся за капитаном вслед.
Когда вышли на улицу, стало стремительно темнеть, однако город еще какое-то время оставался на свету, меж тем как от самых узких проулков и крытых длинных аркад уже наползала тьма. При свете просмоленных факелов, в сыром воздухе окруженных дрожащими, расплывающимися ореолами, ювелиры закрывали на мосту свои лавки, а на гондолах и шлюпках, проплывавших по Гран-Канале, уже зажглись фонари. Перейдя Риальто, мы взяли правей и пошли по широкой улице, слившись с многочисленными прохожими. Я понимал, что капитан Алатристе внезапными маневрами старается сбить со следа умопостигаемых шпионов, а потому старался не терять его из виду ни на минуту и угадывать его дальнейшие намерения. И, как он велел, проворно шел следом, держась в двадцати шагах, лавируя в толпе прохожих и время от времени вставая на цыпочки, чтобы разглядеть его издали. Улица, как уже было сказано, кишела людьми, как солдатская волосня — вшами, и я в очередной раз удивился этому многолюдному мельтешению и коловращению, равно как и полному отсутствию карет и верховых. Будучи испанцем, я отлично знал, что эта растленная республика, построенная на воде теми, кого непонятно, как земля-то носила, была сущей клоакой: турки, скрепя сердце, мирились с ее существованием за то, что она гадила христианам, христиане со скрежетом зубовным — за урон, наносимый туркам, а Провидение терпело венецианцев, которые были не турки и не христиане, но Пилатово семя, оттого, верно, что считало их воздаянием и карой за гадкое поведение тех и других. Да, я знал все это и был уверен, что если бы Господь наш однажды утром проснулся в добром расположении духа и рассудил по справедливости, то, конечно, стер бы этот остров с лица земли — ну, или моря. Однако при всем том не мог я не восхищаться этим чудом неиссякаемого богатства, веселья и изобилия, ибо чего-чего там только не было — и на каждом шагу встречал то рослого далматинца, то невольника-эфиопа, то неприступно-важного восточного посла в тюрбане. И, как уж было сказано, шел я, стараясь не терять из виду капитана, и вдыхал ароматы специй, щекотавшие нос, несмотря на холод, но не переставал разглядывать и лавки, которые уже закрывались или зажигали внутри свет, и продававшиеся на каждом шагу волшебные разноцветные стекла, и высокомерных венецианских синьоров в подбитых мехом шляпах и плащах, с золотыми цепями на груди — перед господами шли слуги, готовые зажечь факелы, как только придет в этом надобность, то есть окончательно стемнеет. А равно и дам из хороших фамилий — или прикидывающихся таковыми — в соболях и в шалях белого шелка, поскольку черными мантильями в ту пору покрывали головку женщины иного сорта — те, о ком писал Лопе де Вега:
Кто б на паденье нравов не роптал, Увидя въяве: барышни-кокетки Хотя и жмутся к мамочке-наседке, Но ищут взглядом, кто б их оттоптал?!Или в других, а на деле — тех же самых, которых описал нам дон Франсиско де Кеведо:
Ты — нравственности перл! Морали кладезь! Сама Лукреция перед тобой склонится! Катрен, однако, закруглить наладясь, Для рифмы назову тебя блудница.От восхищения Венецией, конечно, теплее становилось на душе, но тело мерзло по-прежнему, заставляя меня ежиться под плащом. А тот, замечу, хоть и облекал плечи баска и уроженца Оньяте, где солнце тоже греет не слишком-то щедро, но под этим мутным, а сейчас почти черным небом от сырости защищал неважно. И так вот шел я, укутавшись в плащ по мере сил, держась на разумном расстоянии от капитана и убеждаясь время от времени, что никто за мной не следует, а если и следует, то существо бесплотное, а значит, невидимое. Как уже сказано, двигались мы от самого Риальто по улице, венецианцами называемой Мандола, улице широкой и очень оживленной, и, когда вдали на углу площади Сан-Анджело показалась остерия «Акуа Пацца»[191], мне пришлось прибавить шагу, потому что капитан свернул вдруг налево, и я потерял его из виду. А снова увидел уже на перекрестке двух улочек поуже — Алатристе исчезал в сумерках, которые здесь были гуще, ибо последний свет над зубцами крыш уже уступал место ночному мраку, и, если бы не факел, который горел, распространяя запах смолы, на каменном мостике, я бы не отыскал своего хозяина. А так сумел различить впереди его силуэт: вот он пересек мост и скрылся на другой стороне под аркадами, перекрывавшими всю улицу, и у входа в эту галерею красный огонек над арочной же дверью освещал мраморный барельеф, изображавший чье-то бородатое и мрачное лицо. Я почувствовал, как сводит мышцы — такое знакомое ощущение близкой опасности, и совершенно безотчетным движением, распахнув плащ, дотянулся до роговой рукояти моего трехгранного кинжала длиной примерно в пядь, без режущей кромки, но с отточенным, острым, как игла, острием, способного пробить не то что кожаный нагрудник, а даже не слишком плотную кольчугу — если, конечно, верно направить и сильно нанести удар. Пистолет я носил за поясом сзади, и от его тяжести становилось легче на душе. Еще не дойдя до моста, увидел я в створе улицы почти неразличимые в меркнущем свете очертания каких-то черных фигур — мужских и женских. Слышались сдавленные смешки, приглушенные голоса, негромкое журчание разговора. Я быстро прошел мимо, постаравшись никого не задеть, и никто не обратился ко мне. И в свой черед пересек мост без перил, переброшенный над черной, неподвижной, как масло, водой узкого канала: это и был Мост Убийц, а на другой стороне, при свете второго факела, воткнутого в стену, увидел перед самым своим носом голые груди — вернее, чуть было этим самым носом в них не ткнулся.
В Венеции публичные женщины — в тысяча шестьсот двадцать седьмом году, о котором я веду рассказ, насчитывалось их одиннадцать тысяч душ, — выставляли свои прелести напоказ с бесстыдством бо́льшим, нежели у нас в Испании или во всей остальной Италии. Выпростать их из выреза — даже зимой — на улице или сидеть в таком виде у окна, прельщая клиента, значило засвидетельствовать, что принадлежишь к здешним, к тутошним. Улица Убийц, получившая свое название по мосту, и таверна, расположенная чуть подальше, были превосходным местом для промысла. Оправясь от первоначального замешательства — сами посудите, сеньоры, каково это: пересечь мост и вдруг узреть пару объемистых грудей, — я убедился, что подобная дичь в здешнем заповеднике водится в изобилии: в полутьме виднелось не менее дюжины женщин, выстроившихся вдоль стен так, что прохожий шел как бы в коридоре из обнаженной плоти, невольно, хоть и ненамеренно, ее задевая, меж тем как хозяйки обращались к нему с предложениями самого нескромного и даже похабного свойства, суля многообразные невиданные блаженства. Немудрено, что я окончательно потерял из виду капитана Алатристе, но утешался тем, что до таверны, где назначена была встреча, оставалось несколько шагов. И вот, разминувшись с последней парой торчком стоявших — от холода, разумеется — сосков, шагнул через порог заведения.
И, увидев, какая публика его заполняла, тотчас понял, почему встречу назначили именно там. В подобном месте ничего не стоило затеряться и остаться незамеченным. Помещение было весьма обширное, с черными стропилами на потолке, с огромными стеклянными кувшинами в глубине, у задней стены, с длинными столами и табуретами без спинки. Преобладали там, если не считать женщин всех мастей, так называемые bravi — в Италии это понятие объединяет людей, сдающих в аренду свою шпагу, сводников-сутенеров, профессиональных шулеров, мошенников, наемных музыкантов и отставных солдат. А поскольку сии последние, как почти все, кто служит Венеции, принадлежали к разным нациям и говорили на разных языках, то все очень живо напоминало вавилонское столпотворение. Прибавьте к этому смолистый свет факелов, коптящих потолок и затрудняющих дыхание, сально лоснящиеся лица, запах скверного вина вперемешку с вонью блевотины и мочи — задний дворик выходил на берег канала, где с одинаковым бесстыдством облегчались мужчины и женщины, — грязные опилки на полу, хохот да дым из деревянных и глиняных трубок во рту у многих посетителей.
Я спросил вина — мне подали его в грязном щербатом кувшине, но не время было воротить нос — отыскал взглядом капитана Алатристе, уже усевшегося с доном Бальтасаром Толедо и еще двоими за стол, и, удостоверившись, что особого внимания мой приход ни у кого не вызвал, сам пристроился к столу, и плотно обсевшие его посетители вышеописанного толка слегка потеснились, освобождая место. Устроился на деревянной, сильно засаленной скамье с кувшином в руках, привалился спиной к стене так, чтобы кинжал и пистолет — его ствол и колесико замка больно давили мне на поясницу — оставались скрытыми, и, можно сказать, соколиным оком принялся озирать здешнюю паству — и тех, что сидели с моим хозяином, и тех, что входили с улицы. Лишь пригубив вина — отвратительного местного пойла, по степени мерзости своей достойного уст одного лишь Неблагоразумного разбойника, распятого одесную Христа, — я поставил кувшин на стол и позабыл о нем. Поглядывал то в одну сторону, то в другую, всматривался в лица, подмечал, кто как себя ведет, качанием головы и преувеличенно учтивой улыбкой отказываясь всякий раз, как сводник предлагал мне услуги своей подопечной или шулер брался преподать катехизис четырех мастей либо начала ислама — напомню, если забыли, что карт в обычной колоде столько же, сколько лет было пророку Магомету. И пришел к выводу, что, если по какой случайности начнутся в этом вертепе свалка и поножовщина, ни мне, ни капитану живыми не уйти.
— Ну, стало быть, договорились, — сказал Бальтасар Толедо.
Диего Алатристе, так и не раскрывший рот за все время, изучал двоих мужчин, сидевших напротив. Жизнь с ее передрягами приучила его судить о людях не по тому, что они говорят, а — как молчат. Когда надо верно оценивать слова, выражения лица, намерения, то уши подводят чаще, чем глаза.
— Деньги при вас, синьоры?
Капитан Лоренцо Фальеро отчетливо и ловко управлялся с кастильским наречием, которое, по его словам, выучил еще в юности в Неаполе и на Сицилии. Он был лет тридцати пяти — высокий, видный, белокожий, со светлыми волосами до плеч и светлой же бородой. По словам Сааведры Фахардо, этот капитан венецианской службы, командовавший ротой немцев-наемников, принадлежал к обедневшей ветви знатного и славного рода, иные представители которого и сейчас занимали в городе видное положение. И держали сторону Риньеро Дзено, враждовавшего с нынешним дожем.
— При нас, — ответил Бальтасар Толедо.
Алатристе заметил, как Толедо сделал почти незаметное движение под столом, показывая что-то, спрятанное под плащом, и венецианец чуть наклонился, заглядывая. Потом выпрямился с удовлетворенным видом, и они понимающе переглянулись.
— По весу вроде бы то, что надо, — заметил Фальеро.
— Это отрадно, потому что больше ничего не будет, пока все не кончится.
Фальеро, казалось, пропустил мимо ушей эту суровую реплику.
— Это ведь не… как будет по-вашему ардженто?.. сьерьебро, да?
Толедо качнул головой:
— Не серебро. Это дукаты по сто двадцать четыре сольдо.
Фальеро полуобернулся к своему спутнику. Тот коротко кивнул. При знакомстве этот человек отрекомендовался капитаном Маффио. Черты лица его грубостью были под стать манерам, сложение богатырское, а ручищи шириной не уступали лопатам. Диего Алатристе, который разглядывал его еще внимательней, чем Фальеро, знал, что рагузец-ренегат Маффио Сагодино командует ротой далматинцев, которые в ночь мятежа будут нести караулы в Арсенале. Из этого важного обстоятельства и проистекал повышенный интерес капитана Алатристе. Вояка до мозга костей, думал он. Солдафон с ног до головы. Лет сорока с большим гаком, темнолицый, с отметинами на щеках и на руках. Любопытно, что подвигло его на измену, хотя в Венеции, стране неверной всему и всем, предательской по сути своей и природе, само слово «измена» лишилось четкого значения. С капитаном Фальеро, казалось, все ясно: его симпатию к Риньеро Дзено — не исключено, что и родственного свойства — подогревал объемистый мешочек, только что под столом перекочевавший из рук в руки. А вот насчет Маффио Диего Алатристе терялся в догадках. Может быть, его обошли чином, может быть, дала себя знать какая-то давняя обида. А может быть, алчность. Или приелась прежняя служба? Или здесь замешана женщина? В конце концов, заключил капитан, в ту или иную минуту жизни каждый пересекает свою границу. И на миг задумался над тем, где же проходит его собственная.
— Ну, выпьем, — предложил Фальеро. — За успех нашего дела.
Они подняли и сдвинули стаканы. Алатристе, единым духом опустошив свой, заметил, что Бальтасар Толедо едва пригубил вино. Маслянистый свет не скрашивал его наружность: был Толедо бледен, под глазами набрякли сероватые мешки. Слишком велико напряжение, подумал капитан. И тяжка ответственность. Еще бы: прогулка по таким улочкам с мешочком золота — это блюдо на любителя.
Диего Алатристе почувствовал на себе взгляд Лоренцо Фальеро. Венецианец рассматривал его с любопытством, облокотясь о стол и с задумчивым видом пощипывая русую бородку.
— Дон Педро Тобар, не так ли? — сказал он наконец.
— Так, — отвечал Алатристе.
Фальеро повернулся к товарищу, но по-прежнему не сводил глаз с капитана.
— Мой спутник не знает испанского. Он просил передать, что все будет как уговорено.
— Хотелось бы получить примерный план этого самого места.
Венецианцы обменялись несколькими словами на своем языке.
— Полюч-чите, синьор, — заверил Фальеро. — Еще капитан Сагодино считает, что вам стоит побывать там, взглянуть свуоими глазами.
— Сложное дело.
— Вуовсе нет. В канун Рождества принято открывать вуорота перед всеми желающими. Это прекрасная возможность для вас.
— Не слишком ли рискованно? — вмешался Бальтасар Толедо.
Он был по-прежнему бледен, синевато-пепельные подглазья обозначились яснее, и Диего Алатристе даже показалось, что у него сильно дрожат руки. Будем надеяться, сказал он себе, что эти шакалы не заметят, в каком состоянии его спутник. А также и на то, что он не сдрейфил в последнюю минуту. Конечно, может быть, он болен или заболевает, но не исключено, что пал духом. Последнее, впрочем, плохо вязалось с тем, что Алатристе рассказывали про него, однако капитан знал по собственному опыту, что таким колебаниям подвержены и самые стойкие. Так или иначе, нехорошо, когда за трое суток до начала действий человек, отвечающий за всю военную сторону операции, теряет хладнокровие.
— Это же Венеция, — говорил меж тем Фальеро. — Проходной двор. И без риска нельзя: у нас — свой, у вас — свой.
Он смотрел на Алатристе с едва заметной задумчивой улыбочкой, и капитану совсем не понравились ни она, ни сопутствовавший ей взгляд.
— Что-нибудь привлекло особенное внимание вашей милости? — осведомился он спокойно, проведя двумя пальцами по усам.
Спрошенный кивнул утвердительно и заулыбался еще шире.
— Мне много рассказывал о вас один давний приятель.
— Вот как? Давний?
— Да. Оч-чиень давний. Еще тех времен, когда вас звали не Педро Тобаром.
Тесен мир, подумал капитан. А уж Венеция — и подавно: жмет и в плечах, и в бедрах. Руладу «тирури-та-та» высвистала ему сейчас улыбка Лоренцо Фальеро. Можно было подумать, что все, включая и его самого, в одном хлеву свинок держат.
— Малё сказать — приятель, — продолжал тот. — Родня. Дальняя, правда. Седьмая, как говорится, вода… Человек весьма способный…
— Способный, говорят, даже на то, чтобы попасть на рождественскую заутреню?
Алатристе сказал это очень тихо, перегнувшись через стол и не спуская с Фальеро ледяных зеленоватых глаз. Венецианцу, кажется, впервые за все это время стало не по себе. Он взглянул на Бальтасара Толедо, а потом — не без опаски — по сторонам.
— Мой руодственник не имеет дезидерио… как это сказать?.. намерения оставаться там, — пробормотал он. — Есть дела, которые он должен уладить пуотом. Поздже. Но снач-чала поговорить с вами. Вы не пруотив?
— Ни в малейшей степени.
— Отлич-чно! Потому что он сейчас ждет вас на мосту.
Я видел, как капитан Алатристе встал из-за стола. Как осмотрел все вокруг, а потом будто ненароком перевел взгляд на меня. Я прочел в нем приказ оставаться на месте. Потом в дыму и гуле голосов капитан прошел между столами мимо, даже не взглянув в мою сторону — и исчез в дверях. Я послушно остался на месте, продолжая наблюдение. По описанию Алатристе я узнал дона Бальтасара Толедо, но не мог понять, кто такие двое других за столом. Вот все они поднялись одновременно. Толедо направился к выходу на двор, за которым, вероятно, ждала его лодка, а двое неизвестных — следом за моим хозяином. Да, лица их были мне незнакомы, но пять лет бок о бок с Алатристе вполне заменяли курс Саламанки: с первого взгляда научился я узнавать сокола по помету, а хряка — по хрюканью и не хуже легавой издали нюхом чуять вояку или эспадачина. А эти двое явно были либо то, либо это, либо оба вместе, и это было так же верно, как то, что солнце восходит на востоке. И потому, мгновенно смекнув, что их проход по залу и выход имеют прямое отношение к здоровью капитана, и, опасаясь, как бы не схватил он в Венеции простуду, я поднялся, надел плащ и двинулся за ними следом, нашаривая под плащом рукояти пистолета и кинжала.
Они не свернули к мосту, а двинулись налево, по улице, и вскоре пропали из виду, растаяли во тьме. А я, сбитый с толку, смотрел им вслед в дверях таверны. Потом решил, как водится, выдать нужду за добродетель и побрел направо, миновав в обратную сторону коридор из голых грудей, по которому прошел совсем недавно. Это вызвало новые прищелкиванья языком, томные вздохи и соблазнительные шепотки, сулившие неземные услады, но я постарался остаться глух и неотзывчив, поскольку было мне не до игрищ с девками: душа, как говорится, к ним не лежала, а прочее не… гм… ну, скажем так, не соответствовало.
Меж тем настала ночь. Глубокая и очень темная. К этому часу должна была бы уж взойти луна, но плотные тяжелые тучи не давали ей пролить сияние на крыши. Впереди, при свете факела, догоравшего на углу кривого проулка, я различил силуэт капитана. Алатристе стоял на мосту вместе с каким-то человеком, тоже закутанным в плащ. Они разговаривали так тихо, что я, проходя мимо, слышал только приглушенные голоса, а слов разобрать не мог. Шагов через двадцать остановился и, зайдя в подворотню, приготовил пистолет. И с беспокойством наблюдал за двумя темными фигурами на мосту. Беспокойство же мое проистекало оттого, что в одной из фигур мне почудился Гуальтерио Малатеста.
— Три дня, — сказал сицилиец. — Три дня — и мы займемся нашими с тобой делами.
Казалось, он просто размышляет вслух. Или слова его звучали не столько угрозой, сколько намерением пригрозить. Выглядел он, по обыкновению, зловеще: меркнущее пламя факела обводило красноватой каймой черный плащ на плечах и широкое поле шляпы, оставляя во тьме черты лица.
— Так уверен, что выйдешь с этой мессы? — спросил Диего Алатристе.
Раздался скрипучий смех. Сухой горловой клекот.
— Да это не так уж трудно… На самом деле — удивительно легко. И многое нам кажется невозможным лишь до тех пор, пока кто-то не придет и не сделает, показав, как это просто.
Он замолчал, пошевелился. Слегка наклонил голову, и красноватый отблеск скользнул по его лицу, осветив нижнюю часть — подстриженные усики и белую полоску приоткрытого улыбкой рта.
— Ты ведь знаешь Сан-Марко? Красивое место.
— Вчера днем кинул взгляд, — кивнул Алатристе.
— Понимаю-понимаю, на разведку ходил. И, наверно, спросил себя, как я собираюсь сделать то, что должен? А?
— Ну, допустим.
Снова заскрипел смех Малатесты, которому, казалось, польстил интерес собеседника. Потом тихим голосом, в немногих словах, безо всякого нажима, как о чем-то совершенно заурядном, рассказал все. С улицы есть ход прямо в ризницу. Малатеста и его напарник, священник-ускок, войдут через боковые двери, находящиеся со стороны Каноника, за двумя каменными львами: священник будет в своей сутане, Малатеста переоденется гвардейцем. Войдя, окажутся в двадцати шагах от дожа Джованни Корнари, который в это время преклонит колени на своей скамеечке-реклинатории сбоку от главного алтаря: по этикету вся его свита будет находиться на некотором отдалении.
— Войдем через боковую часовню, — продолжал сицилиец. — Там, перед дверью, ведущей в алтарь и во время мессы всегда запертой, стоит на часах только один гвардеец. Я уложу его, открою дверь, а ускок — его зовут, кстати, Пуло Бихела — ринется к алтарю и прикончит старика Корнари… Не думаю, что в свои семьдесят тот окажет серьезное сопротивление.
Он почти осекся, потому что мимо, направляясь в таверну, прошли три человека. Мост, как и почти все в Венеции, был без перил, и Алатристе похвалил себя за то, что поддел под колет кольчугу. Малатесте ничего не стоит внезапно пырнуть его кинжалом и столкнуть в канал. Впрочем, может выйти и наоборот — удар и толчок возьмет на себя он, Диего Алатристе.
— А что будет с этим… как его… Бихелой? — спросил капитан.
— Мое дело — часовой у двери, все прочее меня не касается. Не я фанатик, а он. Мученического венца желает. Пострадать за свой народ. Надеюсь, когда его схватят, я буду уже на улице. И скроюсь.
Малатеста произнес это очень холодно. Факел на стене затрещал, разбрасывая последние искры, и лицо собеседника вновь оказалось во мраке.
— А к этому часу, — продолжал он, — наши друзья Фальеро и Толедо захватят дворец дожа, твоя милость — справится с Арсеналом, а прочие, бог даст, тоже выполнят все, что им поручено.
Он замолчал и, как показалось Алатристе, коротко вздохнул:
— Незабываемая выйдет ночь. Если выйдет.
Алатристе смотрел на черно-маслянистую полоску воды у себя под ногами. Вдалеке, на оконечности канала, в неподвижной глади отражалось освещенное окно. Прямоугольник света вверху — и точно такой же внизу. Даже самое легкое колыхание воды не тревожило его.
— Полагаю, этого самого ускока ты держишь в надежном месте.
— Правильно полагаешь.
И объяснил, что Пуло Бихела — из тех фанатиков с горящим взором, от которых никогда не знаешь, чего ждать в следующую минуту. А потому он сидит в некоем доме, носу на улицу не высовывает, пока не придет время. И копит душевные силы постом и молитвой.
— Мы с ним расходимся только в одном пункте. Он говорит, дожа надо прирезать в самый миг причастия, когда священник сунет ему в рот облатку. Момент — торжественный, и всех застанет врасплох.
— Так в чем расхождение?
Малатеста задумался на миг:
— Ну, видишь ли… Ты сам уж понял, что я не больно-то набожен. Как и ты, наверное. По мне, хоть бы и вовсе не было этой поповской и старушечьей тарабарщины…. Однако у каждого есть свои… Не знаю, как сказать… Ну, понятия, что ли…
Алатристе едва ли не в ошеломлении смотрел на неразличимый во тьме силуэт:
— Только не говори мне, что тебе не все равно, когда именно завалить человека.
Малатеста как-то неловко затоптался на месте:
— Да нет… Как раз потому, что я утратил веру, какие-то мелочи особенно помнятся. Я ведь сицилиец, имей в виду.
— Так ты у нас еще и излишне щепетильный?! Быть не может. Вот в это я не верю.
— Слово «излишне» здесь излишне, — язвительно заметил Малатеста. — И совсем не к месту.
В ответ Алатристе рассмеялся сквозь зубы. Обидно, но не притворно. В самом деле — на портрете Малатесты обнаружилась колоритная подробность.
— Я бы не сказал. Да и никто бы…
Малатеста прервал его витиеватой сицилийской бранью, где поминались и Иисус Христос, и его матушка.
— У каждого есть свои… Свои, как говорится, тараканы в голове, — добавил он мгновение спустя. — Свои — у каждого…
Теперь пауза вышла долгой. И обескураживающей. Алатристе невольно отметил, что его забавляют неожиданные откровения. «Да пусть меня, как беглого раба, в кипящем масле сварят, — подумал капитан, — если я когда-нибудь мог представить себе такое: Гуальтерио Малатеста изливает передо мной душу».
— В детстве я одно время прислуживал на мессе. В Палермо.
— Мозги мне не… тереби.
На этот раз молчание было многозначительным. Сицилиец снова беспокойно пошевелился. Алатристе не удержался от сдавленного смеха:
— Черт возьми… Неужто и впрямь? Прелесть какая — прямо вижу, как ты — весь такой в пелеринке — лакаешь украдкой церковное винцо…
— Porca Madonna! Брось свои подколки.
— Стареешь, Малатеста.
— Да. Наверное. Наверное, старею. Как, впрочем, и ты.
Снова замолчали. Слышно было, как на канале весло ударяется о стену. Вскоре в темноте обозначился окованный железом нос приближающейся гондолы.
— Какие странные совпадения, — пробормотал сицилиец. — Мост Убийц. А на мосту — мы с тобой. Все же кажется, как ни крути, в мире есть какая-то гармония. Потаенное знание о том, кто мы такие есть.
— Я все же думаю, речь о том, чтобы заработать на кусок хлеба.
— Да. И по возможности — не пустого.
Под мостом бесшумно проплыла гондола, очертаниями напоминавшая гроб. При свете фонаря на корме можно было различить две закутанные в одеяла фигуры пассажиров под навесом и гондольера с веслом.
— А что, сеньор капитан, ты не чувствуешь временами, что устал?
— Не временами, а постоянно.
Гондола скрылась во мраке. И светлый прямоугольник — отражение окна — чуть закачался на черной глади канала и вскоре снова замер в неподвижности.
— А твой мальчуган… Иньиго… — сказал Малатеста. — Он сильно вырос.
— Сильней, чем ты думаешь.
— Пообещал меня убить.
— В таком случае — будь начеку. Он слов на ветер не бросает.
У воцарившегося молчания появился теперь какой-то иной оттенок.
— А ту женщину… Ну, с улицы Примавера? Помнишь ее?..
Разумеется, Алатристе прекрасно помнил старую гостиницу в Мадриде. И убогую комнатку, где дважды едва не убил итальянца.
— Ту, которая с тобой жила?
— Ее самую.
— Она два раза спасала тебе жизнь… И что с ней сталось?
— Умерла. Я в ту пору уже сидел.
— Сочувствую.
— Ей тоже досталось… — Малатеста говорил своим обычным тоном, бесстрастным и холодным. — От слуг правосудия, сам понимаешь… Альгуасилы, стражники и прочая мразь. Хотели допытаться, много ли ей известно обо мне.
Алатристе на миг прикрыл глаза. Понять, что значит «досталось», труда не составило.
— А известно ей было, разумеется, мало, — договорил он за Малатесту.
— Почти ничего. Все равно — долго после этого она не протянула. Вышла больной и нищей. Умерла на улице.
Малатеста прищелкнул языком, глубоко и сильно втянул воздух, словно здесь, на Мосту Убийц, вдруг обнаружилась его нехватка.
— В первый день Рождества, — сказал он, — конец нашему перемирию.
Алатристе кивнул, хотя было совсем темно. Факел уже потух. Только наверху, на стене, мерцала красная искорка фонаря.
— Конец, — подтвердил он. — Если только до того нам с тобой конец не придет.
Черный бесформенный силуэт перед ним чуть шевельнулся. Готовый к такому обороту разговора, Алатристе отступил на шаг, распахнул плащ, положил руку на эфес. Но тревога оказалась ложной. Малатесте хотелось еще поговорить.
— Знаешь ли, о чем я думаю? Мы с тобой — вроде двух старых полуоблезлых волков, что обнюхиваются, прежде чем впиться друг в друга клыками и загрызть насмерть. Не за еду, не за суку. А за…
— Репутацию? — предположил капитан.
— Да. Похоже.
Теперь молчание было особенно долгим.
— Репутацию… — наконец повторил Малатеста, понизив голос. — Да, наверное.
Диего Алатристе снова уставился в воду канала. Двойной прямоугольник был недвижен. Трудно было понять издалека, где само освещенное окно, а где — его отражение. Внезапно капитан с долей растерянности признался себе, что, вероятно, человека, что стоит сейчас рядом с ним, знает лучше, чем кого бы то ни было на свете.
— Теперешние люди…
Он осекся, оборвал фразу на середине и застыл в молчании, будто опять засмотрелся на светившееся в воде пятно.
— Другие нынче времена, — сказал наконец. — И люди другие.
Когда же поднял, а потом повернул голову, Малатесты рядом уже не было.
Затаясь в подворотне, я издали наблюдал, не произойдет ли в разговоре чего-нибудь непредвиденного. Когда же наконец собеседник Алатристе ушел, а капитан двинулся в мою сторону, я спрятал пистолет под плащ и вышел из полумрака навстречу ему. Мое появление он встретил обычным молчанием, обойдясь без реплик. И пошел рядом со мной, не размыкая губ и думая о своем, а я поглядывал на него краем глаза. Улицы были пустынны и темны. Каналы, аркады, мосты гулким эхом отзывались на звук наших шагов. Я так и не решился заговорить, пока не дошли до Риальто.
— Ну, как это было? Все гладко?
Он сделал еще несколько шагов молча, словно обдумывая ответ, и лишь потом дал его:
— Думаю, да.
— Тот человек на мосту был Малатеста?
— Он.
— И как же он встретил вас?
— Так же, как ты. Тоже языком молол без умолку.
И я не знал, хотел ли капитан сказать тем самым, что наш старинный враг был так же словоохотлив, как во время моей с ним встречи в Арсенале — вчера я рассказал о ней Алатристе, — или намекал, что мои расспросы сейчас не ко времени и не к месту. В сомнении я выругался про себя. Мы перешли каменный мост через канал, который уходил налево и втекал в широкую темную полосу другого, побольше. Мост слабо освещал фонарь, горевший над дверями соседней церкви, где в неурочный час собрались прихожане принять причастие. На другом берегу капитан как бы невзначай обернулся, взглянул, не следят ли за нами.
— Мы бы услышали шаги, — сказал я шепотом. — Так тихо, что…
— Так верней.
Мне показалось, что сегодня он угрюмей, чем обычно, и потому я спросил себя, что тому причиной — встреча в таверне или разговор с Малатестой на мосту? В любом случае что-то в его поведении меня тревожило, причем я был уверен, что дело тут в событиях не сегодняшних. Капитан Алатристе всегда, конечно, был молчалив, но тут, в Венеции, он молчал как-то по-иному. И с самого начала всей этой затеи угадывалась в нем какая-то опасливая покорность судьбе. Можно было бы сказать, что шестым чувством старого солдата, привычного к тревогам, неудачам, огорчениям, провидел он печальный финал нашего плана — амбициозного, чтобы не сказать сумасбродного. Я размышлял об этом, покуда мы бродили в венецианской ночи, и, в конце концов, обескураженно заключил, что капитан Алатристе, судя по всему, ни на йоту не верит в успех. Однако при этом — вот что было дивно и чудно — оставался бесстрастен и собирался идти до конца, как привык: ни во что не верующий солдат во вражеской стране, за полным неимением лучшего обращающий взор к далекой, неблагодарной отчизне, где привела судьба родиться, и к монарху, который отчизну эту воплощал; «Король есть король», — сказал он мне под Бредой, сопроводив свои слова подзатыльником. В моем случае все было много проще: юный и отважный до безрассудства, сейчас я, как и всю жизнь, всего лишь следовал за Алатристе. Это проистекало от рода занятий или, если угодно, ремесла: я с тринадцати лет не знал другого и все свои понятия о добре и зле получил от капитана. Невзирая на размолвки и отчуждение, которое с течением лет и благодаря пылкости моего нрава порою возникало меж нами, я никогда не забывал главного: капитан Алатристе — моя семья и мое знамя. С закрытыми глазами бросался я за ним раз и другой в самую гущу схватки, прямо к черту в зубы. И в ту смутную ночь, бредя в сумраке этого непостижного разумению и опасного города, который, казалось, со всех сторон подстраивал нам ловушки, я чувствовал, как присутствие капитана — его непроницаемая, безмолвная, бестрепетная близость — вселяет в меня спокойствие. Тогда я понял, отчего много лет назад, где-то во фламандских краях, на берегу замерзшей реки, кучка отчаявшихся людей, которые дрались за свои жизни с яростью бешеных псов, впервые назвала этого человека капитаном.
VI. Выход на канал
Известная поговорка гласит, что с лица воду не пить. Но моя разлюбезная Люциетта, по счастью, была и собой хороша, и горяча чрезвычайно; и в ту ночь, как и в предыдущие, когда все в доме угомонилось, юная служанка в темноте на цыпочках, босиком и в одной сорочке прокралась, как уж повелось, ко мне в комнату, имея в виду обменяться с нижеподписавшимся кое-чем бо́льшим, нежели слова, и, уподобясь сверчку, взлезть на свой шесток. Впрочем, слов — и самых притом вольных — тоже хватало.
Так что мне задарма доставались наслаждения, которых другие не получили бы, хоть всю мошну перед нею выверни, ибо вроде бы я уже упоминал, что Люциетта при всей веселости нрава своего к разряду веселых девиц не принадлежала, умудряясь и в блудилище себя блюсти, в заведении известного рода состояла именно что в служанках, а иных услуг не оказывала. И — господь свидетель! — никто бы ее в этом не заподозрил: она держалась скромней монашенки, вела себя благопристойней матроны, но в урочный час, чуть заслышав зов трубы, вслед за платьем сбрасывала с себя и скромность, и благопристойность, причем с таким завидным проворством, будто получила степень бакалавра раздевальных наук, и, делаясь податлива, поворотлива, неутомима, вскидывала круп с непритворной страстью, с размеренной отчетливостью кобылки, на славу выезженной и приученной к иноходи. Как тонко подметил дон Франсиско де Кеведо, да и не он первый, есть женщины, в которых красота без бесстыдства — что говядина без соли. Я же с полным правом могу уподобить себя жеребчику-трехлетке, со всем нерастраченным еще в ту пору пылом младости, о подробностях коего распространяться почитаю нескромным, а потому излишним, ибо это пристало больше хвастливым сынам краев полуденных, нежели нам, сумрачным баскам, сказав лишь, что схватки наши были и продолжительны, и повторяемы, так что милая моя имела все основания вслед за поэтом сказать о себе:
Полнее счастья я бы не хотела, И мне желать иного мудрено: Ты сердцем завладел — и частью тела, Где расположено оно.Хотя на самом-то деле, если не считать нежности — ибо ладная служаночка вызывала у меня и это чувство, благо одно другого не отменяет; Анхелика же Алькесар пребывала где-то за морями-океанами, на краю света, — сердце мое принимало во всем этом не слишком деятельное участие. Дело-то все, впрочем, было в том, что за чувственными досугами нечувствительно минуло довольно много времени — целый час и еще три трети сверх того, — и, если уподобить наши игры карточным, скажу, что спустил последнюю медную мелочь. И когда, как водится, потянуло наконец не друг к другу, а в сон, Люциетта поднялась и ушла в свою каморку, объясняя, что донна Ливия будет недовольна не тем, как провела ее служанка ночь, а — где встретила утро. Мне показалось это разумным, и я безропотно отпустил ее, однако вслед за Люциеттой почему-то покинул меня и сон, и я долго ворочался с боку на бок на смятых простынях, еще хранивших тепло и запах моей пылкой отсутствующей. Меж тем было уже очень поздно. Чувствуя настоятельную надобность облегчиться, я пошарил под кроватью, однако ночной вазы не обнаружил, так что, вознеся сквозь зубы витиеватую хулу на закон и веру и всех святых, натянул сорочку, надел башмаки, накинул колет в рассуждении спастись от холода и вышел в коридор, чтобы оттуда направиться на двор, а там отыскать маленькое помещеньице, предназначенное для личных нужд, а потому и именуемое нужником. Путь мой пролегал вблизи от черного хода — маленькой двери, выводившей прямо на узкий канал. И — внезапно я увидел вблизи нечто совсем неожиданное.
Люциетта в шерстяной шали на плечах, со свечой в руке вела в дверях беседу с каким-то человеком. Мужчиной, я хочу сказать. Они о чем-то шептались и при моем появлении воззрились на меня: она — с испугом, он — злобно. Этот человек — еще молодой, сложения скорее коренастого, нежели хрупкого — был в расстегнутой куртке, во фризовой рубахе-альмилье, обычно поддеваемой под кольчугу, в широких мятых штанах, а на голове носил круглую шляпу с очень узкими полями, какую имеют обыкновение носить венецианские гондольеры. На боку, как водится у людей его звания, висел нож, и я устремил все внимание на сей предмет, поскольку его обладатель тотчас выхватил его и, если бы не мое проворство, пригвоздил бы меня к стене, как бабочку. Спас меня соскользнувший с плеч колет, в котором лезвие завязло. Люциетта сдавленно вскрикнула, нападавший хотел было предпринять вторую попытку, но я, вознамерившись того не допустить — все же драка была моим ремеслом, — прибег к старинному опробованному в притонах приему: руку с ножом перехватил и выкрутил, а сразу же вслед за тем — пнул противника ногой в пах, отчего негодяй взвыл и согнулся в три погибели. Потом, по собственному опыту зная, что подобные удары хоть и выводят противника из строя, но все же не сразу проявляются во всей полноте чувствительности, удвоил действие, врезав ему по морде, да с такой силой, что от боли в косточках пальцев у меня самого посыпались искры из глаз, а он пошатнулся. Весь мой расчет строился на том, чтобы не попасть под нож, а потому, рассчитав, что вот именно сейчас сказался мой пинок не скажу куда, я кинулся на противника и схватил его за вооруженную руку, не давая размахнуться.
Драться в одной сорочке, без штанов, то есть звеня природными своими бубенчиками, — не самое приятное дело, даже если не брать в расчет переполненный мочевой пузырь. И потому я чувствовал себя просто дьявольски уязвимым. Мы оба повалились на пол и стали кататься по нему, обнявшись по-братски — то есть крепче, нежели Каин с Авелем. Тем временем стало темно — девушка то ли сама задула свечу, то ли выронила шандал: меня при этом еще безмерно дивило, что она не кричит, но я был слишком занят собственными заботами, чтобы раздумывать над причинами молчания. Дверь на канал была открыта: от нее к воде вели несколько каменных ступеней, а ниже торчали несколько вбитых в дно свай, к которым швартовались гондолы. Я описываю это, не потому что успевал еще разглядывать такую чепуху, а потому что все увидел накануне, при дневном свете: и вот, как я сказал, во тьме, барахтаясь на полу в обнимку с противником на самом пороге и в четырех шагах от черной воды, где покачивался силуэт гондолы, думал: не дай бог свалиться подколотым в канал, да еще в такой холод. Мой противник рычал — но рта по-прежнему не раскрывал — все же стараясь воткнуть в меня клинок, а я, собрав остаток сил, не до конца, стало быть, истраченных на Люциетту, упорно стремился ему в этом намерении помешать. Ибо к этой минуте я, напрочь утеряв две способности — соображать и помнить, сохранил все же третью, сводящуюся к нежеланию умирать. Итак, мы перекатывались по полу из стороны в сторону, выкручивали руки, били и рвали друг друга. Гондольер силился подмять меня под себя, оседлать, обездвижить и, полоснув раза два ножом, окончить схватку, но противник ему достался не из тех, кто просто так, за здорово живешь, отдаст жизнь первому, кто попросит. А потому я лягался, извивался всем телом и мертвой хваткой держал руку с ножом. И вскоре благодаря случайности, на которые так богата рукопашная, сумел все же оказаться сверху и в благоприятном положении — для того чтобы вслепую, куда пришлось, двинуть его локтем в лицо так, что он застонал. Обрадованный, я решил закрепить успех и нанес второй удар, вызвавший залп брани на венецианском диалекте, а следом — третий. Тут что-то хрустнуло у меня под рукой, а он, слегка оглушенный, разжал на миг пальцы. Я, хоть и сам пребывал в изнеможении, почувствовал в тот миг прилив новых сил и на волне их принялся ощупывать вражью голову — да не пальцами, а зубами, как собака. И вот, чувствуя на губах жесткую, солоноватую от пота кожу, наткнулся вскоре на ухо и, стремительно сомкнув на нем челюсти, зверски оторвал половину.
Вот тогда он завопил по-настоящему. И как еще завопил. Как? Вот так примерно: «А-а-а-!» И столь пронзительно, что собственные мои уши заложило. А он, будто обретя новые силы от внезапной боли, выгнулся дугой и сумел меня сбросить. Перекатившись назад, я отпрянул — от ножа, как мне казалось, за которым дело не станет, — но гондольер, вместо того чтобы броситься на меня, со стонами поднялся на ноги и, одним прыжком перемахнув ступени, упал в гондолу — слышно было, как весло ударилось о дно. Я не знал, что мне делать — оставаться ли на месте, радуясь такому повороту событий, или бежать следом, чтобы не дать венецианцу уйти. Трудный выбор этот сделал за меня мой враг: с поразительной быстротой он отвязал или перерезал причальный трос, двинул свою гондолу во тьму, где и скрылся.
А я, привалясь спиной к двери, выплюнул в канал кусок уха. Потом отдышался немного и успокоился, чувствуя, как ночной воздух леденит вымокшую от пота сорочку. Крики гондольера переполошили весь дом: в коридоре замелькали огни свечей, послышались приближающиеся голоса. И вскоре я уже смог разглядеть Люциетту — скорчившись в углу, она дрожала от холода или от страха.
Донна Ливия Тальяпьера вышла из комнаты, закрыла за собой дверь, заперла на ключ. Я не мог не признать, что наша хозяйка красива, — при том, что ей уже перевалило за сорок, что проснулась от шума в пять утра, что не прибрана и не накрашена. Волосы покрывал кружевной чепец, на ногах были комнатные туфли-бабуши из тонкой кожи, длинная, до пят, ночная сорочка виднелась из-под лилового, расшитого золотом домашнего халата, обрисовывавшего великолепную фигуру, некогда принесшую ее обладательнице благополучие. Лицо прекрасной венецианки было угрюмо и хмуро.
— Гуоворит, будто это ее инаморато… как это сказать?.. — люббоуник.
Я пожал плечами, чувствуя на себе пристальный взгляд капитана Алатристе.
— Очень может быть. По крайне мере, со мной он был очень пылок.
— Из-за обычной ревности?
— Что тут такого? Люциетта — девушка красивая.
— И она ему все рассказала? Призналась, кто крутит с другим?
Капитан продолжал упорно всматриваться в меня. Мгновение я выдерживал его взгляд, но тут же смущенно отвел глаза.
— Он мог и сам заподозрить неладное… Почуял измену…
— Она пер-репугана, — заметила донна Ливия. — До пуолусмерти.
Пол в комнате был устлан коврами, стены затянуты драпировками. Украшенный инкрустациями стол, турецкий поместительный диван и турецкая же печь, облицованная фарфоровыми изразцами, — сейчас ее не топили. В большое стрельчатое окно виднелись смутные очертания крыш и труб. Было еще совсем темно.
— У нас в Венеции есть старинная пуоговорка, — добавила донна Ливия. — Идзвините, не вполне прилично: «Non so se è merda, ma l’ha cagato il cane»[192].
Она произнесла это очень естественно. Потом взяла позолоченный металлический кувшин, наполнила вином два бокала красного стекла — капитану и мне. Поставила их на серебряный поднос.
— Немудрено, — ответил я. — Боится, ей откажут от места.
Капитан скептически покачал головой. Он был зверь битый и травленый.
— Нет… Нутром чую: это — другой страх… А в сортах страха я разбираюсь недурно.
— Как тогда еще это объяснить?
Я потер шею, которая сильно ныла после драки. Еще очень больно было двигать локтем. После полученных ударов и напряжения всех сил я и одеться-то сумел с большим трудом — еле натянул штаны, сорочку и колет. Капитан Алатристе тоже был, можно сказать, не при полном параде: полурасстегнутый и без верхнего платья, однако же с кинжалом, который не позабыл сунуть за ременный пояс, едва началась суматоха. Я заметил, что он взглянул на донну Ливию, и та в ответ слегка кивнула. Мой бывший хозяин после секундного размышления медленно повернулся ко мне:
— Ничего нет особенного в том, что паж блудит с девкой… Но ты бы мог сказать мне об этом.
Удрученный не столько болью, сколько этим упреком, я покосился на донну Ливию и снова стал растирать локоть.
— Я — не паж, а она — не то, что вы сказали. Да и зачем трубить о том на всех углах?
И остановился. Капитан, как будто ничего не слыша, продолжал созерцать меня ледяным взором.
— Надеюсь, ты хоть язык не распустил.
Эти слова меня задели. И сильно.
— Смотря в каком смысле, — отвечал я двусмысленно.
— Подумай хорошенько, вспомни, — продолжал капитан, пропустив дерзкую реплику мимо ушей. — Ничего не выболтал?
— Нет, насколько помню.
— Она расспрашивала тебя о чем-нибудь? Выведывала? Кто я такой, например? Или что мы тут делаем?
— Нет вроде бы…
— Вроде или точно?
Я взглянул ему прямо в глаза и сказал, как мог, спокойно:
— Я ничего ей не сказал.
Алатристе снова как будто не слышал — рассматривал меня, не меняясь в лице. Потом медленно поднял руку, протянул ее ко мне, потом показал на себя:
— Это может стоить головы нам с тобой. И ей тоже. — Он обвел рукой комнату так, что жест охватил и донну Ливию, которая молча сидела на диване и слушала.
Такое недоверие опечалило меня всерьез. Я не заслуживал подобного.
— Много лет мы с вашей милостью работаем вместе, — возразил я.
На этот раз показалось, что он как будто позволил себя убедить, потому что наконец слегка кивнул. Потом посмотрел на Тальяпьеру, как бы показывая, что надо искать другие объяснения.
— Боюсь, это был не гондольеро. Или не только гондольеро.
Капитан провел двумя пальцами по усам. Подошел к столу, взял бокал вина. Задумчиво подержал его на весу.
— Может быть, — согласился он через мгновение.
— Вы не осчусчали за суобой… как сказать?.. сорвельятто? Слеж-жки?
— Слежки? Не знаю. — Он сделал глоток, оценил вкус и стал пить дальше. — Мне все подозрительно, но наверное сказать не могу.
— И я тоже.
Капитан Алатристе взглянул на запертую дверь. А я представил по ту сторону Люциетту, ревущую в три ручья от страха за свою судьбу. Но в душу мне невольно прокралось сомнение: а в самом ли деле этот гондольер был ревнивым поклонником?
— Она и могла быть соглядатаем.
Донна Ливия согласилась. Могла, сказала она. А наблюдение в городе могли поручить шпионам Инквизиции, напрямую подчиненной Совету Десяти и отдававшей приказы и сенаторам, и купцам, и лавочникам, и лакеям. Слушая бывшую куртизанку, я убедился, что у нее — очень приятный, слегка хрипловатый голос, который в другое время доставил бы мне большое удовольствие; в другое время, а не сейчас, когда воображение мое было занято тюремными подвалами Сан-Марко, расположенными невдалеке от Моста Вздохов. От одной мысли, что там придется окончить свои дни, мурашки бежали по коже, а ведь я был не из пугливых. Я поглядел на свой бокал на подносе, но так и не дотронулся до вина. От тяжких дум пересохло во рту, однако я не хотел пить в присутствии капитана. Как-нибудь в другой раз. Тем более что капитан не сробеет выпить за двоих — хоть в эту ночь, хоть в любую другую.
— Венеция — маленький остров, — заключила донна Ливия. — Риббка в сети соглядатаев, доносчиков и убийц.
Капитан тем временем осушил бокал и прищелкнул языком. Утер влажные усы.
— Если уж вцепились в кость — не выпустят, — согласился он.
— Это может быть всего лишь оббичние миеры бедзопасности… Вы ведь оба, синьоры — спаньюоли… испанцци… И это оправдывает некоторые внимание властей…
— Что возвращает нас к вашей Люциетте.
Капитан замолчал, подошел к столу и налил себе еще.
— Если дело касается инквизиции, — сказал он, сделав новый глоток и глядя на меня, — девушка должна знать, что именно ее попросили выяснить… И любопытно, по своей ли охоте она с тобой спала или ей это поручили.
— Чего другого, а охоты хватало.
— Надобно ее расспросить.
— Да ведь мы уже спрашивали… — возразил я в смущении.
— Поглубже копнем.
Он произнес эти два слова очень холодно и перевел глаза на Тальяпьеру. Та моргнула, и легкое движение век встревожило меня несказанно. Спокойствие этой дамы беспокоило еще сильней, чем тон капитана.
— Ставки в этой игре высоки, — продолжал тот, обращаясь вроде бы ко мне, но глядя на куртизанку. — На кону — большое дело и многие жизни. Включая и вашу, синьора.
— Люциетта слуджит у меня всего полгода.
Донна Ливия говорила неторопливо, с расстановкой, словно раздумывая вслух. Как медленно осваивалась с какой-то неприятной мыслью.
— Еще люди есть в доме?
— Ниэт. Никого.
— У нее есть семья?
— Она сирота. Из Мадзорбо.
— Значит, никто ее не хватится?
Последовала пауза. Вероятно, короткая, хотя мне она показалась вечностью.
— Никто.
Тут я, не веря своим ушам, не выдержал:
— А что потом? Даже если она шпионила за нами, что с ней делать? Ну, допросим — а потом? Надеюсь, вы, сударыня, и вы, сеньор капитан, не собираетесь пустить ее вплавь по каналам? А? Или намереваетесь?
И, увидев, как Алатристе взглянул на Тальяпьеру, понял, что именно эта мысль давно уже пришла ему в голову. Он сделал еще глоток, потом еще, не спуская при этом с донны Ливии глаз. Так, как будто последнее слово оставалось за ней.
— Остается всего тре джорни… три дня, — невозмутимо сказала она. — Можем пока подержать ее вдзаперти.
— Где?
— В надежном месте.
— А потом?
— А потом уже будет все равно.
Капитан поставил бокал на поднос. Интересно, сказал я себе, нальет ли третий. Он было шевельнул рукой, словно намереваясь сделать это, но на полдороге передумал.
— Если что пойдет не так, она может вас, сударыня, заложить.
Куртизанка отчужденно улыбнулась. Все еще красивые губы изогнулись в усмешке необыкновенно пренебрежительной.
— А если выгорит — донесет кто-нибудь еще. Окотники найдутся. Сейчас меня беспокуоит угроза нашей дзатее.
Последние два слова заставили меня призадуматься. А много ли знает Тальяпьера о нашем предприятии, посвящена ли она во все его тонкости и, любопытно бы знать, ради чего она так отчаянно рискует. Что выиграет при удаче и что может потерять в случае провала.
— Ладно, — пробормотал Алатристе.
И снова взглянул туда, где за дверью в комнате без окон сидела Люциетта. Протянул руку к кувшину и наполнил свой бокал.
— Ступай к себе и жди там, — велел он мне.
Я стиснул зубы и кулаки. Напрягся. И решился:
— Нет. Я хотел бы остаться. То есть присутствовать.
Зеленоватые глаза скользнули по мне сверху донизу. На этот раз стакан был опустошен единым духом — в один медленный и долгий глоток.
— С вашего позволения, донна Ливия… Мы вас оставим на минуту…
Капитан положил мне руку на плечо, а другой указал в коридор:
— Идем.
Мы вышли, и Алатристе притворил за собой дверь. Потом остановил меня, взял за отворот колета. Он и так стоял очень близко, а теперь придвинулся совсем вплотную. Так, что едва не щекотал меня усами.
— Послушай… Если нападут на наш след, все пойдет к черту. Нас передушат как крыс. Сотня жизней, и среди них — жизнь Себастьяна, и Гурриато, и прочих, зависит от этого. — Я хотел было возразить, но он, мотнув головой, не дал мне и рта открыть: — И, поверь, мне вовсе не хочется, чтобы на меня внезапно набросилось человек двадцать стражников. И еще меньше хочется кормить клопов в подвале Сан-Марко, пока не удавят втихомолку, как здесь водится.
Он замолчал на миг, давая мне проникнуться смыслом сказанного. Потом взглянул на дверь, за которой ожидала донна Ливия.
— Выбора нет, — он понизил голос до шепота. — На одной чаше весов — девчонка, на другой — все мы.
От этих слов кровь бросилась мне в лицо. Резким движением я высвободился.
— Это мне все равно. Я не согласен… Не думаю, что…
— О чем ты не думаешь?
Он снова ухватил меня за ворот, резко притиснул к стене. Молниеносно обнажил кинжал и приставил острие мне к горлу.
— Вот так теперь дело обстоит. Понял? У тебя, у меня, у нас всех.
Голос был такой же ледяной, как стальное лезвие, касавшееся моего кадыка. Скорее растерянный, нежели рассерженный, скорее обескураженный, нежели разозленный, я попытался высвободиться. Но капитан держал крепко.
— Говорю тебе: выбора ни у кого уже нет. Остается одно — идти до конца.
Он глядел на меня в упор. И чуть сильнее надавил острием, словно в этот миг моя жизнь была ему вовсе безразлична. При каждом слове меня обдавало сильным винным духом — вино перегорело как-то уж очень быстро.
— Это приказ, — произнес он так, будто выплюнул. — Как в бою.
Зеленовато-льдистый взгляд его обжег меня до костей. И, богом клянусь, вселил в меня страх.
— Так что отправляйся немедля к себе. Иначе убью.
Диего Алатристе пытки были не в новинку: доводилось с пристрастием допрашивать и фламандских или германских горожан, выпытывая — вот уж точно! — где припрятаны деньги и ценности, и турок, взятых вместе с семьями в заложники во время налетов на прибрежные городки и селенья; и пленных, чтобы получить сведения о неприятеле или узнать, где именно за подкладкой зашито золото. Ему это не нравилось, но он это делал. Железом, веревкой и огнем. Сын своего времени и сей слезной юдоли обитатель, он по собственному опыту знал, что страдающие избытком щепетильности в этом мире не задерживаются, отправляясь в лучший. Знал еще, что одно дело — сидеть на престоле, проповедовать с амвона, философствовать в книгах и совсем другое — отстаивать свое бытие с пятью пядями стали в руке. Не говоря уж о том, что, когда дела идут наперекосяк, короли, теологи и мудрецы во имя торжества добродетели непременно прибегают к посредству таких людей, как он. Все они — включая философов — убивают и мучают издали, чужими руками. Своих не марают, сами не ввязываются. Довольно давно читал Диего Алатристе старинное сочинение, ходившее по Мадриду в списках, — копию письма, которое некий Лопе де Агирре, участвовавший в печальной памяти экспедиции Урсуа, а потом взбунтовавший своих людей, отправил королю Филиппу II, обращаясь к нему на «ты», как равный к равному: написано оно было, когда оный Лопе решил на свой страх и риск разорвать узы верноподданного и жить в Индиях без хозяина. Алатристе наизусть запомнил кое-что из этого вызывающе дерзкого письма, вкупе с другими преступлениями стоившего мятежнику головы:
Не сможешь ты по праву носить титул короля и повелителя здешних земель, ибо сам не подвергал свою жизнь никакому риску. Ни я, ни мои сотоварищи не ждем милосердия и не уповаем на него, и даже если будет оно нам даровано твоим величеством, мы с негодованием отринем его, как позор и бесчестье. И в посулы твои верим мы менее, чем в книги Мартина Лютера.
Взглянув на Люциетту, капитан подумал, что он сам давно уже миновал ту точку в жизни, где — если господь умудрил — пишут письма, подобные письму Лопе де Агирре. В тот миг, когда от винных паров утратили ясность глаза, но не разум, ему хотелось только одного: не умереть. Или, по крайней мере, верить, что если уж доведется принять смерть — то с честью, так, чтобы навык солдатского ремесла позволил взять за нее подороже. И по возможности не в этом угрюмом городе, где в обычае топить человека в мешке, как пса. Не в городе, где Люциетта при виде того, как капитан входит и запирает за собой дверь на ключ, в испуге отпрянула и прижалась к стене. Не в городе, схожем со слезинкой на ледяном озере, в которое разочарованный Бог — если и вправду был такой неразумный и безответственный Бог — обратил мир, созданный по его образу и подобию.
— Ну, рассказывай, девочка, — сказал он по-итальянски.
В комнате без окон стояли только низкий стол, табурет и сундук. В коптящем пламени двух свечей видны были расширенные от ужаса, полные слез глаза Люциетты. Она по-прежнему была в одной ночной сорочке и шали, наброшенной на плечи; волосы перевязаны лентой. Ноги босые. «Ей восемнадцати нет», — с неудовольствием подумал Алатристе.
— E’il mio fidanzato[193], эччеленца… Клянусь вам.
У Алатристе не было ни времени, ни охоты убеждать ее или угрожать. Не сегодня ночью. Он слишком устал, а время, безразличное к тонкостям и заботам, работало против него. И после краткого раздумья без злобы, открытой ладонью ударил Люциетту по щеке. Достаточно сильно, чтобы она отвернула голову, уставившись в стену.
— Клянусь вам!
И в ужасе отчаянно зарыдала. Что же, миндальничать не приходится, подумал Алатристе, не тот случай. Совсем, черт возьми, не тот. Надеюсь, поможет.
— Рассказывай. Кто такой этот гондольер?
И ударил снова. Отрывистый сухой звук пощечины хлопнул в глухой комнате, как бич комита на галерах. Девушка жалобно вскрикнула и упала на колени; волосы ее растрепались. Вздрогнув от неуместной жалости, Алатристе мельком подумал: она, может быть, не врет, и к ней в самом деле наведывался ревнивый любовник. Однако нужна непреложная уверенность. Речь идет о жизни и смерти. Его и многих других.
— Рассказывай.
А вот обмороков нам тут не надобно, сказал он себе. Смотри не переусердствуй — она должна быть в состоянии говорить. Ухватив за волосы, он заставил Люциетту встать и замахнулся, чтобы еще раз ударить по залитому слезами, искаженному страхом лицу. Однако из глубины желудка поднялась волна тошноты, и он удержал руку, подумав с тоскливым отвращением: «Не смогу. Не уверен, что дойду до конца. А назад пути не будет».
Он потянулся к поясу и вытащил кинжал. Заметив это движение, Люциетта опять вскрикнула, попыталась высвободиться, но ослабела от ужаса, так что Алатристе ничего не стоило пресечь эти немощные усилия. Не выпуская ее волос, он приставил лезвие к правой щеке:
— Говори, или отмечу на всю жизнь.
Он не собирался делать это — и, кажется, был уверен, что не приведет свою угрозу в исполнение, — но однажды в Неаполе, двенадцать лет назад рассек щеку женщине и заколол мужчину. Изуродовал возлюбленную и убил друга. После этого должен был оставить полк и бежать в Испанию, зарабатывать на жизнь ремеслом эспадачина в Мадриде и Севилье. И людей убивать не за королевское жалованье, а за оговоренную заранее сумму. Волна тошноты вновь подкатила к горлу, вино попросилось наружу от этого воспоминания, с годами не сделавшегося отрадней. Тот случай вместе с еще несколькими так и лежал камнем на душе.
Задумавшись, он не сразу осознал, что Люциетта, захлебываясь от рыданий, уже во всем признается: ее ночным гостем был гондольер из Риальто и, как многие другие люди того же ремесла, — шпион инквизиции. Николо, так звали его, попросив ее обольстить слугу Педро Тобара и выведать об испанце побольше, каждую ночь приходил к ней за новыми сведениями, а она получила за это полдуката в семьдесят два сольдо. Этот самый Николо — человек рисковый и решительный, — увидев, что разоблачен, хотел зарезать слугу, будто бы из ревности, девчонку, мол, не поделили, благо таких драк с поножовщиной в городе каждую ночь происходит по десятку.
Казалось, прорвало дамбу — таким потоком хлестали из Люциетты слезы и слова. Она упала на колени и молила не убивать ее. Алатристе глядел на девушку в некотором помрачении, силясь вникнуть в смысл того, что она говорит. Давняя неапольская история отплясывала дьявольский танец в отуманенной вином голове. Но вот он тряхнул головой, избавляясь от наваждения, спрятал кинжал в ножны. Выругался шепотом. Сделал несколько шагов прочь, стараясь как можно дальше отойти со света, уперся рукой в стену и выблевал все, что было выпито за сегодня.
Повернув ключ в замке, он снова запер Люциетту. Потом в два крупных шага оказался рядом с донной Ливией Тальяпьерой, которая молча глядела на него. Не останавливаясь, на ходу, протянул ей ключ и по коридору направился к себе. В своей комнате бросил на кровать кинжал, вымыл лицо, прополоскал рот — и застыл, наклонив голову, опершись обеими руками о крышку умывальника, чувствуя, как вода капает у него со лба и усов. Потом вытерся полотенцем и вернулся в гостиную. Куртизанка была там, где он ее оставил. Сидела на турецком диване у неразожженной фарфоровой печки. И не произнесла ни слова, вновь увидев перед собой капитана.
— Он был не просто и не только гондольер, — сказал Алатристе. — Девушка ваша шпионила за нами по его поручению.
Женщина кивнула строго и значительно:
— Дзнаю. Подкараулила.
Алатристе в раздумье прошелся взад-вперед по комнате. Он представлял себе, какие лица будут у Бальтасара Толедо и Сааведры Фахардо, когда они об этом узнают. И пытался угадать, что́ изменит это происшествие в общем плане.
— Что думаете предпринять?
Алатристе пожал плечами. И понял с облегчением, что на самом деле ему ни о чем не надо думать. Ну, или почти ни о чем. Он сегодня свою роль исполнил. До известной степени, разумеется. Сведения будут переданы, а принимать решения — не его дело. Когда есть начальство, это чудесным образом облегчает жизнь. Тем и хороша военная служба: там докладывают по команде снизу вверх, а сверху вниз — отдают команду, там есть то, что именуют красивым словом «субординация», там у каждого — своя мера ответственности.
— Продолжать, — ответил он бесхитростно. — В том, что за нами следили, нет, в сущности, ничего необычного… Как вы, сударыня, изволили заметить ранее, вся Венеция — под наблюдением.
— Я о Люциетте.
В очередной раз он восхитился хладнокровием этой женщины. Ремесло закалило ее на славу. Тем более — кому же понравится держать в доме горничную-предательницу. Капитан не позабыл, каким безразличным взглядом она проводила его, когда он уходил допрашивать служанку.
— Не знаю, — и показал на запертую дверь. — Сможете подержать ее под замком, пока все не кончится?
— Опасно, — качнула головой куртизанка. — Днем в доме — другие слуги. Ко мне наведываются подруж-жки, как вы сами знаете, синьор.
Она произнесла это, глядя ему прямо в глаза с уверенностью, граничившей со спокойным вызовом. И не без любопытства. С той минуты, как он ушел допрашивать Люциетту, куртизанка, откинувшись на спинку турецкого дивана, смотрела на него не так, как раньше. Изучающе смотрела — вот самое верное слово. И этот неотступный взгляд вселял в него смутное беспокойство.
— Она очень напугана, — заметил он. — Сказала больше, чем должна была, и теперь ей стоит опасаться Николо и его присных.
Донна Ливия согласилась. Выказав изрядный здравый смысл и практическую сметку, признала, что страх сделает девушку покорной и послушной. Они выведут ее из дома, посадят в закрытую гондолу и доставят в надежное место. Что же касается синьора Педро Тобара и его слуги — тут она остановилась и вновь окинула его ожидающим взглядом, — хорошо бы им на будущее предпринять дополнительные меры предосторожности.
— Да и вам, сударыня, они не помешают, — заметил Алатристе.
И заметил вполне искренне. Ему вовсе не хотелось, чтобы она попала в руки дзаффи — сбирров венецианской инквизиции, наводящих на всех ужас.
На это куртизанка мягко улыбнулась:
— Чтобби не стать пендальо ди форка[194]? Как это будет по-вашему?
— Чтобы пеньковую хворобу не подцепить, — улыбнулся он в ответ.
Она чуть склонила голову набок, словно прислушиваясь к звучанию испанских слов.
— Да… Думаю, что да.
И медленно поднесла руку к горлу — белому и нежному, отметил капитан, — откуда исходил бархатистый голос с едва заметной хрипотцой. Изобильные груди под парчовым халатом приподнимали ночную сорочку, которая благодаря позе куртизанки, откинувшейся на спинку дивана, особенно явственно обрисовывала роскошное и все еще статное тело. Алатристе спросил себя, случайно ли все это, и решил — нет, ни в коем случае. Ибо женщина с опытом Ливии Тальяпьеры на волю случая не оставляет ничего, даже самой малой малости. Без сомнения, она владела своим телом в силу и прирожденного мастерства, и профессиональной умелости, и каждое движение было выверено и отточено не хуже, чем у танцовщицы или комедиантки. Знала, как сделать так, чтобы ни жест, ни взгляд не пропали втуне, чтобы попадали в цель и разили без промаха.
— Вы, синьор Педро — человек особенный.
Она еврейка, вспомнил Алатристе. Хотя и не очень похожа. Из испанских евреев, называемых «марранами», которые некогда бежали с Пиренеев и рассеялись по свету. В былые времена ему приходилось иметь дело с женщинами этого племени, и все они были горячи, упруги телом и гладки кожей. Нежны и податливы. Почти у всех были грустные глаза, в которых порой мелькала мстительная угроза. А у Ливии Тальяпьеры глаза были не такие. В них светилось безмятежное, отчужденное спокойствие, доступное лишь тем, кто побывал во множестве объятий и знавал тысячи мужчин: а нынче ночью — еще и чуть приправленное и сдобренное любопытством, придававшим взгляду странную, непривычную пристальность. В своей долгой жизни солдата и эспадачина Диего Алатристе нечасто пользовался услугами проституток. А если пользовался, то за любовь не платил. Он относился к тому разряду мужчин, которые приобретают благосклонность женщин — в том числе публичных — не за деньги. Даром. Ну, или почти. И захоти он только, смог бы, как и многие из его товарищей, мягко спать и сладко есть за счет неустанных трудов выбранной подружки. Так или иначе, солдатская жизнь приучила его к тому, что большинство шлюх, как правило, равнодушно чуждаются нежных чувств по отношению к мужчинам, даже если и живут за их счет. Еще и от этого сейчас, оказавшись под прицелом больших миндалевидных глаз, он чувствовал себя как-то неуютно. От внимательного взгляда донны Ливии не укрылось ничего. Озадачивало и произнесенное ею минуту назад слово «особенный». Особенна здесь только тяга, которую я невольно испытываю к этой бабе даже в столь неподходящих обстоятельствах, подумал капитан с обычной своей спокойной покорностью судьбе.
— Скуорро ли уззнаю ваше истинное имя? — сказала куртизанка.
Он был уж готов утолить ее любопытство. Сейчас уже совершенно безразлично, Педро Тобар тебя зовут или Диего Алатристе. Но все же в последнюю минуту удержался. Причем именно поэтому. Потому что было совершенно все равно. И ограничился тем:
— Может, и скоро. В свое время.
— Вы всегда были солдатом?
— Я не говорил, что был солдатом.
Донна Ливия улыбнулась снова. И теперь, неизвестно почему, Алатристе почувствовал неловкость. И едва ли не смутился. Глупо было отрицать очевидное. Умение смотреть и видеть было этой женщине присуще.
— Да, — сказал он. — С тех пор, как помню себя. Или даже раньше.
Он сказал это с вымученной угрюмостью, отвернувшись от нее. Наткнувшись взглядом на кувшин и бокалы, по-прежнему стоявшие на столе, почувствовал искушение найти опору в вине, но порыв этот был угашен воспоминанием об искаженном лице Люциетты, о лезвии кинжала, приставленном к ее мокрой щеке. Нет, клянусь кровью Христовой, довольно на сегодня, подумал он. Ни капли больше. Ни слезинки.
— Я знавала военных, — сказала Тальяпьера, — но они были не такие, как вы.
Тут он обернулся к ней. Образ Люциетты выстудил его взгляд и обострил разум. Вернул всегдашнее самообладание. Он стал прежним — солдатом, шагающим по враждебной земле, где знакомого — только опасность на каждом шагу, а всего имущества и всей защиты — одна лишь шпага. И до дома — далеко.
— А я знавал женщин. Они тоже были не такие, как вы.
Ему показалось, что она растерялась. И долгое мгновение всматривалась в холодные глаза Алатристе, словно видела его впервые.
— Вы всегда так смотрите, синьор Тобар?
— Нет.
Они еще некоторое время играли в гляделки. Донна Ливия не выдержала первой. И отвела глаза. Прежде за ней такого не водилось.
— Это диэло опасно пара тутти… для всех, — сказала она, чуть понизив голос. — Но у каждого — свои реззоны участвовать в нем.
Капитан понял, что она имеет в виду их предприятие.
— Но женщине-то… — отважился вымолвить он.
И увидел, что она слегка выпрямилась на диване. В глазах, как зарница, разрывающая безмятежное спокойствие небосвода, сверкнула уязвленная гордость.
— Тем пачче — венецианке? — с горькой насмешкой уточнила донна Ливия.
— Именно.
Словно не обращая внимания на то, что делает, как бы ненароком, она сняла чепчик, мягко тряхнула головой. Густые черные волосы рассыпались по плечам. Чересчур черные для натуральных, снова сказал себе Алатристе, разглядывая кожу, слегка потерявшую девическую свежесть. Вот так, если смотреть вблизи, когда куртизанка еще не успела прихорошиться и накраситься, можно было разглядеть мельчайшие морщинки в уголках глаз и в складках рта. Но это не имело значения. Красоте этой женщины годы придали только большей зрелости и величавого спокойствия. Нужна целая жизнь, подумал он, чтобы обрести такую.
— В Венеции идет война кланов, кипит суоперничество, борьба амбицций… И все, как всегда, вертится вокруг денег и власти.
Она помолчала, а когда заговорила вновь, голос ее звучал сурово:
— Это — вопрос скельта… виббора, по-вашему. Я дзнаю дожа Корнари. Знаю и сенатора Риньеро Дзено. И поставила на него.
— Дай бог, чтоб он не пошел на попятный в последнюю минуту, — сказал Алатристе.
Приоткрою дверь, подумал он, — и посмотрим, войдет куртизанка или нет. И если войдет, то куда направится. Докуда дойдет и откуда пришла с этим горьким, отчужденным тоном.
— Он поклялся. Дзено ненавидит дожа всей душой.
— А вы, синьора?
Это был последний вопрос, который он мог задать ей. Или почти последний. Алатристе знал, разумеется, что с этой точки ему лучше не сходить. Он не привык к такого рода беседам. Смешивать в одну кучу женщин и работу — значило вступить на скользкий путь, и события нынешней ночи прекрасно это доказывали. Так что он предпочитал поменьше говорить, чем побольше узнавать.
— Для политики — дело слишком рискованное, — прибавил он все же. — Женщины поступают так только из-за любви… Или когда хотят отомстить…
— Вы — настоясчи риццарь… Только ведь есть еще и деньги, не дзабудьте.
Она подвинулась на диване, словно давая место. И, приглашая Алатристе занять его, слегка похлопала по сиденью. Капитан молча отказался, но она так же молча настояла на своем. На этот раз — улыбкой. Поколебавшись мгновение, он присел рядом. Не очень вальяжно — на самый краешек, так, чтобы не коснуться женщины.
— Коччу поведать вам уна сториа, синьор Педро… О подруге моей подруги.
И рассказала. Устремив взгляд в пространство, повернув голову к гобеленовой драпировке на стене — там, насколько понял Алатристе, выткан был библейский эпизод: Юдифь и Олоферн — Ливия Тальяпьера начала историю о юной венецианской красавице-куртизанке, которая много лет назад, во времена дожа Леонардо Доны числила среди своих поклонников молодого патриция и будущего дожа Джованни Корнари. А он в ослеплении страсти буквально осыпал ее золотом. Но однажды ночью, наскучив его ревностью и неизбежными при этом упреками, она закрыла перед ним двери своего дома и стала отдавать предпочтение другим любовникам. Он вымаливал у нее еще одно свидание, и она уступила наконец, согласившись отужинать с ним наедине в Маламокко, расположенном меж лагуной и морем, на вилле у его друзей. Они отбыли из Венеции в сопровождении нескольких гондол с музыкантами и угощением, а на вилле все шло, как и было предусмотрено, до тех пор, пока не завершился ужин, на котором присутствовали друзья молодого патриция. Отведя куртизанку в спальню, он сначала предался с ней любви, а потом позвал шестерых этих друзей, и они изнасиловали ее. Но этим дело не кончилось. Ею всеми возможными способами стали наслаждаться гондольеры, местные рыбаки и крестьяне, слуги, а Корнари угольком на стене ставил метки. Их набралось тридцать три, причем две последние появились попечением двоих монахов из соседнего монастыря Сан-Лоренцо. Утром на лодке, груженной дынями, несчастную доставили домой.
Ливия Тальяпьера, рассказывая, ни на миг не отрывала глаз от изображения Юдифи и Олоферна. А когда окончила свою историю, осталась неподвижна и по-прежнему смотрела на гобелен, так и не повернувшись к капитану. Взгляд ее блуждал неведомо где.
— Понятно… — пробормотал Алатристе.
Куртизанка медленно обернулась к нему:
— Не увверена, что вы поняли тутто… всио, но моя сториа вам пуонравилась.
Голос ее теперь звучал громче и живей. Не без игривости. Юная куртизанка из Маламокко, подруга ее подруги, осталась где-то далеко. Рядом с Алатристе сидела женщина во всем великолепии зрелой красоты. И улыбалась ему.
— Скажжем так: у меня больше амичи… друзей в одном лагере, неджели в другом… Дзено мне блидже, неджели Корнари.
Она теперь смотрела ему в глаза иначе, по-новому, словно угадывала его желание. Даже еще не дотрагиваясь до нее, Алатристе ощущал близкое тепло ее роскошного тела.
Донна Ливия улыбнулась шире. И, шире распахнув халат, откинулась на диване. Тогда Алатристе положил руки ей на бедра и стал медленно склоняться к ней.
Улица встретила меня мутноватым светом, возвещавшим, что и этот день будет таким же пасмурным и дождливым, как все предыдущие: завернувшись в плащ, я сидел на береговом камне неподалеку от того места, где малый канал впадал в большой. За спиной у меня находилась маленькая харчевенка, где подкреплялись лодочники, которые еще спозаранку начинали выгружать свою кладь в окрестностях Риальто. Минуту назад я вынес наружу высокую кружку горячего вина и ковригу свежевыпеченного хлеба и, макая одно в другое, устроил себе завтрак в надежде, что свежий воздух проветрит мне голову — чересчур замученную, чтобы можно было опустить ее на подушку. И смотрел, как тянутся мимо караваны разнообразных посудин, груженных фруктами, овощами, хворостом, слушал крики лодочников, предупреждавших друг друга о своих маневрах, и глотал размоченные в горячей жидкости кусочки мякиша. Ожесточение схватки с гондольером, ярость на капитана Алатристе уже схлынули, уступив место глубокому унынию, от хмурого утра и сырости разыгрывавшегося только пуще. Мне вдруг захотелось оказаться подальше от Венеции, от моего хозяина и от всего прочего, имевшего хоть какое-то отношение к тому, что держало меня здесь. Этот город, в моем первоначальном воодушевлении представлявшийся в чарующем блеске богатства и опасностей, на поверку оказался угрюмой, зловещей ловушкой, полем сражения, где невозможно было понять, на чьей стороне добродетель и благоразумие. Перед глазами стояла бедняжка Люциетта — испуганная, растерянная, опухшая от слез, и образ этот рвал мне душу так, что и высказать не могу. Я по-прежнему не вполне верил в ее сознательное предательство. В сумбуре чувств я то негодовал, убежденный в ее невиновности, то соглашался с тем, что проступок все же был, то начинал подыскивать ему самые замысловатые оправдания. Клянусь вам, господа, чем угодно, что будь я полным хозяином себе и планам своим, да не связывали бы меня с капитаном Алатристе и прочими моими товарищами узы верности родине и солдатскому ремеслу, не колеблясь и не мешкая, оставил бы Венецию — и, ей-богу, плевать мне было бы на то, чем и как кончится авантюра, приведшая меня в этот город.
В ту минуту мне показалось, что я вижу Люциетту. Я глядел на заднюю дверь, выходившую прямо на канал, — ту самую дверь, у которой вчера шла схватка с гондольером, — и вдруг заметил, как перед ней причалила двухвесельная гондола с парусиновым навесом над крохотной каюткой. Я был шагах в тридцати, на другом берегу, но в женщине, которая на полминуты появилась на пороге и о чем-то коротко переговорила с гребцами, все же сумел узнать донну Ливию Тальяпьеру. Потом она скрылась в доме, зато появились еще двое мужчин: по виду — настоящие bravi, а между этими молодцами с простыми и грубыми — под стать их одежде — ухватками я различил фигуру потоньше и поменьше ростом, с ног до головы закутанную в черный суконный плащ с капюшоном. Все трое спустились в гондолу, гребцы оттолкнули ее от причала — и лодка проскользила мимо меня, но я, хоть и вскочил в явственном предчувствии недоброго, и подобрался к самой воде, ничего не увидел за сдвинутыми занавесками. Потом гондола повернула налево, вплыла в Гран-Канале и исчезла в направлении Моста Немцев.
Если мне не показалось и там внутри и вправду была Люциетта, то я видел ее тогда в последний раз. В последующие дни события пошли так густо и разворачиваться стали так стремительно, что и голова моя, и шпага отыскали себе предметы более достойные внимания. Имя девушки было произнесено с тех пор только однажды, уже по прошествии известного времени, в разговоре с капитаном Алатристе. Спустя несколько месяцев после того, как все кончилось, я решился задать вопрос моему бывшему хозяину. Он с минуту смотрел на меня молча, словно сомневаясь — не в своем ответе, а в том, вправду ли я желаю знать о судьбе Люциетты.
— Тебе это на самом деле важно? — осведомился он наконец едва ли не удивленно, причем вопросительная интонация в этом вопросе отсутствовала начисто.
Я отвечал утвердительно. Что, мол, да, важно и что у меня есть полное право знать. Тогда капитан кивнул с безразличным видом, не спуская с меня заиндевелых глаз — точно такие же смотрели на меня в тот день, в доме у донны Ливии Тальяпьеры, когда он уткнул мне в кадык острие своего кинжала. Потом сказал:
— Она повесилась. Удавилась на ленте от своей ночной рубашки в ту же ночь, как ее заперли.
И, нагнув голову, вернулся к прежнему занятию — стал штопать при свете сальной свечи старые шерстяные штаны. А я понял в этот самый миг, что совесть отныне — и уже навсегда — будет грызть меня так же, как грызет его.
VII. Арсенал
Утром двадцать второго декабря капитан Алатристе отправился слушать мессу без меня. Иначе говоря, командиры трех испанских отрядов собрались в монастыре, где квартировал сильно прихворнувший дон Бальтасар Толедо, чтоб обсудить с ним положение. Недомогание его разъяснилось: это оказалась почечная колика — камни не желали выходить ни в какую, — которая причиняла адские боли и приковала его, можно сказать, к кровати, сделав совершенно непригодным для службы. Монастырь был доминиканский, а братия сочувствовала Испании и держала сторону сенатора Дзено. Не ведая о подробностях заговора и не будучи его участниками, монахи сумели все устроить таким образом, чтобы во время мессы, всегда очень многолюдной, капитан, Роке Паредес и Мануэл Мартиньо де Аркада могли незаметно пройти в ризницу, а оттуда — в само здание монастыря. Я сопроводил капитана до дверей церкви, где и остался, потому что на военный совет собрались только начальники, а макать в их подливку свою горбушку рядовым было не положено.
Вы, господа, наверняка помните, если не забыли, что людям Роке Паредеса поручили устроить пожары в еврейском квартале, а Аркады — вместе с Бальтасаром Толедо и Лоренцо Фальеро штурмом взять дворец дожа, тогда как на долю Диего Алатристе и приданным его отряду пятерым шведам-подрывникам, покуда еще не прибывшим в Венецию, вместе с далматинскими наемниками капитана Маффио Сагодино выпало заниматься Арсеналом. Нездоровье Толедо смешало карты, и теперь необходимо было перераспределить роли и обязанности каждого. Затем и созвали совет, на котором я, как уж было сказано, не присутствовал, а потому из церкви и направился гуляючи к тому месту неподалеку от Таможни, где назначил мне встречу капитан.
Хранилище открывалось спозаранку и в этот час уже закрылось, и народу в округе было мало. На причале громоздилось множество тюков и бочек. От крупной зыби гондолы и лодки, пришвартованные у причала, бились о него бортами. Я шел себе да шел, хорошенько укутавшись в плащ, и разглядывал этот перекресток миров и морей, где корабли всех видов, родов и стран столпились так тесно, парус к парусу, что можно было бы, ног не замочив, пройти по ним вдоль широкого устья большого канала от таможни до самой площади Сан-Марко. И я, хоть у меня не прибавилось любви к этому городу, и тусклое, сочащееся дождем небо все так же грузно висело над крышами, куполами соборов и шпилями колоколен, не мог не восхититься Голкондой Старого Света, раскинувшейся перед моими глазами в таком надменном величии, что ни Севилье, ни Барселоне, ни Генуе с Неаполем не досягнуть было до нее, ибо именно здесь, казалось, проходила земная ось. И я сказал себе, что нам, испанцам, владыкам мира, очень лестно было бы числить за собой этот баснословно богатый купеческий город, в котором первейшей гражданской добродетелью (о пороках пока не будем) считалось трудолюбие. Меж тем как наши усилия и горы золота тратились на химеры, не имевшие никакого отношения ни к созиданию, ни к процветанию народов, зато самое прямое — к высокомерию и спеси, к праздности и кичливому самолюбованию старых христиан. Ибо никто не воплотил так полно образ Испании нынешней — и всегдашней, — чем убогий неимущий идальго, который лучше сдохнет с голоду, но не пойдет работать, потому что это уронит его достоинство, который постится круглый год, но когда со шпагой на боку выходит на улицу — непременно вытряхнет крошки из бороды, чтобы показать соседям, что, мол, наелся досыта.
Капитан Алатристе, Роке Паредес и Мануэл Мартиньо де Аркада появились два часа спустя и очень неспешно прошли вдоль причала. Остановились рядом со мной и принялись оглядывать лагуну, устье канала и остров Сан-Джорджо, а потом, — пользуясь тем, что вокруг не было чужих ушей (мои — не в счет), — обсуждать обстоятельства предстоящего дела. Тут я узнал, что в мочеиспускательном канале у дона Бальтасара застрял камень размером почти с аркебузный кремень, и почечная колика усугубилась нагноением, с которым не справился «тирольский скипидар», предложенный монастырским аптекарем, и что у страдальца, терзаемого адскими болями, держится и не спадает сильнейший жар. Так что дон Бальтасар Толедо понял, что ему остается только сдать командование, потому что надежды на улучшение в ближайшее время нет. И указал на капитана Алатристе как на своего преемника, и Роке Паредес с Аркадой не стали возражать. Скорее напротив: профессиональные солдаты, они даже обрадовались, что спрос будет не с них. По той же причине и Алатристе не слишком возликовал, но делать нечего — принял назначение, как с неизменным своим фатализмом принимал неизбежное. Общий план в основном остался неизменным, но порешили, что теперь атаку на Арсенал возглавит Себастьян Копонс, а люди Мануэла Мартиньо де Аркады поступят в распоряжение капитана Алатристе, который поведет их на штурм Дворца дожей. Роке Паредес займется пожарами в еврейском квартале.
— Загвоздка в том, — сказал Алатристе, — что нам где-то надо будет встретиться, и притом — не привлекая к себе внимания.
— Нужно найти такое место, чтобы разом было и людное, и не слишком заметное, — сказал Аркада со своим будто маслом смазанным лузитанским выговором.
— Мост Убийц подойдет как нельзя лучше… Знаете его, господа?
Роке Паредес расхохотался, отчего изо рта у него вылетело целое облачко пара — казалось, он затянулся и выпустил густой клуб табачного дыма:
— Нет. Но жизнью Иуды клянусь, имечко мне не нравится.
— Я набросаю план, хотя найти место труда не составит. Выдвинемся туда мелкими группами, проведем нечто вроде последнего смотра, обменяемся новостями, прежде чем разойдемся по местам.
Все замолчали, потому что мимо прошли несколько матросов, направляясь к одному из ошвартованных у причала парусников. Потом капитан подбородком показал на Гран-Канале и северную часть города.
— Думаю, твоя милость не прочь будет бросить взгляд на место действия, — сказал он Роке Паредесу.
Роке снова засмеялся и заскреб в черной бороде пальцами в перчатках. Манерами он походил на любезного кабана, но глаза у него были живые, а рука — крепкая.
— Правильно думаешь. Я уже побывал там вчера, хотя мост и не переходил… Сегодня еще схожу — и не затем, чтоб любоваться на их желтые шапки. — Тут он подмигнул мне заговорщицки. — Пойду вдвоем с кем-нибудь из моих людей, под тем предлогом, что направляемся в бордельное заведение некой Сары Кордовки, которая, по рассказам, по-испански чешет, как мы с тобой.
— Надеюсь, клинки ваши притихнут, а поведение будет просто примерное?
— И надеешься тоже правильно, — раздвинулись в медленной улыбке губы Паредеса. — Сомнение — обидно.
Я увидел, как капитан примирительно усмехнулся. Он был служака до мозга костей и знал, когда под какую музыку плясать; и убивать друг друга здесь, у самой таможни, да еще в канун предстоящих событий не стоило. Кроме того, теперь он взял на себя команду. И уж что-что, а с испанцами обращаться умел.
— Не хотел вас обидеть, сеньор солдат… Проехали.
Он смотрел Роке Паредесу прямо в глаза, смотрел твердо и открыто. И через мгновение нахмурившееся чело того разгладилось.
— Думаю, не хотел. Даже уверен, что не хотел. Тем более твоя милость теперь командует. И вообще, как говорится, не чисть аркебузу, пока не стрелял.
Он замолчал и показал на меня — с улыбкой и без тени былого раздражения. Все же славный он малый, Роке Паредес, заключил я.
— Слухи ходят, будто вам обоим с постоем не повезло?
— Ничего, бывало иной раз и похуже, — отвечал капитан.
Все, кроме меня, засмеялись. Пошел мелкий слабый дождичек, не пробивавший сукно наших плащей и фетр шляп. Мы глядели на серую лагуну, заволоченную густой дымкой в том месте, где море сходилось с небом.
— Меня тревожит, — продолжал Паредес, чуть понизив голос, — что я до сих пор не получил ни смолы, ни запальных шнуров, ни горючих смесей.
— Сегодня к вечеру на баркасе с хворостом доставят все это из Фузины, — ответил капитан. — Он станет у причала в канале Сан-Джеронимо, возле церкви. В двух шагах от еврейского квартала.
Роке Паредес звонко прищелкнул пальцами, а потом трижды сплюнул в канал. Потому что как всякий старый солдат — он воевал под Кревакуоре, штурмовал Акви, осаждал Верруа — был ужасно суеверен.
— Покуда своими руками не потрогаю — не поверю!
— Ну, естественно… Как там твои люди?
— Маются. Спят и видят, чтобы все уж поскорее кончилось. Тяжко сидеть взаперти и на улицу носу не высунуть… Каждый лишний день рвет им нутро. Однако молчат, не чирикают. Дрыхнут, пьют, мусолят карты — и ждут.
Капитан повернулся к Аркаде:
— А твои?
Португалец с видом полной покорности судьбе развел руками:
— То же самое. Хуже нет ожидания — очень изнурительная штука. И потом, со мной ведь только половина того, что обещано.
— Завтра причалят. Вместе со шведами.
— Это хорошо, они хоть настроены иначе. Здесь ведь каждый лишний час усиливает ощущение опасности. Все недовольны, встревожены, а от этого тени своей бояться начинают.
— Вот-вот, — поддержал его Роке Паредес. — В каждой клюке мне мерещится жезл инквизитора.
— Скоро уж, скоро.
— Дай-то бог… Хоть каких-то крох, как говорится.
— Золотые слова.
Мартиньо кивнул, прикоснувшись к серебряному «агнцу божию», висевшему на груди, между отворотами колета. От сырости его пшеничные усы обвисли, придавая лицу еще более унылое выражение. Он был меланхоличен, как истый португалец.
— Ну да, телом Христовым клянусь… Все придет, рано или поздно… Даже смерть.
И опять же, как истый португалец, он удивительно умел высказаться не к месту. Невеселое замечание встретили по-разному: Алатристе и Роке Паредес переглянулись, а потом первый рассмеялся, второй же на итальянский манер поспешно выставил рогами два растопыренных пальца, отводя беду.
— Мои люди терпеливо ждут, — продолжал Мартиньо. — Знают, что им надлежит делать, изучили досконально план дворца. Лишь бы этот Лоренцо Фальеро не подвел и сделал, что от него требуется… — Чело его вновь отуманилось невеселой думой. — А не сделает — нас всех в куски изрубят прямо в дверях.
— Черт возьми. Не изрубят. — Капитан обвел рукой панораму города. — Послезавтра мы станем повелителями всего этого. Ну, не повелителями, так хозяевами.
— И озолотимся, — вставил Роке Паредес алчно.
— Само собой.
Трудно было понять, всерьез ли говорит Алатристе или шутит: может, и трудно, но я раскусил его, как орех, и угадал ловушку. Португалец в эту минуту набожно перекрестился:
— Дай-то бог, — сказал он.
— Или дьявол, — припечатал капитан. — Будем предусмотрительны: богу — свечка, а черту, сами знаете — кочерга.
— Аминь, — со смехом подхватил Роке Паредес.
Капитан обернулся ко мне. По внезапно проявившейся, хоть и очень свойственной ему шутливости — не очень-то веселой, а скорей безнадежно мрачной — могло показаться, что он пребывает в добром расположении духа, и я очень удивился этому, ибо всего лишь полчаса назад ему на плечи легло бремя большой ответственности. Но тут же понял, что дело тут иное: просто надо пошучивать и излучать беззаботную уверенность, прежде чем вздохнуть поглубже, стиснуть зубы и броситься во вражеские траншеи. Алатристе поднял было руку, чтобы дружески похлопать меня по плечу, но слишком свежа еще была память о Люциетте и о кинжале, приставленном к моему горлу, а потому я отстранился. Капитан взглянул на меня пристально и задумчиво.
— Относительно юного сеньора Бальбоа, — обратился он к остальным, — он будет нашим связным. Будет передавать приказы и согласовывать действия разных отрядов.
И продолжал безмятежно разглядывать меня. Лицо под узкополой шапкой было покрыто мельчайшими капельками дождя.
— Хочешь что-нибудь спросить, Иньиго?
Я покачал головой и уставился на беспокойную воду канала:
— Нет. Все ясно.
Он повернулся к остальным:
— Итак, если не поступит отмены, послезавтра вечером встречаемся у Моста Убийц. Устраиваем дожу славный ужин. Само собой, оружие всем спрятать под плащами и быть готовыми к тому, чтобы бог упас или черт подрал.
— Аминь, — повторил Роке Паредес.
Сааведра Фахардо торопился. Завернувшись в черный плащ и низко надвинув шляпу, он вылез из гондолы и стал взбираться по ступеням, стараясь не поскользнуться на зеленой плесени, влажной от приливов и дождя. Когда же, отдуваясь и сопя под плащом, закрывавшим лицо, он добрался до нас, то прежде всего окинул меня недоверчиво-пытливым взглядом.
— Это мой вестовой, — сказал капитан Алатристе. — Я говорил вам о нем.
Секретарь испанского посольства кивнул и огляделся по сторонам, убеждаясь, что вокруг нет посторонних глаз и ушей: если находишься в Венеции, это очень полезная привычка. Эскуэро — так назывались здесь стапели для маленьких судов — располагался очень близко к причалу Дзатере, стоявшему на берегу широкой и короткой водной перемычки между Гран-Канале и каналом Гвидечча. За деревянными навесами, оберегавшими склады и мастерские, виднелся треугольный фронтон церкви Сан-Тровазо.
— Новости есть? — спросил Сааведра Фахардо.
— От вас ждем.
Мы шли мимо вытащенных на сушу гондол и баркасов со спущенными парусами. Пахло сырым деревом и смолой. Едва завидев нас, хозяин верфи пошел навстречу между полдесятком мастеровых, работавших стамесками и рубанками, почтительно обнажил голову и проводил нас в крытый склад, где хранились инструменты, весла, уключины, после чего удалился. Там было так же холодно, как снаружи, отчего мы продолжали кутаться до глаз в плащи, словно заговорщики, каковыми, впрочем, и были.
— Перестановки утверждены. Вы остаетесь командиром.
В дверь постучали, прося разрешения, потом хозяин, просунув голову в щель, вполголоса переговорил о чем-то с Сааведрой Фахардо и скрылся. Вслед за тем через порог шагнул новый персонаж. Это был человек средних лет, низкорослый, широкоплечий, кряжистый, в провощенной куртке, какие носят рыбаки на лагуне, а из-под куртки виднелись кожаная альмилья и роговая рукоять ножа за поясом. Когда он сдернул свой шерстяной берет, обнаружились черные кудрявые волосы. Кроме того, имелись брови в два пальца толщиной и косматые, страховидные бакенбарды, занимавшие щеки целиком и доходившие до углов рта.
— Это Паолуччо Маломбра, — представил его секретарь. — По роду занятий — контрабандист.
— Чего? — поинтересовался капитан.
— В последнее время — свинина и сало. На эти товары в Венеции слишком высоки акцизы. А поскольку стен нет, товар тайно, на лодках, доставляется с материка… Паолуччо от младых ногтей промышляет этим — возит мясо, вино, масло… В соответствии с требованиями времени. И знает лагуну, как никто.
Новоприбывший тем временем кивал в такт словам, произносимым по-испански, словно понимал, о чем идет речь. Я оглядел его сверху донизу и поразился тому, до чего же он грязен. И воняло от него рыбой — не то сушеным тунцом, не то вяленой треской, не то соленой сардиной, а может быть, ими всеми сразу. Всем, то есть ассортиментом последнего незаконного груза.
— Так что если вдруг не заладится, — продолжал дипломат, — он вас заберет и доставит в безопасное место.
Мы с капитаном удвоили внимание, с живым любопытством всматриваясь в Маломбру и изучая его до самых белков глаз. Тот не выказывал недовольства и, вероятно, воспринимал как должное, что при такой работе люди смотрят на него не без предубеждения.
— Полагаю, заслуживает доверия, — подвел капитан итог своим наблюдениям.
— Вполне заслуживает. Он не впервые вытаскивает из Венеции тех, кому срочно необходимо оказаться подальше. И берет недешево.
Паолуччо Маломбра кротко взирал на собеседников и по-прежнему не открывал рта. Но время от времени кивал.
— Он что у вас, немой? — осведомился капитан.
Прозвучало со злой насмешкой, но, к моему удивлению, Сааведра Фахардо в свой черед кивнул — и с очень серьезным видом:
— Да. Так уж сложились его житейские обстоятельства. Он родился немым, но умудряется поступать так, что его все всегда прекрасно понимают. — Дипломат выразительно показал на рукоять ножа за поясом контрабандиста. — А для тех, кто его нанимает, это добавочное преимущество.
Мы все воззрились на Паолуччо с новым интересом. Теперь он заулыбался нам с обманчивым благодушием, обнаруживая неполный комплект серых зубов. Я вдруг подумал, что не хотел бы где-нибудь посреди лагуны, да темной ночью увидеть перед собой такую улыбку, особенно если должен ее обладателю денег.
— Будем надеяться, — продолжал Сааведра Фахардо, — что все пройдет как по маслу… Но в том случае, если возникнет настоятельная необходимость совершить морскую прогулку, Паолуччо Маломбра будет ждать вас на этом самом месте, с вечера двадцать четвертого до двух пополуночи.
— Что за посудина у него? — осведомился капитан.
— Достаточно вместительная, чтобы взять на борт десятерых. Здесь их называют «брагоццо» — рыбачий баркас, может ходить на веслах и под парусом.
Капитан слегка скривился. Потом провел двумя пальцами по усам, взглянул на контрабандиста, проворно переводившего черные живые глаза с одного собеседника на другого, и обернулся к дипломату:
— Тех, кому придется уносить ноги из Венеции, — больше десяти. Вы что же, предполагаете, что выживших будет так мало?
Сааведра Фахардо вскинул руку, торопясь исправить свой промах.
— Нет-нет, речь не о потерях, — сказал он. — Остальных в других точках Венеции заберут другие баркасы. Каждый отряд будет знать свое место сбора. Сан-Тровазо — это для вашей милости и тех, кто займется штурмом дворца дожа. Для тех, кто будет брать Арсенал и жечь еврейский квартал, предназначена Челестия.
Не сводя глаз с капитана, Паолуччо Маломбра кивал при упоминании каждого места, будто подтверждая, что все так и есть. Затем запустил палец с черным, как смертный грех, ногтем в ноздрю и принялся обстоятельно в ней копаться. Я же, слушая все это, подумал, что было бы совсем нелишне отыскать Челестию на плане, который капитан оставил у себя в комнате, а также досконально изучить путь от Арсенала досюда. Если что не заладится, путь этот надо будет проделать во весь дух, причем полгорода будет гнаться за мной. Или целый город. И времени расспросить, верно ли я иду, у меня не будет. И возможности сориентироваться на местности — тоже.
— В случае непредвиденных осложнений каждому отряду надлежит направиться на свой пункт сбора. Паолуччо Маломбра доставит вас на остров, о котором я скажу в следующий раз. Как уже было сказано, Сан-Ариано расположен в противоположном конце лагуны. Совсем рядом — открытое море. Там вас подхватит парусник побольше.
— Когда? — спросил капитан Алатристе.
— Ну, вот это уж от меня не зависит… Как только будет возможно, полагаю.
Мы с капитаном переглянулись, ибо, как люди, повоевавшие вдосталь, разом подумали об одном и том же: за нами следом и по пятам на островок явятся верные Серениссиме солдаты, которые будут искать нас и наверняка обшарят всю лагуну.
— Что это за островок? Там можно будет держать оборону?
Сааведра Фахардо взглянул на нас так, словно мы попросили описать обратную сторону Луны. Оборону чего? — казалось, хотел спросить он. Но вот наконец уразумел.
— Нет, не думаю… Сан-Ариано, или Остров Скелетов, выбрали прежде всего из-за того, что он малозаметен. Мне сказали, он затерян среди других и окружен каналами, которые трудно пройти. Еще его преимущество в том, что по нему протекает ручей, то есть имеется пресная вода. Еще там есть развалины монастыря, заброшенного лет двести назад.
Мы оба взглянули на контрабандиста, который как раз бросил ковырять в носу и снова лучился сероватой медовой улыбкой шириной от одного бакенбарда до другого. Капитан снова в задумчивости погладил усы:
— Клянусь плотью господней… Не сказать, чтоб названьице вселяло спокойствие…
Сааведра Фахардо пояснил, что тем не менее место это именно таково. Спокойней не найти. Когда городские кладбища переполняются, именно на этот островок свозят останки давно погребенных. Еще и потому там редко кто бывает. Летом он кишмя кишит змеями, но в это время года можно ходить без опаски.
— Но будем надеяться, что ни Сан-Ариано, ни услуги Паолуччо Маломбра вам не понадобятся.
— Будем.
Тут контрабандист вдруг начал бурно жестикулировать, переводя красноречивые взгляды с одного на другого. Потом ткнул себя в грудь, двумя пальцами изобразил шагающие ноги, потом эти пальцы скрестил и воззрился на нас с прежней обычной своей кроткой приязнью.
— Хочет сказать, — перевел дипломат, — что минуты лишней не задержится. А начнется переполох, баркасы уйдут от греха подальше — с пассажирами или без них. В два пополуночи, в Рождество.
В четверг, двадцать четвертого числа, стало еще холодней. Над пепельно-серой водой лагуны северный ветер рассыпал горстями мокрый снег, и тот таял на лету, но сырость пробирала до костей еще сильней, чем прежде. Таковы, клянусь, были мои ощущения, когда вместе с Себастьяном Копонсом отправился я на канал Мендикантес, который, пересекая город, начинается от новых пристаней на северо-востоке. Холодный ветер с Альп вольно гулял по нему, вгоняя в дрожь, хоть мы и укрылись за зданием школы Сан-Марко, возле внушительного бронзового кондотьера Бартоломео Колеоне. Было еще рано. В этот час площадь заполняли моряки, рыбаки и крестьяне в бурых домотканых плащах и деревянных башмаках — они разгружали многочисленные баркасы, привезшие продовольствие с материка и баржи из Маргеры, Фузины, Тревизо и Местре. На одной из них, груженной дровами, прибыли и те, кого мы встречали, — пятеро шведов-подрывников, которые должны были помочь нам запалить Арсенал, и четверо испанских солдат, которых не хватало для штурма дворца дожа.
— Угадай, где они, — сказал мне Себастьян.
Особо всматриваться не пришлось. Среди тех, кто сновал взад-вперед по причалу, я с легкостью углядел пятерых светловолосых бородачей, таких расхристанных, словно высадились где-нибудь на Корфу. Одетые в матросское платье, они несли за спиной непременные парусиновые мешки и следовали, чуть приотстав, за четверкой приземистых, крепких, смуглых парней с густейшими бакенбардами, которые — не бакенбарды, разумеется, а парни — шагали с особенным молодецким развальцем с баулами на плече, с бурдючком вина за поясом, так что за милю чувствовались в них переодетые вояки. И если пятерка белобрысых двигалась чинно и невозмутимо, по сторонам не глядела, словно ее тут и вовсе не было, то четверо чернявых вертели головами, с неуемным любопытством озирая все вокруг себя. И прежде всего — женщин.
— Чтоб им пусто было, — пробормотал Копонс. — Они бы еще табличку на грудь повесили с названием полка.
— Ломбардского, — подтвердил я, поскольку благодаря тому, что терся рядом с капитаном Алатристе, был посвящен в такие подробности.
— Вот дурачье… Вот же остолопы безмозглые…
В эту минуту мы увидели, как в толпе появился в купеческом платье и с обычным своим меланхолическим видом Мануэл Мартиньо де Аркада. Когда он поравнялся с испанцами, то либо подал им условный знак, либо они его знали и узнали, но, так или иначе, они двинулись за ним, держась в нескольких шагах, и вскоре скрылись из виду за церковью Сан-Дзаниполо. Шведы же, исполняя полученные наставления, дошли до памятника Колеоне, постояли там немного и берегом канала проследовали до деревянного оштукатуренного моста, именовавшегося Мостом Скотобоен. Возле него они опять задержались, и тут мы с Копонсом, постаравшись, чтоб это вышло незаметно, и убедившись предварительно, что никто не следит за ними — да и за нами тоже, — зашли к ним в тыл. Вслед за тем мой спутник назвал пароль: «Мансанарес и Аточе», на что один из шведов ответил утробно: «Антверпен и Остенде», — и теперь уже не за ними, а они за нами прошли и вскоре оказались у подъезда постоялого двора «Тре Фрадеи», где должны были остановиться. И, быстро обменявшись рукопожатием с тем, кто, судя по всему, был старшим — огромный светлоглазый детина с бородой норманнского пирата чуть не раздавил мне, сукин сын, руку, — Копонс и я молча отправились по своим делам, а шведов оставили заниматься своими.
Следующая встреча состоялась час спустя у ворот Арсенала. Это величественное сооружение было гордостью Венеции, и вы это уже знаете, господа, как, наверно, и то, что по давней-давней традиции — удивительной, надо признать, и, кажется, единственной в мире — в рождественский сочельник ворота открывались для всех любопытствующих, будь то граждане Серениссимы или чужеземцы, чтобы они могли подивиться этому чуду морской архитектуры: им показывали все, что можно показать без ущерба для государственной тайны Республики. Половины платы за вход — а составляла она полновесную серебряную bezza[195] с персоны — по обычаю опять же предназначалась корабелам и их семьям как подарок к Рождеству. И, как нам сказали, каждый год набиралась немалая сумма.
Надо сказать, что ни стужа, ни снег с дождем не отпугивали посетителей, потому что с первого же часа выстроилась очередь любопытных под зонтиками, в провощенных накидках и меховых плащах — по большей части это были приезжие и воспользовавшиеся счастливой оказией зеваки. Подозреваю, что среди них имелись и переодетые люди разных наций, включая турецкую, имевшие те же намерения, что и мы. И хотя, как я уже сказал, обзор и осмотр был строго ограничен гребными судами и сводился лишь к старой части верфей, всегда находилась возможность увидеть, проходя под перекидными мостами по внутренним каналам, как строят, чистят, чинят знаменитые венецианские галеры, которые, вопреки стараниям Испании и Оттоманской Порты, в безмерной своей гордыне и надменности проносят флаг со львом Святого Марка по Адриатике и левантийским водам.
Еще прежде мы изучили план Арсенала, доставленный капитаном Маффио Сагодино, но сейчас надо было все рассмотреть на месте, потому что завтра ночью предстояло проникнуть сюда снова, а времени соображать и вспоминать, где там что, не будет. А потому, собравшись на подъемном мосту и заняв очередь — а в ней было немало женщин и детей, — мы прошли через портик у ворот, уплатили каждый по полсольдо серебром и погрузились на большие гребные лодки. Я уселся на банку между Гурриато и Жорже Куартанетом, а позади нас устроились Мануэль Пимьента с Педро Хакетой. А вот Себастьяну Копонсу и Хуану Зенаррузабейтиа места не хватило, и им пришлось влезть в другую лодку. Шестеро гребцов с верфи сели на весла, а дополнили пейзаж двое англичан (купцов, судя по виду), венецианский отец семейства с мальчиком лет десяти-двенадцати и еще пара: он, толстячок, что называется, в годах, насколько я понял из их разговора, торговец из Пизы, а она — молоденькая, хорошенькая, хоть и простенькая, кутавшаяся в роскошный новехонький бобровый палантин и с невероятным жеманством избегавшая наших взглядов — была по всем приметам веселой девицей из местных и не из дешевых. Всмотревшись в ее спутника повнимательней, я отнес его к разряду тех, что заплывают в сети к таким девицам с тугой мошной и пузатыми, как тунцы, а если паче чаяния возвращаются восвояси, то выпотрошенными начисто и обглоданными до последней косточки.
— Ничего на свете нет прекрасней и дороже любви, — с шутовским пафосом тихо сказал у меня за спиной Мануэл Пимьента.
— Святая правда. Дорога она, любовь, дорога. И ох как недешево обходится, — добавил его кум Хакете, с невозмутимым бесстыдством встретив злобный взгляд пизанца.
Тем временем наша посудина шла на веслах по широкому внутреннему каналу, оставляя по левому борту бесконечную череду стапелей со строящимися кораблями, укрытых от непогоды деревянными и черепичными навесами. Справа от нас просторные крыши оберегали парусные, такелажные, канатные склады, а еще дальше, между двумя каналами, соединенными с зеркалом воды, начиналась новая верфь, и там, за огромными раскрытыми воротами виднелся великолепный «Бусинторо» — пышно разукрашенная галера с высокими бортами, на которую в торжественных случаях восходил дож. Мы взяли ее на заметку, потому что корабль был одной из наших целей на завтра, а когда проплыли под мостом и чуть углубились в акваторию новой верфи, открылось нашим глазам, несмотря на то что большая часть кораблей стояла в закрытых доках, еще более удивительное зрелище. Один за другим, борт к борту, в воде, или вытащенные на сушу, или перевернутые, чтобы удобней было конопатить, протянулись перед нами не менее сотни крупных судов — знаменитые венецианские трехмачтовые галеры. Многие из них на зиму лишились парусного своего вооружения, а иные и мачт, а весь их такелаж был сложен на берегу. Повсюду громоздились огромные штабели древесины всех размеров, видов и форм, потребной для кораблестроения и могущей быть пригнанной к нужному месту на этой верфи, где, как уверяла молва — со свойственными ей преувеличениями, — галеру могли изготовить за одни сутки.
— О-о, м-мать твою… — пробормотал рядом со мной каталонец.
Я промолчал, хотя впечатлен был не менее и думал примерно то же и в тех же выражениях. И ограничился лишь тем, что переглянулся с Гурриато, смотревшим на это диво разинув рот. И постарался покрепче запечатлеть галеру в памяти. Рядом с внутренней гаванью начинался еще один широкий канал, где виднелись новые ряды строящихся галер, но рассмотреть их нам не удалось — лодка пошла вправо и высадила нас на причал, невдалеке от которого в больших чанах готовили смолу. Оттуда начинался под прямым углом проход между двухэтажными постройками, где помещались канатные мастерские. Вдоль него рядами в большом порядке стояли сотни якорей, кулеврин, корабельных пушек — и ряды этого тянулись, насколько хватало глаз.
Итак, мы вылезли на причал и двинулись по этому проходу среди прочих посетителей, восхищаясь тем, что видим, и втихомолку, а верней, беззвучно, ужасаясь тому поводу, по которому попали сюда. И оба чувства усилились, когда впереди показались склады, где — было известно — хранятся три тысячи бочонков пороха. Стоило лишь представить, что будет, если рванет такая уйма, мороз шел по коже у самого отважного и рискового среди нас. Ибо одно дело — рисовать стрелки на плане, и совсем другое — собственными глазами убедиться, в какое безумное предприятие мы пустились. Впрочем, казалось, венецианский Арсенал не поддастся ни огню, ни мечу, вообще ничему.
— Те, кто нас послал сюда, спятили, не иначе, — вполголоса сказал Педро Хакета.
— Боюсь, любезный кум, это не они спятили, а мы с тобой, что подрядились на такую работку, — так же тихо отвечал ему Мануэль Пимьента.
— А я тебе о чем толкую… Работка — да-а… не бей лежачего…
— Перебьют нас тут всех — и лежачих, и стоячих…
— Лучше в алжирском плену сидеть.
— Это уж — что говорить…
Я поглядел на андалусцев осудительно, как бы рекомендуя малость охолонуть и уняться и давая понять, что говорят они лишнее, но моя молодость лишила этот демарш всякого смысла: более того, — Пимьента ответил мне неприязненным взглядом и спросил с вызовом:
— Что-то я не пойму: юный кабальеро чем-то недоволен?
— Разборки здесь устраивать не стоит.
— Не рановато ли твоей милости в разборки лезть? Молоко на губах не обсохло, а туда же…
Оба удальца негромко засмеялись и, как принято у южан, подсвистнули. В других бы обстоятельствах такой грубый ответ непременно привел бы к обмену еще более резкими словами. У меня руки зачесались ответить в том смысле, что, смотри, мол, будешь звонить не ко времени — ботало оторву, да сунуть для пущей убедительности кусок стали в потроха, но житье рядом с капитаном Алатристе приучило к тому, что всему на свете — свой черед, ибо терпение есть первейшая солдатская добродетель. И всякому овощу… ну да, именно оно. Так что я прикусил язык и заставил себя сдержаться.
Само собой разумеется, Пимьента и Хакета не вняли увещеванию и продолжали пересмеиваться между собой, поскольку у меня, как и было сказано, не было ни возможности, ни желания приструнить их по праву старшего. И Жорже Куртанет, шедший со мною рядом, с очень серьезным видом покачивал головой, наблюдая все это, и бормотал себе под нос не менее серьезные слова насчет бога и святых.
Я же повернулся к мавру. Он кутался в свой толстый синий плащ с капюшоном, но все равно — от холода еле шевелил губами. И, правильно истолковав мой взгляд, ответил мне задумчивой полуулыбкой:
— Да… Войти, если войдем — одно дело… А вот выйти — другое.
По завершении осмотра мы направились к портику у одной из башен возле ворот — рядом с подъемным мостом и на противоположном берегу канала. Нам пришлось задержаться, потому что как раз в ту минуту мост подняли, пропуская корабль, который тащили на буксире несколько шестивесельных лодок. Пока ждали, к нам присоединились Себастьян Копонс и Хуан Зенаррузайбетия, оказавшиеся в другой группе посетителей, и наконец вместе со всеми мы выбрались на причал.
— Огнем с такой здоровилой ничего не сделаешь, когда подпустишь, — сказал бискаец.
Я беспокойно огляделся, хотя можно было не тревожиться: если бы даже кто-нибудь и услышал, то все равно не понял бы: мой земляк ставил слова до такой степени вразнотык, что выходила чистая абракадабра. У ворот стояли на часах несколько далматинцев с алебардами, и среди них я узнал одного из тех, кого видел с капитаном Алатристе и доном Бальтасаром в таверне у Моста Убийц. Звали его, кажется, Маффио Сагодино. На нем был грубой кожи колет, короткая немецкая епанча, кираса — поскольку он заступил в караул — и меховой берет с зеленым пером. И не знаю, узнал ли он меня или был предупрежден о нашем появлении, но, так или иначе, уставился на нас и не отводил глаз довольно долго. Я шепнул Копонсу, что́ это за фрукт, и Себастьян обратил к нему взгляд, замеченный, по всей видимости, Сагодино, поскольку тот наконец отвернулся, но ненадолго: краем глаза посмотрел на своих людей, а потом — опять на нас.
— Загляденье, — пробормотал арагонец. — Хоть картину с такого вояки пиши… И борода при нем, и все… И что ж, — надежный?
— Говорят, надежный… Когда и если платят.
— О-о, мать его…
На этом игра в гляделки кончилась. Тут опустили подъемный мост, и мы отправились в ближайшую таверну греться. Проходя мимо главного входа, я увидел новую толпу посетителей и обратился к Гурриато с вопросом, который не задал, пока мы были на верфи:
— Так ты веришь, что мы сумеем выйти, если войдем, а, мавр?
Он пожал плечами:
— Кто его знает…
И, пройдя несколько шагов, прибавил со своим обычным невозмутимым видом:
— У нас есть такая поговорка: «Куа бенадхем итмета, куа замгарз зехемез».
— И что это значит?
Он снова пожал плечами. Под мокрым от дождя и снега капюшоном отражалась в его глазах серая вода лагуны.
— Все женщины лгут. Все люди смертны.
VIII. Любой ценой
Рассвет двадцать четвертого декабря застал Венецию в снегу. Мести начало с ночи, и вскоре засыпало причалы, улицы и крыши. Когда Диего Алатристе, завернувшись в свой бурый грубошерстный плащ и надвинув бобровую шапку до бровей, вышел из дому, ветра не было. С мутно-серого неба валил снег, и под белым покровом стояли в неподвижной воде гондолы.
По счастью, не было и гололеда, и капитан мог не опасаться, что поскользнется, хрустя подошвами по белоснежному, девственно-чистому насту. Так, пересекая мосты и галереи, он по Мерсерии дошел до церкви Святого Юлиана, а оттуда — до улицы Оружейников, где задержался ненадолго перед лавкой, на дверях которой вывешены были образчики товара: шпаги, кинжалы, рапиры — очень красивые на вид, но, как определил Алатристе с первого взгляда, скверного качества. Никакого сравнения с тем, что выделывают мастера в Толедо, Бильбао, Золингене или Милане. Потом заглянул в несколько других лавок, подумав, что Малатеста, назначив ему встречу в этом месте, в очередной раз проявил свое извращенное остроумие.
Вскоре, огибая встречных, показался на заснеженной улице и итальянец. Длинный, тонкий, по обыкновению, в черном с головы до ног. Шляпа и плащ — в хлопьях снега.
— Сеньор Педро Тобар, если не ошибаюсь? — шутовски приветствовал он капитана.
И, остановившись рядом с ним, тоже начал рассматривать оружие на витрине. Кое-какие клинки потрогал и в сомнении даже пощелкал ногтем указательного пальца по гарде длинного кинжала, заставив ее зазвенеть.
— Как там твой груз поживает? — осведомился он. — Все ли еще на таможне лежит?
— Вчера отдали.
Послышался скрипучий смешок.
— Отрадно. Стало быть, сумеешь для сегодняшнего вечера выбрать себе приличный инструмент. Не эту дрянь. — Он пренебрежительно показал на витрину.
Зашагали вниз: улица была узка, и потому они невольно шли плечом к плечу.
— Как мальчуган? — справился Малатеста.
— Хорошо. Поклон шлет.
— Что ж, и ему передай от меня, что желаю ему всяческой удачи.
— Передам.
На перекрестке итальянец показал влево:
— Не желаешь ли стакан вина? Знаю тут поблизости, на улице Зеркальщиков, одно приличное заведение.
Алатристе встопорщил ус:
— Отчего бы и нет?
Под парусиновыми навесами лавок в неимоверном количестве тянулись ряды зеркал всех видов и размеров. И в них до бесконечности множились и дробились десятки фигур Алатристе и Малатесты, покуда они, держась рядом, словно добрые приятели, шли мимо.
— Шуточки ртути, — заметил итальянец.
Казалось, его все это безмерно забавляло. Они переступили порог таверны, сняли плащи и стряхнули с них снег, но остались с покрытыми головами. Заведение было убогое: ничего, кроме сосновой стойки, почерневшей от грязи. С потолка, из-под стропил свисали на толстых шнурах объемистые бурдюки с вином.
— Подогретого или холодного? — спросил Малатеста, стягивая перчатки.
— Холодного.
— Верно рассудил. Горячее ударяет в голову, а голова нам сегодня нужна ясная.
Он спросил бутылку молодого вина, два стакана, наполнил свой и, обойдясь без условностей этикета вроде всяких тостов или здравиц, одним долгим глотком опорожнил его. Диего Алатристе лишь слегка омочил усы. Хорошее, убедился он. Легкое и чуть сладковатое, больше похоже на средиземноморские сорта, чем на местные. Он сделал еще глоток. Облокотившись о стойку (под плащом угадывалась рукоять шпаги; у Алатристе же был, как обычно, только кинжал у пояса), Малатеста удовлетворенно жмурился на винные бурдюки.
— Мне припомнилось, как говаривал Санчо Панса: «Знаю я этот домик — не дом, а сплошное наваждение»[196]. Ты по-прежнему любишь читать?
— А ты?
Снова раздался не то скрип, не то треск — Малатеста засмеялся сквозь зубы.
— В последнее время не очень-то получалось у меня предаться этому занятию.
— Представляю себе.
— Да. Думаю, представляешь.
Он потянулся за кошельком, но с такой намеренной медлительностью, что Алатристе ничего не стоило опередить его и, достав из собственной фальтрикеты две монетки, положить их на стойку.
— Ну-с, приступим к нашим делам, — сказал он, ставя пустой стакан.
Малатеста тоже допил свое вино. Капитан сообразил, что вместе они пили в первый и, без сомнения, в последний раз.
— Приступим.
Речь шла о том, чтобы обследовать собор Святого Марка, площадь и дворец дожа накануне событий, которые должны будут последовать ночью. Молча они вышли на Мост Каноника, а от него — к той части площади, где возвышался южный фасад собора Сан-Марко. Поравнявшись с чашей фонтана в середине и не доходя до выводившей на главную площадь арки, по обе стороны которой стояли каменные львы с поседевшими от снега гривами, Малатеста показал на маленькую калитку, находившуюся между церковью и смежным с ней домом, в конце узенькой и короткой улочки, перегороженной железной решеткой.
— Вот отсюда мы и войдем.
— Она открыта?
— Заперта. Но у меня есть ключ. Мой напарник придет в своем священническом облачении, как положено. А я переоденусь вон там: латный ожерельник, шляпа с зеленым пером, перевязь офицера гвардии дожей… Не бог весть что, но позволит выиграть время, если ненароком вблизи окажется часовой. Войду, за десять шагов дойду до гвардейца, который стоит на часах у двери, ведущей к алтарю, перережу глотку и впущу ускока. Теперь пойдем на ту сторону, покажу тебе все изнутри.
Все это было сказано с невозмутимым спокойствием. Будь перед ним другой человек, Алатристе счел бы такое поведение бравадой. Но это был не другой человек, а Гуальтерио Малатеста.
— А отход?
Итальянец состроил насмешливую гримасу. Повел черными опасными глазами по всей площади, примечая каждую мелочь.
— Если выйдет или если засыплемся?
— В обоих случаях.
— Если пойдет наперекос — смоюсь, ноги сделаю, как говорят ваши испанские жулики. Если все будет гладко, то когда ускок приступит к действиям, я буду уже снаружи. Скорым шагом пройду вот тут вот, мимо этого самого места, где мы с тобой стоим, и загляну во дворец посмотреть, как идут дела там. Повезет — сумею пошарить по сундукам.
Они дошли уже до просторной площади, которую ковром покрывал снег, не перестававший валить. Много народу, закутанного до самых глаз, сновало туда-сюда, а реи, мачты, снасти, палубы кораблей, пришвартованных за двумя колоннами, тоже стали белыми. Несколько мальчишек играли в снежки у портиков Прокуратории.
— Что до твоей милости, — продолжал Малатеста, — полагаю, ты соединишься со штурмовым отрядом здесь, у главного входа во дворец.
— Правильно полагаешь. Твой родственник — этот самый капитан Фальеро — со своими немцами нас прикроет.
— А потом? Любопытство мое, как ты понимаешь, не праздное.
Алатристе указал на базилику:
— Фальеро со своими людьми войдет и под предлогом наведения порядка арестует сенаторов, враждебных Риньеро Дзено. Остальных сопроводит во дворец дожа, где я буду держать лестницу и проход к залу Совета. Там Дзено и провозгласят новым дожем.
Они вошли в собор Сан-Марко, пересекли колоннаду атриума, где мозаичный пол соперничал великолепием с росписью и золотой лепниной потолка. Внутри, за арками и сводами, убранство было не менее роскошным, но лишь угадывалось в полутьме и то — благодаря множеству зажженных свечей. Несколько прихожан — женщин под покрывалами и коленопреклоненных мужчин — молились в боковых часовнях, и усиленный нишами звук шагов гулко отдавался по всей базилике. Пахло воском и ладаном.
— Недурно, а? — заметил Малатеста.
Диего Алатристе холодно созерцал восточную прихотливую пестроту собора — средоточия и символа накопленных за много веков богатств, могущества и завоеваний. Он не относился к тем, на кого красота церкви или дворца воздействовала сильней, чем красота женщины: да нет, не то что не сильней, а, по правде сказать, гораздо меньше. В его мире вместо позолоты и многоцветно-ярких росписей главенствовали коричневато-серые тона неверного туманного рассвета и кожаного колета, грубовато льнущего к телу. Всю свою жизнь видел он, как гибнут в пламени сокровища, произведения искусства, гобелены, мебель, книги — и жизни. Слишком много на своем веку приходилось ему видеть, как убивают, и убивать самому, а потому капитан знал, что огонь, сталь и время рано или поздно разрушат все и что вещи, претендующие на бессмертие, низвергаются в прах и в прах рассыпаются под натиском зол, на которые так богат мир, и бедствий войны. И потому роскошества собора Святого Марка не трогали его совершенно, и душа его оставалась бесчувственна и неотзывчива к тому, чем тщилась поразить его тяжелая пышность убранства — к дуновению священного, к торжеству бессмертного божества. Золото, на которое были воздвигнуты дворцы, церкви и соборы, от начала времен потом своим и кровью добывал он и ему подобные.
— Обрати внимание на главный алтарь, — прошептал Малатеста.
Алатристе взглянул. За средокрестием нефа, чьи ниши и своды с образами изваянных и написанных святых казались отлитыми из чистого золота, восковой свет озарял иконостас с резными статуями и большой равноконечный крест, а за ними — клирос и главный алтарь.
— Дож станет слева, преклонит колени у реклинатория. Он будет один, — сквозь зубы говорил меж тем Малатеста. — Впереди, справа от алтаря, — места членов Совета.
Они сделали еще несколько шагов и остановились перед пятью ступенями, ведущими на клирос. Там перед дарохранительницей горела лампадка, и Малатеста с полнейшим бесстыдством осенил себя перед ней крестным знамением. Между четырех колонн, украшенных затейливой резьбой, перед образом-ретабло, сверкавшим золотом, эмалью и самоцветными камнями, в двойном свете — струившемся от бесчисленных свечей и сероватом, дневном, через слуховые оконца просачивавшемся сверху из-под сводов, — высился главный алтарь.
— Дверь, через которую войдет ускок, ведет прямо вон туда — в левую капеллу. Она называется часовней Святого Петра. До реклинатория — шагов двадцать, не больше.
Алатристе кивнул, всматриваясь так, словно сама жизнь зависела от этого. Впрочем, в известном смысле так оно и было. В сущности, все это представлялось не таким уж безумно сложным. Дело было в дерзости, а не в сложности. И еще в том, что убийца не рассчитывал и даже не намеревался выйти отсюда живым. А в остальном — что и говорить, блестящий план, чистый бриллиант, а не план. И ясно, что, пока вход прикрыт, никакого препятствия не возникнет между убийственным клинком и реклинаторием, у которого в полном одиночестве будет стоять на коленях погруженный в молитву дож.
— Как считаешь? — очень тихо осведомился Малатеста.
— Может, что и выйдет, — согласился капитан без воодушевления.
— Как это «может»? Если падре добежит до капеллы — не «может», а совершенно точно.
Притворяясь чужестранцами, которые восторгаются убранством базилики, они вернулись назад. У чаши со святой водой Малатеста смочил пальцы и снова перекрестился. А на взгляд Алатристе ответил глумливой усмешкой:
— Сыграем святош.
Тем не менее капитан остался в обоснованном сомнении, гадая, не скрывал ли этот напускной цинизм более или менее искреннее и давнее религиозное чувство, о котором итальянец рассказал прошлой ночью. Весьма вероятно, подумал Алатристе, позабавленный этой мыслью. Хотя более вероятно, что оба они попросту стареют.
Поплотнее завернувшись в плащи, вышли наружу, под снег, неспешно падавший с небес и уже застеливший всю площадь белым покрывалом. Его испещрили бесчисленные следы чаячьих лап — птицы опасались, наверное, подниматься в выстуженный воздух лагуны. Малатеста и капитан прошли между колокольней и главным входом во дворец и были уже на причале, когда из южных ворот показалась небольшая процессия. Десятка два гвардейцев, растянувшись цепочкой, отсекли прохожих, очищая дорогу от дворца до здания Монетного двора. Алатристе и его спутник остановились среди зевак.
— Гляди… Напоминает падение Рима.
Без всякой помпы, предшествуемый четырьмя алебардщиками, площадь пересекал дож Джованни Корнари. Левой рукой он опирался о плечо пажа, который держал над ним большой зонт, оберегая от снега. Человек пять приближенных шли следом. Мгновенно сбежавшиеся люди рукоплескали ему, но дож оставался бесстрастен и невозмутим. Да он и в самом деле старик, подумал Алатристе: высохший, узловатый, как корневище, однако в свои семьдесят с лишком сохранивший величественность осанки и легкость движений. Девяносто шестой властелин Венецианской Республики в кармазиновой мантии и такого же цвета шапке шествовал важно, и устремленный куда-то в пространство неподвижный взгляд придавал ему удивительное сходство с хищной птицей, под бременем прожитых лет и власти превратившейся в мумию.
— Пошел взглянуть, как чеканят монету, — шепнул Малатеста. — Или посчитать то, что еще не успел украсть.
И сдавленно, свистяще, скрипуче засмеялся своей злой шутке.
— Пятеро сыновей, — продолжал он так же приглушенно, — на самых высших должностях. Сам прикинь, сколько они загребают все вместе. Семейное предприятие, можно сказать.
Однако Алатристе был отвлечен другим. В свите дожа он заметил статного и молодцеватого капитана Лоренцо Фальеро. Блестел латный ожерельник, показывая, что его обладатель — на службе, висела у бедра шпага, развевались перья на шляпе и нарядный зеленый плащ за плечами.
— Вон и родич твой… — сказал он Малатесте.
— Ну да… Мир вообще тесен, а уж Венеция — не просторней носового платка.
Капитан прошел мимо, то ли не заметив их, то ли сделав вид, что не замечает. Дож и его спутники вошли в ворота Монетного двора, и любопытствующие разошлись. Два эспадачина продолжили свой путь по заснеженной площади между колоннами Сан-Марко и Сан-Теодоро. Алатристе краем глаза смотрел на спутника, замечая, что губы его, полускрытые плащом в тающих хлопьях снега, кривятся в задумчиво-жестокой усмешке.
— Зачем ты ввязался в это дело?
Малатеста некоторое время шел молча. Потом ответил:
— Сам не понимаешь? Шкуру свою спасал. Как еще было выпутаться из той передряги? Обменять жизнь на что-нибудь ценное. И самому в накладе не остаться.
— Сдается мне, я уже недурно тебя знаю, — возразил Алатристе. — Не может быть, чтобы только из-за этого… Мог бы удрать, исчезнуть бесследно. А ты — здесь.
— Ну, сойдемся на том хотя бы, что это не лишено интереса. Представляешь? — Итальянец понизил голос. — Год назад я собирался убить короля, сейчас — дожа… Только папы не хватает для комплекта. Как у вас, у испанцев, говорят: «Дайте славу, а потом хоть на куски рубите».
— Сомневаюсь я, что тебе нужна слава. Старый пес на луну не воет.
Снова донесся из-под плаща скрипучий смешок:
— Да, может быть, и еще кое-что найдется… Ребенком я мечтал о троянском коне. О том, чтоб покорить город. А ты нет?
— Не… тереби мне мозги, Малатеста. Никогда ты не был ребенком.
— Я ведь тебе уже сказал однажды: был. И даже прислуживал на мессе в Палермо.
— Кто бы мог подумать…
Тем временем, оставив позади колонны, они уже дошли до причала. Перед ними простерлась обширная гладь лагуны, где оловянно отражалось небо. Сквозь редкую кисею снегопада слева можно было различить остров Сан-Джорджо, а справа — здание таможни. Частым лесом вздымались мачты бесчисленных кораблей — маленьких и крупных, — пришвартованных у причалов или стоявших на якоре в том месте, где Гран-Канале соединялся с каналом Гвидечча: все они были так густо засыпаны снегом, что казались белыми островками.
— Ну а ты? — спросил Малатеста. — Твоя милость что ловит в Венеции?
Диего Алатристе оглянулся на Монетный двор, оставшийся слева и сзади, оглянулся так, будто это было исчерпывающее объяснение:
— Думаю, золото. И строчку в послужном списке.
Итальянец смачно сплюнул в сторону, словно эти слова вызвали у него неприятный вкус во рту.
— Его величество король, — сказал он, — который сейчас и мой король тоже, подтирается этими послужными списками… В самом лучшем случае получишь за беспорочную службу грошовую прибавку, когда станешь никому не нужной рухлядью. И еще оставишь где-нибудь на дороге руку или ногу.
— Может быть, — ответил Алатристе невозмутимо.
— И что же, — никогда не возникало искушение послать их всех — королей, фаворитов, генералов — подальше?
— Искушениями сыт не будешь.
Они зашагали вновь — на этот раз вдоль причала, мимо привязанных, запорошенных снегом гондол. И вскоре дошли до широкого каменного моста над каналом. Выше виднелось арочное перекрытие Моста Вздохов. Так прозвали его, вспомнил капитан, те, кого проводили по нему в венецианские застенки. Дай бог, не без тревоги подумал он, чтобы мне не пришлось вздыхать тут.
— Сильно подозреваю, — продолжал меж тем итальянец, — что тебе просто больше некуда податься. А так было бы все равно и все едино — что венецианский дож, что китайский император… Занимаешься этим делом, потому что ничего другого делать не умеешь.
Руками в перчатках он сметал с парапета снег и сбрасывал его в воду канала. Алатристе, ни слова не отвечая, все смотрел на Мост Вздохов.
— Тебе бы стоило попытать счастья в Индиях, — прибавил Малатеста. — Или хоть отправить туда мальчугана.
— Я устал. Поздно затевать такое. Что же касается Иньиго, которого ты называешь мальчуганом, то пусть решает сам.
Малатеста рассмеялся. И сказал, что получил весточку от их давнего и общего знакомца — Луиса де Алькесара. — У этой мрази, — добавил он хладнокровно, как бы между прочим, — дела всегда идут замечательно. Всегда падает, как кошка, на лапы. Судя по всему, разбогатев на серебряных рудниках Таско, он сумел подкупить едва ли не весь мадридский двор. И добиться полного оправдания в истории с Эскориалом, более того, почти полностью обелить себя в глазах короля.
— А он и вправду не виноват? — в упор спросил Алатристе.
— Черт возьми… Не выпытывай. Виноват или не виноват, но скоро воротится в Мадрид. Вместе со своей племянницей.
Он помолчал немного. Поглядел вниз, на канал под Мостом Вздохов. В зеленоватой неподвижной воде таяли сброшенные им комья снега.
— Этот мальчуган, Иньиго…
— Не твое дело.
— Да нет, не совсем… Без меня не обошлось. Я, как ты знаешь, внес свой вклад в их нежные отношения. И мне любопытно, чем кончится любовь с этой вертихвосткой.
— Надеюсь, ты к тому времени уже сдохнешь.
Малатеста высвистал свою давнюю руладу «тирури-та-та». Потом внезапно оборвал ее, еще сильнее согнулся над перилами моста. И при этом движении рукоять его шпаги стукнула о белый истрийский камень.
— Для этого будет сделано все возможное, сеньор капитан. Расстараемся, потрафим вам.
Первым заметил это Гурриато-мавр.
— Следят, — сказал он.
Оставив Себастьяна Копонса и остальных на постоялом дворе и обследовав Челестию на предмет того, как быть, если придется отступать, мы по узеньким улочкам, примыкавшим к церкви Сан-Лоренцо, возвращались домой. Встречные попадались нам только изредка, потому что место это было диковатое — полуразвалившиеся дома, краснокирпичные стены и длинная, крытая почти на всем своем протяжении галерея, тянувшаяся вдоль берега узкого канала, над которым все падал да падал снег.
Навостряя время от времени уши, я ничего не слышал, но в этом городе слух подводит: звуки шагов и голоса очень причудливо распространяются в воздухе или рассеиваются без следа в закоулках и изгибах улиц.
— Уверен, мавр?
— Уверен.
Я больше доверял шестому чувству могатаса, чем пяти собственным. И все же сделал еще несколько шагов, соображая и взвешивая.
— Сколько?
— Один.
— Давно?
— Очень.
Я краем глаза взглянул на него. Гурриато шагал рядом, завернувшись в свою синюю хламиду с капюшоном. И был по обыкновению бесстрастен, словно ничего, что бы ни случилось в эту ли, или в следующую минуту, не могло изменить стезю, по которой, как по лезвию ятагана, следовал он вслепую и невозмутимо.
Я остановился у стены справить нужду и под этим роскошным предлогом оглянулся через плечо. И никого не увидел, но предупреждение Гурриато до того обострило мой слух, что мне почудился в ту же минуту смолкший звук шагов. Галерея тонула в полумраке, потому что сероватого света, который проникал извне и отражался от снега, покрывавшего суда у причала, явно не хватало. И впереди было темней, потому что нам предстояло сделать один из пресловутых поворотов, присущих венецианским улицам, столь частых, которые иногда вдруг закладывают широкую петлю, выводя путника к тому же месту. Так или иначе, я застегнулся, снова укутался в плащ и пошел вместе с мавром к этому изгибу — шел я медленно, а думал еще медленней. По собственному опыту я знал, что в таких переделках одни раскаляют себе мозги многодуманьем, чтобы потом наделать ошибок, тогда как другие без мучительных и долгих размышлений попадают прямо в цель. В данных обстоятельствах хотелось бы принадлежать к числу сих последних. Лучшая уловка в игре, как и в фехтовании, — уметь выждать.
— Ты им займешься, — шепнул я мавру.
И едва мы свернули за угол, Гурриато вдруг исчез. Привычен будучи к его обыкновению обходиться без слов, я, не оборачиваясь, сделал еще несколько шагов, осторожно и незаметно высвобождая из-под плаща кинжал — на тот случай, если вдруг понадобится. Ибо хороший хирург режет, не робея. Однако, к чести моего спутника, должен сказать, что услышал лишь краткий шум борьбы и сдавленный стон. И когда я повернул назад, то увидел Гурриато, который сидел на корточках у неподвижного тела и с полнейшим спокойствием обшаривал его одежду.
— Крови много? — спросил я не без тревоги.
— Уар. Нет. Я не резал горло.
— Тем лучше.
Я мог рассмотреть убитого, покуда мавр очищал его карманы. В открытых глазах застыло недоумение из разряда «не может быть, чтобы такое произошло со мной» — такова была его последняя мысль. Бывает. Он оказался еще молод и недурен собой, и можно было сказать, что погиб во цвете лет. Скорее белобрысый, нежели чернявый, с двухдневной примерно щетиной, одетый в плащ скверного сукна и дурно скроенное платье. Каждому из нас, думал я, глядя на убитого, свой час приходит, и никто его не минует. Но все же лучше, когда сперва ты, а уж потом я. В схватке несчастный потерял один башмак. У соглядатая или шпиона (а вдруг это ни в чем не повинный прохожий, вдруг испугался я, но тотчас отогнал эту мысль) не оказалось при себе никаких бумаг (ну, или мы их не нашли), но имелся кошелек с двумя цехинами, несколькими серебряными монетами и медяками, а также тонкий острый кинжал в кожаных ножнах. Убитый смердел, из чего я заключил, что он обделался, когда мавр скручивал ему шею. Что ж, и такое бывает.
Гурриато спрятал в карман кошелек, а кинжал оставил.
— Пошли, — сказал я.
Мы огляделись по сторонам, чтобы убедиться, что по-прежнему одни. Потом я подобрал башмак — каблук был сбит; подошвы сильно стерты: оттого, конечно, что его владельца, как того волка, ноги кормили — и, ухватившись за дерюжный плащ, мы волоком подтащили убитого к закраине канала и спустили в воду как раз между причалом и пришвартованной лодкой. Раздался всплеск — тело погрузилось, но лишь наполовину: раздувшийся плащ держал его на поверхности. Впрочем, здесь, у самого берега, утопленник был незаметен. Надо было сильно наклониться, чтобы увидать его. Тем не менее я постарался завалить его снегом и со словами:
— Семь футов тебе под килем, — швырнул в воду башмак.
Не оглядываясь, мы двинулись назад по улице и вышли на другой берег канала. Вот тут я все же посмотрел назад, но не увидел ничего, кроме аркады привязанных у причала лодок да снега, который тихо падал над каналом.
— Капитану Алатристе — ни слова об этом, — сказал я.
Громкий стук в дверь заставил Алатристе приподнять голову, удобно лежавшую в ложбинке меж теплых грудей донны Ливии Тальяпьеры. Он торопливо оделся и, на ходу застегивая колет, вышел из спальни. В коридоре, не сняв шляпу, не стряхнув с плаща снежные хлопья, нетерпеливо переминался с ноги на ногу секретарь испанского посольства Сааведра Фахардо.
— Священника взяли, — с места в карьер сообщил он.
— Кого?
— Падре-ускока. — Сааведра Фахардо понизил голос: — Того, кто должен был прикончить дожа.
По бледному лицу было видно, что он явно не в себе — растерян и встревожен. Да и Алатристе при этих словах почувствовал, как земля уходит у него из-под ног: и ощущение не становилось приятней от того, что было ему хорошо знакомо. Стараясь сохранять хладнокровие, он ухватил дипломата за руку и увел в соседнюю комнату, где разговаривать было удобней, нежели в коридоре. И плотно притворил за собой дверь.
— А Малатеста?
— Итальянец, кажется, на свободе.
— И где он?
— Не знаю. Где-то укрылся, мне сказали. В надежном месте. Приходили не за ним, а именно за падре.
Алатристе попытался привести мысли в порядок:
— Как это случилось?
— На постоялый двор нагрянул профос со стражниками. Услышав, что они поднимаются по лестнице, падре выскочил в окно. Сломал себе обе ноги, и его скрутили.
— Его одного?
— Да, остальных не тронули, насколько я знаю.
— Странно.
— Причины могут быть разные, — вслух начал размышлять Сааведра Фахардо. — К ускокам в Венеции всегда относятся очень настороженно. Может быть, это чистая случайность: кто-то услышал звон… Может быть, обычная формальность, а священник потерял голову и попыткой сбежать ускорил события. Наверное пока ничего сказать нельзя.
— А что венецианцы? — спросил Алатристе. — Капитан Лоренцо Фальеро и этот второй… из Арсенала?
— Фальеро полчаса назад снесся с нами. Сообщил, что все спокойно. И не заметно никакого подозрительного оживления… Как офицер гвардии дожа, он бы в числе первых узнал дурные вести.
Алатристе подошел к окну и в угрюмом молчании долго смотрел на падавший снег. Товарищи его рассеяны по городу и ничего не знают. И не ощущают явственного запаха намыленной пеньки, хотя руки палачей уже совсем недалеко от горла.
— Странно это, — повторил он. — Если бы заговор был раскрыт, нас всех бы уже перехватали.
— Я думал об этом, — согласился дипломат. — И его превосходительство господин посол придерживается того же мнения. Хотя он тоже чрезвычайно обеспокоен…
— Еще бы.
И Диего Алатристе представил себе, как сеньор Бенавенте, которого он не знает и никогда не узнает, грызет свои превосходительные ногти, мечась среди гобеленовых драпировок своей резиденции. Впрочем, его заботят лишь дипломатические осложнения, тогда как всех остальных — как бы дожить до рассвета.
— В любом случае клирик знает немного, — сказал Сааведра Фахардо.
— А пытку выдержит?
Секретарь снял наконец шляпу и с выражением глубокого уныния растирал себе виски.
— Не знаю. Хотя… мне кажется, сломать его будет непросто. Он — фанатик, и, бог даст, с ним придется повозиться всерьез, чтобы сказал то, чего говорить не должен. Кроме того, знает одного Малатесту. Ему даже общий замысел неизвестен. Он должен был убить дожа — и все на этом. Что бы с ним ни делали, ничего другого не услышат.
— Ну а что там будет с Арсеналом, с дворцом и со всем прочим?
Секретарь качнул головой.
— Ничего не будет, — сказал он, — все пойдет к черту, потому клирик — пружина всего заговора. И заговор этот лишается всякого смысла, если дож останется в живых. И что бы там ни было, — завершил он, — пойдет ли дело вширь и вглубь, остановится ли — это уже ничего не меняет. Полный провал. И надо бы отдать приказ все отменить.
Алатристе, по привычке покорно принимая все фортели судьбы, согласился с этим. Самое разумное решение. Способное спасти десяток жизней, включая его собственную. Он уж собирался было повторить это умозаключение вслух, как заметил, что Сааведра Фахардо колеблется, словно желая что-то еще добавить к сказанному — и не решаясь.
— Еще кое-что… Я не должен был бы говорить, но в ваших обстоятельствах было бы подлостью, с моей стороны промолчать.
При слове «ваших» Алатристе усмехнулся про себя. Всяк сверчок… — подумал он. Прочерчена разграничительная линия. Ваши докуки, дал понять дипломат, нашим не чета: и я вот, в отличие от тебя, голову в петлю совать не собираюсь.
— Посольство получило сведения из Мантуи, — продолжал тот. — Герцог Винченцо Гонзага при смерти. Протянет еще дня два-три. — Он замолчал и окинул капитана критическим взглядом. — Я полагаю, ваша милость — не очень большой дока в тонкостях итальянской дипломатии.
— Правильно полагаете. До солдат такие тонкости не доходят, а если доходят — то не из первых рук.
— Да, разумеется. Извините.
И вслед за тем сжато, сухо и монотонно Сааведра Фахардо ввел его в курс дела. Мантуя, а особенно — Монферрато, чрезвычайно важны для политики Испании на севере Италии. Герцог Винченцо II бездетен, и его смерть дает Испании возможность обезопасить свои владения в Милане с помощью крепостей в этих землях и прежде всего — замка Казаль, который смело можно уподобить щеколде, запирающей реку По. Если это произойдет, французы, которые преследуют в Италии свои интересы, останутся с носом. И сейчас самый благоприятный момент, поскольку у кардинала Ришелье, пытающегося отвоевать у гугенотов Ла-Рошель, руки связаны.
— И в этой обстановке наша венецианская затея отходит на второй план.
Алатристе насмешливо скривил губы:
— Независимо от того, на воле падре-ускок или в каталажке… Можно даже усмотреть в его аресте знак свыше. Перст божий.
Сааведра Фахардо окинул его взглядом пронизывающим и подозрительным, словно счел, что разговор зашел слишком далеко.
— Нет, это уж будет чересчур, — возразил он, немного смешавшись. — Что же касается вас и ваших товарищей…
И осекся, оборвал себя на полуслове. Но капитан понял, что он хотел сказать. В Венеции вдруг собралось слишком много испанцев. С одной стороны — арест ускока, с другой — дипломатические новости… И вот капитан Алатристе и его люди, которые только что были полезным инструментом, стали головной болью. Бочонками с порохом, готовыми рвануть от первой же искры. Неудивительно, что дипломат был несколько растерян и чувствовал себя не вполне ловко. Должно быть, перед самым приходом он получил из Милана весьма требовательные письма.
— Так что же, — продолжаем или сыграть отбой?
Спрошено было с безразличием солдата, которому все равно, какой приказ выполнять. И в качестве первого ответа Сааведра Фахардо сделал вроде бы неопределенный, но на самом деле тщательно выверенный жест. Из разряда тех, что в канцеляриях и кабинетах — в большом ходу.
— Пока нет инструкций на этот счет. Ни подтверждения, ни отмены. Хотя, исходя из положения дел, благоразумнее было бы все остановить. Такого мнения придерживается господин посол, и я это мнение разделяю. Что же до герцога Мантуанского…
— Герцог Мантуанский, кардинал Ришелье или сам Тамерлан — мне, как говорится, вдоль подола, — не выбирая выражений, сказал капитан. — А вот не развяжет ли язык ваш падре — это интересней. В данную минуту.
Он отошел от окна и сделал несколько шагов по комнате. Внезапно и очень явственно потянуло ловушкой. Засадой. Провалом. Он не в первый раз чуял этот запашок и научился распознавать его издали, как давнего знакомца. И даже арест падре показался неслучайным.
— Малатеста очень важен, — сказал он, силясь собрать разбредающиеся мысли. — В отличие от вашего попа, он посвящен во все подробности нашей затеи.
Сааведра Фахардо согласился с этим. Но, подумав немного или только сделав вид, что думает, добавил:
— Однако этот ваш итальянец не производит впечатления человека, который легко дастся в руки. Его не то что голыми, а и никакими не возьмешь. — И замолчал, глядя на Алатристе с любопытством.
— Ваша милость, насколько я понял, хорошо с ним знаком.
— «Хорошо» не то слово. Я бы так не сказал… Или сказал бы не так.
— И что же, как, по-вашему, если возьмут — заговорит?
— Может продержаться несколько недель, а может выложить все через минуту. Смотря что он выиграет или что проиграет от этого… Вы уверены, что он еще на воле?
— Сейчас нет признаков того, что за ним следят.
Алатристе наклонил голову. Пришло время подумать о другом. О других. О себе. И о том, как уберечь их от гибели.
— А скажите-ка, сеньор Фахардо, нельзя ли вывезти нас из Венеции поскорее?
Дипломат пожал плечами. Казалось, он и сам немного успокоился при виде того, каким спокойным тоном задает его собеседник вполне разумные и уместные вопросы. Стало очевидно, что он ждал вспышки ярости с самыми непредвиденными последствиями.
— Не знаю, — ответил дипломат после краткого раздумья. — Попытаюсь сделать так, чтобы Паолуччо Маломбра забрал вас пораньше. Но не уверен, что получится… В любом случае и вам, и людям вашим сейчас надлежит затаиться.
Алатристе уже снова стоял у окна, глядя на зеленовато-серую воду маленького канала, на пепельное небо, на снег, круживший меж дымовых труб, так похожих на перевернутые колокола. Странно, сказал он себе, как странно, что мне, в сущности, все равно, уходить или оставаться. Не здесь меня прикончат, так еще где-нибудь. Он вдруг поймал себя на том, что думает о нагом теле донны Ливии, и не без усилия заставил себя вновь погрузиться в размышления о близкой и неминуемой опасности. И сам немного испугался своего бесчувствия.
— Который час? — спросил он.
— Час «ангелюса».
— Впереди еще целый день. — Капитан провел двумя пальцами по усам. — Как там поживает дон Бальтасар?
— Пока не видел его. Сейчас отправляюсь в монастырь. Я счел нужным уведомить прежде всего вас как командира.
Алатристе кивнул. Он мысленно расставлял предстоящие действия друг за другом по степени важности и, как военный человек, настраивался на успех, не забывая о вполне возможных опасностях. Одно из достоинств его странного ремесла заключалось в том, чтобы в подобных переделках действовать по старинным, намертво усвоенным правилам. Это избавляло от ненужных мыслей и облегчало дело. Пусть солдат живет как может, а не как хочет, любил повторять он.
— Надо бы и дона Бальтасара вытащить отсюда. Не в том он виде, чтобы самому о себе заботиться.
— Я займусь этим непременно, — пообещал Сааведра Фахардо. — А вы — своими людьми: тут вам и карты в руки.
Алатристе продолжал поглаживать усы и выстраивать мысли по ранжиру. День обещал быть очень долгим.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Оповещу всех, чтобы до ночи никто с места не сходил. Ровно в двенадцать, если не поступит отмены, каждому сидеть в своей лодке. А кто не успел — пусть пеняет на себя.
При последних словах ему почудилось, что обычно постное лицо секретаря осветилось беглой улыбкой. И смотрел он на капитана так, словно в продолжение беседы открыл в нем нечто такое, о чем не подозревал. Так или иначе, он заметно успокоился. И это не может не радовать: сейчас как никогда нужна трезвая голова. А особенно — тем, кто рискует потерять ее.
— А что с вами будет?
Дипломат улыбнулся вымученно, с профессиональной готовностью покориться судьбе:
— Да я, в сущности говоря, прикрыт моим статусом… Неприкосновенность и все такое… Вероятно, придется пережить кое-какие неприятности, но я выпутаюсь… Издержки ремесла, так сказать. Получив поручение короля, дипломат обязан выполнить его любыми средствами — законными или не вполне. Сменив язык, платье, облик, а если надо — и кожу.
— Кожу берегите. Сдерут — новая не нарастет. Ни у королевского чиновника, ни у солдата.
— Не беспокойтесь… Что же касается будущего, помните — мы говорим с вами напрямую в последний раз. Посольство умывает руки.
Этому ледяному официальному тону противоречило живое любопытство, с каким Сааведра Фахардо продолжал рассматривать капитана. Тот кивнул, как бы принимая условие. Ибо с самого начала даже не сомневался, что если что — все будет именно так.
— На мой взгляд, верно, — сказал он. — В случае необходимости юный Иньиго послужит связным.
— Мне очень жаль, что это так, — ответил ему дипломат. — Ужасная досада.
Прозвучало вполне искренне. По крайней мере, искренней, чем прежде. Если помнить, кем был Сааведра Фахардо и чем занимался, эти слова удивительно его очеловечивали. Впрочем, Алатристе не склонен был углубляться в дебри, а просто пожал плечами с присущей ему невозмутимостью.
— Нам платят за риск. Вопрос теперь в том, как убраться отсюда подобру-поздорову.
Сааведра Фахардо невесело кивнул:
— Помилуй бог, сколько трудов, усилий, риска… И денег… денег… И все впустую.
— Бывает. Раз на раз не приходится.
— Так говорите, будто привыкли проигрывать.
— Сильней и чаще, чем вы можете себе представить.
Вот теперь наконец на лице дипломата появилось нескрываемое, открытое восхищение:
— Меня поражает ваше хладнокровие, сеньор Алатристе. И я по справедливости обязан вам сказать это.
— А чему же тут поражаться?.. Шпага при мне, на все прочее — воля божья.
В тот день меня во исполнение поручений капитана Алатристе словно ветром носило по всей Венеции. Завернувшись в плащ, то и дело оглядываясь, чтобы определить, не хочет ли кто омрачить мою будущность неотступной слежкой — никакая астрология в подметки не годится предусмотрительности, — я передавал сообщения от капитана нашим сотоварищам, а назад приносил доклады и вести. И за целый день не успел даже дух перевести. И под тихо падавшим снегом без устали мотался по заснеженным улицам и мостам с «Господи, спаси и помилуй» на устах и кинжалом под рукой, ежесекундно опасаясь, как бы те, кто шел мне навстречу или следом, не оказались шпионами Серениссимы. И во всей этой беготне и суетне не выходили у меня из головы строчки дона Мигеля де Сервантеса, которые не раз при мне читал вслух капитан Алатристе, оказавшийся, как видим, весьма даровитым наставником юношества:
Вчера и Нынче, видно, побратимы: Все наши беды в прошлом коренятся — Они неспешны, но неотвратимы[197].Так или иначе, когда я воротился в дом Тальяпьеры, день уже мерк и наступали сумерки. И уже по дороге туда заметил темную фигуру, следовавшую со мной одним путем, и из предосторожности повернулся к ней вполоборота. Кто бы ни был этот неведомый попутчик, он явно не испытывал горячего желания попадаться кому на глаза, потому что шел под арками и отдавал явное предпочтение тьме, а не свету. Я раздумывал, что лучше — оторваться от него, припустив бегом, на первом же углу или идти дальше, делая вид, что не замечаю, но в тот же миг узнал Гуальтерио Малатесту. Тут мы оба вошли в арку, ведущую к дому донны Ливии.
— Здорово, мальчуган… Скверная погода для прогулок, а? Не находишь?
Я не ответил, надувшись спесью, как надувается на крупу кот. А Малатеста бесстрастно оглянулся в последний раз и зашел следом за мной под арку. И, войдя, мы молча двинулись по коридору, стряхивая хлопья снега с плащей и шляп. Дом, казалось, был пуст — наши шаги гулко отдавались по деревянному полу. Капитан Алатристе был у себя: сидел в той же позе, что и час назад — облокотившись о стол и вперив взгляд в разостланный план города. От купца-оружейника Педро Тобара и следа не осталось — мой хозяин был в кожаном колете, пока, правда, расстегнутом, и с кинжалом у пояса. Под рукой, на спинке стула висела портупея с золингеновской шпагой. На столе, кроме плана, имелись: кувшин вина, пустой стакан, канделябр-трехсвечник и германский пистолет. Я заметил, что курок поставлен на боевой взвод и оружие готово к действию.
Я уж было собрался доложить, но капитан не удостоил меня вниманием. Зато с пытливым интересом поднял глаза на Малатесту. Внезапно я почувствовал себя лишним в этом безмолвном диалоге и солгал бы вам, если бы сказал, что когти ревности не впились мне в сердце. На миг я испугался, что Алатристе прикажет мне оставить их наедине, — но нет. Он продолжал молчать и оставался по-прежнему неподвижен, если не считать, что разжал пальцы, обхватившие рукоять пистолета в тот, наверное, миг, когда в коридоре раздались шаги.
— Этот олух… — начал Малатеста.
Я не сразу понял, что речь идет о падре-ускоке. Итальянец кратко рассказал, как было дело. Еще один постоялец, тоже, как на грех, священник, узнал собрата и донес на него в венецианскую инквизицию. Ей было бы решительно нечего предъявить ускоку, кроме национальности, которая тотчас навлекла на него подозрение в том, что он — возможный враг Республики, так что стражники явились с обычной проверкой — установить личность и выяснить, что личность эта делает в Венеции. А для пребывания можно было найти сотню благовидных причин и спокойно уладить дело с помощью толики цехинов. Однако ускок потерял голову, заслышав шаги на лестнице, счел, что он в этой пьесе играет главную роль, и выскочил в окно.
— Он заговорит, как, по-твоему? — спросил капитан.
— Пока молчит. Держится. Иначе я едва ли смог бы разгуливать по городу.
— А ты уверен, что за тобой не следят?
— Minchia[198], капитан Алатристе… Можно подумать, мы вчера познакомились.
Они продолжали глядеть в глаза друг другу, словно два шулера, каждый из которых наизусть знает все трюки партнера. Наконец Малатеста ткнул себя в грудь большим пальцем:
— Тем более что он может выдать одного меня. Так что, если что, придут за мной. И только за мной.
— Это еще вилами по воде писано… — встрял я.
Малатеста встретил мое замечание гримасой насмешливой и злобной. Что касается капитана, то он перевел на меня леденящий взгляд. Побагровев от того, что выступил не вовремя и не к месту, я решил, что на ближайшее время стану нем как рыба и прикушу язык. Высшая степень мастерства, подумал я, не соваться под руку — под горячую особенно.
— А мальчуган-то прав, — заметил Малатеста. — Зависит от того, как взяться… Но пока я гуляю на свободе и никто меня ни о чем не спрашивает. И потому ты, сеньор капитан, в безопасности — опять же пока. И ты, и мальчуган, и все остальные.
Алатристе по-прежнему не сводил с меня глаз. Скажи то, что должен сказать, прочел я в них, а потом сиди помалкивай, пока не спросят.
— Ускорить дело с контрабандистом и его людьми невозможно, — сообщил я деловито. — Раньше полуночи ни одна посудина готова не будет. Мне сказали, что так было условлено заранее и сейчас уже ничего не изменить.
— Ну а как дон Бальтасар Толедо?
— У него сильный жар, каменюга в канале и брань на устах. Сомнительно, чтобы он мог двигаться, так что по-прежнему останется на попечении братии.
И я добавил еще несколько подробностей, опустив то, что капитан мог отлично представить безо всяких рассказов: истинно солдатскую покорность судьбе, столь свойственную Себастьяну Копонсу, бесстрастие Гурриато-мавра, уныние и растерянность остальных в тот миг, когда стало известно, что вся затея приостановлена и придется, поджавши хвост, убираться из Венеции — при том, что все испытали и определенное облегчение.
— Твоя милость собирается в дорогу? — сказал Малатеста, когда я умолк.
Он смотрел на кожаный колет и наполовину сложенный баул на кровати.
— С сожалением вижу, что это так, — прибавил он. — А ведь совсем рядом были…
Итальянец снял шляпу и расстегнул пряжку плаща, словно ему стало жарко. Бросил его на кровать, где лежали вещи капитана. При этом движении отблеск горящего воска заметался по массивной крестовине его шпаги, скользнул по рукояти кинжала у пояса. Углубил оспины на щеках, четче обозначил у правого века шрам, от которого глаз немного косил.
— Помнишь, мы с тобой видели ту дверь? От нее всего двадцать шагов до того места, где дож преклонит колени…
Малатеста смотрел на капитана пристально, буквально впивался в него глазами. Так, словно пытался прочитать мысли человека, сидевшего напротив, или передать ему свои.
— Падре-то уже нет, — отвечал тот.
— Понятно, что нет. — Свирепая усмешка приоткрыла наполовину стесанные резцы. — Того, кто бы это сделал…
Он замолчал на полуслове, как будто ждал, что собеседник договорит за него. Я заметил, как капитан невозмутимо качнул головой:
— …в наличии не имеется, — сказал он. — Нет желающих совершить самоубийство таким способом.
Малатеста высвистал сквозь зубы свою неизменную зловещую руладу «тирури-та-та» — и комната надолго погрузилась в тишину. Капитан Алатристе продолжал изучать разостланный по столу план с таким видом, словно разговор с итальянцем утратил для него всякий интерес.
— А скажи-ка, неужели не надоело то драться, то удирать, сеньор капитан? И ты не устал от того, что тебя то продают, то покупают?
— Бывает.
Алатристе уронил это слово, не поднимая глаз. Зловещий оскал Малатесты сменился усталой улыбкой:
— Какое совпадение. Я тоже.
Он придвинулся к столу и вперил задумчивый взор в план Венеции. Через мгновение ткнул пальцем в площадь Сан-Марко:
— Дожей убивать никогда не приходилось. А тебе?
— И мне.
— Должно быть, в этом есть какая-то изюминка… А?
Он бесцеремонно схватил кувшин и налил себе стакан вина. Капитан, проводив взглядом его движения, не возразил.
— Попробуй сказать, что тебя это не заводит, — громким шепотом сказал итальянец, с ироническим полупоклоном приподнимая стакан на уровень глаз. — Как заводит меня.
Коротко отхлебнул, прищелкнул языком, сделал второй глоток, — побольше, и вот наконец поставил пустой стакан на стол, мазнул ладонью по губам, вытирая усы.
— Взыграл гонор — изволь его тешить. Любой ценой. Разве не так? Двадцать шагов — и удар кинжалом. — Он кивнул на пистолет. — Или пятнадцать — и пулю из него.
— Спятил ты, Малатеста.
Раздался скрипучий смех:
— Нет. Мне просто хочется повеселиться. Хочется устроить такое веселье, чтоб дрожь пробила королей, дожей, пап…
Капитан откинулся на спинку стула. Взгляды собеседников — злобно-насмешливый у одного, невозмутимо-спокойный у другого — скрестились.
— А что потом? — спросил Алатристе.
— А наплевать, что потом.
Вот, значит, к какому взрослому разговору оказался я допущен. И сидел, на полпяди открывши рот, до того пересохший от волнения, что я собирался уж встать, подойти к столу и без спросу налить себе что там оставалось в кувшине. В эту минуту Алатристе коротко глянул на меня. Потом поднялся. Поднялся так медленно, словно все тело затекло и повиноваться отказывалось.
— А что слышно о твоем родиче, — о капитане Фальеро?
— Я только что говорил с ним. Как и все прочие, он готов идти дальше, если только сегодня ночью кто-нибудь убьет дожа.
— Если кто-нибудь убьет дожа, ты сказал?
— Да. Я так сказал.
Они стояли у стола лицом к лицу. Лица их были освещены снизу, и оттого еще резче выделялась суровая резкость черт. Когда я попятился к стене, понимая, что могу оказаться в этой беседе лишним, мне почудилось, что капитан улыбается.
— А кто будет чужими руками жар загребать? — спросил он.
— Я.
Воцарилась тишина — и довольно продолжительная, — которую я в оцепенении не решался нарушить не то что звуком, но даже и дыханием. Потом Малатеста заговорил — негромко, очень спокойно и непринужденно. Эти двадцать шагов, сказал он, указывая на пистолет на столе, что отделяют дверь часовни от реклинатория, он сможет преодолеть проворней и четче, чем священник-ускок. Нужно лишь, чтобы капитан занялся часовым у входа, а потом прикрыл Малатесту на то время, что будет нужно.
— Чтобы при удобном случае меня освободить.
— А если не представится такой случай? Ни тебе, ни нам?
— Я пройду вперед столько, сколько смогу. И ты, полагаю, тоже.
Капитан обернулся и взглянул на меня, словно спрашивая глазами, не найду ли я что возразить на весь этот бред, но я прочно держал язык на привязи, а рот — на замке. И тщетно пытался осмыслить и усвоить все, что услышал. И был уверен, что мой хозяин не согласится. Но тут увидел, как он провел двумя пальцами по усам, и этот до боли знакомый жест напугал меня больше, чем речи Малатесты.
— Троянский конь, капитан. Троянский конь войдет в город, — сказал тот. — Два коня. Ты и я. А остальных — в задницу.
— Кого именно?
— Да неважно. Всех.
Я наблюдал за хорошо памятным мне ритуалом сборов: капитан Алатристе одевался так же медленно, обстоятельно и вдумчиво, как облачается священник перед службой. Вымывшись до пояса, перехватив шнуром под коленями высокие сапоги, застегнув штаны и натянув поверх чистой сорочки толстый нагрудник из буйволиной кожи — весь в царапинах от давних ударов, — затянул пояс с пристегнутой слева шпагой и сзади заткнул за него кинжал так, чтобы легко было дотянуться. Пристроив с другого боку пистолет, он обвел своими заледенелыми глазами комнату, проверяя, не забыл ли чего. И остановил их на мне.
— Мы давно не разговаривали, — сказал он.
И это была чистая правда. Житье наше в Венеции, столь хлопотное и беспокойное, никак не располагало к товарищеским беседам, да и образ бедной Люциетты все еще не давал мне покоя, терзая душу запоздалыми сожалениями. Да прямо скажем, и то, как вел себя со мной капитан, лишь расширяло трещину отчуждения, давно уже возникшую между нами. Не было сомнения, что с ходом лет отцовский облик его померк в моих глазах, отуманенных дерзким задором младости, померк и расплылся. И я разрывался теперь между прежним восхищением, которое сохранял наперекор всему — да и можно ли было не восхищаться человеком такой твердости? — и уверенностью, что темные закоулки и мученические призраки, населявшие его память, все дальше уводят его от меня и от того, что было некогда нашим общим миром. И мне оставалось лишь с болью в душе смотреть на него, как смотрят на уплывающий вдаль берег, и в бессильной тревоге следить, как все плотнее окутывает Алатристе одиночество — удел, им самим для себя выбранный. И хотя в любой схватке я бросался за ним, ни о чем не спрашивая, и бровью бы не повел даже у ворот преисподней — мы, кстати, были не так уж далеко от нее, — но сейчас чувствовал, что замялся, что не готов погрузиться вслед за ним в черный омут тоски и безнадежности. Опять же, по прошествии времени, когда вместе с сединой прибавилось мне разумения, я лучше понял и это, и многое другое. Мне и самому тогда случалось кружить у закраины того же бездонного колодца и тоже водить знакомство с тенями и призраками. Но в тот рождественский сочельник, который встречали мы в Венеции, я был всего-навсего восемнадцатилетним дуралеем.
— Да, — согласился я. — Давно.
— Надеюсь, ты знаешь, сколько тебе сегодня предстоит сделать.
Я замолчал и нахмурился, словно был задет, что капитан вместо непреложной уверенности всего лишь «надеется». На самом деле его слова звучали потаенной жалобой: он словно сетовал, что из-за обилия моих дел не может поговорить со мной перед расставанием. И жалел, что, кроме как о деле, которое сейчас занимало наши помыслы, а вскоре должно было занять и руки, нам и сказать друг другу нечего.
— Будет трудно, — добавил он.
Он смотрел на меня задумчиво. И — как на близкого. Я бы даже сказал так: мое присутствие, пронимая его до самого нутра, заставляло прочувствовать, как же в самом деле мне будет трудно, и только оно одно не давало ему обрести совершеннейшее равнодушие перед лицом Судьбы. Наметанным взглядом старого солдата он оглядел мою экипировку: колет из грубой замши, кожаные гетры, перчатки, шпагу у пояса — я выбрал изделие оружейников из Бильбао с гардой в виде раковины и коротким, остро наточенным лезвием — и мой верный славный «кинжал милосердия». Словом, железа на мне было — как в бискайской кузнице. Волосы, в ту пору черные и густые, я спрятал под платком, завязанным узлом на затылке, как принято было у солдат галерного флота — этот обычай я перенял в Неаполе и потом, когда ходили к берегам Леванта. Я всегда покрывал им голову перед дракой, а без него чувствовал себя как хирург без перчаток и перстня, аптекарь — без шахмат или цирюльник — без гитары.
— Себастьян — хороший человек, — добавил капитан.
Я знал его так досконально, что, наверно, мог без труда проследить нить его мыслей. Себастьян Копонс был и в самом деле хороший человек, не размазня и рохля, а настоящий солдат, как и сам Алатристе. И никто лучше арагонца не прикроет мне спину в трудных обстоятельствах. Если не считать капитана, лучшего спутника в том краю, где гремят выстрелы и звенят шпаги, и пожелать нельзя.
— И мавр тоже.
— Да, — кивнул капитан. — И Гурриато тоже.
— И все остальные — не робкого десятка. И отважны, и смекалисты.
Он снова рассеянно кивнул в ответ. И, похоже, думал в ту минуту о себе и прочих товарищах — марионетках, пляшущих на ниточках собственных неопределенностей и смутных устремлений, пешках в шахматных партиях владык и властелинов, разменной монетой королей и пап.
— Да, — повторил он. — Люди отменной чеканки.
Он вытащил из кармана несколько свернутых вдвое листков и уставился на них, словно бы в сомнении. Я увидел уже знакомый мне план Венеции и другой — Арсенала, присланный нам капитаном Маффио Сагодино.
— Если что пойдет не так… — начал он, передавая мне первый листок.
— Все будет так! — перебил я и план не взял.
Алатристе мгновение всматривался в меня чрезвычайно внимательно, а потом я заметил у него на губах подобие невеселой улыбки. Потом он подошел к печи, открыл заслонку и сунул бумаги в огонь.
— В любом случае постарайся добраться до этого островка.
— Не потребуется, капитан. Мы увидимся во дворце дожа, когда запустим руки в сундуки с золотом.
Бумаги превратились в пепел. Капитан закрыл заслонку; мы в молчании стояли один напротив другого. Но я уже начал терять терпение: пора было идти.
— Иньиго.
— Слушаю.
Он еще помедлил в раздумье, прежде чем продолжить:
— Знаешь, когда ты был поменьше, я иногда смотрел на тебя, спящего…
Я замер. Такого я никак не ожидал услышать. Мой бывший хозяин по-прежнему стоял у печи, положив руку на эфес.
— Часами смотрел… — добавил он. — Мысли в голове вертел так и эдак. Проклинал свалившуюся на меня ответственность.
Да ведь и я на тебя смотрел издали, внезапно подумал я. Смотрел, как ты угрюмо одевался и пристегивал шпагу, собираясь пойти и заработать нам на пропитание. Как потом, сидя в полутьме нашей убогой комнаты, топил угрызения совести в одиноком молчаливом пьянстве. И слышал, как бессонно ходишь ты всю ночь из угла в угол — так мыкается неупокоенная душа, — поскрипывая половицами, что-то еле слышно напевая или декламируя сквозь зубы, чтобы заглушить боль старых ран.
Все это мгновенно пронеслось у меня в голове. Я хотел было произнести это вслух, но сдержал свой порыв. Ну да, недаром говорится, что зрелость холодна и суха, а юность горяча и влажна — я побоялся, что голос дрогнет и выдаст нежданную нежность, вдруг затопившую мне душу. Капитан, сам того не зная, пришел мне на помощь.
— Однако на все — свои правила, — произнес он, пожав плечами.
И, отойдя наконец от печи, направился к кровати, где лежали наши плащи и шляпы, — я заметил, что он сменил бобровую шапку на обычную свою широкополую шляпу. Проходя мимо, остановился, придвинулся почти вплотную.
— Никогда не забывай правила. Собственные. У таких, как мы с тобой, это — единственное, за что можно уцепиться, когда все летит к чертовой матери.
Зрачки в середине спокойных глаз, по цвету похожих на воду в венецианских каналах, стали черными точками.
— Не забуду, — ответил я. — Этому я выучился у вас прежде всего прочего.
Взгляд его смягчился неожиданной благодарностью. Снова под усами мелькнула и пропала печальная усмешка.
— Не всегда у меня с тобой получалось… — сказал он и опять осекся. — Ладно, чего уж там… Каждый из нас — такой, какой есть.
Скрывая слабость — мне не хотелось, чтобы капитан заметил, что я расчувствовался, — я взял плащ, набросил его на плечи, скрывая под ним свой арсенал. Алатристе следил за каждым моим движением.
— Но я старался как мог, — добавил он вдруг.
Эти слова, хоть и были произнесены с нарочитой резкостью, не могли не растрогать меня. Ах, чтоб тебя, подумал я в сердцах. Разнюнились тут, как две старые дуэньи, того гляди, всплакнем друг у дружки на груди.
— Вы сделали для меня все, что было надо, капитан. И вы, и Каридад Непруха, — я похлопал себя по левому боку, отчего зазвенела и забрякала моя амуниция. — Я получил кров и оружие. Узнал приемы защиты и нападения, правила грамматики и арифметики, начатки латыни. Пишу хорошим почерком и без ошибок, почитываю иногда книжки, повидал мир… Чего еще мог бы желать для себя сирота, потерявший отца во Фландрии?
— Твой отец хотел бы для тебя иной доли. Чего-нибудь поближе к перу и чернильнице. Лиценциат Кальсонес, преподобный Перес и дон Франсиско попытались было направить тебя по этой стезе… Жаль, ничего не вышло.
Я застегнул пряжку плаща и поверх платка надел шляпу, ухарски сдвинув ее набекрень.
— Сегодня ночью мой отец, думаю, мог бы мной гордиться.
— Разумеется. Я говорю лишь, что…
— И мне этого довольно.
И взглянул на дверь, как бы давая понять, что время не терпит. И уже собирался натянуть перчатки, когда капитан протянул мне руку:
— Будь там поосторожней, сынок.
Еще свежее воспоминание о кинжале, приставленном к моему кадыку, заставило меня на миг замяться. Я глядел на эту крепкую, жилистую руку, на костяшках пальцев и на тыльной стороне кисти исполосованную, как гарда заслуженной боевой шпаги, давними шрамами. И потом уже без колебаний пожал ее. До того, как все начнется, мы должны были еще увидеться в таверне у Моста Убийц, но там вряд ли представился бы случай обменяться хоть несколькими словами.
— И вы себя берегите, капитан.
Я перешагнул через порог и в коридоре, в дальнем его конце, в дверях, ведших на канал, увидел черный против света неподвижный силуэт Гуальтерио Малатесты, который ожидал Алатристе, как демон ночи. Волки в овчарне, сказал я себе. Можно было себе представить, какая резня начнется, когда, рассыпая искры, вылетят из ножен их клинки. Я прошел мимо итальянца молча, не сказав ему ни слова, вышел на улицу и пересек заснеженную маленькую площадь. Ночь была сырая, как носовой платок новобрачной, от холода перехватывало дыхание. У входа в арку я огляделся по сторонам, чтобы убедиться, нет ли кого чужого. Потом укутался в плащ, плотней надвинул шляпу и скорым шагом двинулся к Риальто — на другую сторону Гран-Канале. Время от времени мне кучками и поодиночке встречались прохожие, но большей частью улицы были безлюдны. Ночь была глубокая, очень темная, однако устилавший землю снег, заглушая звук моих шагов, отчетливей выделял дома, предметы, тени. Кое-где окна светились, и сквозь стекла можно было видеть людей вокруг печек и празднично накрытые столы. Пришло время рождественского ужина, а я, по опыту — чужому, слава богу — зная, что в бой следует идти натощак, и памятуя, как корчились от боли раненные в живот, выпил перед уходом лишь кружку некоего пойла, сваренного из смолотых заморских зерен под названием «кахавé», от которого переставали слипаться глаза и не клонило в сон. На пустой желудок особенно печально было идти мимо харчевен и таверн, откуда доносилась веселая разноголосица и песни, из чего можно было заключить, что празднование Рождества уже началось. Благая ночь. Святая ночь. Ночь, когда появился на свет Христос-младенец. Я думал о том, что в нашем убогом домишке в Оньяте ужинают у очага мать и сестрички, вспоминал, как в детстве встречал праздник рядом с отцом — незадолго до того, как злая судьба привела его под стены бастиона Юлих. И так вот, голодный, одинокий и напуганный, шел я к Мосту Убийц. Сталь оружия леденила тело под плащом. Стужа была поистине лютеранская, и казалось, утро не наступит никогда.
IX. Заутреня
В доме донны Ливии Тальяпьеры рождественского ужина не было. Куртизанка стояла у окна в большой гостиной и смотрела в ночь. Комната освещалась только пламенем, потрескивавшим в устье облицованной мрамором печи.
— Пора, — сказал Диего Алатристе.
Донна Ливия не обернулась. На ней был длинный домашний халат, на плечах — шерстяная шаль, а волосы убраны под кружевной чепец. Алатристе, мягко ступая по ковру, приблизился к ней. Сюда, на второй этаж, он пришел попрощаться. Свернутый плащ лежал у него на руке, а в другой он держал шляпу.
— Не опасно ли оставаться здесь?
Женщина, будто не слыша, все так же неподвижно стояла у окна. В красноватом мерцающем свете углей кожа ее казалась, как и прежде, белой и гладко-упругой.
— Может, обойдется. Но, может быть, и нет, — настойчиво сказал капитан.
Ему не хотелось представлять ее в руках палачей. Но если в самом деле «не сойдет», то кто-нибудь непременно рано или поздно развяжет язык. И донне Ливии советовали покинуть Венецию в ближайшие дни, не дожидаясь развития событий, но она пропустила предложение мимо ушей. Обо мне есть кому позаботиться, сказала она. Есть у кого искать защиты. И есть средства и способы уладить дело.
Алатристе в очередной раз восхитился точеным профилем венецианки и округлыми очертаниями статной фигуры под скроенным на манер туники шелком. Капитан вспомнил об этом прекрасном теле, знакомом ему до самых сокровенных глубин, о теле сладостном и упоительном, но теперь недоступном, и затосковал. От этого тепла предстояло уйти в холодную ночную тьму, в ледяную неумолимую даль, и потому капитан медлил, хотя давно уже пора было выходить.
— Проститься хотел, — сказал он.
Он никак не мог избавиться от смущения. И потому не переставал испытывать неловкость. Крупица изящества придает вкус всему, говорили благородные кавалеры. Но он-то не был ни тем, ни другим, а изяществом природа наделила его скудней, чем следовало бы. Непринужденная легкость обращения не свойственна была ни характеру его, ни ремеслу. И жизнь обретению этой легкости не способствовала. Задумавшись об этом, он не сразу заметил, что женщина, повернувшись вполоборота, смотрит на него.
— Джеляю удаччи, — сказала она безо всякого выражения.
— Все было очень… — Алатристе замялся, подыскивая подходящие слова. — То есть я вам признателен… Спасибо.
— За что?
Большие карие глаза миндалевидной формы были неотрывно устремлены на него. И от стеснения Диего Алатристе нахмурился. Светлая печаль, томившая его, улетучилась бесследно. Внезапно ему захотелось оказаться подальше отсюда и заняться тем, к чему был призван. Тем, что делал всю жизнь. Для таких, как он, отсутствие трезвомыслия — самоубийственно.
— Да, вы правы.
Тальяпьера протянула руку. Алатристе на мгновение взял ее своей, наклонился и запечатлел краткий поцелуй — лишь чуть коснулся руки усами. При этом движении рукоять его «бискайца» звякнула о гарду шпаги. Донна Ливия продолжала смотреть на него, пока он выпрямлялся, поворачивался спиной и, набрасывая на ходу плащ, шел к дверям. Но нежданная мысль задержала его на самом пороге.
— Меня зовут не Педро Тобар, — сказал он, еще не успев надеть шляпу.
— Я знаю, — ответила она.
— А Диего.
Куртизанка уже вернулась к окну. Издали, в красноватом мерцании раскаленных углей в устье печи Алатристе почудилась улыбка у нее на губах.
— Грациэ, дон Диего.
— Не за что, сеньора.
Заждавшийся Гуальтерио Малатеста встретил его нетерпеливо-злобным ворчанием. Диего Алатристе прошел мимо и сел, пристроив шпагу между колен, в ожидавшую у берега гондолу с темным силуэтом гребца на корме. Плотнее закутался в плащ, покуда итальянец садился рядом, а гондольер отталкивался веслом от стенки. Гондола мягко качнулась на спокойной воде, а потом медленно заскользила в сторону Гран-Канале мимо каменных ступеней и заснеженных причалов. Подобно медленным летучим мышам, по широкой, черной ленте воды двигались отражения — стояночные огни других судов, освещенные окна, ореолы факелов на мосту через Риальто. Миновав его, гондола пошла к противоположному берегу, а там свернула в другой канал — узкий и темный, протекавший мимо церкви Сан-Лукас. Весло размеренно и бесшумно погружалось в тихую воду. Полнейшее и зловещее безмолвие нарушалось лишь изредка, когда на поворотах гондольер упирался в стенку ногой, помогая своему маневру, или когда весло скребло по камню или кирпичу. Алатристе и Малатеста молчали. Капитан время от времени отводил глаза от воды и искоса посматривал на спутника, и ему, будто парившему в этом умиротворяюще спокойном мраке между водой, ночью и Судьбой, казалось, что он плывет по реке мертвых и невидимым веслом на корме ворочает Харон, а у сидящего рядом так же мало надежд на возвращение, как и у него самого.
Деревянный борт мягко стукнул о камень причала. Гондола замерла, и тишина сделалась всеобъемлющей.
— Отсюда двинемся пешком, — промолвил Малатеста, вставая. — Мост Убийц — в тридцати шагах.
Я стоял у дверей таверны, прислонясь к стене, и вскоре заметил в мутном свете факела, кое-как разгонявшем тьму, две фигуры в плащах и шляпах. По указу магистрата и из уважения к чувствам верующих здешние потаскухи не вышли в рождественскую ночь ловить клиентов, и узкая улочка на краткое время лишилась грешной плоти. Малатеста остался на мосту, капитан двинулся вперед и вскоре оказался рядом со мной. Остановился на мгновение, не глядя на меня, и отдернул тяжелую засаленную портьеру. Холодно оглядел таверну.
— Все в сборе? — спросил он негромко и тускло.
— Почти.
Я шагнул через порог следом за ним. Внутри царило неимоверное оживление, ибо праздновать рождение Христа собралась вся округа. Все столы и лавки были заняты, и люди гнали во весь опор, опорожняя стакан за стаканом, запивая бараньи потроха и звенья рыбы в масле — такой черноты, что им впору не кушанья было заправлять, а лампы. Было дымно, чадно, накурено, пахло волглой одеждой и сырыми опилками. Собралось душ двести — слуги, уличные музыканты, моряки, чужестранцы, разного рода проходимцы и темные личности, гнездящиеся обычно на каналах, у лагуны и на припортовых улочках. Не обошлось, разумеется, и без проституток, которые из-за профоса и его стражников, не пустивших их сегодня слоняться, вывалив прелести напоказ, по улицам, заменили свои обычные абордажные крючья полувздетыми юбками и вольготно расшнурованными корсажами и занялись корсарским промыслом здесь, вертясь в табачном дыму и смолистом смраде факелов, коптивших потолочные балки и огромные кувшины с вином. Ничего удивительного, что в подобной обстановке и в оглушительном гвалте и гомоне на нашу команду, тем паче что она разбилась на небольшие группы, никто не обратил особого внимания и, более того, вообще ее не заметил. Роке Паредес и те четверо испанцев, с которыми ему предстояло пустить красного петуха в еврейский квартал, сидели вместе, делая вид, что перекидываются в картишки, причем сидели так, чтобы держать под наблюдением вход, и их грубые лица ничем не выделялись бы среди прочей публики, кроме как солдатскими усами и подстриженными бородами, а равно и тем, что носители их остались в плащах, под которыми скрывали кожаные колеты и весь свой смертоубийственный скарб — хотя от жары в таверне задохнулись бы сам Вельзевул и мать его.
— Португальца не вижу, — сказал капитан.
И в самом деле — Мартиньо де Аркада не явился, хотя его люди — те, что должны были штурмовать дворец дожа, — наличествовали. Среди посетителей, сидевших в другом конце комнаты и тоже не снявших плащи, я узнал четверых испанцев, которые накануне сошли с корабля на причале Мендикантес. Расположившиеся неподалеку от них пятеро шведов-подрывников, чьи светлые глаза и рыжие бороды не слишком выделялись в том вавилонском столпотворении, какое являла собой таверна, были неподвижны, как бычьи туши, и с терпеливостью истых скандинавов ожидали, когда поступит приказ выходить и взрывать венецианский Арсенал или там что еще. Я несколько обеспокоился, впрочем, заметив, что каждый из них время от времени вливал себе в глотку кувшин — и, видит бог, не водой наполненный; но что бы там ни плескалось, — вино ли или водка, — заметного действия оно не производило. Эти здоровенные личности, по всему судя, замечательно знали свою меру и собой владели. Ибо так уж исстари повелось у их нации, что они с нечувствительностью губок могли высосать — или всосать? — любое количество спиртного.
Вслед за капитаном, лавируя между столами, скамьями, посетителями, я пересек зал и добрался туда, где сидел Себастьян Копонс. Он был в обществе доброй склянки с вином, Гурриато-мавра и Хуана Зенаррузабейтии, а за соседним столом расположились каталонец Куартанет и андалусцы Пимьента и Хакета. Все пятеро, разумеется, тоже были в теплых плащах, как и мы с Алатристе — можно было подумать, что все испанцы в Венеции той ночью страшно прозябли. Копонс и мавр потеснились на лавке, давая нам место, и капитан, не обращая внимания на пододвинутые к нему бутылку и стакан, оперся руками о грязный стол:
— Что там с Мартиньо? — спросил он негромко, не прикасаясь к вину.
Вместо ответа Копонс многозначительно показал глазами на дверь, где как раз появился португалец в сопровождении двух чернявых и смуглых усачей, от которых за милю разило испанской пехотой. Ни на кого не глядя, Мануэл Мартиньо де Аркада с ними вместе пересек зал и уселся неподалеку от своих людей.
— …по вашему приказанию построен… — уронил арагонец.
Он глядел на моего хозяина вот как: с профессиональным любопытством, с готовностью принять, не споря, свой удел, но и с оттенком легкой беззлобной насмешки. Смотрел, одним словом, как сообщник, видавший разные виды. Смотрел сейчас, как уже десятки раз — раньше, как перед любой из тех атак, в которую они с капитаном Алатристе шли бок о бок. И сейчас будто говорил ему без слов: «Вот наша траншея, наш бастион или редут, и люди уже глубоко вздохнули, прежде чем стиснуть зубы, выскочить на простреливаемый гласис и броситься в брешь, а твое дело сказать: „Испания и Сантьяго, а кто последний — тот последний козел“. Или что там еще говорится в таких случаях».
Капитан Алатристе взглянул на старого однополчанина, как будто без труда прочел его мысли, и понимающе улыбнулся — одними глазами. Провел двумя пальцами по усам, посмотрел в непроницаемое лицо Гурриато-мавра, чей бритый череп блестел в маслянистом свете таверны, слегка кивнул Хуану Зенаррузабейтии и трем товарищам за соседним столом. Потом затянутой в перчатку рукой накрыл мою руку, взглянул в глаза. И показалось мне, в его глазах на миг блеснула теплая искорка. Я кивнул по примеру остальных, и этот огонек приязни, если и был, тускнел и мерк, покуда Алатристе убирал руку и поднимался из-за стола. Не пожелав никому удачи и вообще не разомкнув уста, он удалился.
Отряженные брать Арсенал покинули таверну последними. Когда капитан Алатристе исчез за дверью, что было условным сигналом, мы, стараясь не привлекать внимания, парами или небольшими группами тоже потянулись к выходу. Первым тронулись Роке Паредес и четверо его людей, за ними — восьмерка Мануэла Мартиньо. Сохраняя полнейшую невозмутимость, встали вслед за своим старшим и удалились шведы, вскоре после того, как сделали это Пимьента, Хакета и Куартанет. Спустя некоторое время — Копонс и Зенаррузабейтия, а мы с Гурриато, оказавшись замыкающими, тоже вскоре оказались на улице, где с новой силой принялась кусать нас стужа. Оставив позади Мост Убийц и перейдя сперва каналы справа и слева путем, который двадцать раз изучали на плане, чтобы не плутать впотьмах в бесчисленных извивах и изгибах, вышли на длинную, узкую и темную улицу. И набережные, и гондолы по-прежнему укрывал снег, на мостах превратившийся в скользкий лед. Снег поскрипывал под моими башмаками с гетрами и под сапогами Гурриато-мавра, который шагал, завернувшись в свою синюю хламиду и надвинув капюшон. Я вспомнил о татуировке в виде креста у него на щеке и задумался о том, какие мысли о жизни и смерти роятся сейчас в его бритой голове. И позавидовал фатализму, с которым могатас принимал все, что ни посылала ему выбранная им судьба.
— Как ты там, мавр? Все в порядке?
— Уах.
Я охотно поболтал бы с ним еще — хоть полушепотом, — и прежде всего затем, чтобы избавиться от сосущей пустоты под ложечкой, но в нашем ремесле молчание ценилось много дороже слов. Говори, сказал какой-то философ, и я узнаю тебя. И потому я прикусил язык, чтоб не выглядеть жалко. Плачевней вид того, кто болтает, нежели того, кто хранит молчание, и мужчина должен быть подобен боевому коню, который горяч и ретив в скачке, а в стойле — смирен и покоен. И потому, хоть и шли мы с Гурриато рядом, но каждый был глубоко погружен в собственные мысли. Чтобы отвлечься от предстоящего — и неминуемого — я вспоминал Анхелику де Алькесар (хотя то была одна из тех ночей, когда мне казалось, что мы с моей возлюбленной пребываем в совсем разных мирах и она так далеко от меня и моей жизни, что, пожалуй, никогда и не вернется), или думал о злосчастной судьбе бедной служаночки Люциетты. А порою, обретая плоть в воображении моем, тянул ко мне лапы венецианский лев — раза два мне это уже снилось в последние ночи. Но коли выбирать все равно не приходилось, я старался утешаться старой солдатской поговоркой насчет того, что, мол, смерть гонится за тем, кто бежит от нее, но забывает про того, кто смело глядит ей в лицо… Когда мы проходили по-над каналами, я дрожал от холода и даже иногда стучал зубами, но, боясь, как бы мавр не истолковал это в нелестную для меня сторону, старался унять озноб, плотнее кутаясь в плащ. Когда же наш путь пролегал по мосту или по широкой улице, где было светлее — от факела ли над воротами, от фонаря, свечи или лампы за окном, — мне удавалось различить выделявшиеся на заснеженной земле темные силуэты моих сотоварищей, шедших впереди.
В ночи, где-то в отдалении, звонили колокола Сан-Марко.
— Еще полчаса, — сказал Малатеста.
По примыкающим к Мерсерии улицам народу ходило мало, однако снег был испещрен следами подошв, превративших его в каток. Факел освещал вход в узкую галерею, куда итальянец и вступил без колебаний. Диего Алатристе, бездумно шагавший по улице, последовал за ним. И едва не наткнулся на неразличимую в темноте фигуру своего спутника. Тот негромко стучал в какую-то дверь. Старуха в трауре отворила, и свеча у нее в руке озарила то, что было внутри. Судя по всему, они попали в кладовую какой-то съестной лавки: кругом тесно стояли мешки и бочки, свисали с потолка окорока и колбасы. Обменявшись с Малатестой несколькими словами по-итальянски, старуха воткнула свечу в шандал и удалилась, оставив их одних. Малатеста, сбросив шляпу, плащ и колет, отодвинул мешки и извлек из-за них ящик, где оказались одежда, вооружение и два блестящих латных ожерельника.
— Обернемся венецианцами, — сказал он.
Высвистывая свое излюбленное «тирури-та-та», он переоделся офицером, а Диего Алатристе тем временем спрашивал себя, чего здесь было больше — совершеннейшего равнодушия или желания испытать его, капитанову, честь. Сам он ограничился лишь тем, что сменил свой бурый грубошерстный плащ на зеленый, принятый у гвардии дожа. После краткого колебания решил все же отказаться от шитого офицерского колета, оставшись в своем кожаном, от которого проку и толку будет значительно больше, но все же надел зеленую перевязь и сверкавший полированной сталью ожерельник с изображением венецианского льва, полагавшийся заступавшим в караул. И, помимо пуффера со взведенным курком, сунул за пояс еще два пистолета, убедившись прежде, что они хорошо смазаны и заряжены. Весь этот тяжеловесный арсенал сковывал движения. Но действовал успокаивающе.
— Готов? — спросил Малатеста.
Губы его были механически растянуты в рассеянной улыбке. Он уже не насвистывал. Создавалось впечатление, что мысли его, каковы бы они ни были, существуют совершенно отдельно от этой улыбки. Алатристе отметил, что впервые видит итальянца не в черном с ног до головы. Теперь он казался неотличим от капитана гвардии дожа, и даже на шляпе у него, из-под которой сверкали чернейшие змеиные глаза, развевалось зеленое перо. И этот новый облик, заключил Алатристе, как, впрочем, и его собственный — шляпа, на которой он сменил перо, плащ и латный ожерельник, — наверняка позволит проделать в капелле Святого Петра необходимые двадцать шагов, прежде чем те, кто окажется к этому времени рядом и жив, успеют опомниться.
— Готов, — ответил капитан.
В тусклом свете изборожденное оспинами и шрамами лицо Малатесты напоминало лунную поверхность. Злобно-насмешливая улыбка уже исчезла. Темная впадина искривившегося рта.
— Все ясно?
Диего Алатристе кивнул, не разжимая губ. Ах вот, значит, как ведет себя итальянец перед делами подобного рода, подумал он, вглядываясь в давнего недруга. Он видел, как напряжено лицо, слышал хрипотцу его голоса — и все это с такого близкого расстояния, что, казалось, мог бы прикоснуться и к самым мыслям его. Ничего нового не узнал, сказал он себе, и разницы никакой. Я поступаю точно так же. Ну, разве что у итальянца наблюдается излишняя словоохотливость да вот эта совсем недавно исчезнувшая улыбка, от которой лицо становилось похоже на маску — так что же, такие у него особенности. И Гуальтерио Малатеста, хотя (как и все) тоже хочет жить, однако безропотно готов умереть (как очень немногие). И Диего Алатристе, машинально отметив все это для себя, словно бы потому, что подобные сведения могли пригодиться в будущем — если, конечно, предположить, что будет оно, будущее это, — перестал об этом думать. Не время было сейчас расхолаживать или, наоборот, греть, душу тем, что не имело отношения к предстоявшему в ближайшие минуты. И, бессознательно руководствуясь давним навыком ремесла, он размышлял, как обычно, о месте, об угрозе, о защите, о пути к отступлению. А когда будет пройдена точка, из которой еще можно повернуть назад, останется только слепо доверять всегдашним, привычным правилам. Железным правилам старого солдата. Холодному расчету.
— Тогда — за дело, — сказал Малатеста.
И, завернувшись в зеленые плащи, они плечом к плечу снова вышли на заснеженную улицу. С лагуны задувал студеный бриз, ледяной ветер кусал щеки, но Алатристе больше не обращал на это никакого внимания: внимательно вглядываясь в местность, подмечая малейшую подробность пейзажа, он под плащом ощупывал тот пистолет, который собирался выхватить первым; дотрагивался локтем до рукояти кинжала, убеждаясь, что легко и споро сможет достать его из ножен. И так вот, готовый к любой неожиданности, к любой угрозе, сосредоточившись на том, что каждый шаг приближает его к Сан-Марко, он вместе со своим спутником вступил на площадь Каноника — выбеленная мостовая, поседевшие от снега гривы мраморных львов справа, а прямо — мрачная громада собора, озаренная лишь расплывающимся в тумане пламенем двух факелов. Что бы ни было там, подумал капитан с вошедшим в привычку фатализмом, но уходить буду вот здесь. Да, придется, наверное, вновь пересечь площадь, но невредимым доберусь до улиц, что сейчас мы с Малатестой оставили позади. Уходить буду с ним или без него. Потом пять мостов налево до канала. Если переберусь на другой берег, шансы возрастут, пусть и ненамного. Я так думаю. Вернее, мне хочется так думать. По крайней мере, это позволит драться не очертя голову.
Во рту у него пересохло, язык стал как терка, так что, случись под рукой вино, капитан выпил бы единым духом пол-асумбре. Он скосил глаз на Малатесту, решительно шагавшего рядом, — мрачный профиль под низко надвинутой шляпой, подсвеченный факелами четкий силуэт на скрипевшем под ногами снегу. Итальянец извлек откуда-то из-под одежды большой ключ. Они уже подошли к зарешеченной калитке рядом с домом, вплотную примыкающим к северной оконечности поперечного нефа, когда вновь, совсем близко, а потому оглушающе, грянули колокола — и целая стая голубей, вспорхнув с балюстрад и карнизов собора, разлетелась в желтоватом сумраке во все стороны. В Сан-Марко начиналась заутреня.
В темноте, прижимаясь к стенам домов, соседних с собором Сан-Мартино, сторожко двигались двенадцать теней. И я был одной из них, и шел между Гурриато и каталонцем Жорже Куартанетом, а на некотором отдалении от нашего отряда подвигались шведы. Мы были уже в сотне шагов от ворот Арсенала. Снег позволял различить слева впереди темные очертания караульного помещения, известного под названием «кордегардия Сан-Марко», и перед ней — высокую мачту, на которой сейчас не было флага. Если напрячь зрение, можно было увидеть на нашем берегу канала одну из башен водных ворот Арсенала, открывавших судам доступ внутрь.
— Пошли, — сказал Себастьян Копонс.
Я, как и все остальные, раздел свою красавицу — то есть обнажил шпагу — и, по-прежнему хоронясь у стены, где мрак был гуще, прошел еще немного. Закинул полу плаща за левое плечо, чтобы не сковывал движений, и скрепил шнуром. Теперь под треугольным фронтоном отчетливо виднелись железные ворота Арсенала — черные на белом. Как мы и ожидали, они были открыты, и горевший внутри фонарь выхватывал из темноты полдесятка неподвижных фигур в плащах. Замысел состоял в том, что Маффио Сагодино со своими далматинскими наемниками будет ожидать нас у ворот и сопроводит внутрь. И он выполнил уговор, потому что вскоре я узнал его. Уже перестав таиться и оставив предосторожности, мы вышли на свет и поторопились пересечь плац перед Арсеналом. Напряжение было велико, и, прибавив шагу, я поравнялся с Копонсом. А за спиной слышал размеренное глубокое дыхание Гурриато-мавра, который шел за мной по пятам. Я уже упомянул, что напряжен был, как пружина арбалета, и готов к неминуемой схватке, и чувствовал, как с каждой минутой все сильней бьется сердце, заставляя кровь стучать в висках и на запястьях. Но при этом, будучи малым обстрелянным и ушлым, старался, чтобы котелок не раскалялся чересчур, а варил исправно, и был внимателен и осмотрителен на предмет того, не хочет ли кто на свой манер поздравить нас с добрым утром. Ибо нет худа в том, что внимательно смотришь, куда ставишь ногу, и даже в самом героическом порыве не забываешь о благоразумии. Может быть, как раз потому, что исполнял это правило, и заметил я, проходя в ворота, что-то не то. На первый взгляд все было как должно, и капитан Сагодино ждал на том месте и в то время, как условились, но одна подробность вдруг вселила в меня беспокойство: сам Сагодино был с непокрытой головой и безоружен, зато стоявшие вокруг него люди держали в руках шпаги, алебарды и аркебузы с дымившимися фитилями. При свете фонаря я смог получше разглядеть бородатое лицо Маффио Сагодино и пришел к выводу, что лицо это не сияло от радости встречи. Наоборот, оно было все как-то судорожно перекривлено и не изменило выражения, когда мы подошли поближе. Мурашки побежали у меня по хребту.
— Засада, — прошептал я. — Продали нас.
Я произнес эти слова очень тихо и не останавливаясь. И продолжая еще думать, так ли это. Копонс, пока переваривал новость, тоже успел сделать два шага. Но вот осознал, остановился и выругался кратко, но забористо.
Я оглянулся назад и налево. Берег канала, окружавшего Арсенал, тонул во тьме и потому предлагал нам укрытие. На миг я засомневался, стоит ли, напряг мозги, потому что в подобных переделках самое главное — не наломать дров. Итак, выбор был таков: крикнуть ли, предупреждая товарищей, или броситься опрометью прочь, авось сами сообразят, что это значит, ибо молчание, как уж не раз повторялось, — золото. Но выбор за меня сделала с грохотом распахнувшаяся дверь в кордегардию, откуда выскочила целая орава с фонарями, оружием и громогласными криками. Одновременно Сагодино отступил назад, а на нас кинулись с алебардами наперевес его люди, а им на помощь из ворот Арсенала вынеслось еще не меньше взвода солдат. Тут я припомнил и применил к делу поговорку «Давай Бог ноги» — и с заячьим проворством помчался на берег канала, под спасительную сень темноты, а за мной — Копонс, Гурриато и Куартенет, которым не то что дважды не пришлось повторять, но и одного раза не потребовалось. Оглянувшись на бегу через плечо, я еще успел увидеть, как в пляшущем свете факелов сверкает сталь клинков, как режут, будто бессловесную скотину, шведов и хватают израненного Зенаррузабейтию, меж тем как Пимьента и Хакета в плотном кольце наседающих врагов стараются продать жизнь подороже.
Бам! Бам! З-з-зык. Грохнуло позади, и пули просвистели над нашими головами или звонко щелкнули о кирпич фасадов, а между одним выстрелом и другим слышен был лишь топот наших ног по заснеженной мостовой. Мы — четверо, сумевшие вырваться, — мчались молча, не тратя силы на слова. Бежали, спасая жизнь, позабыв обо всем, что не имело прямого касательства к этой цели. А я — со шпагой в руке — бежал первым и был уверен, что если, не отклоняясь, двигаться вдоль канала, то непременно достигнем северных городских причалов, а вот если возьмем в сторону — обязательно заплутаем в лабиринте улочек и переулков, откуда не выберемся никогда. Так обстояли — да не обстояли, а летели во весь дух, — дела, когда я увидел, что совсем близко от нас на мосту через канал вынырнули из темноты несколько темных фигур, четко выделявшихся на снегу.
Было их человек пять или шесть, и они явно намеревались отрезать нам путь к отступлению. А может быть, это был патруль, который, заслышав стрельбу, поспешил к месту происшествия и никак не ожидал, что столкнется с нами нос к носу. Так или иначе, но мы молча и с ходу, почти не останавливаясь, смяли их, словно вырвавшиеся из загона быки. Кругом только и слышались лязг, свист и звон клинков, стоны и проклятья. Да, так вот, почти не останавливаясь, я с такой силой, что чуть не вывихнул себе плечо, сделал выпад, адресованный тому, кто оказался у меня на пути. И, морщась от боли, высвободил лезвие, а мой противник — я видел лишь бесформенный силуэт с поблескивавшей в руке полоской стали — опрокинулся в канал, вереща, как зарезанный хряк. Чуть за собой меня не утянул, гад такой. Я перехватил шпагу и обернулся к другому, который вцепился в меня и тыкал клинком, однако оказался так близко и действовал так неуклюже, что Господь меня упас, и все удары приходились в свернутый вдвое плащ у меня на плече. Улучив момент, я хватил его эфесом — от души, надо признаться, хватил, потом еще и еще, и то ли на третий, то ли на четвертый раз что-то хрустнуло — (уж не знаю, кости или сломанные зубы), — и мой противник, словно подавившись чем-то, сложился вдвое, как в приступе рвоты, и мешком осел наземь. Я для верности сверху гвозданул его еще раз — раздался стон, протяжный и какой-то, что ли, утомленный: не иначе как это душа расставалась с телом — перепрыгнул через распростертое тело и опять припустил по белому берегу, окаймлявшему черную воду канала, и на бегу растирал пострадавшую руку. Легкие мои к этому времени горели так, словно ледяной воздух их царапал. Мои товарищи бежали следом по-прежнему молча — только Куартанет, которого слегка распороли на мосту, бормотал страшнейшие ругательства, то и дело оскальзываясь и спотыкаясь на снегу.
Гурриато попытался как-то ему помочь, но ничего не получалось: бежать каталонцу становилось все труднее, он потерял много крови и задыхался, а мавру надо было позаботиться и о себе самом. «Спасайся кто может», — таков уж закон подобных стычек, и старый солдат Куартанет знал это как никто. И потому упреков от него мы не услышали. Он даже не попросил, чтобы мы убавили рыси и подождали его. Последнее, что я слышал, — сдавленный стон сквозь зубы и смиренная матерщина. Потом звук его шагов, замедлявшихся с каждой минутой, стал отдаляться и вот затих позади. Больше мы нашего каталонца никогда не видели.
Гуальтерио Малатеста повернул ключ в замочной скважине. Толкнул дверь, и она бесшумно отворилась на хорошо смазанных петлях, а за ней в обрамлении светло-русых усов и бородки обнаружилась улыбка Лоренцо Фальеро.
— Benvenuti[199], — сказал венецианец.
В одной руке он держал шпагу, в другой — глухой фонарь, и в скудном свете его блестела и сверкала сталь, представленная изобильно и разнообразно — за спиной капитана Фальеро, занимая все помещение, толпилось человек двадцать готовых к бою солдат.
— Arrendetevi, — прибавил он. — E consegnate le armi[200].
Диего Алатристе даже не попытался оценить ситуацию: времени на размышления не было, а на тонкой грани между жизнью и смертью такие роскошества могут стоить мыслителю головы. С молниеносной быстротой он, сам не осмысляя свои действия, выхватил кинжал, рукоять которого давно уже поглаживал пальцами, и из-за плеча Малатесты слева направо полоснул венецианца по горлу. Почти одновременно в другой руке у него оказался пистолет с колесцовым замком — и капитан выстрелил, не целясь, в толпу (Малатеста вздрогнул и втянул голову в плечи от раздавшегося над самым ухом грохота), потом повернулся и бегом бросился прочь. Последнее, что он успел увидеть при вспышке, были улыбка Фальеро, внезапно сменившаяся гримасой изумления, испуг в его глазах и струя крови, ударившая из перерезанного горла прямо в лицо Малатесты.
Капитану некогда было думать, вступил ли его спутник в сговор с венецианцами или все же оставался на его стороне. Будет еще время выяснить это — в том случае, если умудрится выжить. В следующее мгновение он уже мчался по площади Каноника, чтобы юркнуть в спасительную темноту одной из окрестных улочек. Разряженный пистолет отшвырнул, облегчая себе движения, кинжалом перехватил шнуры плаща и дал ему соскользнуть с плеч. За спиной он слышал крики и топот и не знал, кто догоняет его — приспешники Фальеро или Малатеста, как не знал, удирает ли итальянец или преследует его с ними заодно. Так или иначе, он отказался от мысли выхватить второй пистолет, повернуться вполоборота и выстрелить еще раз. Капитан потерял бы на этом еще толику драгоценного времени, меж тем как задача была — оторваться от преследователей и затеряться во тьме. Добежав до первого переулка, он услышал в отдалении, по другую сторону собора Сан-Марко, многоголосый крик и аркебузную пальбу и понял, что у ворот Дворца дожей добивают несчастного Мануэла Мартиньо де Аркаду и его людей, — и тотчас забыл об этом.
Выскочив с другого конца галереи, он на миг остановился, озираясь по сторонам и одновременно стараясь собрать хладнокровие и разобраться в обстановке. Спрятал кинжал в ножны, задумался о более насущном. План Венеции крепко врезался в его память, что в этом путаном городе, да еще в сумерках, не давало никаких гарантий. По его расчетам, следовало держаться западного крыла собора Сан-Марко, обойти его и идти, никуда не сворачивая, налево, и, миновав пять мостов через пять маленьких каналов, выйти к Гран-Канале, к тому месту, где должна была бы — он теперь уже ни в чем не был уверен — ждать гондола, которая доставит их с Малатестой на другой берег, туда, где — опять же, как предполагалось — их возьмет на борт контрабандист Паолуччо Маломбра.
Капитан резко обернулся, заслышав быстрые шаги в другом конце галереи. Вгляделся, никого не увидел, но рассудил, что надо задать острастку тому, кто это был — да кто бы ни был. И потому вытащил пистолет, навел его, зажмурился, чтобы в темноте не ослепила вспышка выстрела, — и спустил курок. Вслед за тем, не дожидаясь результатов, отбросил оружие и вновь припустил бегом. Пересек мост и в освещенном окне углового дома увидел лицо какого-то человека, который тотчас испуганно отпрянул, когда капитан тенью скользнул мимо. Алатристе, кстати, представлявший собой отличную мишень для людей, знакомых с огнестрельным оружием, бежал ровной и скорой солдатской рысцой, старался рачительно расходовать силы и не поскользнуться на утоптанном снегу. Небо, нависавшее над гребнями крыш, по-прежнему было черным и хмурым, без намека на луну. По счастью, белый покров на мостовой высвечивал очертания зданий, позволял определиться на местности. Пройдя второй мост, Алатристе снова остановился на миг перевести дух и тем самым опять рисковал попасться преследователям, но на этот раз все было тихо. Здесь, под защитой домов, воздух был неподвижен, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Капитан отстегнул стальной ожерельник, швырнул его в воду, дождался, когда сердце перестанет колотиться так отчаянно. Хотя он был без плаща — да и шляпу обронил где-то на бегу, — но весь в поту от долгого бега: рубаха под кожаным колетом вымокла насквозь. При каждом выдохе изо рта шел такой густой пар, что казалось, будто капитан выпускает клубы табачного дыма.
Алатристе, по-прежнему двигаясь от Сан-Марко влево, одолел еще два моста и зашагал по берегу узкого канала со множеством привязанных и заснеженных гондол. И вот наконец, пройдя между церковью и каким-то палаццо с освещенными окнами, мимо которых постарался проскочить незаметно, он увидел перед собой черную ширь Гран-Канале, и дувший с него холодный ветер заледенил его влажную рубаху. Капитан помнил, что гондольер должен ждать у причала Сан-Мойзес, на другом берегу канала с тем же названием. Держась как можно ближе к стенам, Алатристе миновал церковь, убедился, что за ним никто не следует, прошел наконец через последний мост и на первом перекрестке свернул налево. К причалу он подходил осторожно, как травленый недоверчивый волк, и старался ступать бесшумно, ставя ногу сперва на пятку. Причал был пуст: ни гондолы, ни гондольера. Теперь он не бежал, а шел спокойным шагом, и вскоре его стала бить дрожь — и впервые за все это время он хватился плаща, сброшенного еще на площади Каноника, и выругался. Не венецианцы прикончат, так горячка доконает, думал он. Но при этом чутко ловил каждый звук, раздававшийся позади него. И вот наконец услышал шаги. Кто-то шел за ним.
Да к черту все, заключил он. Слишком я устал, чтобы опять бегать, тем более что бежать-то уж больше некуда — вот он, причал Сан-Мойзес. Все равно, обычный ли это прохожий или враг, преследующий по пятам, — участь его решена. А если их целая компания, то первый, кто сунется, заплатит за всех. Пусть потом Бог или сатана разбираются. С этими мыслями капитан прислонился спиной к стене, обнажил кинжал, а другой рукой, заведя ее за спину, достал пистолет, предварительно взведя курок — причем бесшумно, поскольку он был прижат к копчику. Алатристе старался дышать глубоко и ровно, чтобы стук крови в висках не нарушал приличествующей случаю тишины. У выхода из арки негромко заскрипел снег. Шаг. Другой. А когда на третий в полумраке обрисовалась чья-то фигура с отчетливо видной на белом фоне шпагой, Алатристе вытянул руку и приставил дуло ко лбу незнакомца. И тотчас услышал скрипучий смех Гуальтерио Малатесты:
— Дурака не валяй, капитан… Сбереги заряд. Эта штука чересчур громогласна, а шум нам сейчас нужен меньше всего.
Вознесенные к небу над переплетением голых ветвей, чернели в ночи стены и звонница обители Сан-Франческо-делла-Винья. Из отряда Роке Паредеса, отправленного в еврейский квартал, пока не появился никто. На корточках у монастырской ограды сидели только мы трое — Копонс, Гурриато и я, — тяжело дышали и прикидывали, как бы нам половчее одолеть последний отрезок нашего пути — стену с портиком, которая вела на скалистый берег лагуны, сужавшейся в точке под названием «Челестия». Оттуда, где мы находились, не видно было ничего, кроме темной линии стены и этого самого портика. Но раньше мы уже обследовали местность — и при дневном свете, и ночью. И знали, что стражники там имеются, потому что как раз в этой точке взимали пошлину с товаров, доставляемых с материка, но те четверо-пятеро служивых, которые обычно несут там караул, озабочены сильнее тем, как бы побольше содрать с владельцев баркасов и контрабандистов, нежели тем, что творится за береговой линией. Зато не знали мы и не ведали, не переменили ли события этой ночи, так сказать, диспозицию, не был ли гарнизон усилен и не сыграли ль там тревогу, и наконец, будет ли ждать нас Паолуччо Маломбра в условленном месте или же мы не обнаружим, дойдя, ничего, кроме скал, моря и тьмы. И разрешить три эти сомнения нельзя было иначе, как стронувшись наконец с места.
— Ладно, — сказал Копонс. — Рассиживаться нечего.
Мы — у каждого в руке блестел обнаженный клинок — отделились от стены. Условились, что, когда подберемся вплотную, я пойду вперед один, потому что лучше всех говорю по-итальянски, а два вовремя и уместно сказанных слова позволят отвлечь внимание стражи, а нам — вырезать их всех до единого. Потому что, если хоть один уцелеет и поднимет тревогу, нас просто в пыль разотрут.
— Вон они, — прошептал я.
На белом снегу чернели четыре бесформенные фигуры: две стояли у стены, две склонились над жаровней, откуда ветер с лагуны рассыпал искры. Я опустил закинутую на плечо полу плаща, чтобы скрыть мой арсенал: шпагу, которая могла не столько пригодиться, сколько помешать в схватке нос к носу и впотьмах, я спрятал в ножны, а кинжал, наоборот, обнажил. Потом вышел из темноты и с самым безразличным видом направился к караулке. Или делая вид, что вид мой — безразличен. Впрочем, это было не вполне притворство, ибо, как сказал Кальдерон де ла Барка:
Отнюдь не мужеством порождено Последствие решительного шага. Чтоб умереть — потребна не отвага, Но лишь отчаянье одно.Но с каждым следующим шагом кровь все сильнее стучала в висках — так что шум и звон в ушах заглушали и посвист ветра, и рокот прибоя. Спокойно, повторяло мне что-то внутри меня. Речь о твоей жизни. И все должно произойти безо всякого шума.
— Buonnanotte, — очень непринужденно приветствовал я караульных.
— Cosa vuo[201]… — грубо начал один из них, делая шаг от стены.
И осекся, потому что я, левой рукой отмерив разделявшее нас расстояние, правой — по рукоять всадил ему в сонную артерию кинжал. Часовой издал какое-то невнятное бульканье, словно выдыхаемый им воздух вдруг сделался жидким: он еще стоял на ногах, хрипя и покачиваясь, как пьяный, а слева и справа от меня мелькнули быстрые тени — Копонс и Гурриато бросились на остальных. Зачавкала разрезаемая плоть, раздались глухие стоны; меж тем я высвободил лезвие кинжала, и часовой повалился к моим ногам. Я перепрыгнул через его распростертое тело и, уже разгорячась от схватки, подскочил к тому, который сидел перед искрящей жаровней и теперь вставал на ноги. Намерения мои совпали с мавровыми: Гурриато уже разделался еще с одним караульным, прямым сообщением отправив его на тот свет. И мы вдвоем набросились на солдата, свалив его наземь: я плащом старался заглушить его крики, покуда мавр проворно, как хорошая швея иглой, орудовал кинжалом. Только и слышалось нескончаемое «чак-чак-чак-чак». Несчастный наконец перестал содрогаться, так и не успев произнести вслух ни слова. Потом опять стало тихо, и теперь слышались лишь шум ветра да плеск воды в лагуне. Переводя дух, мы посидели минутку неподвижно. Потом я, уж как мог, постарался вытереть об одежду убитого руки, покрытые липкой теплой кровью, и поднялся на ноги. Себастьян Копонс гасил жаровню, пригоршнями бросая в нее снег.
— Целы оба? — спросил он.
Отрывистый стон, изданный Гурриато, послужил доказательством, что — нет, не оба и не вполне. Первый противник, оказавшийся проворней остальных, успел перед смертью сунуть навалившемуся на него мавру полпяди стали под ребро. Пустяки, царапина, ничего серьезного, скрежеща зубами, объяснил нам Гурриато после того, как пальцем определил величину ущерба. Тем не менее рана мешала двигаться и дышать. Мы, как смогли, зажали ее, уняли кровь и перевязали пострадавший бок холстинкой, которую на подобный случай носили в походных сумках. Мавр держался молодцом и без нашей помощи сумел пройти за караулку на берег, покрытый заснеженной галькой.
— Шевелись, шевелись, чтоб вас… — поторапливал Копонс.
Студеный солоноватый воздух, пахнувший плесенью, тиной, водорослями, прочистил мне глаза, проветрил мозги, заморозил мокрый снег на моей одежде и остававшуюся у меня на руках кровь убитого венецианца, которая смешалась с кровью Гурриато. Перед нашими глазами расстилалась обширная пустынная гладь непроглядно-черной лагуны — лишь когда накатывал прибой, становилась видна слабо фосфоресцирующая пена. Снег выделял в темноте береговую линию, которая по кривой уходила вдаль и терялась где-то у темной громады Арсенала. В последний раз я глянул в сторону Сан-Франческо-делла-Винья — не появятся ли оттуда люди Роке Паредеса, хоть и знал, что не придет никто.
— Живей, живей!
Мы снова припустили бегом — на этот раз хрустя подошвами сапог по гальке под снегом. Я все еще сжимал кинжал в сведенной от напряжения и неопределенности руке и спрашивал себя, выполнят ли люди Паолуччо Маломбра условие договора. Признаюсь, тревожно становилось от мысли, что отступать нам будет некуда и нас бросят на произвол судьбы в чужом и враждебном городе, путь по которому мы отмечали вехами трупов.
— Драть меня в лоб! — вскричал вдруг Себастьян Копонс.
Я удивился — в голосе арагонца звучало несвойственное ему волнение. Огляделся, не зная, то ли встревожиться еще пуще, то ли обрести надежду в этом. Челестия все больше сужалась к своей оконечности, пока не упиралась в скалистый мыс, годный служить причалом. И вот там, на краю заснеженного пляжа, я сумел различить смутный силуэт — покачивался на мелкой зыби парусник с потушенными огнями.
— Наши? — спросил я.
— А чьи же? Бери его, пошли дальше.
Успокоенный и счастливый, я ухватил мавра под руку, помогая ему одолеть последний отрезок пути. И только тогда, очнувшись от себялюбивой радости выжившего, впервые задумался о том, что же уготовила судьба капитану Алатристе.
— …Такое мое мнение, — окончил свой рассказ Гуальтерио Малатеста. — Фальеро продал нас всех. Может быть, его разоблачили, и он не захотел ни дыбы, ни кобылы, а может быть, с самого начала водил нас за нос.
— Я думал, он твой родственник.
— Так оно и есть. Но сам видишь, — в нынешние времена это мало что значит.
Диего Алатристе улыбнулся. Так же, как Малатеста, он бесплотной, едва различимой в темноте тенью маячил у стены возле причала Сан-Мойзе.
— И потом, — добавил итальянец, — есть в этой истории такое, чего мы не узнаем никогда.
Перед ними за пустынным причалом и торчавшими из воды деревянными сваями с горками снега на верхушках тянулась широкая черная полоса Гран-Канале, который разделял надвое бесформенное темное пятно домов по обоим берегам.
— Сказать по совести, — признался Алатристе, — были у меня подозрения и на твой счет.
Сперва послышался гортанный клекот, а потом скрипучий смех:
— Не без оснований, полагаю. Получи я выгодное предложение, мне не составило бы труда переметнуться на ту сторону… И бедняга Лорензаччо сделал ошибку, не поговорив со мной доверительно по этому поводу. Наверное, счел меня порядочней, чем я есть на самом деле.
— Надеюсь, этой сволочи уже нет на свете.
— О-о, вот уж в чем у меня нет ни малейших сомнений… Ты же у меня на глазах рассек ему горло… Прореха была длиной чуть не в пядь. — Кровь хлестанула такой струей, что попала мне в лицо.
И с этими словами Малатеста решился шагнуть из арки, где они с капитаном стояли притаясь, и пойти на разведку. Капитан шел следом, внимательно вглядываясь в берег канала. Лишь кое-где светились окна, и вокруг царило полное безлюдье. И спокойствие.
— Ты хорошо выступил, — продолжал итальянец. — Даже я не сумел бы так споро управиться с кинжалом… И выпалил тоже очень вовремя. Те, кто был внутри, малость оторопели и дали нам возможность убраться. В том лишь могу тебя упрекнуть, что ты выстрелил мне над самым ухом и совершенно неожиданно. Черт возьми! Правое ухо у меня теперь как барабан продырявленный.
Они шли теперь очень близко, соприкасаясь плечами, старались держаться там, где потемней, и ловили каждый шорох за спиной. Ежась от ледяного ветра, задувавшего над каналом, Алатристе снова пожалел, что, убегая, сбросил плащ. Он так прозяб в еще не просохшей от пота рубахе под кожаным колетом, что временами его начинал бить озноб. Но тут уж ничего не попишешь, с неизбывным своим фатализмом заключил он. И во всяком случае, лучше дрожать от холода, чем валяться в снегу с потрохами наружу и не чувствовать вообще ничего.
— Я слышал, что там случилось во дворце дожа с Мартиньо де Аркадой и его людьми, — сказал он.
— Я тоже слышал… Что ж, не повезло.
Алатристе почувствовал, как что-то кольнуло его в душе. Приложил усилия, чтобы отогнать мысли, теснившиеся в голове. Не видеть лица друзей, чья судьба неведома. И это ему удалось. Не время сейчас было для этого, нельзя допустить, чтобы что-то застилало взор и заставляло сердце биться учащенно. Не те обстоятельства, да и спутник не тот — он хоть и был сейчас заодно с Гуальтерио Малатестой, так и не научился доверять ему.
— Остальные тоже, наверно, перебиты, — проговорил он задумчиво. — И те, что пошли брать Арсенал, и те, что должны были сжечь еврейский квартал.
Итальянец с полнейшим равнодушием дал понять, что разделяет это мнение. Здесь, в Венеции, сказал он, ни черта не вышло. И если сейчас кто-нибудь еще, кроме них двоих, остался жив, он сейчас мертвым позавидует.
— Я бы не хотел познакомиться со здешними застенками. По горло сыт тем, что выпало на мою долю в Мадриде… мне вот так хватило.
Он остановился посреди причала — темный силуэт четко вырисовывался на белом фоне, — покуда Алатристе оглядывал окрестности. Поблизости не было ни гондолы, ни гондольера, и канал в этом месте расширялся — посуху не обойдешь. Пройти можно было только по мосту Риальто, а он был, во-первых, далеко, а во-вторых, наверняка взят под плотное наблюдение. Разглядывая тонувшие в полумраке дома, капитан неожиданно подумал о донне Ливии Тальяпьере. Любопытно, что с ней сейчас. Хотелось бы также знать, в какой разряд попала куртизанка — к преданным или к предателям.
— Завтра весь город зажужжит, как потревоженный пчелиный рой, — сказал Малатеста, вернувшись с причала. — Представь, как венецианцы будут потирать руки, когда власти потребуют объяснений у испанского посла, а скольких-то твоих соотечественников повесят между колоннами Сан-Марко или отправят в руки палачей. — Он повел вокруг подозрительным взглядом. — Так что постараемся не попасть в их число.
— Все может выйти и по-другому, — ответил Алатристе.
— Это как же?
— Втихомолку.
— С чего ты это взял?
— Да ни с чего. Так просто… Однако же все происходит очень уж незаметно. Не находишь? Вся Венеция сейчас должна быть перевернута вверх тормашками, а тут — сам видишь… Полное спокойствие. Разве что дож подвергался нешуточной опасности. И все на этом. За нами с тобой должны бы сейчас гоняться сотни людей — и что? И ничего. Как будто сочли, что мы не представляем опасности.
Наступило молчание. Малатеста, судя по всему, осмыслял услышанное.
— Или не хотят шум поднимать?
— Похоже на то.
— Гм… Занятно.
Теперь они шли от Сан-Мойзе по мрачным и пустынным улочкам, стараясь неуклонно забирать влево, чтобы не удаляться от Гран-Канале.
— Тут недавно мне рассказали кое-что… а смысл этого я уразумел только сейчас, — сказал Алатристе, когда они переходили через мост. — Герцог Винченцо при смерти. Наследника нет. Не исключено, что испанские войска из Милана двинутся на Мантую и Монферрато и займут их.
— А это может грозить войной с Савойей и с Францией… И очень сильно разозлит папу римского. Так?
— Может, и так.
Малатеста очень тихо высвистал свое «тирури-та-та» и следующие несколько шагов сделал в молчании. Было видно, что капитан дал ему обильную пищу для размышлений.
— А это нежданным образом оттесняет венецианские дела на дальний план, — наконец высказался он. — Более того, они создают помеху…
— Да, мне тоже так кажется. Если встревать, значит, придется перебрасывать сюда войска, нужные в другом месте. Откусывать надо не больше, чем можешь проглотить, а не то подавишься… Выйдет скандал на всю Италию и на всю Европу.
Итальянец вдруг застыл на месте, словно не веря собственным ушам:
— Хочешь сказать, нас свои же предали? Испанцы? Граф-герцог? Посол? Что сюда не направляются галеры с солдатами его католического величества?
— Ничего я не хочу сказать… По части предательств это ты у нас великий дока.
Снова наступила тишина, нарушаемая журчанием — Малатеста мочился на снег.
— Ты прав! Клянусь Мадонной, ты прав.
Они вновь пустились в путь по переулку — такому узкому, что идти можно было только гуськом. Алатристе посторонился, пропуская итальянца вперед. Даже в таких обстоятельствах он не желал подставлять тому спину.
— Удивил ты меня, сеньор капитан, — сказал тот, не оборачиваясь и продолжая идти. — Вот не знал, что ты так хорошо разбираешься в канцелярских хитросплетениях.
— Теперь будешь знать. Поневоле поднатореешь, когда до петли доходит.
Итальянец мрачно рассмеялся:
— Да, ты прав. Удар мог быть направлен именно оттуда. Цена смехотворная… Неужто нельзя пожертвовать такой малостью, как двадцать безымянных солдат, чтобы утихомирить венецианцев и свести первоначальный замысел к нулю? Представят дело как заговор кучки авантюристов — и точка.
Миновав два моста, они вновь вышли теперь на берег Гран-Канала. На этот раз обследовать местность отправился капитан. Если он правильно запомнил план Венеции, то сейчас они должны находиться где-то неподалеку от причала Санта-Мария-Дзобениго. Эта церковь осталась позади, на краю маленькой площади, прямоугольной и белой, как простыня.
— И дон Бальтасар Толедо не мог выбрать лучшего времени для своей болезни, если, конечно, поверить, что болезнь эта — истинная, а не дипломатическая, — говорил Алатристе, оглядываясь по сторонам. — Таким образом, вне игры оказалась единственная в заговоре фигура высокого ранга и немалого веса. А в командиры вышли мы с тобой. Готовые висельники.
Раздался сдержанный скрипучий смех Малатесты:
— Отребье. Шелупонь.
— Именно.
— Никому не ведомый солдат и наемный убийца.
Алатристе на последнем слове воздел указательный палец:
— …который однажды уже покушался на некую августейшую особу.
— Ага… Лихо придумано. Козлы мы с тобой, капитан… Козлы отпущения.
С этими словами Малатеста приблизился к капитану и стал рядом, тоже озираясь кругом. Черты его едва угадывались в бледном свечении снега. Но в глазах, горевших из-под шляпы, казалось, собственным огнем, читалось едва ли не удовольствие от того, в какое положение они с Алатристе попали. Ты да я, говорили они. Надо же было столько лет резаться друг с другом, чтобы наконец вляпаться в одно и то же дерьмо.
— Ладно… Тут уж ничего не попишешь. Как говорится, не тот предаст, так этот.
Произнеся с залихватским безразличием эту тираду, итальянец сделал два шага к причалу.
— Главное — что мы пока живы и на свободе, — прибавил он. — И если глаза меня не обманывают в этой темнотище, вон там я вижу баркас, который просто молит, чтобы кто-нибудь поднялся к нему на борт.
Диего Алатристе с надеждой взглянул в ту сторону, куда указывал Малатеста:
— Может быть, это наша гондола?
— Не похоже. Это — са́ндало, и к тому же вокруг ничего другого не видать… Ты весло от уключины отличаешь? Нет? Я тоже. Самое время научиться.
— А если там, под одеялами, спит лодочник?
— Тогда я ему от души соболезную… Но не тот сегодня день, чтобы оставлять свидетелей.
— Неужели загубишь христианскую душу? — глумливо осведомился Алатристе. — И свою заодно? Да еще в Рождество?! А ведь когда-то в Палермо на мессе прислуживал…
— Отвали, капитан.
Ни в самой лодке, ни около не обнаружилось никого. Все дальнейшее происходило в полной тишине. Или почти полной. И немало лет спустя Алатристе будет явственно помнить стук весла, которым итальянец оттолкнул от причала заснеженную лодку. В памяти навсегда сохранятся и стужа, и пляшущие в черной воде отражения далеких разрозненных огней, и то, как они, раскачивая лодку, неуклюже ворочая веслом, выгребали на середину канала, а потом с превеликими трудами зигзагами добрались все же до противоположного берега. И ту минуту напряжения, когда крупная, освещенная желтым светом фонаря каорлина под яростные крики гребцов, крывших их на венецианском диалекте на чем свет стоит, едва не врезалась им в борт. Но вот наконец толчок — и са́ндало ткнулся носом в камень на другом берегу, потом ступени, поросшие зеленым мхом, на котором Алатристе, ступив на сушу, едва не поскользнулся. Заснеженный безлюдный берег канала через два моста привел их в ту точку, откуда по прямой они добрались до малой верфи и со шпагами наголо бесшумными тенями скользнули под черный деревянный навес, и там, в окружении строящихся гондол обнаружили Паолуччо Маломбру, благостно сидевшего перед жаровней, с кривым кинжалом за поясом, с бурдючком вина под рукой — и с улыбкой от одного густого бакенбарда до другого. Он курил глиняную трубку, и ароматный дымок смешивался с запахами краски, клея и смолы. Ну-ну, подумал Алатристе, пряча в ножны шпагу и кинжал, может, все же не здесь подохнем.
X. Остров скелетов
Рыбачий парусный баркас, из тех, что в Венеции называются «брагоццо», — медленно скользил по каналу, подгоняемый западным ветром, рассеявшим последние клочья тумана. Его сменила слабая дымка, оседавшая вдоль берегов островка, где сочетание ледяного дождя, облаков и пепельных рассветных сумерек то и дело заставляло серый воздух переливаться всеми цветами спектра. Гнетущим унынием веяло от голых стен старинного разрушенного монастыря, от видневшихся повсюду — меж камней, кустов, деревьев и мокрых от дождя зарослей тростника — костей, чуть присыпанных землей. Если не считать парусный баркас, лавировавший среди маленьких островков и песчаных отмелей, всего живого там была только наша дрожащая от холода, вымокшая от измороси троица, которая сидела у полуразваленной стены в ожидании.
— Это Диего, — сказал Себастьян Копонс.
Я вложил в ножны шпагу, которую вытащил было при виде паруса, плотнее закутался в плащ и пошел к берегу, чувствуя, что от радости сердце у меня так и прыгает. До той минуты — и пока плыли от Челестии, и пока зябли, неведомо чего дожидаясь, здесь, на островке Сан-Ариано, где разливался над лагуной грязноватый свет зари, — я пребывал в уверенности, что никогда больше не увижу капитана Алатристе. Однако же вот он, бывший мой хозяин, — без шляпы и без плаща, в старом кожаном колете, блестящем от воды, с пистолетом, кинжалом и шпагой у пояса — спрыгивает с баркаса на полусгнившие доски причала, едва лишь матросы убрали паруса.
— Иньиго, — сказал он.
Хрипловатый голос звучал удивленно, словно на самом деле капитан не думал меня встретить. Я остановился, ожидая, когда он приблизится, и вглядываясь в его лицо, на котором так явственно проступили следы усталости — лиловатые подглазья, покрасневшие веки. От дождя усы обвисли, волосы прилипли ко лбу. Шагал он как-то неуклюже, скованно — вероятно, руки и ноги одеревенели от стужи и долгой неподвижности. Бросалось в глаза, что ночка у него выдалась такая же веселая, как и у нас. Вероятно, и я, хоть и молод был, выглядел в ту минуту не лучше.
— Кто здесь с тобой? — спросил капитан после того, как мы обнялись, причем меня обдало запахом немытого тела, железа, кожи, въевшейся в одежду сырости.
— Себастьян и Гурриато-мавр.
Хотя мы уже отстранились друг от друга, я почувствовал, как он вздрогнул.
— И больше никого?
— Никого.
Капитан обнялся с Копонсом, который подошел к нему следом за мной, и взглянул на Гурриато, лежавшего у полуразрушенной стены.
— Тяжело?
— Нет, пустяк, — ответил арагонец. — Обойдется. Если сумеем убраться отсюда вовремя.
Оба направились к раненому, а я уставился на человека, приплывшего вместе с капитаном. На причале стоял Гуальтерио Малатеста в зеленом плаще и форменной шляпе гвардейцев дожа. Баркас за его спиной, подняв оба паруса, уходил по каналу прочь.
— А-а, вот и ты, мальчуган… Рад, что тоже сумел унести ноги.
— Вас только двое?
— Да. Капитан и я.
— А что с остальными?
— Понятия не имею. Там, наверное, остались. Мы ушли последними.
От этих слов сердце у меня сжалось. Я вспомнил Роке Паредеса и его людей, португальца Мануэла Мартиньо де Аркаду — всегда погруженный в меланхолию, он словно предчувствовал свой удел, — вспомнил Куартанета, Пимьенту, Хакету. И пятерых шведов-подрывников, с которыми не успел и словом перемолвиться. Слишком много товарищей потеряно за одну только ночь. Слишком очевидна измена, слишком сокрушителен провал.
— И вы?
В наведенных на меня опасных глазах явственно читалась насмешка:
— А что я?
При этих словах я моргнул, и под его стрижеными усами на лице, покрытом оспинами и шрамами и давно уже требовавшем вмешательства бритвы, появилась улыбка.
— Прикажете списать на чистую случайность то, что остались живы и на свободе? — многозначительно сказал я.
— Разумеется.
Он продолжал глядеть на меня с издевательским любопытством. Потом, вздернув подбородок, показал на капитана Алатристе и добавил:
— Как и он.
Заскрипели доски причала: итальянец отошел от берега и от меня. Я двинулся следом и заметил, что он смотрит по сторонам, оглядывая развалины монастыря, туман, стелившийся у самой земли, где сразу таял мокрый снег, падавший из низких свинцовых туч, черепа и кости повсюду.
— Славное местечко, — сказал он.
Я оставил его изучать местность и присоединился к капитану и Копонсу. Тонкой бечевкой — Алатристе всегда имел ее при себе вместе с иголкой — они зашивали рану Гурриато, вполголоса и очень спокойно продолжая обсуждать перипетии минувшего дня: ловушку, подстроенную Лоренцо Фальеро в соборе Сан-Марко и во дворце дожа, засаду, ожидавшую нас в Арсенале, а Роке Паредеса и его людей — в еврейском квартале. И чем больше я слушал их, тем больше крепла во мне уверенность: да, нас предали и бросили на произвол судьбы те же, кто послал нас в Венецию. В слепой ярости я готов был отречься от королей, министров и послов и даже от самого дон Франсиско де Кеведо, будь прокляты и сам он, и его дружба, благодаря которой сумел втравить он нас с капитаном в это безумное предприятие. Гнев мой, впрочем, стал остывать при виде того, как отнеслись ко всему случившемуся капитан и Копонс — с неколебимой невозмутимостью старых солдат, безропотно принимающих свою судьбу со всеми ее превратностями, которые предопределены жизнью, войной, политикой. Долгой привычкой приученные к роли смиренных пешек, передвигаемых по шахматной доске чьей-то чужой рукой, они не восстают против неблагодарности, которой изведали вдосталь и досыта, не сетуют на судьбу, благо в бесконечных своих приключениях давно уж успели привыкнуть к переменчивости фортуны. Угрюмо и безропотно, произнося ровно столько слов, сколько требуется, оба ветерана, как повелось после бессчетных боев во Фландрии и Средиземноморье, ограничивались тем, что подсчитывали потери, перевязывали раны и возносили безмолвную хвалу Господу — или сатане — за то, что на сей раз уцелели. Ибо это и только это есть для солдата настоящая победа.
— А с ним как будет? — спросил я капитана, показав на Малатесту.
Мы с Копонсом, привалясь спиной к стене, сидели по обе стороны от распростертого на земле Гурриато. Зеленоватые глаза Алатристе, столь же ледяные, как и все на острове, и потому казавшиеся частью пейзажа, проследили направление моего взгляда. Итальянец, державшийся наособицу и отчужденно, прохаживался по берегу.
— С ним… — повторил капитан задумчиво.
Как он считает, спросил я, замешан ли Малатеста в предательстве? Капитан ответил не сразу, не сводя глаз с предмета беседы. Слегка качнул головой:
— Нет, не думаю.
И продолжал, морща лоб, смотреть на Малатесту. Минуту спустя пригладил двумя пальцами усы, вытер талый снег с растрескавшихся губ и добавил очень тихо:
— Хотя… все может быть…
Я обернулся к Гурриато, лежавшему под своим мокрым синим плащом. Лицо мавра посерело от холода и боли, однако глаза были живые. Жар еще не набросился на него, и сердце билось мерно и не слишком часто. Ощутив мою руку у себя на запястье, он скривил губы в подобии улыбки. Я взглянул на крест, вытравленный у него на щеке.
— Ну, как ты там, мавр?
— Ничего. Не очень больно. Только знобит.
— Сильно?
— В самый раз, чтобы дрожмя дрожать.
Я скинул с себя плащ, укрыл им мавра поверх его собственного, чтобы хоть малость согреть.
— Вылезешь.
— Конечно. Мы все вылезем.
Я поднялся на ноги, — оставшись более чем налегке, в одном колете, — стиснул зубы, клацавшие от лютой сырой стужи, и едва ли не в отчаянии уставился вдаль — в ту часть лагуны, что выходила в Адриатическое море и где в сером небе парили такие же серые чайки, то и дело нырявшие в воду меж песчаных отмелей. Однако нигде не белел спасительный парус, и мы совсем не были уверены, что посланное за нами судно рано или поздно все же появится, снимет нас отсюда, пока до нашего островка не добрались обшаривавшие лагуну преследователи, возьмет на борт и уйдет в открытое море. Вполне могло статься, что предательский план предполагал оставить нас на произвол судьбы, бросить здесь, на этом острове, на растерзание голоду и холоду, если не сбирам Серениссимы.
— Ничего? — догадавшись об этом по моему лицу, спросил Копонс.
— Ничего. Ни следа. Только море да снежная крупа.
— Будь оно все проклято…
Я снова подсел к ним и увидел, что бывший мой хозяин по-прежнему не сводит глаз с Малатесты. Вглядывается в него очень пристально, но с тем же непроницаемым видом, что и раньше, так что понять, что он при этом думает, невозможно. Однако я слишком давно знал этого человека и от такого внимания мигом насторожился.
— Что такое, капитан? — спросил я настойчиво.
Он не ответил. Взгляд, как и прежде, не отрывался от Малатесты, а пальцы поглаживали усы. Я смотрел то на него, то на итальянца, силясь понять, что происходит.
— В самом деле он нас не предал?
После очень длительного молчания капитан, все это время сохранявший совершенную неподвижность, покачал головой. Тоже — очень медленно. И разомкнул наконец уста:
— Нет.
И снова замолчал, словно оценивая правоту собственных слов, а потом повторил убежденно:
— На этот раз — нет.
Я обернулся к Копонсу, надеясь, что он сможет объяснить мне это, однако арагонец только пожал плечами. Солдат королевской испанской пехоты ломать голову над подобными вопросами предоставляет другим. А молчаливые думы друга Алатристе ему были еще более непостижны, чем мне. И он ограничился кратким:
— Раз сказал «нет» — значит, нет.
Я обхватил себя руками, весь сжался, съежился, забился, можно сказать, сам в себя, чтобы согреться. Внимательно наблюдая, как итальянец расхаживает вперед-назад по берегу, капитан был по-прежнему недвижим, меж тем как талый снег каплями катился с его густых солдатских усов, с крупного, чуть крючковатого носа, придававшего ему особенное сходство с бесстрастным орлом. Мне показалось, что на краткий миг строгая важность черт смягчилась мимолетной, чуть заметной улыбкой. Если это и вправду была улыбка, в чем я не уверен, то, говорю, возникла она на одно стремительное мгновение — мелькнула и пропала. Алатристе склонил голову, рассматривая свои посиневшие от холода руки, и принялся яростно растирать их, чтобы согреть. Потом вытащил из-за пояса пистолет, положил его на землю рядом со мной и, скривившись от мучительного усилия, с которым далось это движение, — поднялся. И направился к Малатесте.
Снежная крупа все сыпала с неба, из-под свинцовых туч, таяла на лету и расплывалась белыми каплями на полях шляпы и на плечах Малатесты. На берегах ближних каналов, на песчаных отмелях и тинистых балках, обнаженных отливом, стирались границы между водой и небом. И капитану, покуда он шел к итальянцу, чудилось, что пейзаж этот, просачиваясь между одеждой и телом, леденит ему самое сердце. Сковывает мысли, серой тоскливой пеленой окутывает волю.
— Не торопятся что-то нас выручать, — сказал Малатеста.
Сказал легко и гримасу скорчил подобающую. Он глядел на южную часть лагуны, выходившую к открытому морю. Потом наклонился и поднял полузасыпанную землей кость, которую миг назад пинал носком своего сапога. Выпрямился с нею в руке и воззрился на нее с любопытством. Это была ключица.
— Каким тебя вижу, таким сам стану, — промолвил он философически.
И швырнул кость в воду, а сам опять уставился в свинцовую размытую линию горизонта.
— Да-а, не торопятся, — повторил он.
— Значит, успеем.
Черные глаза итальянца, устремленные вдаль, на миг застыли. Казалось, он не услышал реплики Алатристе. Но вот наконец очень медленно обратил к нему темный взор, заискрившийся любопытством. И потом все так же неспешно скользнул глазами к эфесу шпаги, за который уже взялся капитан.
— Что… успеем?
— Покончить наше с тобой дело.
Итальянец попытался было улыбнуться, но попытка окончилась полным провалом и — недоверчивой гримасой. Он, казалось, был растерян — растерян, как измотанный до предела человек, от которого внезапно потребовали уделить самое пристальное внимание чему-то совершенно неожиданному. Однако чему уж тут так удивляться, подумал капитан. Разве тому, какую минутку я улучил… Разумеется, резонней было бы свести счеты не здесь и не сейчас, когда мы подвешены между морем и небом, между жизнью и смертью. Разумеется, всему свое время, но вот поди-ка угадай, а будет ли оно у тебя, другое?
— Ты шутишь, — сказал Малатеста.
— Разве похоже?
— Порка Мадонна… Мы же с тобой…
— Товарищи, хочешь сказать?
— Ну, вроде…
Алатристе не сводил с него глаз, чувствуя, как растаявший снег течет и капает с усов, со лба и щек.
— Уже нет, — ответил он мягко. — Перемирие кончилось.
Он вдруг согрелся, и мир вновь предстал перед ним в ошеломительной простоте. Под тяжестью оттягивавшей пояс шпаги исчезло все, что было прежде, пропало то, что маячило впереди. Осталась лишь настоящая минута. И жизнь сделалась такой, как прежде.
— Черт возьми… — пробормотал Малатеста.
В нем совсем не чувствовалось раздражения или досады. Удивление наконец исчезло, и исчезновение это ознаменовалось сухим спокойным смешком — не похожим на его обычный смех. В нем Алатристе почудилась даже нотка некоего восхищения.
— Прямо здесь? — спросил итальянец.
— Если не возражаешь.
Малатеста взглянул в последний раз. Очень серьезно. И как бы принимая свой удел. Насмешливая искорка снова блеснула на миг и погасла, и глаза потемнели вновь.
— Да нет, капитан. Не возражаю.
Алатристе кивнул в знак того, что признает правильность этих слов. Потом провел ладонью по лицу, стирая с него мокрый снег, отступил на три шага и вытащил шпагу.
Я не верил своим глазам, и товарищи мои — тоже. Гурриато-мавр ошалело глядел, а мы с Копонсом живо — откуда и силы взялись? — вскочили на ноги, наблюдая за происходящим: капитан Алатристе со шпагой и кинжалом ждал, когда Малатеста снимет шляпу, сбросит плащ, обнажит свое оружие и станет в позицию. Мокрый снег и низкий, стелившийся над самой землей туман придавали всему этому фантасмагорический характер — казалось, противники парят в воздухе. И сошлись в схватке при конце света.
— Бредятина какая-то, — пробурчал Копонс.
Он сделал было движение к поединщикам, словно намереваясь разнять их, но я удержал арагонца. Потому что вдруг все понял. И горько пожалел в душе, что вовремя не сумел правильно истолковать ни взгляды капитана, ни его решение подняться, чтобы вызвать Малатесту. И проклял свою несообразительность — потому что не успел опередить своего бывшего хозяина. Потому что это я должен был сейчас драться с итальянцем. Едва ли еще когда представится такой случай свести давние счеты. Да еще большой вопрос, будет ли оно, это самое будущее.
— Да нет, не бредятина, — ответил я Себастьяну умудренно. — Не бредятина, а всего лишь долгая и старая история.
Меж тем происходящее мало походило на то, как мы привыкли представлять себе фехтовальное единоборство. Противники стояли неподвижно, изучая друг друга, вытянув вперед шпаги, которые даже не соприкасались. Чутко ловили малейшее шевеление, но смотрели друг другу в глаза, а не на острие вражеского клинка. Предугадывали намерение. Я-то прекрасно знал — благо, и сам, черт возьми, совсем не чужд был тому же ремеслу, — что, когда в поединке сходятся бойцы такого калибра, не следует ждать ни по-балетному замысловатых па, ни долгого полосования клинком о клинок, ни хитроумных финтов и обманных движений. Здесь будет стремительная атака, завершающаяся молниеносным выпадом. Рисковать, не будучи непреложно уверен в успехе, не станет ни один. И потому капитан и Малатеста стояли неподвижно, с ястребиной зоркостью следя за противником, выжидая, когда тот ослабит бдительность. Когда появится лазейка, брешь, щелка и просунутая туда шпага проймет до дна души.
Первым решился Малатеста. Он всего лишь еще немного вытянул руку со шпагой, сделал едва заметное движение кистью — и острие с негромким металлическим звоном мягко тронуло клинок противника. Итальянец слегка наклонился вперед — мне ли было не знать этой его манеры — поводя перед собой шпагой, а живот и левый бок оберегая кинжалом. Капитан же, как было свойственно ему, еще сильнее выпрямился, по-прежнему стоя в третьей позиции. Соприкоснувшись остриями клинков, противники вновь замерли. Потом Малатеста повторил свой маневр, и вновь раздался нежный перезвон стали, а когда показалось, что они вернулись на исходные позиции, в тот же миг сделал вольт, придержал капитанову шпагу и снизу ткнул кинжалом — метя не в корпус ему, а в предплечье. И если бы Алатристе, по глазам противника прочитав его намерение, не успел уйти, пробитая насквозь левая рука повисла бы бесполезной плетью, а потом последовал бы решающий выпад. Но он успел — и вслед за тем нанес рубящий удар, направленный в голову итальянца: и вновь клинки замерли в воздухе, как будто ничего и не было.
— Вот черти… — восхищенно пробормотал Копонс.
Малатеста и капитан оставались неподвижны и зорко наблюдали друг за другом, как и прежде, соприкасаясь лишь самыми кончиками шпаг. Ни тот, ни другой не тратили слов, не корчили рож, не принимали поз. Дышали оба глубоко и мерно и были настороже. В тот миг я подумал, что очень просто было бы поднять с земли отброшенный капитаном пистолет, подобраться к итальянцу — да и выпустить ему мозги. Непременно так и сделаю, решил я, если дело примет нехороший оборот и мой бывший хозяин будет ранен. Да гореть мне в геенне, если не сделаю.
Снова зазвенела сталь. Клинки дотрагивались друг до друга мягко, остриями, но Диего Алатристе уже по одному тому, как менялся тон этого полязгиванья, угадывал замысел противника. И все равно — пространство предвидения сужалось. Все происходило так стремительно, что он не успевал думать и целиком доверялся инстинкту и навыку. Быстро и четко остановил кинжал и, поведя ответную атаку, немедленно, без задержки, один за другим нанес целую россыпь ударов: три — кинжалом и четыре — шпагой, причем оказался так близко к Малатесте, что на миг ощутил его дыхание. Резко проскочив мимо итальянца, услышал его болезненный злой вскрик и треск мокрой ткани, распоротой лезвием кинжала. Капитан обернулся, снова стал в позицию и увидел, как Малатеста, неотрывно глядя ему в глаза, держит шпагу в далеко вытянутой руке, кинжалом прикрывает живот, а локтем — разрез на правом боку. И там расплывается кровяное пятно, над которым поднимается теплый парок.
Самый момент, сказал он себе. Воспользуемся им — и кончим дело. И не успел еще додумать это до конца, собираясь сделать финт, а следом — провести атаку, все поставив на карту, как Малатеста неожиданно опередил его и сам повел наступление так открыто, бурно и прямо, что капитан, который счел это уловкой и ограничился ожиданием решительного выпада, вдруг понял, что это на самом деле была атака или, по крайней мере, попытка атаки — причем понял, увидев острие вражеского клинка в трех пядях от своей груди, меж тем как лезвие чужого кинжала скользнуло вдоль его собственной шпаги, парируя защиту. Он отчаянно, что было сил, вывернулся, отпрянул — и вовремя, потому что острие шпаги уже впилось в толстую кожу колета и одновременно кинжал по касательной задел его по лицу между ухом и верхней челюстью — боль обожгла его, а придись лезвие чуть выше, капитан лишился бы уха.
— Квиты, — процедил Малатеста, глядя, как капитан, не выпуская из пальцев кинжал, тыльной стороной руки пытается унять кровь.
Больше он не разговаривал. Они снова встали попрочней, не сводя глаз друг с друга, то скрещивая клинки, то чуть соприкасаясь их остриями. Готовясь предугадать движение противника за миг до того, как он его сделает. Прочесть по лицу его намерения, которые прочертят линии жизни или смерти. Но лицо Малатесты, убедился капитан, было теперь непроницаемо: обычная насмешливость исчезла без следа, а поджатые, стянувшиеся в ниточку губы приоткрывались, лишь чтобы сделать выдох. Никаких издевательских колкостей, никаких рулад. Он стал смертельно — вот уж точно! — серьезен. Предельно собран, сосредоточен, напряжен, внимателен — и клинки шпаги и кинжала были продолжением его вышколенного смертоубийственным ремеслом тела, которое, несмотря на усталость, оставалось послушным и чутким.
Но вот неожиданно он переменился в лице. И это совпало с едва уловимыми изменениями в той стороне неба, что была позади Алатристе, — казалось, будто через свинцовые облака, откуда по-прежнему сеется ледяная крупа, пробивается какое-то свечение. И от этого самый воздух стал иным — сумрак исчезал, и рябое утомленное лицо Малатесты виделось теперь отчетливей, и глубже сделались все его оспины и шрамы, и, потемнев, ясней обозначились лиловатые подглазья.
— Dio cane… — пробормотал он.
Алатристе поглядел поверх его плеча, но, как травленый волк, ни на миг не выпустил из поля зрения лицо Малатесты и не изменил настороженной позы. Потому что от него можно было ждать любой каверзы. Но итальянец попятился на два шага, нарушив дистанцию, при которой возможен бой, и, не выпуская из пальцев эфес шпаги, сделал жест, который можно было бы расценить как просьбу о передышке. При этом он по-прежнему смотрел на лагуну. И Алатристе наконец взглянул не в глаза ему, а ниже — на искривленные усмешкой губы. Прежней, издевательской и глумливой.
— Ну, значит, в другой раз… — прибавил итальянец.
Он опустил оружие, как бы приглашая капитана оглянуться без риска для жизни. И в доказательство чистоты своих намерений отступил еще на шаг. То же самое сделал наконец Алатристе и, полуобернувшись назад, убедился — свинцовое небо явственно светлело в южной части лагуны, выходящей в Адриатику. Там, опираясь одним краем о песчаные отмели, другим — об островки, воздвиглась семицветная арка радуги, меж тем как сноп чистых и слепяще-ярких солнечных лучей — таких же, наверное, что осветили мир в день его сотворения, зажег синевой воду в далекой лагуне.
— Да, — вздохнул Алатристе. — В следующий.
Малатеста вложил в ножны шпагу и кинжал. Капитан сделал то же самое, а потом ощупал разрез пониже уха и почувствовал, как течет по щеке талый снег пополам с кровью.
— Ты был недалек от цели, — заметил он, вытирая руку о колет.
Малатеста, держась за рассеченный бок, кивнул:
— Ты тоже.
Потом они молча и недвижно постояли рядом под мокрым снегом, глядя в ту сторону, где выходила в открытое море лагуна. На ярко-синей дальней границе ее, в пробившихся сквозь тучи солнечных лучах белели паруса — к Острову Скелетов приближался корабль.
От автора
Установить с должной степенью достоверности, имел ли в ночь на 24 декабря 1627 года место заговор с целью физического устранения венецианского дожа, как о том свидетельствуют воспоминания Иньиго Бальбоа Агирре[202], представляется весьма затруднительным делом. Нам не известны ни венецианские, ни испанские документы, подтверждающие или опровергающие это, а потому судить о правдоподобии событий, изложенных в романе «Мост Убийц», мы оставляем на усмотрение читателя. Тем не менее небезынтересно будет изложить ряд исторических фактов, могущих пролить свет на эти события.
Герцог Мантуанский Винченцо II скончался 26 декабря, не оставив наследников. Месяц спустя губернатор Милана дон Гонсало Фернандес де Кордоба получил из Мадрида приказ занять Мантую и Монферрато, каковое вторжение привело к серьезному дипломатическому конфликту, к вмешательству Франции, Савойи и папы римского, а в итоге — к затяжной военной кампании, завершившейся поражением испанских войск на севере Италии[203].
30 декабря 1627 года — спустя шесть дней после пресловутой рождественской мессы — на венецианского сенатора Риньеро Дзено, который, по словам Иньиго Бальбоа, чье свидетельство легло в основу нашего повествования, в случае успеха заговора должен был стать преемником дожа Джованни Корнари, напали неустановленные лица в масках. Дзено был тяжело ранен, но все же сумел выжить. Следствие обнаружило, что инициатором и заказчиком покушения выступил один из сыновей дожа — Джорджо Корнари. В лучших традициях Серениссимы, всегда предпочитающей обходиться без огласки и лишнего шума, дело было замято.
В официальных документах испанского посольства нет ни слова о присутствии в декабре 1627 года в Милане и Венеции испанского дипломата Диего де Сааведры Фахардо. Тем не менее профессору Клаусу Ольденбарневельту, директору Института испанских исследований при Утрехтском университете, посчастливилось обнаружить в архиве севильской библиотеки доньи Макарены Брунер, герцогини дель Нуэво-Экстремо, любопытную бумагу — датированное 20 декабря того же года краткое письмо (копией какового, благодаря любезности профессора Диего Наварро Бонилья, мы располагаем ныне), направленное послу Испании в Венеции Кристобалю де Бенавенте, маркизу Чареле (главному шпиону и руководителю секретной службы Филиппа IV, впоследствии замененному на этом посту адмиралом Гаспаром Бонифасом), и в письме этом упоминаются «важные документы, доставленные в наши собственные руки секретарем посольства С.Ф.».
Что лишний раз доказывает: вымысел есть всего лишь неожиданная грань действительности. Или наоборот.
Приложение
Извлечения из «ПЕРЛОВ ПОЭЗИИ, СОТВОРЕННЫХ НЕСКОЛЬКИМИ ГЕНИЯМИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
Дон Алонсо де Эрсилья
Строфа из достославной поэмы «Араукана» применительно к венецианцам[204]
Октава
Не доверяй ханже и лицемеру, дающему напыщенное слово, что он распространял Христову веру лишь только ради имени Христова. Им правит алчность, сильная не в меру, она — его священная опора.Дон Мигель де Сервантес
Красавице Партенопее времен его юности
Терцины[205]
И молвил я себе: верны твои слова, Неаполь предо мной, любимый целым миром. Его я исходил за год или за два, и стал он навсегда души моей кумиром. Желаем или нет — любить осуждены предивный этот град с его извечным пиром. Он славен в мирный день и грозен в дни войны.Дон Франсиско де Кеведо, владелец поместья Торре де Хуан Абад
Эпитафия Риму, погребенному в собственных развалинах
Сонет[206]
О, пилигрим, ты ищешь в Риме Рим, Но Рима нет… Великий Рим — руина. Стал Авентин могилой Авентина, И Палатин надгробием своим. На медальонах временем слепым Источен камень. Портиков лепнина Осыпалась. От славы исполина Набег эпох оставил прах и дым. И только Тибра волнами объята Твоя могила, Рим, твой тихий грот. Шумит река, томит ее утрата… Из прежнего величья и красот Все вечное исчезло без возврата, Все бренное осталось и живет.Дон Хавьер Мариас Франко, литератор, кавалер ордена Подвязки, властитель острова Редонда
Сеньору капитану Алатристе
Октавы[207]
Се человек, стальным клинком с размаху свою судьбу чертивший на скрижали. Он на врагов нагнал немало страху — ведь равного ему они не знали. И был он — мир его земному праху! — хоть почести сыскал себе едва ли — всегда достойным, никогда — богатым. Короче говоря, он был солдатом!Синьор доктор Франческо Рикко Манрико, член Флорентийской академии делла Круска
Кредо Капитана
Сонет
Рок и судьба, приманивать вы рады. Не клюну на приманку в круговерти! Жизнь только фарс, точнее — образ смерти, убийца в маске, бьющий из засады. Природа-мать, не жду твоей награды! Лупить меня устали даже черти, но — недоверьте или переверьте! — всю кровь мою не выпьют эти гады. Я отказал и вере и надежде, что до любви — я просто здесь со всеми шучу, смеюсь и не теряю позы. Да, жизнь была… но это было прежде — (я, убивая, убиваю время) — а стала — три с терновника занозы! Так капитан промолвил и вздохнул, бокал — об пол, и полы запахнул.Доктор дон Альберто Монтанер, профессор словесности
Остережение о смерти и моральное рассуждение о девизе капитана Алатристе
Сонет
Что есть рожденье, как не двери склепа? Что значит жить, как не идти к могиле? Она придет и скажет: «Или — или!» Она крылата — прятаться нелепо. Не знаем, ни какая лопнет скрепа, ни дня, когда уступим грозной силе, чтоб нас её ладони размесили на брачном ложе траурного крепа. Конец известен. Страх берет на пушку. Но есть возможность лучшего финала: наполнить смыслом смерти черепушку. Отважные, судьбу умилосердьте, чтоб смерть на крыльях славы прилетала: есть три стези — и больше! — к славной смерти.Доктор словесности и военного искусства Андрес Рей де Артьеда
О нетерпении, недовольстве и мятежах
Терцины
«Изволь ползти вослед за бедолагой — солдатом или, скажем, капитаном, как путами, опутанным присягой! Лезь напролом на башни бастиона! Издохни первым, коли жизнь постыла, но захвати штандарты и знамена! Не-е-ет!!! Не желаем вылезать из тыла, корячиться на мушке у мушкета! Ах, дезертирство лучше, чем могила!»… Те двое, что дерзнули крикнуть это — им смерть за малодушье угрожала — пошли на штурм, и враг не взвидел света! И не было в округе лучшей шпаги, и не было проворнее кинжала. Дай Бог и нам хоть каплю их отваги!Примечания
1
Здесь и далее стихи, кроме указанных особо, – в переводе А. Богдановского. – Прим. ред.
(обратно)2
Здесь и далее упоминаются религиозно-рыцарские ордена Сантьяго и Калатравы. К XVII в, членство в них превратилось в почетное отличие – во главе ордена Калатравы стоял сам король На принадлежность к тому или иному ордену указывал вышитый на одежде крест определенной формы у рыцарей Сантьяго – с заостренным нижним концом, символизировавшим острие меча; у рыцарей Калатравы – со стилизованным изображением распустившихся лилий или готической буквы "М" (в честь девы Марии). – Здесь и далее прим. переводчика.
(обратно)3
Пусть воюют другие (лат. Овидий, «Героиды», 13,84).
(обратно)4
Знаменитый двусмысленный ответ дельфийского оракула эпирскому царю Пирру, означающий либо «Эакид (то есть Пирр) может победить римлян», либо: «Римляне могут победить Эакида».
(обратно)5
Дублон – золотая монета достоинством в два и четыре эскудо.
(обратно)6
Перо удлиняет руку (лат.).
(обратно)7
Перевод А. Косе.
(обратно)8
Фехтовальные термины «парад» – парирование, отражение удара, «рипост» – быстрый ответный удар.
(обратно)9
Мать твою, сукин сын, мы вам яйца отрежем (искаж. англ.).
(обратно)10
Молитва (дневная и вечерняя), обращенная к Богородице.
(обратно)11
Испанский поэт Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627) был виднейшим представителем т.н. «культизма» – поэтического направления, для которого характерны усложненная метафоричность, обилие неологизмов и книжных слов.
(обратно)12
В Испании до конца XVIII века театральная зала имела квадратную форму. Над тремя рядами боковых лож располагался амфитеатр; ложи, находившиеся в глубине прямо напротив сцены, были зарешечены и предназначались для женщин и монахов; середина квадрата была занята скамейками, а в самом центре было оставлено пустое место.
(обратно)13
Перевод М. Донского.
(обратно)14
Мусульманское население Пиренеев, насильственно обращенное в христианство. В 1609–1610 гг. были изгнаны из Испании.
(обратно)15
Перевод Натальи Ванханен.
(обратно)16
Мера длины, равная 5572 м.
(обратно)17
Перевод Натальи Ванханен.
(обратно)18
Перевод Натальи Ванханен.
(обратно)19
Ток – шапочка с плоским дном и узкими полями. – Здесь и далее прим, переводчика.
(обратно)20
Cabra – коза (исп.).
(обратно)21
Перечисляются триумфы Испании: взятие Э. Кортесом столицы ацтеков (1521); победа императора Карла V над французским королем Франциском I (1525); взятие города Сен-Кантена (1557); разгром турецкой эскадры в сражении при Лепанто (1571); взятие после длительной осады нидерландской крепости Бреда (1625).
(обратно)22
Городок в Арденнах, где в 1643 г. французские войска под командованием принца Конде нанесли поражение испанской армии.
(обратно)23
Здесь: суть дела (лат.)
(обратно)24
Тринитарии – монахи ордена Святой Троицы
(обратно)25
Древними христианами в Испании назывались люди, чьи предки во времена арабского владычества не вступали в смешанные браки с мусульманами
(обратно)26
Триклиний – столовая в древнеримском доме.
(обратно)27
Имеется в виду легендарный Дон Жуан (Хуан де Тенорио), приключениям которого посвящена комедия Тирсо де Молины (Габриэля Тельеса, 1571 или ок. 1583–1648) «Каменный гость, или Севильский озорник» (1616, опубл. 1630).
(обратно)28
Dominus vobiscum (лат) – Господь с вами.
(обратно)29
Головной убор игуменьи.
(обратно)30
Имеется в виду Фома Аквинский (1225–1274) – философ-схоласт и теолог.
(обратно)31
Ступайте, месса окончена (лат.).
(обратно)32
Лига – мера длины, равная 5572 м.
(обратно)33
Римский император Адриан (117–138), жестоко подавив освободительное восстание иудеев под предводительством Бар-Кохбы, разрушил Иерусалимский храм. Это событие положило начало «рассеянию».
(обратно)34
Мэр, назначаемый королем.
(обратно)35
Бернардо дель Карпьо – легендарный победитель Роланда в Ронсевальском ущелье; его героическая биография была создана народными романсами, старыми хрониками и не дошедшим до нас эпосом.
(обратно)36
Старший письмоводитель Папы Римского.
(обратно)37
Верхняя юбка (обычно черного цвета).
(обратно)38
Вельон – старинная медная монета.
(обратно)39
До недавнего времени считали, что писателя арестовали, не без оснований объявив его автором стихотворного мемориала, подброшенного в королевскую трапезную и содержавшего резкие обличения Оливареса и самого короля. Однако в 1972 году было разыскано и опубликовано письмо графа-герцога Оливареса Филиппу IV, в котором Кеведо обвинялся в государственной измене – в частности, в том, что вступил в тайные сношения с Францией.
(обратно)40
Fumata bianca (итал.) – белый дымок (сигнал избрания конклавом нового Папы).
(обратно)41
В зависимости от характера преступлений обвиняемые приговаривались к одному из видов отречений – «легкому» (abjuratio de levi), «сильному» (abjuratio de vehementi) и «формальному» (abjuratio deformali).
(обратно)42
Перевод А. Гелескула.
(обратно)43
Здесь и далее стихи, кроме отмеченных особо, – в переводе А. Богдановского. В Приложении перевод Н. Ванханен – Прим. ред.
(обратно)44
Понятие furia espanola («испанская ярость») вошло в исторический обиход полвека спустя после описываемых в романе событий: 4 ноября 1576 г. испанские войска взяли штурмом и разграбили Антверпен. – Здесь и далее примечания переводчика, кроме оговоренных особо.
(обратно)45
Зд.: на месте (лат.).
(обратно)46
«…И прахом стану, прахом, но – влюбленным». См. «Чистая кровь».
(обратно)47
Ропилья – короткая приталенная одежда с двойными рукавами.
(обратно)48
Второе название знаменитой картины Веласкеса «Сдача Бреды» – «Копья».
(обратно)49
Джордж Гаскойн (1535–1577) – английский писатель.
(обратно)50
Перевод Н. Ванханен
(обратно)51
Гласис (от фр. glacis) – пологая земляная насыпь впереди наружного рва крепости, долговременного сооружения или полевого укрепления.
(обратно)52
Вергилий, «Энеида», И. 333: «Строем стоят с обнаженным мечом, сверкая клинками» (перевод С. Ошерова).
(обратно)53
Граф Эрнстфон Мансфельд (1580–1626) – видный участник Тридцатилетней войны, сражался на стороне протестантов.
(обратно)54
Луис де Рекесенси Суньига (1528–1576) – испанский военачальник и государственный деятель; губернатор Нидерландов в 1573 г., когда там началось восстание.
(обратно)55
Реконкиста – продолжавшийся в течение семи веков процесс освобождения Пиренейского полуострова от мавров.
(обратно)56
Эспонтон – короткое копье пехотных офицеров в XVII-XVIII вв.
(обратно)57
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)58
Джулио Мазарини (1602–1661) – кардинал, первый министр (1643) и фактический правитель Франции.
(обратно)59
Куартильо – мера жидкости, равная 0, 504 л.
(обратно)60
Отпускаю тебе грехи (лат.).
(обратно)61
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)62
Вара – мера длины, равная 835, 9 мм.
(обратно)63
К черту! (нем.) В данном случае – пожелание удачи, «ни пуха, ни пера!».
(обратно)64
Сдаюсь (Нидерланд.).
(обратно)65
Антигон – имя нескольких македонских царей и полководцев IV-III вв. до н. э. Отступление с поля боя как тактический прием особенно любил Антигон Одноглазый (ок. 380-301), о чем повествует Плутарх в жизнеописании другого македонского военачальника, Эвмена.
(обратно)66
Родриго Диас Сид (1043–1099), прозванный «Кампеадор» (Воитель) – полулегендарный освободитель Испании от мавров, воплощение рыцарской доблести.
(обратно)67
Не давай пощады! (англ.)
(обратно)68
Прозвище Лопе де Веги – Испанский Феникс.
(обратно)69
«Записки прапорщика Бальбоа» 478 стр. Мадрид. Рукопись. Продана с аукциона «Клеймор» в Лондоне 25 ноября 1951 г. В настоящее время находится в Национальной Библиотеке. – Примечание издателя.
(обратно)70
Не поддается логическому осмыслению исчезновение двух наиболее документированных свидетельств, касающихся жизни Диего Алатристе-и-Тенорио. В то время как воспоминания Иньиго Бальбоа и исследование картины «Сдача Бреды» доказывают, что фигура капитана по неизвестным причинам была «записана», в период после 1634 года появляется первый вариант комедии Педро Кальдерона де ла Барки, озаглавленной аналогичным образом, носящий следы последующей редактуры. Первая полная версия комедии, созданной в 1626 году и тогда же поставленной в Мадриде, совпадает по всем основным параметрам с рукописной копией, выполненной Диего Лопесом де Морой шесть лет спустя, однако содержит сорок стихов, исключенных из окончательного варианта. В них содержится упоминание о гибели Педро де ла Амбы и обороне редута Терхейден, которую возглавил Диего Алатристе, чье имя появляется в тексте еще в двух местах. Первоначальная версия, обнаруженная Клаусом Ольденбарневельтом, профессором Института испанских исследований при Утрехтском университете, хранится в архиве и библиотеке герцогов дель Нуэво Экстремо в Севилье, и мы воспроизводим ее в приложении к настоящему изданию с любезного разрешения доньи Макарены Брунер де Лебрихи, герцогини дель Нуэво Экстремо. Странность заключается в том, что эти сорок стихов исчезли из канонической версии комедии, опубликованной в 1636 году в Мадриде Хосе Кальдероном, братом драматурга в «Первой части комедий Педро Кальдерона де ла Барки». Исчезновение имени капитана Алатристе из текста пьесы «Сдача Бреды», равно как и его образа – с одноименного полотна, необъяснимо. Можно, впрочем, предположить, что причиной этого послужил приказ, отданный королем Филиппом IV или – что более вероятно – графом-герцогом Оливаресом, поскольку Диего Алатристе – опять же по неизвестным нам причинам – в период 1634–1636 гг. попал у них в немилость. – Примечание издателя.
(обратно)71
Плутовской роман испанского писателя Матео де Алемана (1547 — 1614). — Здесь и далее прим. переводчика.
(обратно)72
Широкие доски, уложенные горизонтально вдоль бортов деревянных парусных кораблей. Служили для прохода с бака на квартердек (или шканцы). В парусном флоте — часть верхней палубы корабля от фок-мачты или носовой надстройки до грот-мачты или кормовой надстройки.
(обратно)73
Плутовской роман Висенте Эспинеля (1550 — 1624).
(обратно)74
Начальник гребцов.
(обратно)75
Сатирическое стихотворение, состоящее из нескольких восьмистиший с определенной системой рифмовки и рефреном.
(обратно)76
Перевод М.Донского.
(обратно)77
В Ронсевальском ущелье происходит действие эпической «Песни о Роланде», которая описывает события, относящиеся к VIII веку. Обороне крепости Нумансия от римлян (VI век до н. э.) посвящена пьеса Сервантеса.
(обратно)78
Мера веса, равная 100 фунтам, или 46 кг.
(обратно)79
Мера веса и жидкости, колебавшаяся в разных регионах Испании от 11, 5 до 12, 5 кг.
(обратно)80
Документ, содержащий условия договора морской перевозки груза.
(обратно)81
Литературный стиль в Испании XVII века.
(обратно)82
Перевод Вс. Багно.
(обратно)83
Пядь (кварта) — мера длины, равная приблизительно 21 см.
(обратно)84
Мартин Лютер в одном из своих памфлетов, обличая ростовщика, который «ворует, грабит и пожирает все», использовал мифологический образ огнедышащего великана Какуса, убитого Гераклом.
(обратно)85
Не вполне понятно, какой именно представитель знаменитого венецианского рода имеется в виду. Вероятно, известный дипломат кардинал Гаспаро Контарини (1483 — 1542).
(обратно)86
«Битвы и мужа пою…» — зачин «Энеиды» Вергилия (перевод С. Ошерова); «Бой в Эмафийских полях, грознейший, чем битвы сограждан, // Власть преступленья пою» — первая строка поэмы «Фарсалия, или Поэма о гражданской войне» (перевод Л. Остроумова).
(обратно)87
Noli me tangere (лат). — не тронь меня, зд. статус неприкосновенности.
(обратно)88
Луис де Камоэнс. «Лузиады», песнь V. строфа 26. Фрагмент приводится в переводе О. Овчаренко, благодаря которому недоумение спутников Сарамаго становится отчасти понятным.
(обратно)89
Снасть (трос) для крепления мачт.
(обратно)90
Отверстие в палубе судна для удаления воды за борт.
(обратно)91
Винград — задняя оконечность орудия позади казенной части, отливавшаяся в виде грозди.
(обратно)92
Перевод Л. Косе.
(обратно)93
Перевод Л. Цывьяна.
(обратно)94
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)95
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)96
Здесь и далее стихи, кроме отмеченных особо, — в переводе А. Богдановского. — Прим. ред.
(обратно)97
Места в зрительном зале, отведенные для женщин и духовенства. — Здесь и далее прим. переводчика.
(обратно)98
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)99
В испанской комедии «золотого века» действия назывались «днями».
(обратно)100
В Книге Бытия (19) рассказывается, как жители Содома пытались «познать» двух ангелов, которым оказал приют праведник Лот. В наказание за это город был уничтожен «огнем и серой с неба».
(обратно)101
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)102
Воин, которого хвалит вождь, — испанец (лат.).
(обратно)103
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)104
Недоразумения (лат.).
(обратно)105
Десятистишие сатирического содержания с определенной системой рифмовки.
(обратно)106
Пьеса религиозного содержании.
(обратно)107
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)108
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)109
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)110
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)111
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)112
Лос-Пелигрос (los peligros) — опасности (исп.).
(обратно)113
Вара — мера длины, равная 835, 9 мм.
(обратно)114
Перевод М. Квятковской.
(обратно)115
Прадо (prado) — луг (исп.).
(обратно)116
Перевод Вл. Резниченко.
(обратно)117
Перевод Н. Ванханен. Как (Какус) — огнедышащий великан, убитый Гераклом. В одном из памфлетов Лютера ростовщик, «который ворует, грабит и пожирает все», уподобляется Каку.
(обратно)118
Мф. 4:9.
(обратно)119
Блюдо из мяса, сыра, жареной кукурузы, сливочного масла и пряностей.
(обратно)120
Персонажи эпической поэмы Лудовико Ариосто (1474-1533) «Неистовый Роланд" (1515).
(обратно)121
Лига — мера длины, равная 5572, 7 м.
(обратно)122
Перевод Л. Цывьяна.
(обратно)123
Перевод В. Резниченко.
(обратно)124
Перевод С. Гончаренко.
(обратно)125
Перевод К. Корконосенко.
(обратно)126
За искрой пламя ширится вослед (um.) — строка из «Божественной комедии» Данте (перевод М. Лозинского).
(обратно)127
Обыгрывается название одного из произведений Сервантеса — «Назидательные новеллы».
(обратно)128
Строчка П. Кальдерона. Автор допускает анахронизм — эта сарсуэла, ставшая основой для одной из первых испанских опер (композитор Хуан Идальго), была написана лишь в 1660 г.
(обратно)129
Пьеса Лопе де Веги.
(обратно)130
Перевод Н. Ванханен.
(обратно)131
Перевод С. Гончаренко.
(обратно)132
Перевод В. Резниченко.
(обратно)133
Лига — мера длины, равная 5572,7 м. — Здесь и далее прим. переводчика.
(обратно)134
В морском сражении при Лепанто (7 октября 1571 г.), где соединенный испано-венецианский флот разбил турецкую эскадру, Сервантес был ранен в грудь и левую руку, оставшуюся парализованной «к вящей славе правой».
(обратно)135
Город и порт в Марокко, пригород Рабата.
(обратно)136
Отсылка к одноименной пьесе М. Сервантеса, который на обратном пути в Испанию попал в алжирский плен, где провел 5 лет (1575–1780), четырежды пытался бежать и лишь чудом не был казнен. Выкуплен монахами-тринитариями.
(обратно)137
Смешанный язык, сложившийся в Средние века в Средиземноморье и служивший главным образом для общения арабских и турецких купцов с европейцами (которых на Ближнем Востоке называли франками). Основой его была итальянская и провансальская лексика, к которой добавились слова из испанского, греческого, арабского, персидского и турецкого языков.
(обратно)138
Херонимо де Пасамонте (1553 — ок. 1604) вместе с Сервантесом участвовал в сражении при Лепанто (1571), а потом провел 18 лет в плену и, вернувшись в Испанию, описал свою жизнь. При этом он присвоил себе некоторые факты из военной биографии Сервантеса, который также несколько лет был в рабстве у алжирских пиратов.
(обратно)139
Вскоре по вступлении на престол последнего короля вестготов Родерика в Испанию в 711 г. явилась, призванная туда, по преданию, графом Юлианом, мстившим королю за «личную обиду», армия исламизированных берберов под командованием Тарика, вольноотпущенника Мусы ибн Нусайра, мусульманского наместника в Кайруане. Воспользовавшись борьбой за вестготский трон, они разбили войска короля Родерика. Сторонники прежнего короля, Витиза, которого сверг Родерик, покинули его; сам Родерик был убит, и королевство вестготов в результате одного сражения рухнуло.
(обратно)140
В 1580 г. Португалия со всеми своими «заморскими территориями» была присоединена к Испании и вновь обрела независимость лишь в 1640 г.
(обратно)141
Перевод И. Поляковой.
(обратно)142
Арагонский «Орден милосердия», основанный в 1233 г.
(обратно)143
Нория (исп. noria, от араб. наора — водокачка) — бесконечная цепь с укрепленными на ней черпаками, используется для орошения.
(обратно)144
Фанега — мера сыпучих тел, равная 55,5 л.
(обратно)145
Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли… Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного… Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь (лат.).
(обратно)146
«Тебя Бога хвалим…» (лат.) — первые слова благодарственной молитвы.
(обратно)147
Морлаки (морские или приморские влахи) — славянские обитатели Далматинских гор.
(обратно)148
Роман Франсиско Деликадо (Дельгадо) (1485–1535), один из первых образцов плутовского романа.
(обратно)149
Святого Павла укусила змея, возникшая из пламени костра, вокруг которого грелись спасшиеся моряки. Местные жители заметили, что яд не подействовал на Павла, и по своей языческой простоте стали воспринимать его как бога. Апостол в качестве наказания лишил всех змей этого острова способности вырабатывать яд. Проклятые им мальтийские змеи потеряли также свои глаза и языки. Вот этими-то языками и были окаменевшие зубы акул.
(обратно)150
Это неправда (ит.).
(обратно)151
Прозвище Гонсало Фернандеса де Кордоба-и-Агиляра (1453–1515), испанского военачальника, в 1495–1498 гг. нанесшего ряд поражений французским войскам в Италии.
(обратно)152
Фортуна вам не благоприятствует. Проиграли (ит. диалект.).
(обратно)153
Доблестный воин (лат.).
(обратно)154
Принеси поесть… Живо! Добрый день, красавица (искаж. ит.).
(обратно)155
Перевод И. Поляковой.
(обратно)156
Карман, пришитый к поясу.
(обратно)157
Мне от друзей скрывать нечего (ит.).
(обратно)158
Удальцы — от ит. bravi.
(обратно)159
От ит. «Capichi?» — «Понятно?».
(обратно)160
Жженый, паленый (от исп. quemado).
(обратно)161
Перевод И. Поляковой.
(обратно)162
Очаг, плита, печь (от искаж. исп. horno).
(обратно)163
Иньиго имеет в виду «анахронический» портрет древнегреческого философа (460 до н. э. — 370 до н. э.) работы Диего Веласкеса, наделившего его костюмом и наружностью, характерными для XVII в. На портрете Демокрит, стоя перед глобусом, изобретенным лишь в конце XV в., в самом деле улыбается, хотя и сдержанно, однако с очень довольным видом.
(обратно)164
Гай Марий (ок. 157 до н. э.— 86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель.
(обратно)165
«Во имя… и сына… Аминь» (лат.).
(обратно)166
Короткая драма с библейским или аллегорическим сюжетом.
(обратно)167
Перевод И. Поляковой.
(обратно)168
Перевод И. Поляковой.
(обратно)169
Названия мадридских улиц.
(обратно)170
Перевод И. Поляковой.
(обратно)171
La serenissima — официальный титул Венецианской Республики (ит.).
(обратно)172
То есть из поэмы Сервантеса «Путешествия на Парнас» (1614).
(обратно)173
Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихотворения в переводе А. Богдановского.
(обратно)174
Вальтеллина — долина в Италии на севере Ломбардии, на границе со Швейцарией, у подножия Бернинских Альп.
(обратно)175
Асумбре (azumbre, исп.) — мера емкости, равная приблизительно 2,6 л.
(обратно)176
Испанская королева Изабелла Бурбон, старшая дочь Генриха IV (Наваррского), была родом из Беарна.
(обратно)177
Таско-де-Аларкон — город в Мексике.
(обратно)178
© Корконосенко К., перевод, 2014.
(обратно)179
Мавзолей, построенный в 18–12 году до н. э. для Гая Цестия Эпулона, магистрата и члена одной из четырех великих римских жреческих коллегий.
(обратно)180
© Винокуров Н., перевод, 2014.
(обратно)181
Виднейший в Риме законоучитель (ит.).
(обратно)182
Дворец распространения веры — штаб-квартира ордена иезуитов.
(обратно)183
© Андреев В., перевод, 2014.
(обратно)184
Земная жизнь — как вешняя поляна, где прячется среди цветов змея (ит.) — (XCIX сонет Ф. Петрарки; перевод Е. Солоновича).
(обратно)185
Прозвище Гонсало Фернандеса де Кордовы (1453–1515), испанского генерала и военного реформатора; во многом благодаря его выдающимся победам Испания в XVI веке стала одной из самых мощных военных держав в Европе.
(обратно)186
Ускоки (uskoci, хорв.) — беженцы из числа южных славян, перешедшие (досл. «ускакавшие») из Османской империи на территорию Австрии и Венецианской Республики.
(обратно)187
Упоминаются эпизоды Тридцатилетней войны.
(обратно)188
Колонны Святого Марка и Святого Теодора — две гранитные колонны, установленные на пьяцетте — небольшой площади, примыкающей к площади Сан-Марко и выходящей на канал Сан-Марко.
(обратно)189
Будьте как дома (ит.).
(обратно)190
Клянусь! ей-ей! ей-богу! вот те(бе) крест! (ит.).
(обратно)191
Вода, подкрашенная вином (ит.).
(обратно)192
«Если это не дерьмо, то, значит, собачка нагадила» (ит.). Примерный аналог — «Не умел Данило, так болезнь задавила».
(обратно)193
Это мой жених (ит.).
(обратно)194
Pendaglio di forca — висельник (ит.).
(обратно)195
Старинная венецианская монета.
(обратно)196
В XXXV главе «Дон Кихота» главный герой, приняв винный бурдюк за великана, разрубает его.
(обратно)197
© Ванханен Н., перевод, 2014.
(обратно)198
Ни черта себе! (ит.).
(обратно)199
Добро пожаловать (ит.).
(обратно)200
Сдавайтесь. Бросай оружие! (ит.).
(обратно)201
Добрый вечер. — Какого тебе… (ит.).
(обратно)202
Записки прапорщика Агирре. Рукопись (478 стр.). Мадрид. Национальная библиотека.
(обратно)203
Фернандес Альварес Мануэль. Дон Гонсало Фернандес де Кордоба и война за мантуанское наследство. Мадрид, 1955.
(обратно)204
© Ванханен Н., перевод, 2014.
(обратно)205
© Ванханен Н., перевод, 2014.
(обратно)206
© Винокуров Н., перевод, 2014.
(обратно)207
© Ванханен Н… перевод, 2014.
(обратно)

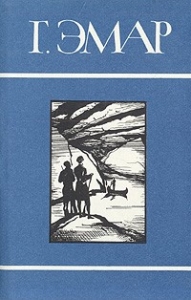



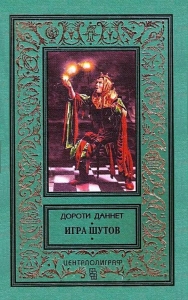

Комментарии к книге «Капитан Алатристе», Артуро Перес-Реверте
Всего 0 комментариев