Георгий Брянцев Следы на снегу
© Брянцев Г.М., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Встреча в купе
Была темная осенняя ночь.
Ветер шумел в тайге, срывая с берез пожелтевшие жухлые листья. Лил холодный дождь. Лил надоедливо, долго насыщая землю влагой, разъедая дороги, заливая поймы, заполняя овраги, канавы, ямы. И казалось, не будет ему конца…
Рассекая ночную тьму, пробиваясь сквозь дождевую завесу, стремительно мчался курьерский поезд. Громадина паровоз, отфыркиваясь космами дыма и шипя паром, выкладывал перед собой яркую белую полосу. Побежденный ослепительным светом, тяжелый и липкий ночной мрак, казалось, с тем большей силой отыгрывался на вагонах, свет от окон которых был бледным и тусклым и исчезал быстро, как видение.
Промелькнули затянутые мглой станции Сиваки, Ушумун, Тыгда Уссурийской железной дороги. Приближалась станция Талдан. Перед мерцавшим зеленым глазком семафора паровоз издал резкий продолжительный гудок. Эхо подхватило звук, перекатило его по горным перевалам, переломило, занесло в таежные крепи и там схоронило.
В освещенном двухместном купе спального вагона, мягко покачивающегося из стороны в сторону и подрагивающего на стыках рельсов, стоял пассажир.
Он был средних лет, высокого роста, сухопарый и рано полысевший. Серыми, острыми и холодными, как осколки льда, глазами он то пристально всматривался в запотевшее оконное стекло, по которому кривыми струйками сбегал дождь, то поглядывал на ручные часы с светящимся циферблатом, то брал в руки лежащее на приоконном столике расписание поездов и быстро перелистывал книжку.
В его движениях не было ничего суетливого, но они выдавали большое внутреннее напряжение.
Когда поезд загромыхал на стрелках, пассажир пригладил рукой остатки редкой светлой шевелюры и, открыв дверь, вышел из купе. Зная из расписания, что очередной остановкой должна быть станция Талдан, он, чтобы исключить малейшую возможность ошибки, громко спросил проводника вагона, заправлявшего ручной фонарь:
– Какая сейчас станция?
– Талдан, – коротко и деловито ответил тот.
Пассажир выждал с минуту и вернулся в свое купе. Быстрым движением снял с себя пиджак и остался в шерстяном джемпере темно-синего цвета с вышитыми на нем двумя белыми оленями. Затем извлек из заднего кармана кожаный портсигар, вынул папиросу, зажег ее и, бегло осмотрев себя в дверное зеркало, опять покинул купе.
В пустом коридоре у крайнего окна в теплой пижаме стоял единственный пассажир. Он посмотрел полусонным взглядом, потянулся с кряхтеньем, громко зевнул и, зябко ежась, пошел к купе.
Поезд подходил к станции. За окнами замелькали огоньки. Видно было, как на перроне в дождевых лужах быстро образовывались и лопались пузыри.
Постепенно замедляя ход, поезд заскрипел тормозными колодками, вздрогнул несколько раз и остановился.
Делая вид, что разглядывает вокзал, освещенный бледными в дождевом тумане огнями, и снующих по перрону людей, пассажир в темно-синем джемпере выжидательно наблюдал за входными дверями вагона. Когда в них показался новый пассажир, человек в джемпере облегченно вздохнул.
В спальный вагон вошел пожилой, коренастый, крупноголовый и коротконогий мужчина с монгольскими чертами лица. На нем была куртка из меха нерпы, отороченная по борту узкой полоской черной кожи, с поднятым кожаным воротником, высокие, болотные, сильно поношенные сапоги. В руке он держал небольшой дорожный мешок, сшитый из камусов. Вид у него был усталый, по широкоскулому лицу сбегали капли дождя.
Остановившись в нескольких шагах от пассажира в джемпере, вошедший что-то буркнул себе под нос и, сняв с головы суконную кепку, отряхнул ее.
Потом он голосом с сипловатой хрипотой спросил:
– Где же тут можно пристроиться? А?
– Половина вагона пустая, можете занимать любое место, – с излишней поспешностью ответил пассажир в джемпере. – Пожалуйте ко мне. Я один. Можно умереть от скуки, – и свои слова он сопроводил гостеприимно приглашающим жестом.
– Однако сосед я плохой, – недовольным тоном заметил вошедший. – Недалеко мне ехать… Совсем недалеко…
– Неважно, все равно вам где-то надо поместиться.
– Это да, верно…
– Проходите ко мне…
Дверь в купе закрылась.
Вскоре раздалось шипение тормозов. Затем ночной покой тихой, небольшой станции нарушили свисток главного и гудок паровоза. Состав дрогнул и плавно тронулся с места.
Новый пассажир, не торопясь, снял с себя мокрое кепи, куртку и повесил их на крючок. Примостившись на мягком диване, он поставил между ног свой дорожный мешок.
Помолчав немного, он вздохнул с шумом и лишь потом заговорил, путая русскую речь с якутской:
– Здравствуй, улахан тойон[1] … Добрался… Устал, однако, огонь в ногах. За билет дорого платить пришлось. Зачем так дорого? – и он медленно обвел глазами купе.
– Здравствуйте, Шараборин, – сухо ответил человек в джемпере и подошел к двери. Он повернул ручку замка, накинул цепочку и, взглянув на часы, спросил: – До какой станции у вас билет?
Шараборин посмотрел ему в глаза и после небольшой паузы ответил:
– Большой Невер.
– Отлично. Как Оросутцев?
Шараборин неопределенно кивнул головой и ответил:
– Живет помалу… Хорошо живет… Разговор прислал, – и похлопал себя по голове, поросшей короткими жесткими рыжими волосами.
– Сколько времени шли? – поинтересовался человек в джемпере.
– А? – и Шараборин открыл рот.
– Шли… Шли сколько?
– А-а… Три месяца, однако. Да, три. Без малого три. Совсем трудно. Шибко трудно. Дороги нет. Мокро. Все пешком.
Человек в джемпере ничего не сказал, а, подойдя к окну, опустил и закрепил штору, затем, ткнув в пепельницу недокуренную папиросу, резко сказал:
– Приступим. Садитесь вот сюда, – он показал на место около приоконного столика и, открыв чемодан, начал в нем копаться, затем разложил на столике бритвенный прибор, налил из термоса в стакан горячей воды, окутал Шараборина по самую шею простыней, выдавил ему на голову из тюбика немного пасты и, намылив волосы, стал их сбривать наголо.
Шараборин сидел молча и неподвижно, как истукан, словно подчиняясь неизбежности. Он был занят собственными мыслями.
Человек в джемпере с брезгливой гримасой снимал с его головы жесткие, давно не видевшие воды и мыла, волосы и осторожно стряхивал их с бритвы на кусок газеты. Окончив бритье, он вынул из чемодана бинт, обильно смочил бесцветным составом из темного флакона и несколько раз тщательно протер бритую голову Шараборина.
Когда на коже начали явственно проступать ярко-фиолетовые буквы, человек в джемпере заставил Шараборина наклонить голову поближе к настольной лампе.
Он долго и внимательно всматривался в причудливый текст и, вооружившись автоматической ручкой, сделал какие-то пометки в своем маленьком блокноте.
– Так, так… – произнес он наконец. – Все ясно.
Шараборин сделал движение, будто хотел встать или изменить позу, но человек в джемпере положил руку на его плечо.
– Сидите, как сидели, – приказал он и вновь, уже другим составом, стал смывать текст на коже. И когда текст перестал быть виден, человек в джемпере, прижав одной рукой голову Шараборина, другой рукой стал писать на его голом черепе.
Он писал неторопливо, старательно выводя каждую букву. Из мелких убористых букв образовывались слова, фразы, строчки. Вначале они имели ярко-фиолетовый цвет, потом бледнели, как бы растворялись и исчезали.
Шараборин сидел с застывшим, окаменевшим лицом. Только уши его, большие, мясистые и оттопыренные, как-то странно шевелились.
– Все, – сказал человек в джемпере.
Шараборин сбросил с себя простыню, несколько раз осторожно провел большой шершавой ладонью по бритой голове и недовольно спросил:
– Опять обратно? – зрачки его глаз сузились.
– А вы думали? – бросил тот, укладывая в чемодан бритву, пасту, флаконы, кисточку.
– Я думал не так. Отдыхать надо. Опасно, однако. Ищут меня. Ты обещал в жилуху определить.
На лице человека в джемпере отразилось раздражение. Его тонкие губы поджались.
– Я знаю, что обещал. Еще рано говорить об этом.
– Зачем рано? Надо говорить. Мне своя шкура дорога. Словят меня в тайге. Как ни петляй – дорога одна. Много людей в тайге. Кончать пора, – и тяжелые глаза Шараборина, точно пауки, поползли по фигуре человека в джемпере, задержались на его левой руке, где на среднем пальце разноцветно играл в перстне дорогой камень.
Насупив редкие, колючие брови и сощурив глаза, человек в джемпере спросил:
– Сколько лет вам дали?
– Десять.
– Сколько отсидели?
– Однако, один год…
– Так вот, если будете ныть и пороть всякую чепуху, я могу помочь вам отсидеть оставшиеся по сроку девять лет.
Шараборин промолчал, застыв в неподвижности. Только руки его, большие, точно грабли, и неуклюжие, не находили себе места: они то потирали толстые колени, то мяли одна другую, то появлялись на кончике стола.
– Когда сможете добраться до Оросутцева?
Шараборин почесал голый затылок. Обратное путешествие ему не только не улыбалось, не только не устраивало его и шло вразрез со всеми его планами, оно пугало и страшило его. Как долго еще будет зависеть его жизнь от воли и желаний Оросутцева и этого облысевшего господина, известного ему под кличкой «Гарри»? Когда же настанет конец его хождениям по негостеприимной, нелюдимой тайге? Когда он, наконец, обретет покой, отыщет темную щелку, упрячется в нее и заживет, как живут другие, тихо, мирно, не думая с тревогой о завтрашнем дне, не опасаясь со дня на день и с часу на час попасть в руки органов правосудия? Почему Гарри и Оросутцев не жалеют и обманывают его? Обещают, но ничего не делают? Где и как без их помощи отыскать эту темную щелку?
– Сейчас десятое сентября, – подсказал Гарри, полагавший, что Шараборин мысленно производит какие-то подсчеты.
Желваки на лице Шараборина задвигались. Он вздохнул и уныло произнес:
– Зимней дороги надо ждать. Худо теперь. Совсем худо. Пеши худо, на коне худо, лодки нет. Опять дождь.
– Ждать нельзя, – отрезал Гарри.
Шараборин покачал головой.
– Так когда же? – настаивал Гарри.
Шараборин выдержал длительную паузу, посмотрел на Гарри немигающими глазами и неуверенно, как человек, не имеющий собственной воли, произнес:
– Видать, в декабре.
– Не позднее?
– Видать, так…
– Это меня устроит. – Гарри вынул из висящего на крючке пиджака толстую пачку сторублевок и бросил ее Шараборину.
Тот быстро схватил деньги задрожавшими вдруг руками и принялся пересчитывать их, обильно слюнявя пальцы. Он пересчитал раз, другой и лишь потом сунул пачку в карман своих брюк. Чтобы убедиться в том, что деньги попали именно туда, куда следует, он похлопал рукой по карману, и подобие улыбки искривило его толстые губы.
– Хватит? – спросил Гарри.
Шараборин кивнул несколько раз головой. Про себя он уже прикидывал, куда и как надо пристроить полученное вознаграждение и какую сумму составят все его сбережения.
– У вас теперь много денег, – заметил с усмешкой Гарри, как бы разгадав его мысли. – Вы стали богатым человеком, а со временем будете еще богаче. Сможете жить там, где захотите.
Шараборин изменился в лице. Его раскосые глаза стали еле-еле видны из узких щелей.
– Трудные деньги… Тяжелые деньги, – пробурчал он.
Гарри полез в чемодан, вынул оттуда несколько учебников для начальных классов, завернул их и подал Шараборину.
– Спрячьте, пригодятся.
Затем дал небольшую, в плотной обложке синюю книжечку.
– Это диплом об окончании вами учительского института. Будете учителем. Учителей здесь любят. Дадут и ночлег, и транспорт. И паспорт сможете получить, имея диплом. Ну, вот и все, кажется. А теперь собирайтесь, скоро Большой Невер.
Шараборин положил диплом в карман. Учебники спрятал в дорожный мешок.
– Правильный ли диплом-то? – спросил он.
Гарри скривил в усмешке губы.
– Правильный, не сомневайтесь. Укладывайте все и одевайтесь…
На станции Большой Невер Шараборин покинул спальный вагон.
Гарри вышел в туалет, отряхнул простыню, выбросил там газету с волосами, затем, брезгливо морщась, тщательно вымыл руки и протер их одеколоном.
За окном по-прежнему лил дождь.
Таас Бас
Скованная морозом, погруженная в ночное безмолвие, долгим зимним сном спала тайга. От нее веяло суровой строгостью и безмерным спокойствием. Она напоминала огромный сказочный таинственный мир. Белокорые березы касались земли своими тонкими струйчатыми ветвями. Обнявшись мохнатыми лапами, теснились молодые, с игольчатыми верхушками ели, а над ними высились могучие и гордые медноствольные сосны.
Высокое черное небо, затканное мириадами дрожащих звезд, походило на опрокинутую чашу. От поздней луны, источавшей бледный свет, ложились причудливые тени.
Местами этот свет едва-едва пробивался сквозь сложные сплетения заиндевевших ветвей.
Тишину лишь изредка нарушали потрескивание коры на деревьях да вызывающие дрожь крики голодной совы.
Но вот в таежную тишину вошел новый звук. Звук, сначала едва уловимый, далекий, невнятный, а потом все более отчетливый, скрипящий.
Скользили лыжи по снегу.
Это шел Шараборин.
Он долго, очень долго пробирался непроходимой чащей, петлял, обходил стойбища охотников и жилые места, вновь залезал в самую глухомань и вот, наконец, дошел до места, когда тайга раздвинулась, расступилась и открыла перед ним небольшую поляну.
Шараборин устал, измотался. Последний километр пути был особенно труден и отобрал у него остаток сил. Каждый новый шаг, каждое движение уставших рук, каждый глоток морозного воздуха давались Шараборину все с большим трудом, причиняли все новые и новые страдания.
И вот, наконец…
Выйдя на поляну, Шараборин остановился, вслушался. Тишина. Вгляделся и не сразу заметил, как сквозь молочно-белую морозную дымку, висевшую над поляной, выступила срубленная из вековых бревен глухая одинокая избенка.
Из трубы ее, полузанесенной снегом, тонкой струйкой вился дымок, выпрыгивали и плясали в воздухе, точно светлячки, частые искорки.
Из маленького квадратного оконца, затянутого голубоватой мутью, робко высвечивал слабенький, желтоватый огонек.
Шараборин не двигался с места. От голода и холода, от усталости и чрезмерного нервного напряжения его начало знобить. Он хорошо знал якутскую тайгу, исхоженную им вдоль и поперек, ее реки и их притоки, редкие селения и одинокие станки и сейчас призывал на помощь свою память, которая должна была подсказать ему, кому принадлежит эта манящая к себе избенка, где, конечно, есть и тепло, и мясо, и крепкий чай. Он ясно понимал, что никто не должен его видеть, знал, что ему следует опасаться не только человека, но даже звезд и луны, свет которых может его выдать, поможет навести людей на след. Он долго стоял, но вспомнить, чья это изба, не мог.
В Шараборине происходила жестокая внутренняя борьба. Он был не в силах противостоять соблазну. Веселый дымок и приветливый огонек манили к себе, притягивали. Но он колебался, проклиная себя за робость, нерешительность, малодушие. В нем уже поднималась злоба к этой сгорбленной, с выпученными внизу углами жалкой избенке, прижавшейся к стене леса, придавленной толстым слоем снега. Он уже ненавидел самого себя, свое уставшее, ноющее в суставах тело, натруженные и непослушные ноги, руки, огрубевшие, прихваченные морозом, пустой желудок, надоедливо и мучительно требующий пищи.
«Однако, пойду, отдохну малость… – решил Шараборин, пересилив голос благоразумия. – И чего боюсь? Совсем как женщина. В доме, видать, кто-то один живет. Но кто же, кто?»
Шараборин сделал шаг вперед, замер на месте и насторожился: до его слуха донесся подозрительный звук. Притаенно молчала тайга, но там, у избенки, в тени деревьев повизгивала безголосая, неуловимая глазом, северная собака.
Дверь в избе отворилась, очертив рамку света. В рамке показалась человеческая фигура, и раздался голос, заставивший вздрогнуть Шараборина:
– Эй, Таас Бас! Зачем воешь? Иди сюда…
Что-то большое и мохнатое юркнуло в дверь, и она захлопнулась.
Страх кольнул в самое сердце Шараборина. У него захватило дух.
– Таас Бас… Таас Бас… – шептал он замерзшими губами. – Так вот кто живет в избе… Однако, я чуть не попался, пропал бы, совсем пропал и задаром…
Одичалым взглядом он обвел поляну, попятился назад, собрался весь, сжался в комок и сильным броском перенес свое тело в сторону от дороги.
Превозмогая усталость, Шараборин пошел в обход поляны, по цельному снегу, отмечая путь четкими следами лыж. Ноги теперь будто сами несли его.
* * *
Хозяин избы член колхоза «Рассвет», старый, известный в округе охотник якут Быканыров проснулся чуть свет. Открыв глаза, он охнул и сейчас же закрыл их.
Только что во сне он видел себя на охоте. В сетке, поставленной им у дупла неохватной лиственницы, бился гибкий и верткий горностай, и вдруг, как назло, пропал сон, пропал и горностай.
Старик лежал еще некоторое время неподвижно, боясь шелохнуться, плотно сомкнув веки, надеясь, что приятный сон вернется к нему, но надежды его оказались тщетны. Сон минул.
«Хороший сон… Хороший горностай… – посетовал старик и открыл глаза. – А что же я лежу? Кто будет за меня разводить камелек? Кто пойдет проверять капканы? Кто покормит Таас Баса?»
Старик перевернулся с боку на бок, приподнял голову и увидел, что стрелка на «ходиках», висящих на стене, приближается к цифре десять.
– Ай-яй-яй! – как бы осуждая свое поведение, сказал Быканыров, поцокал языком, но продолжал лежать. Его глаза забегали по комнате, остановились на потухшем за ночь камельке, скользнули по шкуркам белок, лисиц, горностаев, сушившимся на распялках, пробежали по стеллажу с аккуратно разложенными на нем охотничьими припасами, заглянули в темный угол избы, где в небольшом бочонке хранилось засоленное впрок мясо сохатого, и остановились на бескурковке центрального боя с натертым до блеска прикладом.
Ружье всегда вызывало светлые воспоминания у старика. Он и сейчас подумал о своем далеком и верном друге, который подарил ему это ружье.
– Однако, пора вставать… Совсем ленивый стал, – произнес вслух Быканыров. Он нерешительным движением сбросил с себя большую оленью доху, сел на деревянной койке, застланной пушистой медвежьей шкурой, и свесил босые ноги.
– У-у… как холодно, – заметил он, поежившись, и начал быстро обуваться.
Полчаса спустя уже ярко пылал камелек, и озаренная его светом комната преобразилась и стала уютной.
Быканыров набил махоркой глиняную трубку и распалил ее угольком от камелька. Потом надел через голову короткую дошку из мягкого пыжика и перетянул ее ремнем.
За дверьми послышалось повизгивание собаки.
– Сейчас, Таас Бас, сейчас иду… – подал голос Быканыров и, сняв с колышка на стене коробку из березовой коры, сгреб в нее со стола остатки еды.
Утро стояло морозное, ясное. Чистый воздух, густо настоенный на горьковатых запахах хвои, щекотал в носу, в горле. Лучи восходящего солнца, с трудом пробиваясь сквозь верхушки сосен и елей, золотили поляну. Где-то совсем близко перекликались рябчики.
Пес, восторженно взвизгнув, радостно бросился к хозяину. Он забегал вокруг него, начал подпрыгивать, пытаясь лизнуть в лицо, потом отбежал в сторону, припал на передние лапы, зарывшись мордой в снег, и, наконец, набегавшись вдоволь, улегся у ног Быканырова, уставившись на него преданными глазами.
– Таас Бас… Таас Бас… – дружелюбно заговорил старик. – Ой-ей, есть хочет пес! Ну на, ешь вперед хозяина, – и он опрокинул коробку.
Пес накинулся на еду, помахивая пушистым хвостом.
Таас Бас был необычно велик ростом и походил на волка не только сильно развитой грудью, но и пышной шерстью желто-серой окраски, и черной полосой на спине, и крутым темно-дымчатым загривком. Это был верный друг, чуткий охотник, опытный, неутомимый следопыт, смелый, выносливый пес, не боящийся никаких невзгод и морозов, родившийся и выросший в тайге.
Пока он с хрустом кромсал мощными челюстями мясные кости, Быканыров, попыхивая трубкой, осматривал широкие и недлинные лыжи, подбитые жестким, коротко остриженным камусом.
– Ну ешь, ешь… – сказал Быканыров и направился обратно в избу. – Сейчас пойдем с тобой косачей добывать. И завтрак, и обед будет у нас. Нам много не надо: одного-двух подстрелим, и хватит.
Войдя в избу, старик подбросил несколько поленьев в камелек, чтобы он не прогорел до его возвращения. Потом взял с полки патронташ и проверил каждый патрон. Сняв со стены бескурковое ружье центрального боя, он долго разглядывал, будто видел впервые, и, любовно погладив приклад, закинул за плечо.
Быканыров был очень удивлен, когда, закрыв за собой дверь, не увидел Таас Баса. Никогда этого не бывало. Всегда пес ждал его и следовал за ним неотступно.
Старик огляделся и увидел пса у конца поляны, у излома наезженной дороги. Таас Бас, фыркая и энергично встряхивая головой, что-то обнюхивал.
Старый охотник, встав на лыжи, подошел к собаке и увидел уходящий круто в сторону от дороги совсем еще свежий лыжный след.
Быканыров выбил остатки табака из потухшей трубки и, всмотревшись в след, покачал головой.
– Однако, Таас Бас, кто-то не захотел зайти к нам этой ночью, – обратился он к собаке. – Совсем близко прошел и ушел. Не захотел воспользоваться нашим гостеприимством. Что же это был за человек? Почему он не зашел к нам? Куда он пошел? – продолжал он по старой привычке разговаривать с собакой.
Таас Бас, стоя в снегу по самое брюхо, поводил ушами и, тихонько повизгивая, всем своим видом как бы призывал хозяина заняться обследованием обнаруженного следа.
След заинтересовал и Быканырова. Перебравшись на свежую лыжню, он средним шагом пошел по ней, внимательно всматриваясь вперед. Таас Бас прыгал по цельному снегу, выдерживая между собой и хозяином небольшую дистанцию.
Зоркий, опытный глаз старого таежного охотника сразу подметил и определил многое: лыжню проложил таежный человек, и скорее всего якут. Шел он на северных коротких и широких, как у Быканырова, лыжах и без помощи палок. Походка у него тяжелая и необычная, немного припадает на левую ногу. Он очень устал, так как сделал четыре остановки, несколько раз прислонялся к стволу дерева, а один раз даже опустился на снег, для того, видно, чтобы передохнуть.
Пройдя километра полтора и обнаружив, что лыжный след полукругом обегает поляну, где стоит его изба, Быканыров без труда понял, что неизвестный сделал крюк умышленно.
На втором километре старик увидел Таас Баса. Тот лежал на хорошо утоптанном месте и, высунув розовый язык, тяжело дышал.
Быканыров приблизился и также без труда определил, что неизвестный именно здесь делал привал и, возможно, спал. Он не разводил огня, но вмятые в снег ветви ели говорили о том, что на них лежал человек.
А дальше от привала в тайгу опять шел все тот же, еще более свежий след лыж.
На месте привала неизвестного Быканыров присел на корточки, вынул из кармана трубку, набил ее табаком, закурил. Взгляд его стал озабоченным, встревоженным. В голове безотчетно зароились беспокойные мысли. Что вынудило человека скрываться? Почему он, уставший, пренебрег теплом, отдыхом и предпочел спать на голом снегу, на холоде?
«И, видно, желудок у него был пуст, коль нет никаких следов еды», – подумал Быканыров и, оторвавшись от раздумий, опять обратился к своему спутнику Таас Басу:
– Зачем он спал здесь? Почему не пришел к нам? У нас хорошо, тепло… Как ты думаешь?
Пес встал и завилял хвостом. Он склонял голову то в одну, то в другую сторону и заглядывал в глаза хозяину.
– Мы должны знать, что за человек был здесь, – продолжал Быканыров. – Однако неспроста он обошел нашу избу. Однако неспроста он испугался нас. В тайге так не бывает. В тайге человек человеку тогор[2]. Видать, это худой человек. И в голове у него что-то худое. Пойдем обратно домой. Захватим припасов и пойдем по следу…
Быканыров приподнялся и посмотрел на небо.
Таас Бас, как бы поняв его мысли, взвизгнул и бросился по лыжне к дому.
Верный и преданный друг старого охотника Таас Бас был участником многочисленных и опасных приключений за несколько лет своей жизни в тайге.
Однажды на охоте, когда смертельно раненный медведь бросился на Быканырова и уже готов был подмять его под себя, собака, защищая хозяина, самоотверженно бросилась на зверя и с яростью вцепилась ему в горло.
Медведь дважды огромной когтистой лапой ударил собаку по голове, но та не только устояла, но и выжила, сохранив на лбу глубокие рубцы. С тех пор за ней прочно закрепилась кличка Таас Бас, что означает по-якутски Каменная голова.
Ночное свидание
Шараборин был уже недалеко от цели, когда его настиг обильный снегопад. В полном безветрии снег падал ровно, тихо, большими мягкими хлопьями и ровным слоем ложился на уже белую, покрытую первым снегом землю.
Снегопад и радовал и пугал Шараборина. Радовал потому, что снег заметал его следы, а свои следы, как всякому злоумышленнику, ему хотелось скрыть. Пугал потому, что снег сильно затруднял и замедлял движение. К тому же как ни экономил Шараборин, но еще вчера иссякли ничтожные остатки провизии, и сейчас он испытывал знакомые ему муки голода. Оставалась в запасе лишь начатая фляга спирта, но она ничего не значила без еды.
Правда, у Шараборина были деньги. Много денег. Последний и довольно большой куш он недавно получил от Гарри. Часть денег Шараборин хранил в своем таежном тайнике, куда, кроме него, не ступала ни одна человеческая нога, а часть держал на всякий случай при себе. Но что такое деньги в тайге для такого человека, как Шараборин? Ненужные бумажки, лишний груз, лишнее беспокойство. В любом наслежном совете, в фактории Якутпушнины, в приисковом поселке Шараборина спросят, кто он и куда держит путь. А если и не спросят, то опознают в нем старого знакомого, и тогда… Нет, тайга – плохое дело. Здесь нет ресторанов, буфетов, ларьков и магазинов с заманчивыми вывесками, которых так много на железнодорожных станциях, где можно купить все, что душе угодно, и где никто не спросит тебя, кто ты такой, откуда, где взял деньги. Плохо в тайге. И хоть велика она, не окинешь глазом, а каждый человек в ней на виду и на счету, да еще такой человек, как он.
Шараборин боялся наткнуться невзначай на жилье, на стойбище охотников, на людей. Он боялся показать себя и воздавал хвалу небу, что, переборов себя, не заглянул в избу старого охотника – хозяина Таас Баса.
И вообще чем меньше он будет попадаться на глаза людям, тем лучше.
Пока все шло удачно, но надо, чтобы удача сопровождала его и далее.
Может быть, это его последняя ходка к Оросутцеву? А потом он станет свободен и не будет чувствовать над собой хозяина? Деньги, хотя и нажитые нечестным путем, ничем не отличаются от тех, что добыты горбом и мозолями.
Деньги остаются деньгами. А денег у Шараборина достаточно, чтобы, не заглядывая в завтрашний день, прожить, ни в чем себе не отказывая, добрый десяток лет. Да и как знать, возможно, что эти деньги принесут новые деньги!..
Чувствуя дрожь во всем теле от голода и холода, безмерно уставший, измученный долгим путем и озлобленный, Шараборин к исходу дня достиг наконец цели.
Снег перестал идти. Прояснилось, похолодало. Над горизонтом висело заходящее густо-красное негреющее солнце.
Сквозь поредевшую тайгу Шараборин увидел небольшой рудничный поселок.
Шараборин хорошо знал это место: он его покинул полгода назад, когда отправился на свидание к Гарри. А сейчас Шараборин не мог внутренне не подивиться, как это успел так увеличиться этот маленький, затерявшийся в тайге, глухой поселок? Что движет его рост? Что за люди живут в нем и заставляют его разрастаться? Шараборин заметил две совершенно новые улочки, аккуратные и крепкие, точно кедровые орешки, домики, рубленные из свежей сосны, с весело улыбающимися окнами. И, конечно, в этих новых домах, как и в старых, в тех, что он видел полгода назад, живут беспокойные люди, потому что из труб домов вьются тоненькие и совсем лиловые в лучах заходящего солнца дымки.
Шараборин услышал человеческие голоса, от которых за время скитания по безлюдью, глухомани, по таежным крепям уже отвыкло его ухо. И эти голоса не радовали, а тревожили напряженные и измотанные нервы, озлобляли и без того недоброе сердце Шараборина.
Он остановился, оперся о ствол сосны, сощурил свои узко прорезанные глаза и закусил толстую, мясистую губу. Он тяжело переводил дыхание и слышал, как учащенно стучит его сердце.
Между тем быстро наступали сумерки. Солнце уже скрылось в тайге.
Шараборин чувствовал, что теряет остатки сил и воли, но ум его работал. Он понимал, что сейчас, в данный момент, вход в рудничный поселок ему закрыт. Закрыт до той поры, пока на тайгу окончательно не падет ночь, пока сон не смежит глаза жителей поселка.
Неощутимые токи морозного воздуха донесли вдруг до Шараборина сильный раздражающий запах. На него дохнуло чем-то сытным, вкусным, приятным.
Дохнуло так сильно, что запершило в горле, защекотало в ноздрях, засосало внутри, свело скулы. Шараборин глотнул воздух, и болезненная гримаса изуродовала его лицо.
Он молил судьбу и небо об одном, о том, чтобы поскорее попасть в теплый дом, хоть что-нибудь съесть и поскорее избавиться от этого нудного, сверлящего чувства голода.
Сумерки сгущались, но наметанный глаз Шараборина легко подметил, как из домика с одним оконцем, стоявшего на отшибе, вышел высокий мужчина и направился в глубь поселка. Около рудничной конторы он встретился с другим мужчиной, поменьше его ростом, который, судя по его неторопливой походке, скорее прогуливался, чем шел с какой-нибудь определенной целью.
Двое мужчин несколько секунд постояли на месте, а потом медленно пошли рядом, о чем-то разговаривая, и скоро скрылись с глаз Шараборина.
Сколько времени прошло с этого момента, – он не помнит. Ему показалось, что прошла целая вечность. Но вот к однооконному домику, стоявшему на отшибе, быстрыми шагами стал приближаться высокий мужчина.
Несмотря на темноту, Шараборин видел, как этот высокий человек, подойдя к дому, остановился, помедлил, пошарил в карманах и достал, видимо, ключ, так как после этого послышался звук, похожий на тот, который производит ключ, вставленный в замочную скважину.
Дверь открылась и закрылась, и вскоре через оконце пролился неуверенный свет. С этой минуты Шараборин не сводил глаз с домика, где его ожидало спасительное тепло, и Шараборину казалось, что он больше ощущал, чем видел однооконный рубленый домик, сливающийся с темнотой. Но Шараборин ожидал. Время идти еще не настало. Полузамерзший, он продолжал стоять около сосны, прислушиваясь и вглядываясь вперед.
* * *
Когда настала полночь и в поселке погасли огни, Шараборин медленно, все время озираясь, подполз к домику, рванул дверь на себя и, переступив порог, вошел внутрь.
Человек, сидевший на табурете возле жарко пылавшей железной печи, спиной к двери, резко обернулся и встал. Он был значительно выше Шараборина и головой едва не задевал горевшую в полнакала, под самым потолком засиженную мухами и запыленную лампочку. На нем была застиранная байковая рубаха, стеганые ватные брюки, торбаза из камуса, достигавшие бедер и поддерживаемые тоненькими ремешками, закрепленными за поясной ремень, на котором висел длинный якутский охотничий нож.
Хозяин, нахмурившись и немного наклонив голову, посмотрел на вошедшего, окутанного клубами холодного воздуха, и не сразу узнал его. И лишь когда холодный воздух растворился и Шараборин, как медведь, встряхнулся всем корпусом, хозяин дома скорее угрюмо, чем приветливо, проговорил низким, неприятно отрывистым голосом:
– Шараборин! Капсе[3].
– Сох капсе[4]. Дорообо[5], Василь… – устало ответил Шараборин.
– Где тебя столько времени нелегкая носила?
Шараборин шумно вздохнул, будто сбросил с себя непосильную ношу, и, скинув доху, опустился на койку.
– Есть хочу… Есть… Дай, а то подохну…
Хозяин молчал.
Шараборин на мгновение замер, тупо уставившись на свои ноги.
– Покорми, – вновь, раздраженно заговорил он. – Пропадаю. Арыгы бар[6]?
– А деньги есть? – в свою очередь, спросил хозяин и усмехнулся. – Если есть, тогда и спирт будет.
Шараборин нехотя полез в карман. Он точно знал, что не имеет мелких денег, и, скрепя сердце, вынул и отдал сторублевку.
– Ну вот, сейчас и выпьем. И под хорошую закуску, – сказал хозяин, натягивая на себя ватную стеганую фуфайку. – Садись ближе к печи и обогрейся. Продрог, видно. Садись, я быстро вернусь.
Дверь открылась и вновь закрылась. Опять заклубился холодный воздух, но горячее дыхание раскаленной печи сразу съело его.
Шараборин пересел с койки на табурет возле самой печи. От усталости, от охватившего его тепла и спертого воздуха, от сырой невыделанной кожи и пересушенных валенок его начало размаривать. Он сразу опал, как перестоявшееся тесто, и тупым взглядом обвел комнату. Ее убранством служили кривоногий сосновый стол, два табурета, железная, видавшая виды кровать, заправленная меховым одеялом, и полка для посуды и еды, завешанная пожелтевшей от времени газетой. В углах большой слабо освещенной, с черными, закопченными стенами комнаты таились сумрачные тени.
Взгляд Шараборина остановился на узком окне, затянутом толстым слоем льда.
«Видно через него снаружи или не видно? – подумал Шараборин. Ему хотелось, чтобы он и сейчас, здесь в избе, был не видим никем. – Нет, не видать, шибко толстый лед…»
Шараборин с трудом осознавал, что сидит в избе, под надежной крышей, у горящей печи, а там, за этим вот окном, затянутым льдом, – лютый холод.
Под влиянием тепла и усталости в его затуманенной голове возникали разные картины.
Ему чудилось, что он еще бредет по тайге, продираясь сквозь чащобу, путаясь лыжами в заметенном снегом буреломе и валежнике, падает. Тогда он вскакивал с табурета с приглушенным криком и недоуменно водил вокруг глазами…
Хозяин вернулся в дом через полчаса. Он вынул из-за пазухи литровую бутылку водки, уже прихваченную у самого горлышка морозом, и поставил ее со стуком на стол, снял с себя ватник и бросил его на койку.
– Вот сейчас и погреемся, – проговорил Василий, потирая руки и заглядывая под газету на полке.
– Пора, пора… – глухо отозвался Шараборин. Он томительно выжидал, когда хозяин выставит на стол что-нибудь из еды.
Тот снял с полки и поставил на стол большую эмалированную миску со студнем, кусок холодного вареного мяса, несколько пшеничных лепешек, донышко от разбитой бутылки, наполненное крупнозернистой солью.
– Садись, непутевый, – с усмешкой пригласил хозяин гостя к столу и, взяв литровку в руки, ловким и несильным ударом выбил из нее пробку.
Шараборин, сделав над собой усилие, поднялся и, чувствуя, как дрожат ноги, придвинул табурет и сел.
Хозяин наполнил две жестяные кружки водкой. Своим большим охотничьим ножом разрезал на четыре равные части покрытый корочкой застывшего жира студень и разломил на куски лепешки.
– Пей! – подал команду Василий так резко, что Шараборин даже вздрогнул.
Он трясущейся рукой взял кружку, быстро поднес ее ко рту и залпом выпил всю водку.
– Ну как? – поинтересовался, усмехаясь, Василий, зажав в руке свою кружку.
– Учугайда[7] … – ответил Шараборин и жадно набросился на еду. В мгновение ока проглотил два куска студня, даже не прожевав их как следует, затем, круто посолив мясо, принялся за него. И лишь утолив первый голод, более спокойно произнес:
– Однако шибко трудно было. Долго шел к тебе. Почти сто дней шел. Будь она проклята, эта дорога.
Василий неторопливо, маленькими глотками отхлебывал из кружки водку, причмокивал языком и как бы в знак согласия со словами гостя кивал головой.
– Когда же ты видел Гарри? – спросил он, опорожнив бутылку.
Шараборин проглотил кусок мяса и, принимаясь за новый, ответил:
– В сентябре.
– С документами пришел или опять нелегалом?
– Гарри дал диплом. Теперь я учитель. А все одно, без паспорта боязно, все идешь и оглядываешься. Как человек – так в сторону шарахаешься. А как спишь – разное плохое снится.
– Ну и как же ты дальше думаешь? – поинтересовался Василий, тоже начиная закусывать.
Шараборин промолчал и сделал вид, будто не слышал вопроса. Он знал, что можно и чего нельзя говорить Василию. Знал, что за человек Василий, и обычно к его заинтересованности относился настороженно и даже со страхом.
Он знал, что из рук Василия не так просто вырваться, знал, что всякий, ставший на его пути, мог заранее считать себя погибшим, знал и кое-что другое. Шараборин питал неприязненные чувства к Василию, временами даже ненавидел его. И эта ненависть накапливалась постепенно, годами, с того далекого, ушедшего в прошлое, но не забытого дня, когда их впервые свела злая судьба на узкой таежной тропе. Произошло это недалеко от границы, где никак нельзя было разминуться. Тогда впервые Василий отдал Шараборину приказание.
Да, Шараборин хорошо знал Василия, а поэтому в каждом его слове, вопросе, намерении, совете, распоряжении всегда искал что-то затаенное, какую-то заднюю мысль, направленную против себя. Шараборину было известно, как расправлялся Василий иногда со своими проводниками, которые доводили его до границы, и благодарил Бога, что трижды благополучно отделывался от Василия. Шараборин запомнил на всю жизнь, как однажды Василий бросил его без гроша в кармане и без документов на произвол судьбы в незнакомом и чужом Шараборину городе Харбине, объяснив все после тем, что он был якобы пьян и ничего не помнит. На самом же деле Василию очень хотелось тогда, чтобы Шараборин попал в лапы жандармерии.
– Что же ты молчишь? – спросил Василий.
– А?
– А-а! Глухая тетеря.
Шараборин постарался изобразить на лице добродушную улыбку и вышел из-за стола. Он сел на полу посредине комнаты, снял с ног торбаза, чулки из заячьего меха и начал растирать уставшие ноги.
Его левая ступня напоминала собой деревянную колодку, на которой торчал небольшой черный сучок – остаток уцелевшего пальца-мизинца.
Остальные четыре пальца ноги ему начисто отхватило пулей при побеге его в прошлом году из лагеря.
– Здорово тебя обработали, – заметил хозяин дома Василий.
– Ничего, здорово, – согласился Шараборин.
– Хромаешь?
– Маленько хромаю, – и, чтобы не тревожить себя неприятными воспоминаниями, заговорил о другом: – А как тут, на руднике?
Василий вынул пачку «Беломорканала», закурил.
– Место спокойное. Тайга – святое дело.
– А на ту сторону ходил?
По лицу Василия скользнула тень.
– Трудновато теперь. Время другое. Изменилось многое. Китайцы погоду подпортили. Ну а Гарри что сказал? Выкладывай.
Шараборин медленно обулся, встал и похлопал себя по голове.
И на этот раз Василий сказал, как бывало с ним часто, – резко и грубо:
– Гарри написал что-нибудь?
– Да, маленько написал.
– Давай-ка быстрее намыливай голову. Вон таз с водой, а вон обмылок. Действуй, а я пока бритву направлю.
Пока Шараборин послушно намыливал успевшие отрасти рыжие волосы, Василий достал из чемодана бритву, направил ее на ремне, попробовал лезвие на своем ногте.
– Садись, – сказал он, вытолкнув ногой на середину комнаты табурет, и, когда Шараборин водворился на нем, упершись руками в колени, Василий начал брить его голову.
Хозяин брил, а гость, борясь с одолевавшей его дремотой, размышлял над тем, почему Гарри и Василий не все ему доверяют и не высказывают ему всех своих планов. Его донимала обида. Вот уж в который раз в течение последних лет до ареста и судимости и после их он ходил от Василия к Гарри и обратно. Терпит лишения, невзгоды, голод, холод, подвергает постоянно свою жизнь опасности, а так и не знает, какая между ними тайна, о чем они переписываются, что они боятся доверить ему. А тайна, видать, важная, если они ее так оберегают.
Но приходила в голову и другая мысль: может быть, так лучше, что Гарри и Василий не посвящают его полностью в свои дела. Обидно, конечно, что они не считают его своей ровней, но, наверное, так безопаснее. Одно дело отвечать за что-то, тебе неизвестное, и совсем другое – за то, что ты сам хорошо знаешь.
А лучше всего, конечно, избавиться вовсе и распрощаться как с Василием, так и с Гарри. Распрощаться и покинуть Якутию. Как ни просторна она, как ни густа тайга в ней, но шагать по ней с каждым годом становится все труднее, все опаснее. Правда, Гарри обещал пристроить его где-нибудь за пределами Якутии, но можно ли положиться на Гарри и верить ему? Давно он обещал это, но что-то не торопится исполнить свое обещание. А жить в вечном страхе, вечной неуверенности надоело. Сильно надоело. Да и как долго наконец ему еще таиться диким зверем, спать и глядеть одним глазом, точно заяц, ожидать со дня на день, что вдруг схватят, скрутят и упекут опять в лагерь! Деньги на первое время есть…
– Прямее сядь, – строго приказал Василий и ткнул Шараборина пальцем в лоб.
Шараборин оторвался от своих мыслей. Он почувствовал, что череп его снова гол и что Василий натирает его бритую голову влажной тряпицей. На гладкой коже головы уже проявлялись отчетливо и контрастно мелкие фиолетовые буковки.
Василий сосредоточенно всматривался в закодированный Гарри текст и, когда уяснил и запомнил смысл распоряжения, еще раз протер голову Шараборина и сказал:
– Все, теперь ложись спать…
Шараборин встал, облегченно вздохнул и стряхнул с себя пучки налипших волос.
– Однако, крепко спать буду, – сказал он, трогая голый затылок.
– Ну и спи, – разрешил Василий.
Той Хая
Обильно выпавший снег прочно укрыл замерзшие реки, загроможденные наносником, озера, болота, кочкарники, мшаны, мари, валежники и, как бы выровняв, скрыл все изъяны земли. И залег снег надолго, до далекой-далекой в этих местах весны.
Установились лютые морозы: столбик ртути опускался порой за сорок градусов. На скованных морозом реках вспухал, пучился и лопался лед, и прорывавшаяся наружу вода образовывала натеки, наледи, именуемые по-местному тарынами. Над ними курился густой, как молоко, холодный пар.
Раскалывались с ружейным треском стволы деревьев, и звонко, чуть ли не за километр было слышно, как скрипят неподрезанные полозья саней. Земля окоченела так, что при ударе металлом можно было выбить искру.
Закрепилась длинная якутская зима.
В центре переплетения якутских хребтов лежал, будто затерянный и отрезанный от жилых мест огромными пространствами, небольшой районный центр. Домики стояли поодаль друг от друга, вытянувшись в одну длинную улицу. В крайнем, более крупном, по сравнению с остальными домиками, мерцал огонек. Шагах в двадцати от него на чистом снежном фоне четко вырисовывались контуры самолета, закрепленного на расчалках. У самолета маячила одинокая фигура. Вот человек вскарабкался на крыло самолета и влез в кабину. Минуту спустя задвигался винт, мотор чихнул, фыркнул, заставив вздрогнуть самолет, сердито выплюнул через выхлопные трубы комки огня и черного дыма, чихнул еще несколько раз сряду и потом заработал четко, гулко, бесперебойно.
Прогрев мотор и выключив его, человек в меховом комбинезоне, похожий на медведя, легко выпрыгнул из кабины, натянул брезент и прошел вокруг самолета. Он окинул все хозяйским взглядом, попробовал прочность крепления и лишь тогда направился к дому, в котором мерцал огонек. Он открыл тяжелую толстую дверь, обитую лошадиной шкурой.
Просторная комната с вымытым добела деревянным полом освещалась керосиновой лампой, висящей в самом центре.
У стола, на деревянной скамье, перед портативной радиостанцией, с наушниками на голове сидела девушка в военной гимнастерке с погонами сержанта. Она напряженно вслушивалась в таинственные «точка – тире», шедшие по эфиру откуда-то издалека, и быстро наносила их на лист бумаги.
Перед ярко пылавшим в очаге огнем стоял худой, высокий майор с продолговатым суровым лицом и ясным, твердым взглядом. Его жестковатый, крупный и плотно сомкнутый рот походил на прямую линию. Глубокая ложбинка разделяла надвое большой подбородок, коротко подстриженные волосы были тронуты сединой. На лбу, возле уголков глаз и рта – морщины. Его тонкие брови тянулись к самым вискам.
Майор, расставив ноги, грел у огня руки, а когда дверь открылась, – обернулся.
Не пристальным, а спокойно-внимательным взглядом он посмотрел на вошедшего и низким голосом спросил:
– Ну, как там дела, старший лейтенант?
Вошедший был летчик, якут Ноговицын. Смуглое широкое приветливое лицо хранило на заметно выпирающих скулах отпечатки таежного мороза. Черные подвижные глаза старшего лейтенанта смотрели весело и пытливо. С первого взгляда Ноговицын мог показаться не в меру широким, громоздким, неповоротливым, но как только сбросил с себя огромный меховой комбинезон, стал небольшим крепышом.
Он энергично потер руки и подошел к майору.
– Сильно хорош мороз, – бодро сказал он. – Под сорок пять градусов подкатывается. При таком морозе, как говорит мой командир, можно превратиться в ледяную окаменелость.
Ноговицын бросил взгляд на занятую приемом радистку, повесил комбинезон на деревянную перекладину возле печи и, усевшись на скамью у стены, стал снимать торбаза.
– Вы представляете себе, – продолжал он, обращаясь к майору, – что это значит, когда ртуть падает за сорок? Это значит, что обыкновенный ртутный градусник летит к шутам и на его место выходит спиртовой.
Майор кивнул головой и, тихонько насвистывая, вынул из кармана коробку «Казбека» и протянул Ноговицыну.
– Курите, старший лейтенант.
Майор тоже взял папиросу, помял ее, постучал мундштуком о ноготь большого пальца и, ловко выхватив голой рукой из очага маленький уголек, прикурил.
– Разрешите? – потянулся к нему со своей папиросой Ноговицын.
Они теперь вдвоем стояли у огня и молча дымили папиросами.
После долгой паузы майор спросил летчика Ноговицына:
– Не застрянет в дороге наш механик?
Ноговицын пожал плечами:
– Не думаю. Он проворный паренек. И потом, до нефтебазы дорога хорошо накатана, и коней ему хороших дали. Тут всего езды-то туда и обратно часа три, не более. Я был как-то на этой нефтебазе. Да и другого выхода у нас нет. Масла не хватит. – Он помолчал немного, посмотрел еще раз на радистку, перевел глаза на койку в углу, с разостланным на ней спальным мешком, и добавил: – А что если я попробую доспать недоспанное? А? Возражений не будет?
– Отдыхайте, – сказал майор, и Ноговицын направился к койке.
Радистка закончила прием, сняла наушники и закрыла радиостанцию.
– Из Якутска, Надюша? – поинтересовался майор.
– Так точно. Сейчас расшифрую.
Девушка встала из-за стола и полезла в сумку, висевшую у окна. Она была невелика ростом, хорошо сложена и, как женщина севера, сравнительно широка в плечах и немного узка в бедрах. В ее округлом лице мягко сочетались черты русской и якутской женщины: большие темно-серые глаза, прикрытые густыми ресницами, тонкие прямые брови, прямой нос, заметно выделяющиеся скулы, густые черные волосы, заплетенные в две косы и уложенные на затылке. Четкий рисунок небольшого рта с как бы припухшими губами, и смуглый цвет кожи.
Вернувшись к столу, она села за расшифровку радиограммы.
Майору очень хотелось знать, что сообщает Якутск. Два дня назад, по радио, он полностью отчитался о проделанной здесь работе, о точном выполнении полученного задания. Вчера ему разрешили вылететь в Якутск из района, где он провел с радисткой Надей Эверстовой без малого два месяца.
Сегодня за ним прислали специальный самолет, чтобы сократить время на обратный путь до Якутска, так как на перекладных этот путь занял бы добрую неделю.
В чем же дело? Зачем еще радиограмма, когда все сказано, пересказано и уточнено через летчика Ноговицына? О чем может идти речь? Может быть, он что-нибудь не так сделал? Или его отчет, возможно, потребовал пояснений?
«Да нет, не может быть, – подумал про себя майор. – Все ясно, как божий день. А если ясно, тогда зачем же?..»
Летчик Ноговицын, решивший доспать недоспанное, лежал с открытыми глазами и поглядывал на радистку. Видно, и его не меньше, чем майора, интересовало содержание радиограммы. Ему ясно приказали в Якутске лететь за майором и радисткой и побыстрее возвращаться, так как предстоял вылет в Олекму, а теперь вдруг радиограмма. Интересно, очень интересно.
Майор, накинув ватную фуфайку, вышел из избы. Его мгновенно охватил обжигающий студеный воздух. Он невольно поежился: ну и мороз!
Поздняя луна в морозном венце, осторожно раздвигая гребешок тайги, прокрадывалась на небо. Майор вдохнул воздух и сразу почувствовал, как будто кто-то кончиком иголки дотронулся до верхушек его легких. Он плотно сомкнул губы, запахнул поплотнее фуфайку.
Когда он вернулся в избу, сержант Эверстова встала из-за стола, подошла к нему и подала листок бумаги.
– Из Якутска, срочно… – сказала она.
Майор быстро пробежал глазами содержание небольшой радиограммы и невесело усмехнулся.
– Ну вот, видите, Надюша! Я вам говорил, что никогда не загадывайте вперед. Вы, кажется, мечтали завтра кушать пироги дома?
Лицо радистки выражало разочарование. Она вскинула округлые плечи и покачала головой.
– Бывает…
– Что такое, если не секрет? – спросил Ноговицын. Он приподнялся с койки, отбросил спальный мешок и спустил ноги.
– Никакого секрета нет, – ответил майор. – Вы правильно сделали, что послали за маслом. Нате, познакомьтесь, – и он подал летчику радиограмму.
Ноговицын прочел вслух:
«Майору Шелестову. Командировку продляю на десять суток. Немедленно вылетайте с радисткой на рудник Той Хая, разберитесь с происшествием и результаты радируйте. Посадочная площадка к вашему прилету будет подготовлена. Полковник Грохотов».
– Да-а-а… – протянул Ноговицын, возвращая радиограмму. – Вместо Якутска – Той Хая. Это, конечно, не одно и то же, скажем прямо. Я как-то пролетал над рудником, но садиться не садился. Вот дела-то какие… – Он вынул из-под подушки планшетку с картой и начал отыскивать на ней местонахождение рудника.
Майор Шелестов прочел еще раз распоряжение полковника Грохотова и, подойдя к очагу, бросил бумагу в огонь.
– Значит, командировка затягивается, – заметил, ни к кому не обращаясь, летчик Ноговицын.
– Ничего не попишешь, – сказал майор. – Приказ есть приказ.
Полковник правильно рассчитал. Отсюда до Той Хая, наверное, раза в два ближе, чем от Якутска.
– Два часа лету при попутном ветре, никак не больше, – доложил старший лейтенант и захлопнул планшетку. – Вот я и выспался, – добавил он весело.
– Да, спать не придется, – сказал майор, взглянув на часы. – Хватило бы времени к возвращению механика уложиться. Собирайте свое хозяйство, Надюша.
* * *
В бездонном небе, среди звездной россыпи, глухо рокоча мотором, плыл невидимый с земли самолет. Под ним лежала, казалось, беспредельная и бесконечная, непроходимая и глухая тайга. Ночью, с высоты, она походила на безбрежное окаменевшее море.
Радистка Эверстова, примостившись в уголке, у сложенных вещей, и натянув на себя до пояса спальный мешок, дремала.
Майор Шелестов сидел, привалившись плечом к стенке фюзеляжа, и досадовал на себя, что не послушал летчика и отказался от спального мешка.
Он чувствовал, как под его теплую одежду пробирается мороз и холодит тело.
Ему казалось, что время тянется как никогда медленно и что летят они не второй час, а целую вечность. Он завидовал Эверстовой, что та, пригревшись, дремлет и этим сокращает время.
А тут еще в голову лезли всякие мысли. Что за происшествие стряслось на руднике Той Хая? Видимо, какое-то необычное, чрезвычайное, коль скоро потребовался немедленный вылет. Да и срок командировки продлен на десять суток. Это не шутка – десять суток. За такой срок можно облететь все районы Якутии.
Пробыв долгое время в командировке, Шелестов последние дни высчитывал каждый час, приближающий его встречу с женой и дочуркой, по которой он уже стосковался. Сегодня вечером он подумал: «Даже не верится, что через шесть-семь часов я буду дома». И вот теперь радостное свидание отодвигалось на целых десять дней. Да и неизвестно еще, хватит ли этих десяти дней на то, чтобы разобраться с происшествием. Происшествия бывают разные. Уж поскорее бы узнать, в чем там дело. Нет ничего хуже неведения, хотя бы оно продолжалось лишь несколько часов.
Старший лейтенант Ноговицын плавно положил машину на бок, затем выровнял ее и повел на снижение. Шелестов поежился, подергал плечами и потянулся к оконцу. Он подышал на него, и сквозь проталинку увидел мигающие внизу огоньки поселка, приближающиеся и быстро увеличивающиеся костры. Их было много, больше десятка, и они образовывали длинный и широкий коридор. Потом замелькали маленькие, подвижные на снегу точки – бегающие люди. И снова майор подумал: что же произошло на руднике?
«Даже в таком глухом месте не обходится без происшествий, – подумал он. – Что за времена пошли такие беспокойные!»
Самолет опустился на свои лыжи, гладко, без толчков и тряски пробежал по ровному цельному снегу и замер, рокоча приглушенным мотором.
Майор Шелестов выпрыгнул из кабинки первым и затанцевал на месте, стараясь отогреть прихваченные морозом ноги. К нему тотчас же подбежало двое мужчин: один высокий, в короткой легкой оленьей дошке, другой небольшого роста, в огромной, видимо, тяжелой волчьей дохе с пушистым лисьим воротником.
Лиц обоих майор не смог рассмотреть при всем желании.
– Товарищ Шелестов? – последовал вопрос со стороны человека в волчьей дохе. Он приблизился к майору, пытаясь разглядеть его лицо.
– Так точно, Шелестов. С кем имею дело?
– Я заместитель директора рудника по найму и увольнению – Винокуров, – представился человек в волчьей дохе. – А это – комендант рудничного поселка, – представил он спутника.
– Белолюбский, – назвал себя высокий, подал руку и поинтересовался: – Промерзли?
– Немного есть…
– Да, морозец правильный, до костей пробирает, – заговорил Винокуров тоненьким голоском и вдруг пронзительно крикнул: – Эй, ребята! Закройте самолет хорошенько и оставьте одного дежурить. А через часок я смену подошлю. Так бросать машину, без присмотра, неудобно.
– Правильно, – одобрил Ноговицын.
Вышли механик и радистка.
– Прошу в сани, – пригласил Винокуров. – Тут совсем рядом – с полкилометра. Мы только час назад получили указание по радио подготовить для вас посадочную площадку и выложить костры. И, как видите, все в порядке, как на заправском аэродроме. Собрали быстро людей, подвезли сухих дров, керосину. Нам и мороз нипочем.
Все направились к саням, стоявшим в отдалении.
Винокуров не шел, а бежал легонько, вприпрыжку, сбоку тропинки, по которой шагал майор и его спутники. Шелестову казалось, что заместителя директора следовало бы похвалить за проявленные им распорядительность и расторопность, но он почему-то промолчал.
Широкие русские, устланные сеном розвальни приняли в себя всех прилетевших, Винокурова и Белолюбского. Пузатый и мохнатый конь всхрапнул, привычно тронул с места тяжелый груз и легко потащил его к рудничному поселку.
На пригорке у самого поселка розвальни начало раскатывать по наезженной дороге, и старший лейтенант Ноговицын пошутил:
– Побалтывать начинает…
Эверстова засмеялась, но Шелестову было не до смеха. Он был не прочь пройтись пешком до поселка, чтобы отошли ноги.
Рудничный поселок ночью выглядел беспорядочным: его можно было принять за скопище деревянных построек, разбитых без плана, без улиц.
Розвальни катились возле высокого дощатого забора, иногда задевая его, и, наконец, остановились у занесенного снегом, неуютно выглядевшего рубленого домика.
– Вот тут для вас комнату приготовили, – показал на дом рукой Винокуров. – Это у нас специально для приезжих, вроде как гостиница «Гранд-Отель» в Москве. Правда, она не совсем благоустроена, но…
– Это неважно, – прервал его майор Шелестов. – Устраивайте моих товарищей, а мне надо побеседовать с директором.
– Директор в отъезде, я за него.
– Ну, тогда с вами.
– Сейчас?
– Конечно, сейчас. Где тут удобнее место для этого? – и майор, сойдя с саней, начал оглядывать теснящиеся вокруг домики.
– Пожалуйста, ко мне. Это рядом, – предложил Винокуров и обратился к коменданту: – Товарищ Белолюбский, проводите гостей. Печь там горит, постели готовы. Распорядитесь насчет еды. Посмотрите, хватит ли дровец на ночь. Если маловато, то не выпрягайте лошадь и подбросьте охапки три-четыре березовых. Можно у меня взять.
– Понятно, – коротко отозвался комендант и пригласил летчика, механика и радистку следовать за ним.
Винокуров провел майора Шелестова в рудничную контору, – строение барачного типа, – где помещался его кабинет.
Пока Винокуров отыскивал подходящий ключ, так как свой он некстати оставил дома, Шелестов разглядывал доску на стене, залепленную листочками разных объявлений.
Наконец они попали в кабинет, и Винокуров включил верхний и настольный свет.
В кабинете Винокурова, кроме старомодного стола, нивесть откуда попавшего сюда, большого кожаного кресла и железного шкафа в углу, ничего не было. И пока Винокуров отыскивал стул для гостя, Шелестов подумал, что заместитель директора или очень деловой человек, не любящий, когда у него засиживаются посетители, или очень строгий начальник, которому нравится, когда его подчиненные докладывают ему стоя.
Теперь при свете, когда Винокуров почти утонул в глубоком кресле, майор смог рассмотреть его внешность. Это был подвижный, небольшого роста человек с белыми выцветшими бровями, из-под которых по-детски наивно смотрели маленькие голубые глаза. У Винокурова был тонкий острый нос и вьющаяся русая бородка, которую он то и дело подергивал. Общий вид у него, как решил майор, был какой-то расстроенный, вымученный. Казалось, что его мозг занят разрешением недоуменной или непосильной для него задачи.
Закурив и выдержав паузу, насколько позволяло приличие, Шелестов обратился к заместителю директора:
– Что у вас произошло?
Винокуров как бы подпрыгнул на месте, занял удобную позу и, вцепившись руками в подлокотники кресла, заговорил:
– Странная, темная история. Именно темная. Вам, конечно, известно значение нашего рудника. Предприятие, так сказать, номерное, особое. Сейчас ведутся все подготовительные работы к официальному открытию и пуску в эксплуатацию рудника в первом квартале нового года. Помимо этого правительством рассмотрен и утвержден план создания на базе нашего рудника целого комбината. Вы понимаете – комбината? Комбината, который преобразит все вокруг. И это в тайге, в глуши, вдали от железной дороги, где несколько лет назад не ступала нога человека. Когда я задумываюсь…
– Одну минутку, – вежливо прервал майор. – Значение и перспективы вашего рудника мне отлично известны. Это не совсем то, что мне сейчас нужно. Меня сейчас интересует другое, что за происшествие у вас стряслось?
– Пожалуйста, пожалуйста… Прошу прощения. Я полагал, что это будет иметь значение. Так сказать – фон. Общий фон. – Он часто заморгал глазами, вскинул кверху свои белые брови и продолжал: – Я могу короче. У нас произошло убийство…
– Убийство?
– Да, или самоубийство. И все как-то странно и необычно, – продолжал Винокуров, вертя пальцами лоскуток кожи на кресле. – Сегодня утром уборщица в кабинете директора рудника неожиданно обнаружила мертвым инженера Кочнева. Пуля, вероятно, из пистолета, попала ему в голову, чуть пониже правого глаза и не вышла наружу. Да, осталась там. – Винокуров хлопнул себя по голове. – Можно полагать, что смерть наступила мгновенно. Больше того, судя по позе, в которой был найден Кочнев, нельзя не предположить, что нападение было совершенно неожиданно, внезапно…
– Позвольте, – опять прервал его майор Шелестов. – Если вы думаете о самоубийстве, то при чем тут нападение?
– Виноват. У меня все перепуталось. Самоубийство, пожалуй, исключается. Оружия при Кочневе не обнаружено. И при жизни я никогда не видел у него ничего похожего на пистолет.
Винокуров говорил и вертел пальцами лоскуток кожи, стараясь его оторвать, и, кажется, его усилия достигали цели.
– Чем ведал на руднике инженер Кочнев? – спросил Шелестов.
– Ничем.
Майор откинулся на спинку стула. Ему показалось, что заместитель директора не понял его вопроса.
– Какую он занимал должность?
– Никакой. Он представитель Главка из Москвы и был здесь в командировке. Собственно, не только здесь, а в целом ряде мест Якутии. На нашем руднике за эту командировку он – уже третий раз. Третий и последний.
– Но чем он занимался?
– Только на днях он закончил работу по составлению плана нового промышленного района, который должен возникнуть здесь. Я же вам говорил, наш рудник – первая ласточка. Кочнев ждал возвращения директора рудника, хотел с ним что-то согласовать и должен был лететь в Москву.
– А где директор?
– И директор, и парторг в Якутске, в тресте на совещании. Они должны еще задержаться на пленуме обкома. Я тут один за всех. Кто в командировке, кто в отпуске.
– В Якутске знают об убийстве?
Винокуров сделал протестующий жест.
– Нет, нет. Я через свою радиостанцию, тотчас после обнаружения трупа, передал им о том, что произошло чрезвычайное происшествие, а что именно – не указал. Счел неправильным уведомлять об убийстве открытым текстом. Как вы находите, правильно я поступил?
– Пожалуй, правильно. А в котором часу уборщица обнаружила мертвого Кочнева?
Винокуров насупил брови и значительным взглядом посмотрел на Шелестова, потом перевел глаза на потолок.
Шелестов сообразил, что интересующая его деталь заместителю директора неизвестна.
– Не знаете?
Винокуров сделал страдальческое лицо и печально, с трогательной простотой, признался:
– Да, не знаю. Уборщица ко мне прибежала страшно испуганная, пожалуй, часов в восемь утра. Да, наверное так. Я был еще в постели. Я вскочил, мигом оделся, помчался за комендантом поселка, и вместе с ним мы побежали в контору. Там мы все и увидели. Первое, что сделали, это опечатали комнату, даже не заходя в нее и ничего не тронув. Второе – уведомили Якутск…
– Ясно, ясно… – в раздумье произнес Шелестов. – Когда вы лично видели инженера Кочнева живым в последний раз?
Винокуров подергал свою бородку, отодрал наконец лоскуток кожи от кресла и ответил:
– Вчера, часов в десять вечера.
– Где?
– В том же кабинете, где нашли его мертвым. Кочнев обычно там работал и спал. Но я вам должен сказать, что после меня его видел Белолюбский.
– А кто это такой?
– Белолюбский?
– Да.
– Я же вас с ним познакомил, – улыбнулся Винокуров. – Белолюбский – это комендант поселка.
– А-а-а… Верно, верно, – и майор умолк.
Пауза затянулась, потом Шелестов встал и попросил Винокурова провести его в комнату, где обнаружили убитым Кочнева.
* * *
Расставшись с заместителем директора после осмотра трупа, майор Шелестов задумался. Как всегда в таких случаях, в голову лезла масса мыслей, подчас важных, значительных, а подчас и никчемных. Он знал, что надо что-то немедленно предпринимать. Надо начинать расследование, но начинать так, чтобы первыми действиями не испортить всего дела. И начинать лишь тогда, когда в собственной голове созреет определенный план действий.
А такого плана пока еще не было. И это нервировало. Однако многолетний опыт работы научил его терпению и умению держать себя в руках.
И сейчас, идя в дом, где ожидали его товарищи, Шелестов говорил самому себе:
– Ничего, ничего… Все будет в свое время. Может быть, вначале придется идти неуверенно, даже, возможно, по неправильному пути, но потом, дальше, я отыщу нужную нить, ухвачусь за нее и размотаю весь клубок. А самое главное, надо самому себе ясно представить, с чего и как начать.
Первые шаги
В просторной комнате, обшитой дранками, но еще не оштукатуренной, от жарко натопленной печи и табачного дыма стояла духота. Спали все: летчик Ноговицын, механик Пересветов, радистка Эверстова. Не спал лишь майор Шелестов. Он сидел за столом в шерстяной нательной рубашке и теребил руками свои коротко остриженные волосы. Он просматривал протоколы допросов свидетелей, акт осмотра места происшествия, документы, оставшиеся после смерти инженера Кочнева. Просматривал и пытался осмыслить каждую, на первый взгляд даже малозначащую деталь, каждый ответ свидетеля на поставленный ему вопрос.
У Шелестова не возникало никаких сомнений в том, что представитель Главка – инженер Кочнев, старый коммунист и видный работник, стал жертвой преднамеренного убийства. Это подтверждалось всем, что добыл Шелестов за короткое время своего пребывания на руднике. Но совершенно непонятными были мотивы убийства. Недоброжелателей и врагов на руднике, как человек посторонний, Кочнев не имел. Все секретные документы, над которыми он долго работал, и главным образом план нового промышленного района, имеющего большое государственное значение, оставались целыми и невредимыми. Они были на месте, в сейфе, стоявшем в той же комнате, где было найдено тело Кочнева. Сейф оказался запертым, замки нетронутыми, ключи от сейфа обнаружены в кармане шубы Кочнева, которая и сейчас продолжала висеть на вешалке. Винокуров заявил, что Кочнев обычно держал ключи от сейфа и дверей кабинета именно в кармане шубы, и ничего необычного в этом не было. Партийный билет, удостоверение личности, командировочное удостоверение, два аккредитива и паспорт Кочнева оказались при нем.
– Зачем же понадобилось его убивать? – спросил сам себя вслух Шелестов. – С какой целью? Кому это нужно было? Кому помешал инженер? Почему не тронуты его личные и служебные документы?
Шелестов раздумывал, строил предположения. Надо было, в первую очередь, уяснить себе, с чем он столкнулся: с политическим или уголовным преступлением. Но разве это так просто и легко сделать? А между тем его профессия налагала на него обязанности видеть и знать то, что не могли знать и видеть другие.
Шелестов постучал пальцами о край стола и, оторвав глаза от бумаг, встал. Встал и лишь тогда почувствовал, как душно в комнате. Он подошел к окну, разрисованному витиеватыми морозными узорами, и открыл форточку.
Клубы холодного воздуха, точно под сильным напором, ворвались в комнату, заметались в ней, затуманив свет электролампочки.
Шелестов посмотрел на крепко спящих друзей и, заметив, что одеяло сползло с механика Пересветова, поправил одеяло.
Потом опять вернулся к окну и, глубоко вдохнув чистый свежий воздух, сказал вполголоса:
– Хорошо… Очень хорошо… – И в голове сразу стало как-то светлее.
Он стоял и наблюдал, как легкий, теплый, насыщенный духотой воздух вытекает поверху через форточку наружу, а свежий, холодный и тяжелый, быстро вливается в комнату, оседает и уже приятно холодит ноги, руки, грудь.
– Ну, кажется, хватит, – сказал Шелестов, захлопнул форточку, бесшумно прошелся по комнате несколько раз, сел опять за стол и поднес руку к воспаленным от бессонницы глазам.
Он постарался еще раз собраться с мыслями, самым придирчивым образом проверил собственные действия и вдруг даже приподнялся от новой, совершенно новой мысли, пришедшей в голову: почему у инженера Кочнева не оказалось вовсе денег? Не мог же он обходиться без денег, будучи в командировке? А если у него были деньги, то куда они могли деваться?
– Почему я не обратил на это внимания ранее? – задал себе вопрос майор. – Как я мог допустить такую оплошность?
Он быстро уложил документы в полевую сумку, с которой не расставался даже во время сна, кладя ее под подушку, и стал одеваться. Натянул на себя гимнастерку, опоясался ремнем, поправил кобуру с пистолетом, закрепил полевую сумку, надел дошку и меховую шапку. Посмотрел на часы и покачал головой:
– Рано еще, но ничего не попишешь, дело не ждет.
Он осторожно, стараясь не производить шума и не разбудить отдыхающих друзей, открыл дверь и вышел.
Мороз обжег до того, что сразу выдавил из глаз слезы.
На востоке едва-едва заметно отбелился краешек неба и бледно-розовыми бликами обозначил покрытые коркой льда окошки домов.
Шелестов закрыл нижнюю часть лица теплым шерстяным шарфом, сжал плотно губы и зашагал к квартире заместителя директора рудника. Тот, конечно, спал и никак не ожидал такого раннего визита.
– Мне нужно побеседовать с комендантом поселка и с кем-либо из работников финансовой части рудника. И чем скорее, тем лучше, – объяснил свое появление Шелестов.
– Это не составит никаких трудностей, – заверил Винокуров, – бухгалтер живет рядом со мной, за стеной. Человек он одинокий, и к нему можно зайти сейчас, а коменданта Белолюбского не более как через час-полтора вы сможете увидеть в моем кабинете.
Шелестов извинился и оставил Винокурова…
Из беседы с бухгалтером он выяснил следующее: накануне своей смерти инженер Кочнев имел при себе всего лишь пятьсот рублей, которые он получил по своей просьбе, в виде аванса, в рудничной кассе. У него, правда, были два аккредитива на две тысячи рублей, но обменять их на деньги Кочнев мог лишь в Якутске. Пятьсот рублей Кочнев получил около шести вечера, последнего вечера перед смертью.
Шелестов навел справки в промтоварном и продовольственном магазинах рудничного поселка, в надежде выяснить, не издержал ли эти деньги Кочнев на приобретение чего-либо необходимого, но оказалось, что он даже не заходил в магазины.
Последнее обстоятельство окончательно озадачило майора.
«Неужели поводом к убийству инженера послужили эти несчастные пятьсот рублей? Неужели я столкнулся и в самом деле с обычным уголовным преступлением? – рассуждал майор. – Странное происшествие, очень странное…»
Шелестов уже хотел пройти в контору, чтобы повидаться с комендантом Белолюбским, но передумал и решил вначале заглянуть на квартиру. Надо было выпить хотя бы крепкого чая.
Под ногами майора звонко похрустывал снег. Хорошо проторенная тропка довела до самой квартиры. Войдя в нее, Шелестов застал одну радистку Эверстову. Сидя у окна, она заплетала косы и, увидев майора, встала.
– Доброе утро, Надюша! – приветствовал ее майор.
– Что же это такое, Роман Лукич?! Вы совсем не спали и не кушали ничего, – вместо ответа на приветствие сказала Эверстова.
– А чай есть? – вопросом на вопрос ответил майор.
Эверстова быстро подошла к столу, на котором стоял медный самовар с помятыми боками, и, приложив к нему ладони, быстро отдернула их и потерла одну о другую.
– Еще совсем горячий. Садитесь, Роман Лукич, – и Эверстова взяла заварной чайник.
Шелестов сбросил с себя доху и сел за стол.
– А где товарищи?
– Пошли к самолету.
Майор с большим наслаждением выпил две кружки крепкого чая, съел несколько кусков калача и почувствовал себя значительно свежее.
– В котором часу сеанс с Якутском? – спросил он, вставая из-за стола.
– В одиннадцать, – ответила Эверстова.
И майор подумал, что пора уведомить полковника Грохотова о своем прибытии на рудник и о сути происшествия.
– Запишите, Надюша, я вам продиктую.
Эверстова взяла свою тетрадь, вооружилась карандашом и примостилась на уголке стола, заставленного едой и посудой.
– Слушаю.
– Пишите: «Полковнику Грохотову. На руднике, куда я прилетел ночью, убит представитель Главка инженер Кочнев. Убит выстрелом из пистолета в голову, в служебной комнате, с близкого расстояния, почти в упор. Служебные и личные документы Кочнева не тронуты, взяты лишь пятьсот рублей. Веду расследование. Шелестов». Зашифровывайте и отправляйте. Я буду в конторе.
* * *
В кабинете заместителя директора рудника майор Шелестов нашел ожидавшего его коменданта поселка. Белолюбский сидел против Винокурова.
Они о чем-то беседовали.
– Я к вам, – сказал комендант, приподнимаясь с места.
– Сидите, сидите, – ответил Шелестов и сам присел к столу.
Внешний облик Белолюбского являл собой полную противоположность Винокурову. Белолюбский был высокого роста и, видимо, силен физически и крепок. Несмотря на возраст (ему было, как определил Шелестов, не менее пятидесяти), волосы его еще не тронула седина, на его грубоватом, обветренном лице почти совсем не было морщин. В отличие от мягкого, добродушного и даже несколько наивного выражения лица Винокурова, склад лица Белолюбского, с выдающимся вперед подбородком, острыми, глубоко сидящими серыми глазами, свидетельствовал о решительности и воле.
Только некоторая внешняя неопрятность коменданта пришлась не по сердцу Шелестову. Лицо коменданта было невыбрито, густые черные волосы, совершенно нерасчесанные, торчали копной.
«Видимо, одинокий и очень занятый человек, – нашел майор оправдание для коменданта. – Ведь такая должность в быстро растущем поселке крайне ответственна», – и задал Белолюбскому первый вопрос:
– Когда вы видели Кочнева в последний раз?
– Позавчера, между десятью и одиннадцатью вечера, – ответил комендант. – Я шел из дому к товарищу Винокурову поиграть в шашки и около конторы встретил Кочнева. Он прогуливался перед сном. Я сказал «добрый вечер» и пошел рядом с ним. Поговорили немного.
– О чем?
– Он поинтересовался, слышал ли я по радио сообщение о событиях в Корее. Я слышал и сказал, что новостей нет. И больше ни о чем не говорили. Уж больно сильно хватал мороз. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и расстались.
– Вы пошли к Винокурову, а Кочнев остался прогуливаться?
– Нет, он тоже пошел к себе в контору.
В беседу вмешался Винокуров:
– В половине одиннадцатого товарищ Белолюбский был уже у меня.
Шелестов кивнул головой и спросил:
– И никто из вас двоих выстрела не слышал?
Оба ответили, что не слышали.
Шелестов, собственно, и ждал такого ответа. Конечно, они не могли слышать выстрела, который произошел в конторе, отдаленной от дома Винокурова не менее чем на двести метров.
– А когда вы расстались? – обратился Шелестов к обоим.
Винокуров ответил, что Белолюбский ушел от него около двенадцати ночи.
– Да, около двенадцати, – подтвердил Белолюбский.
Шелестов закурил папиросу и обратился уже непосредственно к коменданту:
– Куда идут дороги с рудника?
– С рудника идет одна-единственная дорога, в жилуху, как принято здесь говорить, на юго-запад, через Якутск. Но она после первого снегопада занесена начисто.
– Так-таки начисто?
– Абсолютно, – вмешался заместитель директора. – Ни пройти, ни проехать. Снег до пояса доходит, а местами и выше, пожалуй. Наземная связь до весны прекратилась. Да это не новость, – он махнул рукой, – так было и в прошлую зиму, когда я только приехал сюда. Я уже второй год здесь сижу…
– Но мне сдается, что одна дорога, хорошо накатанная, все же выходит из поселка? – спросил Шелестов коменданта.
Тот рассмеялся, и его грубо-суровое лицо стало добродушным.
– Правильно, правильно, – согласился Белолюбский и закивал головой. – Одна таки дорога есть, но она кончается в полутора километрах от поселка, у замерзшего пруда, с которого мы возим лед и воду.
– Ага, понял. А скажите мне еще вот что: кто за последние дни из посторонних был на руднике?
Белолюбский отрицательно замотал головой.
– Никто, – твердо заявил он. – Я понимаю, что вас интересует, но с той поры, как зима закрыла дорогу, никто у нас не появлялся, если не считать Кочнева да вас с вашими товарищами.
– Это точно?
– Совершенно точно, – подтвердил Белолюбский.
Шелестов встал и прошелся по комнате.
– Ну что ж… – обратился он к коменданту. – У меня к вам вопросов больше нет.
– Можно идти? – спросил тот.
– Да, пожалуйста, – а когда комендант ушел, Шелестов сказал: – А все-таки, товарищ Винокуров, я попрошу вас проводить меня вокруг поселка. Следует посмотреть, нет ли следов, уходящих в тайгу. Как вы думаете?
– Я не возражаю, – согласился Винокуров, – но мне думается, что это напрасная затея. Никто к нам не приходил, и никто от нас не уходил. В этом я могу поручиться. Все обитатели поселка у меня в голове наперечет. Я могу вам сказать точно: шестьдесят два мужчины, сорок шесть женщин, двадцать пять детей в возрасте от трех месяцев до семи лет.
– Возможно, возможно. А все же пройдемтесь.
– С превеликим удовольствием. Такая прогулка, собственно говоря, даже для здоровья полезна. – И Винокуров стал облачаться в свою доху. – Погода стоит чудесная. Вот только холодновато маленько. Но я вижу, что вы тоже человек бывалый…
По дороге Винокуров говорил, не умолкая:
– А я, знаете, сам из-под Курска родом. Первое время думал, пропаду тут ни за понюшку табаку. Оробел вконец, а потом ничего. Странное существо – человек. Притащи сюда скотину с юга, она враз околеет, а наш брат – ничего. Все терпит. Да что с юга! Возьмите местного оленя. Уж, кажется, истый северянин, а вот покойный товарищ Кочнев мне рассказывал, что как-то ему довелось переваливать через Верхоянский хребет. И что же вы думаете? Не выдержали олени мороза. У двоих или троих легкие порвались. Вот оно как получается. А человек выдерживает любой мороз.
– А где вы работали до приезда сюда? – заинтересовался майор.
– На Алдане. Полюбил тайгу, здорово полюбил.
Восторгаясь тайгой, Винокуров проявил большую осведомленность. Он сообщил, что около четверти лесов земного шара сосредоточено в Советском Союзе, а по хвойному лесу СССР принадлежит первое место в мире.
– А вам приходилось бывать на Алдане? – спросил Винокуров.
Шелестов ответил, что приходилось и не раз.
– Алдан – большое дело! – воскликнул Винокуров. – Два десятка лет назад на месте Алданского района шумела тайга, а сейчас? Появились Незаметный, Сталинск, Ленинск, Орочен, Чульман, Лебединый, Джоконда, пальцев на руках и ногах не хватит перечесть все города, поселки, прииски. Просто диву даешься. Я ведь сам был свидетелем, как в двадцать пятом году на Алдане жило шестьдесят пять русских, сорок семь эвенков, и в том числе я, а теперь в одном Незаметном население под сто тысяч подпирает. Шутка сказать! А вы знаете, кто помог открыть залежи алданского золота?
– Каюсь, не знаю, – признался Шелестов.
– А я знаю, – и Винокуров закатился дробным смешком. – Помогли охотники – таежники эвенк Лукин и якут Марадынин. Я с обоими знаком был. Толковые товарищи. А что творилось на Алдане, когда слух о его золоте разошелся по стране! Жуть одна. Золотая горячка была. Буквально, золотая горячка, вроде как на Клондайке. Сколько бросилось в неприступную тайгу любителей легкой наживы! Сколько костей упрятала тайга! Ого! Алданом бредили! Я-то попал по командировке, в двадцать пятом году. Тогда еще Амуро-Якутской магистрали и в помине не было. Я вылез из поезда на Большом Невере и на своих собственных все шестьсот километров отмахал. Через реки, болота, тайгу, хребты. Нас послали семь человек. Ну и хлебнули мы горя, вспомнишь, не верится даже. – Он помолчал немного, отдышался, поправил шарф и продолжал: – А теперь на месте тайги электрические драги, экскаваторы, бульдозеры, ремонтные заводы, электростанции, огороднические совхозы. На Алдане своих огурцов, помидоров, картофеля, капусты сколько душе угодно. А машинный парк? По-моему, не в каждом районе центральной полосы можно найти столько автомашин. Когда я уезжал, на Алдане было больше двух десятков школ, два техникума, партийная школа, более полутора десятков больниц и амбулаторий. Вот на что способен советский человек.
Шелестов шел и искоса бросал взгляды на шагающего рядом с ним словоохотливого заместителя директора. Ему нравились люди, любящие край, где они работают, интересующиеся им и знающие его всесторонне; те незаметные, простые советские люди, которые с любовью делают свое дело там, куда их посылают партия и народ.
– И вот, думаю я, – закончил Винокуров, – что будет вот здесь, где мы идем, через десяток лет? Трудно представить! Все, наверное, преобразится. Эх, если бы здесь не эта проклятая вечная мерзлота…
Они шли по самой окраине поселка, который подковой опоясывала тайга.
Шелестов внимательно осматривал снег. Он слушал Винокурова, но от его глаз не уходило ничего: ни накрап заячьего следа, ни лисий нарыск, ни маленькие отпечатки побежки коварного и злого горностая. Шелестов все примечал.
Он жил в Якутии уже тринадцать лет, исключая из них три года, проведенных во время Отечественной войны в тылах врага. Он сроднился с Якутией, познал ее народ, местные обычаи, изучил и освоил язык якутов, эвенков, приобрел в разных районах Якутии верных друзей.
Осматривая окраины рудничного поселка, Шелестов питал надежду наткнуться на след человека, выходящий из поселка, но эта надежда оказалась тщетной. Следов человека не было.
Потом Шелестов и Винокуров вышли на дорогу, ведущую к пруду. Здесь снег от почти беспрерывной езды за льдом и водой был истолчен в пыль, которая походила на порошок нафталина. Такой снег не мог держать на себе никакого следа: ни копыта лошади, ни ноги человека.
Дорога напоминала собой окоп, протоптанный в снегу, и вскоре привела майора и Винокурова к пруду.
Пруд лежал в небольшом котловане и был загроможден вырубленным и заготовленным впрок льдом. Посредине пруда виднелась затянутая тоненькой корочкой льда прорубь, из которой почти беспрерывно черпали воду.
И осмотр пруда тоже ничего не дал. Шелестов, окончательно расстроенный, возвращался в поселок и почти не слушал своего спутника, который вновь принялся расхваливать красоты таежного края.
Видя, что майор молчит, Винокуров на некоторое время тоже умолк, а потом заметил:
– Я же вам говорил, что это пустая затея. У нас каждый человек на виду.
Шелестову не понравилась самоуверенность заместителя директора, и он сказал:
– Как же это получается? Люди все у вас на виду, всех вы знаете, а под носом у вас совершаются убийства?
Винокуров смутился. Он долго молчал, не зная, как ответить, и уже перед входом в поселок сказал:
– Виноваты… недоглядели. Я сам не могу понять, как это могло произойти.
Шелестов ничего не сказал. Они шли уже по поселку, и внимание майора привлек огромный пес, похожий на волка, неподвижно сидевший у порога дома, где отводили комнату всем приезжим.
Шелестов вспоминал, где он, уже не раз, встречал этого пса, но память дробилась, уводила куда-то далеко, и ничего не получалось.
Винокуров тоже заметил собаку и лыжи, приставленные к стене дома у самой двери.
– Смотрите-ка! – обратился он к Шелестову. – Еще кто-то в гости пожаловал. И собака, и лыжи. Видно, охотник-якут заглянул. Решил обогреться, чайку попить, покалякать и новости узнать. Они никогда мимо не пройдут. Для них крюк сделать километров в десять ничего не составляет.
Шелестов улыбнулся.
– Кажется, я догадываюсь, кто в гости пожаловал.
– Кто же это? – поинтересовался Винокуров.
– Сейчас скажу. Таас Бас! – громко позвал он пса. – Ко мне!
Пес приподнял голову, насторожил уши, но не двинулся с места.
– Таас Бас! – повторил Шелестов. – Не узнаешь? Забыл?
Нет, у пса была хорошая память. Он запоминал навсегда и хороших, и плохих людей. Стоило лишь с ними познакомиться. Второго оклика было достаточно, чтобы он сорвался с места, взвизгнул и помчался к Шелестову.
Винокуров от неожиданности струхнул, побледнел и отскочил в сторону, опасаясь попасть на зуб такому страшному с виду псу.
Но Таас Бас даже не обратил на него никакого внимания. Он вертелся вокруг майора, вздымая снежную пыль, прыгал, хватал его за рукавицы, радостно повизгивал.
– Ух, какой же ты огромный стал да пушистый, – ласкал собаку Шелестов. – Ну, довольно, довольно, хватит… Пойдем.
Винокуров, преодолев страх, приблизился.
– Старые знакомые? – спросил он.
– Да, очень старые, – ответил майор и добавил: – И пес, и хозяин – оба старые знакомые.
– Так мне можно идти?
– Да, пожалуй, – разрешил Шелестов и зашагал к квартире.
А там перед ним открылась такая картина: на столе клокотал в клубах пара все тот же самовар с помятыми боками, а на тарелках горками возвышались горячие пышки. У стола сидели летчик Ноговицын, механик Пересветов, радистка Эверстова и кто-то посторонний, спиной к дверям. Шла беседа. Собственно, говорил посторонний, а остальные внимательно слушали.
Никто не обратил внимания на вошедшего майора, хотя было ясно, что завтрак не начинали из-за него.
– Атас[8] Быканыров! – громко сказал Шелестов.
Гость не по возрасту быстро повернулся, и глаза майора встретились с узкими и темными глазами охотника, живо глядевшими на него сквозь узкие прорези век.
Старик так же быстро встал и с какой-то особой самобытной учтивостью и почтительностью направился к Шелестову.
– Дорообо, дорообо, Роман Лукич.
– Здравствуй, отец, здравствуй.
Они долго трясли друг другу руки, стоя посредине комнаты.
– Сколько же мы не виделись?
– Долго не виделись. Совсем долго…
– А все же?
– Однако с весны того года, – напомнил Быканыров.
– Правильно, – подтвердил Шелестов, усаживая гостя за стол. – А я увидел у дома твоего пса и никак не мог вспомнить, чей же он. Ну никак!
– Худо дело, совсем худо, – сочувственно и серьезно отозвался старик, будто и в самом деле поверил словам майора. – Не узнал Таас Баса, значит, глаза совсем плохие стали и память плохая. Лечить надо. Крепко лечить. Смотри, через год и меня не узнаешь.
– Шучу я, шучу, – заметил майор.
– А я тоже шучу, – рассмеялся гость.
Он свободно говорил по-русски, и только иногда в его речь вплетались обороты и выражения, свойственные коренным жителям Якутии.
Быканыров до революции работал по найму у русских купцов, в годы становления советской власти состоял в Красной гвардии и постоянно общался с русскими, потом, в течение двух лет, обучался в русской школе.
– Ты как же узнал, что я тут? – спросил Шелестов. – Ведь мы только вчера ночью прилетели.
– Не знал я, что ты здесь, Роман Лукич. Точно, не знал. Я к директору пришел. Сам пришел. Дело привело меня сюда. И хорошо, что ты тут. Расскажу тебе все.
– Дело делом, а сначала давайте завтракать. Как, друзья?
Все согласились, что это правильное решение. Эверстова начала разливать чай по эмалированным кружкам, и майор придвинул табурет к столу. Но, занятый едой, он украдкой разглядывал своего старого друга.
Волосы на голове Быканырова поредели, побелели, но оставались, как и прежде, жесткими, колючими, словно у ежика. Морщин прибавилось. Они напоминали собой щели. Но старость не портила лица Быканырова. Узко прорезанные живые и умные, но немного уставшие глаза его подчеркивали мудрость старческих лет. Они смотрели зорко, смело, как это бывает у людей, проведших большую часть своей жизни среди природы. Обилие морщин говорило, как раны на теле закаленного в боях воина, о том, что за плечами старика лежала нелегкая жизнь.
– Все еще охотой промышляешь? – спросил майор, допив кружку чая.
Старик кивнул утвердительно головой и добавил:
– А ты подумал, что я негоден уже, стар стал?
– Скажи пожалуйста, – подтрунил Шелестов. – Выходит, что и годы тебе нипочем? Вечно молодой и вечно охотник?
Все рассмеялись. Рассмеялся и Быканыров. Морщины задрожали у него на лбу, на висках, на щеках и разбежались в разные стороны. Он даже как бы помолодел.
– Правильно сказал. Хорошо сказал. Вечно молодой и вечно охотник. Ноги крепкие, – ходить можно. Глаза все видят, – стрелять можно.
– А что ты тут без меня рассказывал?
Быканыров отставил недопитый чай, сдвинул редкие выцветшие брови, полез в карман, достал трубку и кисет с табаком. Он не торопился с ответом и, видимо, вспоминал, о чем шла речь до прихода майора.
Сухими тонкими пальцами с выпуклыми, миндалевидными ногтями Быканыров набил глиняную трубку, умял табак в ней и, уже задымив, заговорил, ткнув пальцем в грудь Ноговицына.
– Ему говорил, ему. Якут, а летает, как птица. Высоко летает, всех видит, всю жизнь нашу видит. Счастливый человек. А жизнь совсем другая стала. Я в его годы ничего не видел. Купца одного видел и приказчика. Теперь советская власть всему учит, а нас учили: купца почитай, урядника уважай, Бога люби и бойся. А бога два было. Один шаман – наш, другой поп, русский, – ваш. – Быканыров закатился мелким смешком, сделал крепкую затяжку. – Ваш бог придет в тайгу, окрестит одного, а от него все православные идут, а когда помрет якут и хоронить надо, – наш бог приходит, шаман. – Он на минуту замолчал, задумался. – И тайга другая стала. Я ее всю исходил. Столько верст сделал, что шаману веревками не вымерять. Раньше в тайге ничего не было видно, а сейчас все видно. Раздвинулась тайга.
Встречи с Быканыровым всегда возвращали Шелестова к той далекой ночи, когда он впервые узнал старого охотника и нашел в нем верного друга. И сейчас, слушая Быканырова, майор вспомнил далекое прошлое. Шелестов не знал отца. Его отец убит током высокого напряжения за месяц до появления на свет сына. Плохо Шелестов помнил мать, умершую на седьмом году его жизни. Старик Быканыров, с которым он сдружился двенадцать лет назад, был, пожалуй, тем единственным человеком, на котором Шелестов сосредоточил свои сыновние чувства. Не было года, не считая трех военных лет, когда бы они, невзирая на огромные расстояния, их разделяющие, не встречались.
И с самой первой давней встречи Шелестов и Быканыров прониклись друг к другу глубокой, прочной и взаимной мужской симпатией, переросшей в большую человеческую дружбу.
Четко, ясно, зримо, во всех деталях стоит в памяти Шелестова та ночь, когда он, преследуя пробравшегося в тайгу из-за кордона диверсанта, попал с упряжкой оленей в большую полынью. Олени утонули, а сам он едва спасся, удержавшись на кромке льда. Но, спасшись от воды, он должен был неминуемо погибнуть от другого. Он лишился всего того, без чего человек в тайге при безлюдье и бездорожье, при пятидесятиградусном морозе вообще не может существовать: спичек, оружия, средств передвижения. Он не мог уже ни развести огня, ни добыть себе пищу, ни идти куда-либо в поисках людей и жилья.
А мороз быстро делал свое дело: Шелестов покрылся прочной, точно стальной панцырь, ледяной коркой, сковавшей все его члены.
Но ему не суждено было погибнуть. Семь дней Шелестов до этого находился в тайге, увлекшись преследованием диверсанта, и не встретил ни одной человеческой души, а тут, через каких-нибудь двадцать-тридцать минут после случившегося с ним несчастья, внезапно, каким-то чудом появился человек.
Человек этот шел на лыжах. Это был Быканыров. Через считанные минуты уже горел костер, и Шелестов, упрятавшись в доху нового знакомого, сушил у огня свою одежду.
Узнав обо всем, Быканыров оставил Шелестова до следующей ночи одного, отдав ему скудные запасы пищи и даже ружье, а сам ушел и вернулся с двумя нартами.
Этот эпизод и положил начало дружбе.
Через месяц Шелестов сам навестил Быканырова, подарил ему свое бескурковое ружье двенадцатого калибра, с которым старик никогда более не расставался.
Трижды проводил Шелестов свой отпуск в таежной избушке Быканырова.
Они вместе охотились. Дважды старик, по приглашению майора, гостил у него в Якутске. Сколько было вместе продумано, пережито, переговорено за долгие северные ночи. Сколько поведали друг другу своих мыслей охотник и офицер-разведчик. Сколько незабываемого принесла эта большая дружба.
Выполняя боевое задание, Шелестов нередко прибегал к помощи Быканырова, как опытного проводника и надежного переводчика, владевшего не только родным и русским языками, но и языком эвенков, юкагиров, чукчей…
Углубившийся в воспоминания майор не заметил, как Быканыров умолк и вместо него стал говорить Ноговицын. И оторвался от своих мыслей майор лишь тогда, когда старый охотник обратился непосредственно к нему.
– Клава и Вера здоровы? – спросил Быканыров о жене и дочери Шелестова.
– Все в порядке, здоровы, и тебя помнят. В гости ждут.
– Приеду. Последней зимней дорогой приеду, – заверил старик. – Белок на шапки обеим привезу. И дело в Якутск есть.
– А помнишь, как ты мне в Оймякон вез лисят, а они у тебя по дороге сбежали?
– Однако помню, – ответил старик, кивая головой. – Помню, как и в Чурапчу приходил к тебе в гости, как угощал ты меня.
– Вот угощал я в Чурапче тебя плоховато, не криви душой, – улыбнулся Шелестов. – Не было тогда чем угощать.
– Э-э, неправильные слова говоришь, – возразил Быканыров. – Совсем неправильные. Неважно, чем угощал, а важно, что с душой, с сердцем.
Беседу друзей прервал вошедший в комнату Белолюбский.
– Я к вам, товарищ майор, – обратился он, переступив порог.
Шелестов спохватился, что, увлекшись разговором, он на какое-то мгновение забыл, что привело его сюда.
– Меня прислал товарищ Винокуров, – продолжал Белолюбский. – Как вы считаете, можно хоронить Кочнева?
– Нет, нельзя. Передайте Винокурову, что тело Кочнева надо сохранить до приезда сюда представителей судебной экспертизы. Это не составит особого труда при данной температуре. Как ваше мнение?
– Полностью согласен, – ответил комендант и вышел.
Шелестов встал, прошелся по комнате. Решил он, кажется, правильно.
Конечно, нельзя хоронить инженера. Везти тело покойного в Москву – дело очень трудное и практически неосуществимое. Придется сюда пригласить судебно-медицинского эксперта.
– А кто умер? – поинтересовался Быканыров и смахнул с колен хлебные крошки.
– Инженер. Инженер Кочнев, приехавший из Москвы, – пояснил Шелестов и добавил: – И не умер, а его убили, а кто – неизвестно.
От этих слов Быканырова точно подкинуло. Он вскочил со стула, подошел вплотную к майору и взял его за поясной ремень. По расположению складок на лице старика Шелестов определил, что он разволновался. Шелестов ждал, что скажет Быканыров.
Тот взглянул поочередно на каждого из присутствующих, решая про себя, можно ли посвящать в такое дело всех, и, приняв решение, сказал:
– Дело у меня. Большое дело. Не напрасно я тут. Чужой человек пришел в тайгу. Я не знал, что ты здесь. Хотел повидать директора и узнать, кто пришел сюда.
– Какой человек? – недоуменно спросил Шелестов.
– Не знаю, какой, но, видно, чужой.
– Ты видел его?
– Не видел. След видел. Таас Бас на след вывел. Темный, чужой человек не дошел до моей избы. Крюк сделал, а зачем делать крюк, если человек хороший. Три дня назад. Я пошел по следу и пришел на Той Хая. За полверсты от рудника потерял след. Совсем потерял. Снег выпал, и след пропал.
Сообщение Быканырова заинтересовало майора. Он усадил старика, сел рядом и попросил подробно рассказать обо всем.
Быканыров рассказал, как было дело, не упустив ни одной детали.
Шелестов думал: новые обстоятельства. Подозрительный человек мог появиться на руднике и уйти, не замеченный жителями поселка. И ничего в этом странного нет, тем более что выпал обильный снег. Но что заставило его появиться здесь на столь короткое время? Не имеет ли это какой-нибудь связи с убийством Кочнева? И неужели никто не мог заметить его прихода или ухода? Ведь приходил он не просто так, а к кому-нибудь.
Смутное, глухое беспокойство овладело майором.
«Уже вторые сутки идут, а ясности пока никакой нет, – волновался он. – Хотя бы, какая-нибудь маленькая зацепочка, а то, ну, ровным счетом ничего».
Он энергично потер лоб, встал и начал натягивать на себя кухлянку – легкую дошку из шкурки молодого оленя, шерстью наружу, с прорезом для головы и с длинными рукавами.
– Пойдем со мной, отец, – предложил майор Быканырову.
Старик встал и начал надевать доху.
– А нам какого-нибудь дела не будет? – спросил старший лейтенант Ноговицын.
– Пока нет. Отдыхайте. Много дела будет впереди, – ответил Шелестов и подумал: «Не все же время я буду топтаться на одном месте. Не может этого быть. Определенно, не может…»
С неба падали сухие и редкие, легкие, как пух, снежинки.
– Однако опять снег будет, – сказал как бы про себя Быканыров, поглядев на небо.
Они пошли по поселку. Почти изо всех труб ровными высокими столбами валил густой дым. Воздух был пропитан запахами свежевыпеченного хлеба, какого-то аппетитного варева, обжитых домов, жарко натопленной бани.
Следы
Шелестов и Быканыров сидели в конторе рудника друг против друга.
Молчали. Майор курил одну папиросу за другой, а старый охотник посасывал свою неизменную глиняную трубку. Она издавала то хрип, то свист, то отчаянно потрескивала, будто собираясь взорваться, но все же безотказно дымила и вполне устраивала старика. И он не решился бы сменить ее ни на какую новую.
Молчание нарушил Быканыров.
– Зачем ты позвал коменданта? – задал он вопрос.
Шелестов посмотрел в глаза старого друга и тихо ответил, выпуская клубы дыма:
– Поручу ему обойти все квартиры в поселке. Чем черт не шутит, может быть, кто и видел постороннего на руднике. Он же в конце концов человек, а не иголка.
– Хорошо задумал, хорошо, – одобрил Быканыров. Не имея к тому никаких оснований, он тоже почему-то связывал появление в тайге неизвестного с совершенным преступлением, а потому и высказал свое предположение: – Думаю так: человек на рудник пришел, а обратно не ушел. Тут, однако, остался. Я ходил долго кругом, следов нет. Совсем нет. Гладко кругом, тайга, снег.
– И это возможно. Вполне возможно, – согласился майор.
– А зачем коменданта посылать? – спросил Быканыров. – Сходи сам, или я схожу.
Шелестов отрицательно помотал головой:
– Нельзя. Неудобно. И ты, и я новые здесь люди и можем вызвать подозрение.
– Однако правильно, – быстро согласился Быканыров.
Шелестов, прежде чем обратиться за помощью коменданта, долго раздумывал, стоит ли посвящать лишнего человека в это странное происшествие. Вначале он решил поручить Винокурову обойти поселковые дома и побеседовать с их обитателями. Но только что покинувший контору Винокуров честно признался, что был за все время работы на руднике не более чем в двух-трех домах и что его приход тоже может вызвать кривотолки. Поэтому пришлось остановиться на Белолюбском.
Винокуров дал ему хорошую характеристику, отрекомендовал его человеком проверенным, энергичным, который с успехом справится и с более сложным поручением.
Со слов Винокурова, Белолюбский пришел на Той Хая года полтора назад с Джугджурских приисков. Вначале его поставили работать на лесопилку, потом перевели в механический цех, затем выдвинули заведывать транспортом, а осенью назначили комендантом.
Опять на некоторое время воцарилось молчание, и опять его нарушил Быканыров.
– Зачем много думаешь? Голова заболит, – проговорил он. – Все хорошо будет. Сначала мало-мало плохо, а потом хорошо. Изловим худого человека, в тайге не скроется. Помнишь Ухгун атаха?
– Кого, кого?
– Ухгун атаха.
Шелестов невольно прикрыл глаза, и в его памяти ожило давно прошедшее. В сороковом году он и Быканыров долго ходили из одного конца тайги в другой в поисках диверсанта, пробравшегося из-за кордона. Он совершал поджоги в колхозах, факториях, на приисках и был неуловим. Якуты прозвали его Ухгун атах, что означает длинная нога. Диверсант не оставлял за собой никаких следов, действовал в одиночку и безнаказанно совершал преступления два месяца сряду. Шелестов утратил надежду изловить его, но все же изловил. И помог ему в этом старик Быканыров. Он упорно искал след диверсанта на восточной окраине Якутии и наконец набрел на него.
– Да, отлично помню, – заметил Шелестов. – Все-таки он не минул наших рук.
– И этот попадет, – заверил Быканыров.
В коридоре послышались шаги, раздался стук в дверь, и в комнату вошел комендант Белолюбский.
Майор пригласил его сесть и сразу приступил к делу:
– Вы сможете, не вызвав особых подозрений и ненужных расспросов, обойти квартиры в поселке и проверить, нет ли где-либо в доме постороннего человека?
Белолюбский усмехнулся, воткнул докуренную до «фабрики» папиросу в пепельницу и, в свою очередь, спросил:
– Вы мне не верите?
– Это как понимать?
– Я же не маленький. Слава богу, пятьдесят три года прожил на этом свете. Я же заверил вас, что в поселке нет посторонних. Ни одного человека. А вы не верите.
Шелестов нахмурился.
– Дело не в том, верю я вам или не верю. Я получил достоверные данные, что кто-то посторонний проник на днях в поселок и остался в нем.
Комендант взглянул мельком на Быканырова и пожал плечами.
– Кто может знать, какая и откуда нагрянет беда. Но если это так, то комендант я никудышный и гнать меня надо в шею. Нет, не может быть. Я сейчас могу рассказать вам, что делается в каждом доме, а вы нарочно проверьте. Хотите?
– Не особенно, – ответил Шелестов. – Я хочу, чтобы вы проверили, это будет удобнее.
– Пожалуйста. Если дело за мной, то я тут все вверх дном переверну.
– Этого как раз и не требуется, – пояснил майор.
Белолюбский добродушно улыбнулся:
– Я шучу. Сделаю все так, что и комар носа не подточит.
– А сколько времени займет обход?
Белолюбский задумался, и тут впервые на его покатом лбу Шелестов подметил собравшиеся в гармошку тоненькие морщины.
– К ночи, пожалуй, управлюсь.
– Отлично! – и Шелестов встал. – Не стану вас задерживать.
* * *
Сгущались сумерки. Падал обильный снег, который предсказал Быканыров.
В избе Василия Оросутцева царила темнота.
Шараборина не было в комнате. Теплой комнате он предпочел сырое подполье. Забравшись туда, он постлал на землю медвежью шкуру, расположился на ней и заснул. Подполье не казалось ему особенно приятным местом, но он не решился спать в комнате. У него были на этот счет свои соображения.
«Что ни говори, а в подполье надежнее, – рассуждал он. – Там никто не увидит. Ему хорошо, – подумал он об Оросутцеве. – У него паспорт на руках. А мое дело собачье. А раз так – лезь в конуру».
Шараборин не слышал, как возвратился хозяин, как он отпер дверь, вошел в комнату. И лишь когда над его головой раздались тяжелые шаги и скрип прогнивших половиц, он очнулся и насторожился.
– Эй, таракан! Вылезай быстро! – громко скомандовал Оросутцев и притопнул повелительно ногой. Ему не трудно было догадаться, что гость сидит в подполье.
Шараборин не заставил себя долго ждать. Творило подполья приподнялось, и в черном проеме показалась бритая голова гостя.
– Быстрее, – раздраженно торопил Оросутцев.
– Что так? – спросил Шараборин, и на лице его отразилась смесь удивления и испуга.
Оросутцев не удостоил его ответом.
Шараборин вскарабкался наверх, напустив из подполья в комнату сырого затхлого воздуха.
– Заячья душа, – скривил губы Оросутцев, и в лице его появилось что-то свирепое. – Чего черт понес тебя в подполье? Стучался кто, что ли?
Шараборин только покрутил головой. Он не стал объяснять, чем был вызван его переход в подполье. В таком случае пришлось бы признаться в ничем не оправданной трусости. Человеку, совесть которого черна, всегда не по себе одному, и он не знает, куда себя деть. Он уселся на табурет, зевнул, протер кулаками заспанные глаза, почесал за пазухой и попросил папиросу.
Оросутцев подал ему пачку «Беломорканала» и спички.
Шараборин закурил, потянулся рукой к выключателю, чтобы зажечь свет в комнате, но хозяин остановил его:
– Не надо. Одевайся. Оставаться у меня в доме и в поселке далее опасно. Понял? Этот майор уже знает, что на рудник пробрался кто-то посторонний. Тебя, видно, выследили.
У Шараборина перехватило дыхание. Ему показалось, что на его горле затягивается петля-удавка, и он невольно сделал такое движение, будто хотел освободиться от нее. За последние дни он и без того не чувствовал внутренней собранности, а тут…
– Никто меня не видел, – неуверенно запротестовал он.
– Это ты так думаешь, чучело гороховое, а что думает майор – нам неизвестно. Да и не время разбираться, видел тебя кто или не видел. От этого нам не легче. Одевайся, становись на лыжи и дуй в тайгу. Прямо по дороге, через пруд. Засядь там, где ночевал осенью, и жди меня. Я управлюсь кое с чем и к полночи подойду. Тогда пойдем вместе. Мне тут тоже делать больше нечего. Где спички?
Шараборин возвратил спички. Оросутцев сунул коробку в карман. И сделал он это неслучайно. Он отлично знал, что без огня и продуктов Шараборин не рискнет, не дожидаясь его, уйти далеко в тайгу. Оросутцев был кровно заинтересован в том, чтобы Шараборин подождал его. Шараборин сейчас, как никогда, был ему нужен.
– Торопись, торопись, – подгонял хозяин гостя, видя, что тот не особенно торопится.
Шараборин одевался молча. Если бы не темнота в комнате, Оросутцев мог бы прочесть на лице его отчаяние и негодование. Шараборин кипел от ярости, от сознания того, что через считанные минуты он вновь окажется в тайге, которая сидит у него уже в печенках, на холоде, на снегу, без продуктов, без курева, без охотничьих припасов. И возмущение его было так велико, что он не выдержал.
– Так не пойду, – сказал он вдруг с неожиданным для него упрямством. – Не пойду. Харчи давай. Ты хозяин, а хозяин даже собаку кормит.
Оросутцев скрипнул зубами. Он не терпел, когда ему перечили.
– Не ворчи, – оборвал он гостя. – Ишь ты, разворчался, – и передразнил: – Хозяин… собаку… Возьми на полке калач и ступай. Ступай, пока идет снег, и след твой заметет. Ох, достукаешься ты опять до лагерей, чертова кукла. – И он подал Шараборину черствый калач.
Тот сунул его под доху, но не двинулся с места.
– Говори, куда пойдем вдвоем? – потребовал он настойчиво. – Зачем ожидать тебя?
– После узнаешь, ступай.
Шараборин потоптался на месте, посопел и опять глухо потребовал:
– Говори сейчас.
«Вот же сволочь скуластая, ну что с ним делать?» – в сердцах подумал Оросутцев, но решил изменить тактику, смягчить тон.
– Пойми же, что долго объяснять. Каждая минута дорога. После расскажу. Приду и расскажу. Далеко пойдем. Я же о тебе пекусь, о тебе забочусь. Товарищ ты мне или кто? Пойдем вместе, верь мне, и ты не прогадаешь.
Не верил Шараборин, что в сердце Оросутцева могли вдруг прорасти зерна товарищества, доброты и заботы о нем. Но он промолчал и предупредил:
– Смотри, майора за собой приведешь по следу.
Оросутцев едва сдержал охватившее его негодование, шумно вздохнул, но сказал как можно спокойнее:
– Ступай, ступай, ради бога. У меня свои мозги есть и у тебя занимать не собираюсь. Ступай…
– Сеп, сеп[9] … – уже миролюбиво проговорил Шараборин и толкнул дверь ногой.
Оросутцев долго стоял, прислушиваясь, и, когда его ухо ясно уловило скрип удаляющихся лыж, включил свет.
* * *
До глубокой ночи прождал майор Шелестов, сидя в рудничной конторе, коменданта Белолюбского и, не дождавшись, пошел на свою квартиру.
– Видно, не так все просто, как я предполагал и как рассчитывал комендант, – сказал он самому себе, шагая по уснувшему поселку. – Но почему он не зашел и не предупредил меня, что дело затягивается? Чудак человек! Зайти к Винокурову, что ли? Спит, наверное. Ну, ладно. Утро вечера мудренее.
Снегопад прекратился. Вызвездило. Тайга безмолвствовала, и крепчал мороз. Снег под ногами похрустывал особенно звучно. До слуха Шелестова долетел звук, похожий на ружейный выстрел, и майор догадался, что это треснуло дерево в тайге, не выдержавшее лютой стужи.
Из-за ровной гряды леса на небо выползала поздняя луна. Ее рассеянный свет разливался по поселку.
Разлапистая ель, растущая у общежития для приезжих, припушенная свежим снегом, при свете луны напомнила Шелестову японскую живопись, которую он видел на открытках, тарелках, гобеленах.
В доме все спали. Кто тихо, совсем неслышно, точно младенец, а кто с переливчатым бульканьем, похожим на мурлыканье кота.
Шелестов не находил в себе больше сил сопротивляться сну, к которому его, после бессонной ночи, неодолимо тянуло с полудня.
Он чувствовал, как тяжелела и точно чем-то наливалась голова, как набухали и слипались воспаленные веки.
– Спать… Немедленно спать… – приказал он сам себе. – Иначе завтра я не буду ни на что способен.
Бросив усталый взгляд на стол, заставленный едой, и не соблазнившись ею, он вяло разделся, повалился на койку и сразу утратил ощущение действительности.
И когда его растормошили, заставили открыть глаза и оторвать голову от теплой подушки, Шелестову показалось, что он только что прилег и проспал всего лишь несколько минут. Но через замерзшее окно был виден солнечный свет, его друзья сидели за столом, а около его изголовья стоял, переминаясь с ноги на ногу и пощипывая бородку, в своей неизменной волчьей дохе, Винокуров.
Майор приподнялся.
– Который час? – спросил он.
– Без четверти десять, – ответила Эверстова.
– Отвернитесь, Надюша. Я быстро, одним мигом, – попросил он, сбрасывая с себя одеяло.
Когда Шелестов взглянул в голубые глаза Винокурова, он подметил в них какую-то тревогу:
– Какие новости?
Винокуров только этого и ждал.
– Плохие новости. Пропал куда-то комендант, товарищ Белолюбский. С утра не найдем. Я буквально с ног сбился и людей загонял до седьмого пота. Нигде нет. Ни дома, ни в поселке, ни на руднике. Ума не приложу, куда мог деваться человек? С ним никогда подобного не приключалось. Всегда он был на виду, под руками. А тут… Вот напасти навалились на нас, – выпалил он скороговоркой, не переводя дыхания, и, вынув носовой платок, обтер влажное лицо.
– Интересно… Странно… – заметил Шелестов, обертывая ноги шерстяными портянками, а про себя подумал: «Этого еще не хватало. Не наткнулся ли он, чего доброго, на пулю, подобно Кочневу».
Сообщение Винокурова встревожило всех. Его окружили Ноговицын, Пересветов, Эверстова и забросали вопросами. Не отправился ли комендант на охоту? Есть ли у него семья? Где он был вечером? Кто с ним живет по соседству? Продолжаются ли розыски?
Винокуров едва успевал отвечать.
– Когда вы его видели в последний раз? – спросил Шелестов, приведя себя в полный порядок.
– Вчера, вчера, когда посылал к вам.
Шелестов перевел глаза с расстроенного Винокурова на пустую, тщательно заправленную койку, отведенную для старика-охотника.
– А где наш гость, товарищ Быканыров?
Ответила Эверстова:
– Он проснулся еще затемно и, видно, нашел себе какое-нибудь дело. Оделся и куда-то отправился.
Майор ничего не сказал. Надев доху, он вышел, а за ним последовал и Винокуров.
Под лучами солнца снег был до того ярок, что слепил до боли глаза, и Шелестов сощурил их.
– Что будем делать? – беря под руку майора, спросил Винокуров.
– Что-нибудь предпримем. Подумаем и предпримем, – сказал майор, хотя в данную минуту сам еще не представлял, что надо предпринять. Сообщение об исчезновении Белолюбского осложнило и без того уже сложную ситуацию.
«Убит Кочнев… На рудник пробрался кто-то неизвестный… Исчез комендант… – перебирал Шелестов очевидные факты. – Да, тут и черт ногу сломает».
– Неплохо бы произвести обыск во всех домах, – осторожно предложил Винокуров.
«Умнее ничего не придумаешь?» – хотел спросить Шелестов, но, не высказав своего мнения, спросил о другом:
– Белолюбский пил?
– Не замечал. Чего не замечал, того не замечал. Он всегда был на глазах, всегда был чем-нибудь занят, а свободное время проводил или за шахматами, или у меня, или в библиотеке.
– Семья у него есть?
– Нет. Никого. Он одинокий.
– Коммунист?
– Беспартийный, но добросовестно готовился к вступлению в партию. Он аккуратно посещал открытые партсобрания, участвовал в выпуске стенной газеты, сам выступал с разоблачительными статейками.
– Не насолил он тут кому-нибудь?
Винокуров растерянно развел руки.
– Затрудняюсь даже ответить. Помню, он как-то вывел на чистую воду завмага Сироткина. Тот менял продукты на пушнину, а пушнину сбывал в частные руки.
– Ну и что?
– А ничего. Сироткина привлекли к ответственности и осудили.
– Да… – протянул Шелестов и хотел еще о чем-то спросить Винокурова, но вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку. Он оглянулся и увидел улыбающееся лицо Быканырова.
По заиндевевшим бровям, ресницам, шарфу старика Шелестов сразу определил, что тот давно находится на морозе.
– Где пропадал? – спросил майор.
Подтянувшись к уху майора, старик шепотком доложил:
– Разговор есть. Большой разговор. Новости добыл. Ищи лыжи и пойдем со мной.
Хорошо зная старого охотника, Шелестов не допускал мысли, что тот без особого основания оторвет его от разговора.
– Ищите коменданта, – сказал он Винокурову. – Не может же человек бесследно пропасть. Ерунда какая-то! Соберите коммунистов, комсомольцев и заставьте их обследовать весь поселок. Он мне самому очень нужен. Прямо чудеса в решете происходят на вашем руднике.
– Попробую, попробую… – согласился без возражений Винокуров и засеменил к рудничной конторе.
Шелестов взял под руку Быканырова.
– Слыхал, старина? Белолюбский куда-то как сквозь землю провалился. Что здесь происходит, никак не возьму в толк. А что у тебя за новости?
– Лыжи ищи, лыжи… Надо. Шибко надо. Все узнаешь. Пойдем на пруд.
– Куда?
– На пруд. Покажу что-то.
* * *
Вокруг проруби свежий снег был испятнан многочисленными человеческими следами, и в этом Шелестов не нашел ничего необычного. Он уже знал, что с пруда почти беспрерывно в течение дня возят воду и лед.
Но метрах в пятнадцати от проруби Быканыров показал на чистый снег, и Шелестов увидел большие, точно впечатанные… не человеческие следы.
– Медведь! – воскликнул майор и опустился на колени. – Ей-богу, медведь! Подумать, куда его занесла нелегкая! Видно, воды захотел. Да-а, это опасный гость. Медведь, отказавшийся зимой от лежки, зверь беспокойный и неприятный.
Быканыров молчал, стоя рядом и попыхивая трубкой.
Таас Бас энергично обнюхивал след, тянул носом и вел себя беспокойно.
– Ишь, почуял звериный дух, – заметил Шелестов и погладил собаку. – Хороший пес, умный, жаль вот только, что у тебя голоса нет. Все бы медали золотые тебе достались. Как, отец?
Быканыров продолжал молчать.
Шелестов поднялся, сдвинул сползшую на лоб шапку и полез в карман за папиросами, не отрывая в то же время глаз от медвежьего следа.
– И махина же, видать! Смотри, какие лапищи! Вот бы с такого шкуру снять. Неплохо, совсем неплохо. Она у него громадная, ворсистая, пышная, теплая. Такую и Якутпушнина примет.
– Значит, хорошую зверину нашел старик? – выбивая трубку, заговорил Быканыров.
– Куда уж лучше, – ответил майор.
Старик усмехнулся и покачал головой:
– Однако это не медведь.
Шелестов с удивлением уставился на него, потом посмотрел на след.
– А кто же?
– Не медведь.
– Хм… интересно. А кто же, по-твоему? Уж не дух ли чей в медвежьей шкуре? И кто говорит – старый охотник.
– Зачем обижаешь старика? – огорчился Быканыров. – Правду я сказал. Правду. Лапы медведя, но шел не медведь.
– Ну что мне с тобой делать, – немного нервничая, проговорил Шелестов и вдруг рассмеялся. Уж больно серьезным для такой обстановки показалось ему выражение лица Быканырова.
И Шелестов не мог понять в конце концов, шутит ли старик, разыгрывает его или говорит серьезно.
«А я-то что, – подумал он, – снял чуть не два десятка шкур с медведей и вдруг не могу разобраться, чей это след». – Майор вторично опустился на колени и стал тщательно осматривать отчетливые вмятины на снегу.
– Слушай меня. Дело говорю, – подошел к нему Быканыров. – Не медведь шел, а глупый дурак. Совсем глупый. Медведь хоть и зверь, а у него поучиться можно, а это дурак.
– Ничего не понимаю. – Шелестов поднялся.
– Пойдем по следу? – спросил Быканыров. – Я один не хотел.
– Что за вопрос, конечно, пойдем.
– Таас Бас! – позвал Быканыров.
Пес лакал холодную воду из проруби. Он оторвался от воды, поднял голову, насторожил уши и стал облизываться.
– Вперед! – подал команду старик и показал рукой на след.
Друзья пошли вслед за собакой, но не прямо по следу, а сбоку от него.
Шелестов был явно озадачен и молчал. Хотя теперь на глубоком цельном снегу след вырисовывался не так отчетливо, как на пруду, майор не мог согласиться с утверждением Быканырова, что прошел не медведь.
Достигнув ложбинки, заросшей молодыми елками, друзья скользнули по крутой снежной осыпи вниз.
След вел по дну ложбинки. Дорогу преградила большая, отжившая свой век, сваленная ветром и полузанесенная снегом трухлявая сосна.
Таас Бас остановился и присел, готовясь к прыжку.
– Смотри-ка! – сказал Шелестов. – А ну-ка, пальни в нее!
По стволу сосны юрко запрыгала упитанная, пепельного цвета белка с оттопыренными щеками. Она, казалось, не боялась опасности.
– На медведя охотимся, на зайца не смотри, – с укором сказал Быканыров и свистнул.
Белка с сосны прыгнула на елку и скрылась.
Друзья пошли дальше. След вывел их из ложбинки на небольшую поляну, окруженную березами и елями, и оборвался у разоренного ветвяного шалаша.
Тут же чернели еще не засыпанные снегом остатки перегоревшего костра, обгоревшие спички, окурки от папирос.
Поляна была вытоптана человеческими ногами, и от нее в тайгу уходил след свежепроложенной, отлично видимой лыжни.
Таас Бас рвался вперед, по лыжне, но старик сдержал его.
– Где же твой медведь? – спросил он с усмешкой Шелестова.
– Ничего не понимаю, хоть убей, – признался майор.
– То-то. Человек оставил след, а не медведь. Я сразу увидел.
– Но как? Как? – горячо заинтересовался Шелестов. – Почему я не разобрался? Да и сейчас я еще не совсем уверен.
Быканыров ухмыльнулся, снял рукавицу, отодрал сосульку от шарфа и полез в карман за табаком и трубкой.
– У человека два глаза, а у охотника четыре, – набивая трубку махоркой, начал он в поучительном тоне. – Тот глупый дурак подвязал к рукам и ногам лапы медведя. Думал, не поймут люди. А я понял. А почему понял? Идем сюда, – и старик сделал несколько шагов назад, туда, где еще был виден след медведя. – Смотри! Разве у медведя задние ноги одинаковые? А? Видишь, обе левые…
Шелестов опустился на одно колено, всмотрелся. Точно. Правая задняя нога «медведя» оставляла отпечаток левой ноги.
– И как же я прохлопал? – и майор с досадой стукнул себя по лбу.
Быканыров, довольный своим открытием и проницательностью, покуривал трубку и улыбался.
– Теперь мне все ясно, – сказал наконец Шелестов. – Интересно, кому понадобилась такая хитрая маскировка? Вот бы что хотел я сейчас знать.
– Узнаем. Придет время и узнаем, – заметил уверенно старик. – Может быть, комендант пошутить захотел, – добавил он.
Они возвратились вместе на поляну. Шелестов собрал окурки от папирос, обернул их носовым платком и положил в карман. Он начал обследовать место, где стоял шалаш, в надежде обнаружить что-нибудь ценное, а Быканыров занялся изучением следов.
Майор перевернул хвойный настил, который, видимо, прошедшей ночью служил кому-то постелью, разгреб золу, раскидал обгоревшие головешки, но ничего не нашел.
– Жаль, очень жаль, но ничего нет, – сказал он вслух и обратился к Быканырову: – Ну что там нового?
– Все новое. Все хорошо, – по-молодому звонким голосом ответил старик. – Двое здесь было, а не один. Точно двое. Один пришел до снега. Ждал, ломал лапник, делал шалаш, огонь разводил. Долго сидел, потом лежал. Другой пришел с рудника. После снега пришел. А ушли вместе. На лыжах ушли. И не шибко давно. Однако прошло часов десять. Теперь они далеко, совсем далеко. Шибко пошли. Один русский, другой якут. Один с палками пошел, другой без палок.
Шелестов стоял. Внешне он ничем не проявлял охватившего его волнения, но внутри у него все горело. Он готов был сейчас же побежать по горячему следу, оставленному неизвестными, но здравый рассудок подсказывал, что так поступать нельзя. Во-первых, надо было скорее возвращаться на рудник и продолжать расследование; во-вторых, догонять на лыжах людей, ушедших вперед чуть ли не на полсуток, было просто бессмысленно.
– Пойдем обратно, – сказал майор.
По пути в поселок Шелестов пытался разобраться с тревожившими его мыслями, предположениями, напрашивающимися догадками, но их было так много, что все его усилия и старания привести их в определенную систему ни к чему не привели.
Вначале у Шелестова появилась уверенность, что, обнаружив следы, ушедшие в тайгу, он добился чуть ли не главного на пути к раскрытию преступления, но чем ближе они подходили к поселку, тем эта уверенность становилась слабее.
Пока все факты: убийство Кочнева, появление вблизи рудника неизвестного, загадочное исчезновение коменданта, следы под медведя, лыжня, ушедшая в тайгу, в глазах Шелестова не имели между собой взаимосвязи и представлялись разрозненными, каждый сам по себе.
«А возможно, так и в самом деле?» – спрашивал сам себя майор. С другой стороны, невероятным казалось такое нагромождение случайностей, если бы они не имели какой-то общей причины.
Но и от такого вывода ему пока не делалось легче.
– Гляди! – позвал его Быканыров и показал рукой.
Оказывается, они уже достигли пруда.
На сосне у самого пруда сидел большой, черно-бархатистого цвета косач с хвостовой лирой. Он, не обращая внимания на людей, ощипывал хвою и преспокойно глотал ее, вытягивая длинную гибкую шею.
– Теперь можно стрельнуть, – сказал старый охотник и вскинул бескурковку.
Он начал выцеливать птицу. Щелкнул выстрел. Эхо отозвалось звонко, раскатисто. Петух камнем упал к подножию сосны, и к нему бросился, ныряя в глубоком снегу, Таас Бас.
Когда друзья достигли поселка, Шелестов спросил:
– А как ты думаешь, отец. Один из этих двоих не тот ли тип, что не захотел показаться в твоей избе?
– Не знаю. Думаю. Видно будет.
– Я хочу тебя попросить, – вновь заговорил майор, – вместе начать охоту на этого человека с медвежьими ногами. Как смотришь ты на это?
Старик выдержал небольшую паузу и ответил:
– Якут колхозник знает, кто приносит беду в тайгу. Чтобы изловить худого человека, пойду далеко с тобой. На самый край пойду. Тайга, тундра, море, – везде найдем.
Новое преступление
Василий Оросутцев и Шараборин шли на лыжах уже почти сутки. Первое время впереди шел Шараборин, прокладывая лыжню на цельном снегу, а затем его сменил Оросутцев. И не потому, что так хотелось тому или другому, а потому, что у Шараборина сломалась пополам правая лыжа, и ему теперь легче было идти вторым, а не первым. И нужно же было ей сломаться в такое неудачное время! Во-первых, починка лыжи отняла добрый час; во-вторых, лыжа получилась уже не та, стала короче левой, непослушнее. Сыромятный ремень, скрепляющий два конца лыжи, тормозил движение, затруднял его.
Расстояние, пройденное более чем за полсуток, равнялось теперь, после поломки лыжи, часовому расстоянию.
Оросутцев нервничал. Он понимал, что так далеко им не уйти. Он также понимал, что на руднике его исчезновение уже обнаружили, наверное, начали розыски. Он поставил перед Шарабориным одну задачу: поскорее добыть в тайге оленей и нарты, хотя сам сознавал, что задача эта не из легких. В колхозы, на стойбища охотников ни он, ни Шараборин показываться не решались, так как опасались действовать открыто. Надо было отыскивать одиночек охотников, у которых без опасений можно отобрать оленей или же украсть оленей где-либо, не обнаруживая себя.
Шараборин нервничал не менее своего старшего сообщника. Он отлично понимал, что от него требуется, но за эти последние сутки, как никогда ранее, его охватило чувство растерянности и неуверенности. И к этому были причины. Он не знал, а Оросутцев не объяснил еще ему, куда они держат путь и каковы их цели. Следуя указаниям Оросутцева, Шараборин выждал его в тайге, за прудом, недалеко от рудничного поселка, и вот они идут, а как долго будут идти и что им это даст, Шараборин не представлял.
Шараборина не удивило то обстоятельство, что, выбираясь из поселка, Оросутцев прибег к медвежьим лапам, но его удивляло другое: почему молчит Оросутцев о том, куда они держат путь, почему он прячет под фуфайку фотоаппарат, хотя Шараборин уже заметил его.
До аварии с лыжей Шараборин хотел было поставить вопрос ребром и объявить Оросутцеву, что не хочет быть его попутчиком. Объявить это и податься в другую, нужную ему сторону. Но теперь он отказался от этой мысли. Надо было выждать немного, хотя бы до той поры, пока они найдут оленей.
И, решив так, Шараборин действовал со свойственным ему упорством. Он делал крюки, спрямлял дорогу, залезал в крепи, где, он предполагал, вероятнее всего можно было наткнуться на олений след или на шалаш охотника, но все было пока безуспешно.
А ночи, казалось, не будет конца. Она как бы назло, остановилась.
– Протопали столько – и напрасно, – с раздражением сказал Оросутцев и остановился.
Шараборин молчал. Ему нечего было возразить. Он, кажется, и вправду потерял свое звериное чутье, которое не раз в жизни выручало его. Оно приводило его к воде, когда мучила жажда, к кочевью, когда требовалось тепло, к стаду оленей, когда ноги отказывались идти, а идти следовало быстрее. Исчезло это чутье, будто его и не было, и тыкался Шараборин по тайге, как слепой щенок.
Про себя он думал сейчас, что оленей им, наверное, не найти, но поделиться этой мыслью с Оросутцевым опасался.
– Отдохнем немного, – сказал Оросутцев и опустился прямо на снег. – Выдохся я вконец.
– Отдохнем малость, – согласился Шараборин.
Он тоже измотался и, пожалуй, еще больше Оросутцева нуждался в отдыхе. И, кроме того, ему причиняла беспокойство треснувшая от мороза нижняя губа. И ранка-то, казалось, небольшая, но она саднила и вызывала боль. Губа распухла. Когда Шараборин неосторожно повертывал голову и задевал губой о шарф, ему хотелось кричать от боли. Он и говорить старался поменьше, чтобы не тревожить губу.
Оросутцев и Шараборин расположились на голом снегу, освободив натруженные ноги от лыж. Они не имели даже сил сделать настил из хвои.
Оросутцев полез в свой дорожный мешок, извлек оттуда два небольших куска промерзшего мяса и один из них бросил Шараборину.
Промерзшее мясо вообще есть трудно, а с треснувшей и распухшей губой тем более. Еда причиняла Шараборину нестерпимые муки и вызывала в его сердце горечь и обиду. Шараборин не ел мясо, не кусал, а точил кончиками зубов, как зверь-грызун.
Холодное мясо не утолило голода, не прибавило сил. Неудовлетворенные едой, они закурили.
– Плохо будет, если к завтрашнему дню не найдем оленей, – проговорил Оросутцев, и эти слова вылетели у него непроизвольно, вместе с табачным дымом.
– Найдем, – постарался успокоить его Шараборин, хотя сам в это не верил, а если и верил, то очень слабо.
– Придется всю ночь бродить, а отдыхать будем днем, – сказал далее Оросутцев.
– Как хочешь, – согласился Шараборин.
Сквозь черные купы сосен и елей показалась поздняя луна, и от нее по снегу поползли расплывчатые тени.
Мороз крепчал, и его студеное дыхание уже начало пробираться под одежду Оросутцева и Шараборина.
– Ну и жжет, – и Оросутцев зябко подергал плечами. – Если так посидеть с полчаса, – околеть можно.
Шараборин подумал:
«Сейчас опять пойдем искать оленей, и опять я не буду знать, для чего мы их ищем и куда торопимся».
Он долго боролся с собой, наконец не выдержал:
– Зачем ты меня с собой тянешь? А? Зачем я тебе? У меня другой план есть.
Оросутцев поднялся и начал закреплять лыжи на ногах. Шараборин решил, что Оросутцев сделает вид будто не расслышал его вопроса и промолчит, но тот ответил:
– Как только найдем оленей, все тебе расскажу.
– Почему так?
– Ну что ты за человек! – сдерживая раздражение, заявил Оросутцев. – Неужели тебе не ясно, что делаю я все не ради своего удовольствия, а потому, что так надо. И ты тоже поймешь, что это надо. Пойдем. Теперь иди ты впереди, я эти места плохо знаю.
– Я тихо пойду, – предупредил Шараборин.
– Неважно. Я тоже уже быстро не пойду.
Они оставили место привала и долго еще петляли по таежной темноте.
Ветви исхлестали, а острые иглы молодого сосняка искололи в кровь их лица.
Ноги у обоих набухли, отяжелели от усталости и переставали слушаться. Уже далеко за полночь перебираясь через неглубокий, вымерзший до дна и занесенный снегом ручей, Оросутцев и Шараборин вдруг совершенно неожиданно наткнулись на следы оленей и нарт.
Они остановились и замерли на месте, стараясь проследить за убегающим следом, пока он давался глазу.
И как будто сил сразу прибавилось, и не так холодно стало. Шараборину показалось, что даже губа его перестала саднить.
– Не обмануло меня чутье. Все сюда, сюда, в эту сторону тянуло. Я чувствовал, – сказал он, хотя, конечно, на след оленей и нарт наткнулись совершенно случайно.
– Да, проводник ты что надо, – высказал похвалу Оросутцев. – Хорошо ты знаешь тайгу, чувствуешь себя в ней, как дома.
Это польстило Шараборину, но в то же время и немного насторожило его.
Он так мало слышал похвал из уст Оросутцева, что не мог поверить в искренность и этой, и опасался, что похвала имеет особый, неразгаданный им смысл.
Шараборину, да отчасти и Оросутцеву, проведшим долгие годы в тайге, не составляло труда определить, куда и когда прошли олени, впряженные в нарты.
– Они прошли утром, совсем рано, и туда, налево, – сказал убежденно Шараборин. – Сытые олени, бегут здорово.
– Пошли налево, – предложил Оросутцев.
Идти по следу, оставленному несколькими оленями и двумя нартами, стало куда легче. Оросутцев и Шараборин затрачивали меньше сил на движение.
Шараборин сообразил, что оленями, видно, управлял хороший и знающий местность погонщик, так как след не вилял, а тянулся почти прямо через поляны, опушки, небольшие оконца в тайге, пересекал замерзшие пруды, ручьи, озера.
Луна уже поднялась высоко, и в ее призрачно-обманчивом свете рисовались фантастические картины. Каждый пень казался издали человеческой фигурой, застывшей в напряженном ожидании чего-то; снежные нависи на деревьях оборачивались в чудовищных зверей; дорогу преграждало вдруг непонятное, неестественное препятствие, в то время как на самом деле ничего не было.
Оросутцев, шедший теперь опять впереди, несколько раз останавливался, протирал заиндевевшие от дыхания, слипшиеся от мороза ресницы и, убеждаясь, что с ними играет лунный свет, ругался:
– Дьявол его забери, наваждение какое-то, – и продолжал шагать дальше.
После часа безостановочного движения Оросутцев и Шараборин, строго придерживаясь следа, вышли на взгорок и остановились. Лицом к ним горюнилась рубленая изба. Дым из ее трубы тянулся к небу прямым высоким столбиком и рельефно выделялся на черной стене хвои. В нескольких метрах от избы лежали двое перевернутых кверху полозьями нарт. Это лучше всего свидетельствовало о том, что где-то недалеко пасутся олени.
Оросутцев и Шараборин стояли в молчании. Их отделяло от избы не больше чем метров сорок – сорок пять.
– Я говорил, что найдем оленей, – вполголоса заговорил Шараборин.
– Молодчина, молодчина… Но найти оленей – это еще не все.
– Я знаю, но главное – найти.
– Главное – взять их, и взять без шума, чтобы не видел хозяин.
– Они, однако, тут, недалеко.
– И надо брать всех, сколько есть, чтобы на остальных хозяин не пустился за нами в погоню.
– Всех заберем. Всех.
– А упряжь? – спохватился вдруг Оросутцев. – Упряжь-то, верно, в избе?
Шараборин умолк. Он совершенно упустил из виду упряжь, а ее порядочный хозяин, конечно, держит в тепле.
– Вот в упряжи-то и будет вся загвоздка, – сказал Оросутцев. И вдруг невдалеке раздался голос, заставивший обоих вздрогнуть.
– Э-гей! Что стоите на холоде? В дом проходите! – сказал человек громко по-якутски, выйдя из избы.
Оросутцев и Шараборин лишились возможности обменяться наедине своими мнениями и выработать план действий. Они себя обнаружили, бежать было бессмысленно. Да и к тому же якут подошел вплотную. Он всмотрелся в лица ночных путников и, найдя их незнакомыми, еще раз пригласил войти в дом.
Оросутцев и Шараборин, по молчаливому согласию, последовали за ним и вошли в дом. В небольшой комнате у горевшего камелька на высоком чурбаке сидела молодая женщина с приятным разрезом черных глаз, с гладко зачесанными волосами. Она пластала на доске большую рыбу баранатку. В двух чугунных котлах на жарких угольях булькала и исходила обильным паром закипающая вода. С потолка, в центре комнаты, свисала на длинном крючке лампа «летучая мышь».
Поздоровавшись с вошедшими, женщина взяла доску с лежащей на ней рыбой и отошла в угол.
Комната, кроме небольшого, неокрашенного, но начисто выскобленного стола и нескольких чурбаков, служивших стульями, ничего не имела.
Ночные гости не без удивления оглядели комнату, что не укрылось от взора хозяина.
– Что? Бедно живем? – спросил он с усмешкой.
– Да, небогато, – ответил Оросутцев по-якутски, так как хорошо знал этот язык.
Хозяин еще раз добродушно усмехнулся и пояснил, что он с женой только утром вчера въехал в пустовавшую до этого избу. Правление колхоза поручило им обжить дом, так как с началом сезона в него должна вселиться целая бригада охотников.
– Мы еще не успели ничего сделать. Перевесили двери, а то они с петель сваливались, мусор выгребли, застеклили окно, законопатили щели, камелек подправили да дров припасли. Еще надо нары сделать, скамьи, трубу обмазать.
Хозяину было не больше тридцати лет. Ладно сидящая на нем суконная гимнастерка военного образца, солдатский ремень и общая выправка говорили о том, что он не так давно покинул армию.
Не нарушая местного обычая, Оросутцев и Шараборин сняли с себя шапки, кухлянки, уселись на чурбаки и закурили.
Хозяин подошел к одному из котлов и снял его с огня.
– Что варишь? – поинтересовался Оросутцев.
– Капкан новый варю, в хвойном настое. Хочу запах железа отбить у него. А вы кто такие будете?
– С рудника Той Хая, – поспешил ответить Шараборин, но, поймав на себе косой, неодобрительный взгляд Оросутцева, умолк.
Оросутцев же, опасаясь, как бы его сообщник не сказал что-нибудь лишнее, заговорил сам. У него к этому времени созрел уже новый план действий.
– Я везу грузы на рудник, на трех нартах, да вот олени выбились из сил и попадали.
Шараборин молча смотрел на Оросутцева, стараясь разгадать, что он затевает, между тем Оросутцев, сидевший ближе к огню камелька, расстегивал ватную фуфайку, и под ней Шараборин вторично увидел кожаный футляр, в которых обычно хранят и носят фотоаппараты.
– А что у тебя за груз? – поинтересовался хозяин.
– Срочный и опасный – взрывчатка.
– О! Это да, – заметил хозяин.
– На руднике ждут, из себя, видно, выходят, беспокоятся, а мы застряли и не знаем, как быть, – продолжал Оросутцев.
– Далеко оставили груз?
– Километров десять отсюда.
– Давайте кушать, – вмешалась в разговор хозяйка, – а потом разговаривать будем.
На столе уже стоял котел, от которого распространялся по комнате приятный запах рыбного отвара.
У Шараборина трепетала каждая жилка от голода, и он первый ответил на приглашение, пододвинул чурбак и сел к столу. Его примеру последовали и остальные.
Ели молча. Хозяева спокойно, а гости быстро и жадно, не в силах утолить голод. После того как похлебали рыбного отвара, поели рыбы, пили крепкий чай, забеленный ломтиками замороженного молока.
Когда с едой было покончено, Оросутцев угостил хозяина папиросой и спросил:
– А у тебя олени есть?
– Понятно, есть, – ответил хозяин. Привыкший курить трубку, он держал папиросу в руках осторожно, точно хрупкую вещь. – Шесть голов есть, два быка и четыре важенки. Хорошие олени. Второй раз запрягли за зиму. Очень хорошие.
– Вот и выручи нас. Ты же колхозник и должен понимать, что значит для нашего рудника взрывчатка. Тебя хорошо отблагодарят, деньги на руднике есть. Дай нам на сегодняшнюю ночь своих оленей, мы дотянем груз до твоей избы, оставим здесь, а сами пойдем на рудник.
– А у тебя документы есть? – спросил вдруг хозяин.
Оросутцев ничего не сказал и полез в карман пиджака. Если до этого он досадовал на Шараборина, что тот сразу сказал, что оба они с рудника, то теперь мысленно благодарил его. Документ так или иначе выдал бы его сейчас, а соври Шараборин тогда, вышло бы, конечно, хуже.
Он извлек из кармана удостоверение коменданта рудничного поселка Белолюбского и подал его хозяину. Тот внимательно ознакомился с ним, вернул владельцу, а затем, переведя глаза на Шараборина, спросил:
– А у тебя?
– Есть. Обязательно есть, – и Шараборин тоже полез в карман.
– Это мой попутчик, учитель. На рудник к нам едет. Теперь у нас два учителя будут: один русский, другой якут.
Диплом, поданный Шарабориным, не вызвал у хозяина дома никаких подозрений.
– Учитель – это хорошо, – заметил хозяин. – Но отдать вам оленей я не могу. Прав таких не имею. Олени колхозные, и я отвечаю за них. Я бригадир. А помочь вам надо. Рудник – большое дело. Я был на руднике раз – рыбу возил…
– Как же ты думаешь помочь нам? – спросил Оросутцев, начиная раздражаться оттого, что возникло препятствие.
Хозяин закивал головой.
– Помогу, помогу. Сам с вами поеду. Привезем груз ко мне. Олени обвыклись со мной, хорошо бежать будут. Быстро привезем.
Положение осложнялось, надо было мгновенно находить выход.
Оросутцев встал:
– Ну вот и хорошо, дружище! С тобой еще лучше. Собирай оленей и поедем. Чем скорее, тем лучше.
Но хозяин, к немалому удивлению Оросутцева, даже не встал с места.
– Утром поедем, – сказал он. – Пусть олени отдыхают. Они три дня сюда бежали. Да здесь мы полдня дрова на них таскали. Пусть отдыхают.
Оросутцев почесал затылок.
– Жалко, к утру были бы здесь. – Ему, правда, хотелось сказать хозяину нечто совсем другое, но он понимал, что тут он навязывать своих желаний не может.
– Рано поедем, рано поедем, – успокоил хозяин. – С грузом ничего не случится. В тайге он, как на складе.
– Это верно, – поддакнул Шараборин и обратил внимание на тот факт, что теперь уже Оросутцев не прячет фотоаппарата и он болтается у всех на виду.
– И отдохнете в тепле, – вмешалась в разговор хозяйка. – Утром чаю попьете и поедите, я успею мяса отварить, – она говорила тихо, мягко, растягивая слова, как бы нараспев, и одновременно, отодвинув стол, расстилала на его месте оленьи шкуры.
Оросутцев видел, что возражать бесполезно. Он предложил выкурить еще по папироске, прежде чем ложиться спать. Ему нужно было переброситься наедине несколькими словами с Шарабориным, но тот, как нарочно, первым разулся, улегся на постланные шкуры, и не успел Оросутцев выкурить и полпапиросы, как услышал храп своего проводника.
* * *
Все складывалось вопреки желаниям Оросутцева и Шараборина. Оленей им не удалось похитить. Хозяина не удалось уговорить отдать оленей или поехать самому с ними еще ночью. А проснувшись утром, они увидели горевший камелек и хлопотавшую около него хозяйку. В ее присутствии неудобно было разговаривать.
Оросутцев выругался про себя и, поднявшись с полу, сделал знак Шараборину, чтобы он вышел из избы.
Шараборин понял его, быстро оделся, вышел и сейчас же наткнулся на хозяина. Тот уже запряг оленей и ожидал гостей.
– Все готово, – объявил хозяин. – Вас поднимать хотел.
– Мы сейчас, сейчас, – заторопился Шараборин и быстро вернулся в избу, не дождавшись Оросутцева…
Туда же вошел и хозяин.
Кушали и пили чай так же, как и вчера, в молчании.
Хозяин сам торопил гостей. Он был заинтересован в том, чтобы скорее доставить груз и приняться за свои дела. Поэтому сборы были быстры, и Оросутцев так и не успел передать Шараборину своих планов.
Хозяин сел на первые нарты, как погонщик. За его спиной пристроился Оросутцев. Шараборин сел на вторые нарты один. К его нартам были привязаны двое свободных заводных оленей.
Олени бегом тронули с места, взметывая снежные брызги.
Оросутцев сидел, глубоко задумавшись, и соображал, как поступать далее. Он отлично знал, что попал в затруднительное положение. Он рассуждал так: как только хозяин наткнется на след их лыж, подходящий к нартовой дороге справа, со стороны рудника, он сразу заподозрит что-нибудь недоброе и возьмет под сомнение все, что рассказали Оросутцев и Шараборин вчера. А если и не обратит на это внимания и погонит оленей по проложенной ими лыжне, то Оросутцев и Шараборин, вместо того чтобы отдаляться от рудника, будут к нему приближаться. Это совсем неинтересно, нежелательно и небезопасно.
«Значит, надо от него избавиться как можно быстрее, и до того места, где мы вышли на нартовую дорогу», – решил Оросутцев.
Но как это лучше сделать? Сидя позади хозяина оленей, он мог бы без труда сбросить его с нарт в снег. Но что это давало. Ровным счетом ничего.
Это значило иметь живого свидетеля, человека, для которого ничего не составляло вернуться домой, схватить ружье, встать на лыжи и поднять панику кругом. Это значило допустить непростительную глупость, на которую Оросутцев не считал себя способным.
«Его нельзя оставлять живым, – пришла новая мысль в голову Оросутцева. – Если бы он не видел моих документов, тогда бы плевать на все, можно было столкнуть и удрать. Пусть ищет ветра в поле. Но документы он видел и, наверное, запомнил».
Оросутцев оглянулся и посмотрел на Шараборина. Тот сидел, как-то странно согнувшись. Он был очень рад, что главный вопрос, вопрос об оленях, пришлось решать не ему, а Оросутцеву.
Олени бежали быстро, нарты подбрасывало, и Оросутцеву ничего другого не оставалось, как держаться или за хозяина, или за нарты.
– Куда торопишься? – крикнул Оросутцев на ухо хозяину. – Успеем…
– Чем скорее, тем лучше, – ответил хозяин, но сдержал бег оленей и перевел их почти на шаг.
Теперь можно было действовать руками. Оросутцев еще раз оглянулся на Шараборина и полез рукой под кухлянку.
Еще мгновение, и Оросутцев вытащил из ножен свой длинный охотничий нож, осторожно выпростал руку из-под кухлянки и резко взмахнул ею, чтобы нанести безошибочный удар.
Хозяин нарт ничего не заметил, но чуткие, мало ходившие в упряжи олени приняли взмах руки за сигнал и сильно рванули. Оросутцев, не ожидая этого, откинулся корпусом назад и, чтобы не свалиться с нарт, свободной рукой ухватился за рукав дохи хозяина нарт. В то же время правой рукой, в которой был нож, он успел нанести удар. Но уже не с такой силой, как замышлял, и не в то место, в которое метил. Он хотел всадить нож под левую лопатку, но всадил его в мышцу левой руки.
Обожженный внезапной болью, еще не успевший сообразить, что происходит и чего испугались олени, хозяин быстро обернулся и, очевидно, понял все. Он увидел страшные, налитые кровью глаза Оросутцева и занесенный для вторичного удара нож. Хозяин нарт, охотник и таежник, тоже умел действовать быстро. Упершись ногами в полозья нарт, он сжался в комок и, выпрямившись, нанес удар головой в грудь Оросутцева и свалил его с нарт. Свалил и сам, не удержавшись, оказался в снегу.
Перепуганные олени пронесли нарты мимо двух людей, оставшихся на дороге.
В голове хозяина оленей сейчас была одна мысль: как можно скорее, не дав возможности опомниться Оросутцеву, обезоружить и обезвредить его. Он быстро вскочил, бросился на неуспевшего подняться на ноги Оросутцева, схватил его за руку, державшую нож, и навалился на него всем телом.
– Вот ты какой комендант… – вырвалось у него вместе с порывистым дыханием.
– Сволочь… Убью… Убью… – хрипел Оросутцев, сжимая противника.
Оросутцев был тоже силен, ловок и не раз выходил победителем из рукопашных, кровавых схваток. Свободной левой рукой он со всей силы ударил хозяина оленей в подбородок и отвалил его от себя.
За это короткое время, исчисляемое секундами, он успел увидеть, как олени, нарты и Шараборин скрылись за стволами деревьев на повороте дороги.
Оросутцеву хотелось бросить своего раненого противника и побежать вслед за оленями, но он понимал, что это невозможно.
Молодой якут – хозяин оленей, едва отвалившись от Оросутцева, вновь сделал прыжок, но Оросутцев, изловчившись, успел воспользоваться ножом и ткнул им без размаху в правую сторону груди противника. Тотчас же Оросутцев получил сильный удар ногой в локоть руки, и нож отлетел в сторону.
Хозяин оленей повалился на него, и два человеческих тела, сцепившись в клубок, катались по глубокому снегу.
Теплая зимняя одежда мешала им, связывала их действия, но все же они, почти не уступая друг другу в силе и ловкости, наносили один другому удары в лицо, в грудь, в живот.
Охотник крепко держал руку Оросутцева, вооруженную ножом. И вот, улучив момент, свободной левой рукой он ударил Оросутцева в лицо и отвалил от себя. Теперь Оросутцев стал свободен. Он быстро вскочил и снова бросился на хозяина оленей.
Неожиданный удар ножом пришелся в грудь охотнику. Однако он тоже успел нанести противнику сильный удар в живот. Оросутцев опрокинулся навзничь и уронил нож. Охотник, теряя силы, подполз к ножу и овладел им.
Теперь Оросутцеву ничего не оставалось, как спасаться бегством.
И когда из-за поворота дороги показались олени, а на первых нартах сидел Шараборин, Оросутцев крикнул что-то нечленораздельное и на трясущихся ногах устремился навстречу своему сообщнику.
Решение принято
Внезапному исчезновению коменданта рудничного поселка Белолюбского майор Шелестов не мог не придать значения. Он понимал, что в таком запутанном деле, как это, каждый факт подлежал тщательному расследованию.
И при этом каждое новое обстоятельство надо было изучать с точки зрения взаимосвязи его с уже добытыми ранее фактами. А обнаруженные на снегу следы, в сопоставлении со всем происшедшим, могли иметь решающее значение и послужить ключом к раскрытию тайны.
Узнав об исчезновении коменданта, Шелестов прежде всего решил проверить, выполнил ли Белолюбский его поручение или не выполнил. Он предложил Быканырову, Ноговицыну и Винокурову обойти большую часть жилых домов поселка и выяснить, заходил ли в них Белолюбский.
Быканыров и Ноговицын первые справились с поручением. Возвратившись, они доложили, что в тех домах, где они побывали, комендант давно не появлялся.
Последним пришел Винокуров. Он заявил то же самое.
– Ну вот, – сказал Шелестов. – Ему было, видно, не до моего поручения. У него, наверное, нашлись более важные дела.
Глаза заместителя директора рудника глядели пусто, растерянно.
Исчезновение Белолюбского сильно на него подействовало, а сейчас, установив, что комендант даже и не пытался обойти жилой поселок, Винокуров окончательно расстроился. Он стоял против майора Шелестова, не сводил с него испуганных глаз и подергивал свою жалкую бородку.
Шелестов смотрел на Винокурова, но как бы не видел его, и думал о своем. Его спокойно-внимательные глаза были сосредоточены, губы плотно сжаты.
– Кстати, – заговорил майор после долгого молчания, которое еще более смутило Винокурова. – У вас, надеюсь, имеется анкета на Белолюбского?
– А как же, – немного оживился заместитель директора. – Уж где-где, а на моем участке работы всегда полный порядок. В этом я могу поручиться. Еще не было случая…
– Принесите мне все, что у вас есть на Белолюбского, – прервал его Шелестов.
Винокуров быстро покинул кабинет и очень быстро возвратился. Он положил на стол перед майором тоненькую папочку, на которой чьей-то рукой было старательно выведено: «Белолюбский В. Я.».
– Садитесь, – сказал Шелестов Винокурову и открыл папку.
В ней он нашел всего три документа: обычную для всех анкету и собственноручно написанные Белолюбским биографию и заявление о предоставлении ему работы на руднике.
– Он у вас начал работать прямо с должности коменданта? – спросил Шелестов, перелистывая папку.
– Нет, нет. Я же вам говорил. Вначале он…
– Я отлично помню, о чем вы говорили, а потому и спрашиваю. Здесь-то это не нашло никакого отражения. Даже характеристики нет.
Винокуров развел руками, привстал немного и вновь опустился на прежнее место.
Шелестов начал знакомиться с биографией Белолюбского и пришел к выводу, что он человек грамотный. Во всяком случае, мысли свои Белолюбский излагал связно и грамматических ошибок не допускал. Лишь после внимательного изучения двух рукописных документов майор обнаружил в них кое-что, заслуживающее внимания. В биографии было сказано, что родился Белолюбский в 1898 году, а в анкете значилось, что он рождения 1901 года. По биографии его родиной являлся г. Благовещенск, а по анкете – г. Майкоп.
Обнаружились и другие расхождения. Так, судя по анкете, можно было понять, что на Джугджуре Белолюбский работал шесть лет, а по биографии выходило всего четыре года. По первой он покинул Дальний Восток в тысяча девятьсот сорок четвертом году, а по второй – в сорок шестом. По первой – он владел профессией чертежника и копировальщика, а по второй – наборщика типографии.
Майор Шелестов взглянул на даты обоих документов и нашел, что биография написана более чем на год ранее анкеты.
«Темная личность. Авантюрист какой-то, – подумал Шелестов. – Сколько их еще находит приют благодаря нашему ротозейству».
Он спросил Винокурова:
– Вы Джугджур запрашивали о нем?
– Не успели, – ответил тот и опять сделал попытку приподняться.
– За полтора года не успели?
Винокуров только развел руками. Глядя на его лицо, можно было подумать, что он готов расплакаться.
– А где его трудовая книжка?
– Он ее потерял.
– Потерял? – Шелестов поднял свои и без того высокие брови.
– Да, переходил весной реку вброд, и трудовая книжка у него размокла. Он мне ее показывал. Получилась какая-то каша.
– Значит, не потерял, а повредил?
– Да, правильнее будет так.
– А вы убеждены, что он вам показывал остатки именно своей трудовой книжки?
Винокуров вскинул плечи, смутился:
– Утверждать не берусь. Из того месива, что он мне показывал, трудно было что-либо узнать.
Шелестов побарабанил пальцами по столу, встал и подошел к окну. Проговорил он тихо, как бы самому себе:
– Вы старый коммунист, товарищ Винокуров. Ответственный работник – заместитель директора рудника. Мне даже неудобно говорить вам, но я не могу не сказать. Я был о вас лучшего мнения. Я не предполагал, что вы ротозей.
Винокуров сидел, опустив голову, и нервно пощипывал бородку. Он даже и не думал возражать.
Шелестов продолжал стоять у окна спиной к Винокурову.
– И вот теперь попробуйте ответить мне, кто же такой был комендант на самом деле? – продолжал майор. – Где он родился? Сколько ему лет? Откуда он к вам пришел? Какова его профессия? Почему он, будучи по образованию или опыту работы чертежником или наборщиком, согласился вдруг стать комендантом поселка? Да и Белолюбский ли он? А вы, как я от вас слышал, собирались принимать его в партию.
Шелестов круто повернулся. Как это случается, ему в голову пришла внезапно одна мысль, он вспомнил еще деталь, которой, как ему теперь показалось, он не придал значения в первый день приезда.
Винокуров тоже встал, готовый безмолвно выслушивать и далее горькие, обидные, но заслуженные упреки.
Но майор заговорил о другом:
– Пройдемте еще раз в комнату, где был найден убитым Кочнев.
– Пожалуйста, – согласился Винокуров.
Войдя в комнату, Шелестов подошел к выключателю и включил свет.
– Позвольте! – воскликнул Винокуров.
– Что такое?
– Лампа!
– Что лампа? – и Шелестов перевел глаза на электрическую лампочку, низко опущенную над столом.
– Большая лампа! Такой большой, с таким сильным светом я ранее не видел. Точно, не видел. Это же не менее двухсот свечей. Тут всегда висела маленькая, а директор и Кочнев работали с настольной. Хм… Откуда же она взялась?
Шелестов начал внимательно, при помощи лупы обследовать письменный стол и нашел на его поверхности то, что искал: несколько почти незаметных отверстий от кнопок или булавок.
Он попросил Винокурова открыть сейф.
Тот достал из кармана ключи, которые теперь хранились у него, и открыл сейф.
Шелестов извлек из сейфа свернутый в трубку план нового промышленного района, над которым работал инженер Кочнев, и разложил его на столе.
Вначале разместил план узкой к себе стороной, потом широкой и, наконец, положил так, что отверстия, обнаруженные им на столе, совпали с отверстиями, имевшимися на плане.
– Все ясно, – сказал Шелестов, свернул ватман в трубочку и положил в сейф. – А когда вы приходили сюда в первый раз к убитому Кочневу, какая была здесь лампа?
Потрясенный Винокуров, чувствуя на себе внимательный взгляд и не зная, что ответить, так как он в самом деле, напрягая всю свою память, не мог ничего вспомнить, словно здесь был какой-то провал в до сих пор, казалось, совершенно ясных впечатлениях о случившемся, растерялся вконец.
Мгновенно промелькнула страшная мысль об ответственности, которую он должен понести за свою халатность и нерасторопность, и мало ли еще что могут поставить ему в вину. Испарина покрыла его лоб.
– Эх, вы… – пришел ему на помощь майор. – Ведь в первый раз вы были здесь утром, свет не включали, и я вполне допускаю, что могли не обратить внимания на лампу, хотя это и очень важное обстоятельство.
– Совершенно верно, – воскликнул просветлевший Винокуров.
– Но вторично, со мной, вы были ночью, и я тогда включал свет.
– Да, правильно… Включали… И я тогда хотел обратить ваше внимание на появление большой электролампы, но не придал этому значения и потом забыл в суматохе…
Шелестов насупил брови:
– Вы шутите или говорите серьезно?
– То есть?
– Что вы тогда обратили внимание?
– Да, не шучу, клянусь вам. Мне тогда бросился в глаза яркий свет, которого до этого я никогда не видел ни при директоре, ни при Кочневе.
– Это очень существенно, – в раздумье проговорил Шелестов. – А теперь зовите сюда секретаря директора и давайте опечатаем и сейф, и комнату.
* * *
Дверь дома коменданта Белолюбского майор Шелестов открыл своим ключом. Дверь открылась с режущим душу скрипом, и Шелестов, переступив порог, постарался поскорее захлопнуть ее за собой. Застойный запах, стоявший в непроветренной комнате, сразу ударил в нос.
«Удивительно противный запах», – подумал Шелестов и нажал кнопку карманного фонарика.
Снопик белого света пробежал по стене и остановился на розетке с выключателем.
Шелестов включил свет и огляделся.
Запущенная, невыметенная комната производила неприятное впечатление и, несомненно, характеризовала ее хозяина.
«Чувствовал себя здесь гостем», – решил про себя Шелестов и принялся за осмотр комнаты.
На стенной полке, завешанной старой газетой, он нашел бутылку, пахнущую водкой. Запах водки сохранили и две эмалированные кружки.
«Пили двое», – отметил майор.
В небольшом фанерном чемодане, стоявшем под кроватью, оказались: большой волосяной накомарник, чугунная дроболейка и пустая коробка из-под папирос «Беломорканал».
Лаз под пол нетрудно было заметить, и Шелестов открыл творило. На него дохнуло сыростью. Просветив все уголки подполья, майор спустился внутрь. Тщательно обшарив подполье, он обнаружил лишь несколько папиросных окурков и маленький, не более наперстка кусочек какой-то плотной массы. То и другое он сунул в карман и покинул подполье.
Он решил более детально осмотреть комнату, обшарил все щели, заглянул еще раз на полку, под железную кровать, и в одном из углов, где на скамье стоял под рукомойником таз, заметил слипшиеся пучки огненно-рыжих коротких волос. По длине все они были почти одного размера. Он завернул прядь волос в бумагу и тоже положил в карман.
Ничего другого обыск не дал, но и то, что добыл Шелестов, заставило его основательно поработать. Подвергнув допросу ряд жителей поселка, в том числе и заместителя директора рудника, Шелестов узнал, что никто с наступлением холодов наголо не стригся и не брился. Далее выяснилось, что людей с волосами, похожими на те, что обнаружил Шелестов, в поселке оказалось четверо, но каждый из них дорожил своей шевелюрой. Наконец, было установлено, что обычно, кроме Винокурова, дом Белолюбского никто не посещал и никто не видел за последние дни, чтобы кто-либо был гостем коменданта.
У самого Белолюбского волосы были черные, большие, в чем Шелестов убедился лично. Оставалось предположить, что или кто-то посторонний обрил себе голову в доме коменданта и не убрал сбритые волосы, или же, что всего вероятнее, комендант сам лично обрил кому-то голову. Но кому? Зачем? Какие цели преследовала подобная процедура? – оставалось для Шелестова загадкой.
Выяснилось и еще одно довольно важное обстоятельство: кусочек плотной массы, обнаруженной в подполье, оказался взрывчаткой.
Шелестов пригласил к себе начальника буровзрывных работ рудника. Тот подробно рассказал, какой порядок получения и расходования взрывчатки существует на руднике. Взрывные работы на каждом участке возглавляет старший взрывник, которому, в свою очередь, подчинены отпальщики.
Взрывчатые вещества и взрывчатые материалы хранятся в отдалении от рудника, в специальном складе, под постоянной охраной. То и другое выдается со склада по требованиям, которые визирует начальник буровзрывных работ.
– Имел Белолюбский отношение к взрывным работам? – спросил майор.
– Никакого, – ответил начальник буровзрывных работ.
Шелестов решил еще побеседовать с заведующим складом ВВ и ВМ, и тот сообщил еще одну новость: летом, с непосредственного разрешения директора рудника Белолюбскому со склада выдали девять килограммов взрывчатки, запалы, бикфордов шнур, якобы для глушения рыбы в пруду.
– Ну и как, глушил рыбу Белолюбский? – поинтересовался Шелестов.
– Мне он сказал, что ничего не получилось, и взрывчатка якобы затонула, – ответил заведующий складом.
Шелестов заперся в кабинете Винокурова и разложил перед собой все то, что на языке следствия именуется вещественными доказательствами. Тут были окурки папирос «Беломорканал», поднятые в тайге, там, где кончался «медвежий» след, и найденные в квартире коменданта кусочек взрывчатки и пучки рыжих, слипшихся волос. Не хватало чего-то, возможно, маленького, без чего нельзя было подойти к решению главной задачи. Шелестов упорно и долго думал, пытаясь нарисовать себе хотя бы примерную картину трагедии, происшедшей на руднике.
В дверь кто-то постучал. Шелестов откинул крючок и впустил Быканырова.
Старик, видно, долго был на холоде, поежился, потер руки и полез в карман за кисетом.
– Все думаешь? – спросил он майора.
– А кто же за меня будет думать, отец? – спросил с усмешкой Шелестов.
– И долго будешь думать?
– А что?
– Уйдут далеко те двое. Время идет, далеко уйдут. Словить их надо.
– Словим, не уйдут.
– Однако не они прикончили инженера?
– Возможно.
– Одного я знаю, – сказал Быканыров.
– Кто же он? – насторожился Шелестов.
Старик набил свою глиняную трубку и распалил ее. Оказывается, за это время он успел вторично побывать за прудом и ходил по следам, оставленным двумя неизвестными, и ему кажется, что один из двоих тот, который не захотел зайти в его избу и сделал крюк, тот самый, за которым он дошел почти до самого рудника.
Шелестов разочарованно вздохнул. Он ожидал, что Быканыров назовет имя неизвестного.
– О том, что ты рассказал, я тоже думал, – заметил майор. – Я точнее тебя знаю, что один из двух ушедших в тайгу – комендант Белолюбский.
– Ой-е! – воскликнул старик. – Я об этом не думал.
– А вот второй кто? – и он начал складывать на лист бумаги вещественные доказательства.
– Это что? – ткнул Быканыров пальцем в пучок рыжих волос.
– Волосы.
– Постой… Постой, Роман Лукич, – и Быканыров взял за руку майора. – Где взял волосы?
Шелестов не делал из этого тайны и рассказал своему старому другу об осмотре дома коменданта.
Быканыров пощупал волосы пальцами, сел на стул и задумался. Мысли унесли его далеко, в полузабытое прошлое.
…Тридцать первый год. Пожар в колхозе и пойманный с поличным поджигатель, восемнадцатилетний парень-якут под кличкой «Красноголовый».
Он сильно пьян и еле держится на ногах. Он ничего не хочет скрывать, плачет, как женщина, и рассказывает. Научили кулаки, шаман, друзья его покойного отца. Они напоили его и подослали подпалить колхозный склад, где хранится пушнина. Он сделал так, как его учили, и теперь сожалеет об этом.
Преступника передали органам правосудия. Следствие убедилось, что рассказал он всю правду. Чуждая мести и справедливая советская власть, учтя молодость и малограмотность преступника, простила ему поджог, помиловала и отпустила. Наказание понесли зачинщики и подстрекатели.
«Красноголовый» пожил недолгое время в селе и вдруг внезапно исчез.
Кто-то распустил слух, что он утонул, кто-то говорил, что он попал в тайге под стрелу, предназначенную для сохатого, и умер. Но на самом деле все было иначе. «Красноголовый» жил и здравствовал. В тридцать третьем году он напал на двух спавших в тайге старателей, убил их, похитил намытое ими золото и был задержан при попытке перейти государственную границу в сторону Маньчжурии. Ему удалось убежать из-под конвоя.
Потом за «Красноголовым» прочно закрепилась кличка контрабандиста.
Упорно ходили слухи, что он промышляет контрабандой, носит на золотые прииски опиум, кокаин, морфий, обменивает все это на золото, а золото переправляет на ту сторону. Говорили, что и сам он не раз бывал на той стороне, а изловить его никак не могли. Ну, прямо-таки неуловим был «Красноголовый».
В тридцать шестом году на одном из притоков реки Мая – Юдоме группа якутов охотников наткнулась на двух убитых китайцев – рабочих приисков.
Дело происходило поздней осенью. Только что выпала первая пороша. След от убитых вел в горы.
Охотники, в том числе и Быканыров, бросились вдогонку. Два дня они шли без сна и отдыха и все же настигли убийц. Их было трое. И они не захотели сдаться без боя. У них было оружие, и они открыли огонь. Но охотники оказались более опытными стрелками. Двоих в перестрелке они уложили насмерть, а третьего взяли живьем. Это был «Красноголовый». Он думал выкрутиться, сваливал вину в убийстве китайцев на своих сообщников, опять плакал, как женщина, и опять каялся. Но на этот раз ему не поверили, и «Красноголовый» угодил в тюрьму.
О плохих людях в тайге быстро забывают, забыли и о нем. Но в годы войны «Красноголовый» вдруг опять объявился и стал напоминать о себе.
Пошел слух, что «Красноголовый» сбежал, не отбыв срока. И слух подтверждался. Нет-нет, да и попадался он якутам, эвенкам на глухих таежных тропах. Куда, откуда он шел? Какие у него были дела? Где он нашел себе пристанище? Кто его укрывал? Как он себе добывал пищу? Никто ничего не знал.
Всю войну «Красноголовый» занимался грабежами, потом якобы взялся за старое ремесло – контрабанду, а лет через пять после войны опять попался.
Группа бандитов совершила налет на обоз, но в обозе оказались смелые люди и дали отпор. Двоих бандитов удалось взять живыми, и помог в этом не кто иной, как пес Таас Бас. Одним из задержанных оказался «Красноголовый».
И так уж случается в жизни. Разные бывают совпадения. В обозе был Быканыров со своим верным Таас Басом, и вторично ему довелось передавать «Красноголового» в руки правосудия. Осудили «Красноголового». Опять он начал уходить из памяти людей, но вот совсем недавно, год назад, стало известно, что «Красноголовый» совершил побег из лагеря, получил ранение в ногу, но все же ушел.
Эти воспоминания проплыли в голове Быканырова, и он поделился ими с майором.
– А почему ты подумал о «Красноголовом»? – поинтересовался майор.
– А это что? – и старик опять ткнул пальцем в пучок рыжих волос. – Вот такие и у него были.
– Ты фамилию его помнишь?
– Помню. Шараборин.
– Верно. Вспомнил и я. Верно и то, что он бежал из лагеря и числится в розыске. Так ты думаешь, что тут был Шараборин?
Старик повел плечами.
– Почему нельзя думать? Шараборин всегда оказывался там, где кровь. Плохой он человек. Совсем плохой.
Шелестов подумал о чем-то своем, а затем спросил:
– Кстати, я забыл, почему у него рыжие волосы. Он ведь якут?
Быканыров кивнул головой.
– Якут, а рыжий, потому и прозвали его «Красноголовым». У него мать была якутка, а отец русский, царский урядник. И волосы у отца были, как огонь. Убили отца партизаны. Его отец банду по тайге водил.
– Помню… Теперь все помню.
Когда Шелестов и Быканыров вернулись на квартиру, было около девяти часов вечера. Летчик Ноговицын и механик Пересветов спали на одной кровати. Радистка Эверстова, сидя за столом, делала какие-то записи в своей тетради.
Быканыров прилег на свою койку отдохнуть, а Шелестов в раздумье заходил по комнате. У него еще не было никаких конкретных доказательств тому, что Белолюбский имеет отношение к убийству инженера Кочнева, но путаная биография коменданта, его таинственное исчезновение, наконец, пребывание в его доме неизвестного, обнаружение остатков взрывчатки – все это сосредоточивало подозрения именно на нем.
О том, что с Белолюбским в тайгу ушел «Красноголовый», Шелестов так же мог лишь предполагать, как и то, что «Красноголовый» появлялся на руднике не случайно. И теперь Шелестов думал главным образом о том, как поскорее нагнать Белолюбского и его спутника и схватить их. Тогда, возможно, многое неясное станет ясным. Ему не без основания казалось, что Белолюбский может дать нить, идя по которой, размотается весь этот запутанный клубок.
Шелестов подошел к спящему старшему лейтенанту и, тронув его за плечо рукой, позвал:
– Товарищ Ноговицын…
Летчик моментально вскочил, а за ним и механик. Оба они спросонья как-то смешно и оторопело выглядели. Оба, как по команде, зевнули и протерли заспанные глаза.
– Товарищ Ноговицын! Сможете ли вы сейчас вылететь в Якутск?
Ноговицын встал, вытянул по швам руки и бодро ответил:
– Для этого нужно только ваше приказание.
– Так вылетайте, не теряя времени. Вас опередит радиограмма, и на аэродром, возможно, подъедет полковник Грохотов. Короче говоря, к вашему прилету будет уже кое-что приготовлено и подвезено. Грузите все и айда обратно. Я бы хотел вас видеть здесь рано утром. Обернетесь?
Ноговицын нахмурил лоб и спокойно ответил:
– Обернусь, если не задержит Якутск или погода.
– За Якутск я ручаюсь, не задержит, а погода вас не испугает – это мне давно известно.
– Тогда рано утром я буду здесь. Разрешите отправиться?
– Да. Желаю успеха. Ни пуха ни пера.
Ноговицын рассмеялся и начал натягивать торбаза.
– Чему вы смеетесь?
– Да вот этому русскому напутствию: «Ни пуха ни пера». У меня отец-старик плохо говорит по-русски. Он где-то услышал вот эту поговорку, скорее всего, от русских охотников, – это же охотники так говорят, – ну и запомнил ее. Запомнил, но плохо. И вот как-то провожал меня в далекий рейс, – я летел в бухту Тикси, – и, прощаясь со мной, сказал этак серьезно: «В пух тебе и прах». Вот уже было хохоту.
Шелестов, Быканыров и Эверстова тоже рассмеялись.
– Ну как, готов? – обратился Ноговицын к своему механику.
– Готов, можно и в небо, товарищ старший лейтенант, – ответил тот, затягивая «молнию» на комбинезоне.
Летчик и механик пожали всем руки, и, когда дверь за ними закрылась, Быканыров опять прилег на свою койку и сказал:
– Хорошие ребята. Веселые, молодые, а молодость, однако, не признает никаких трудностей, все одолеет. К утру они будут здесь на своей птице.
Шелестов подсел к Быканырову и, положив руку на его плечо, проговорил:
– Ты, отец, тоже молодой и тоже не боишься никаких трудностей и препятствий. И я думаю, что ты рано утром тоже будешь здесь.
Старый охотник не понял смысла сказанного майором.
– А куда же я денусь? Я вот на этой койке и буду.
Майор посмотрел на ручные часы.
– Нет, дорогой. Тебе, видно, не придется спать этой ночью. Тебе предстоит дело.
Быканыров с несвойственной его возрасту проворностью поднялся с кровати.
– Что же ты тянешь, Роман Лукич? Говори сразу, какое дело.
– Я не тяну, я думаю. От тебя будет зависеть очень многое. От тебя будет зависеть: сможем ли мы завтра броситься в погоню за этими двумя или не сможем.
– Так, говори, говори, – торопил Быканыров. – Что надо, я все сделаю.
– Сколько километров от рудника до твоего колхоза? – спросил Шелестов.
– По-разному, Роман Лукич. И смотря для кого.
– Как это так?
– А вот так. Днем шестнадцать, а ночью все двадцать. Я пойду – одно дело, а ты – другое.
Шелестов закивал головой.
– Понял. А председателем колхоза по-прежнему Неустроев?
– Он.
– Нам нужны будут к утру олени и нарты. Восемь оленей и четверо нарт. Ваш колхоз ближе к руднику. И я думаю вот о чем: пойти ли тебе одному к Неустроеву или и мне вместе с тобой?
– Ты умный человек, Роман Лукич. Давно я тебя знаю. Скажи, однако, зачем двоим делать то, что сделает один?
– Я тоже об этом думаю. Поэтому становись на лыжи и иди в колхоз.
– И пойду, самой короткой дорогой пойду. Один я знаю эту дорогу. Два часа, – и я буду пить чай у Неустроева.
– Это будет очень хорошо. Попроси товарища Неустроева от моего имени и от себя лично. Расскажи ему все толком. Он поймет и даст оленей. Я думаю, что все колхозники кровно заинтересованы в поимке таких людей, как Шараборин и Белолюбский. Который из них опаснее, – сейчас сказать трудно.
– Понимаю, – коротко бросил Быканыров, одеваясь.
– Оленей выбери хороших, нарты исправные, проверь упряжь…
– Знаю, – ответил старый охотник, – сам буду все смотреть. Оленей возьму таких, что с осени не запрягались. – Он пощупал для чего-то свои ребра и стал надевать на себя короткую кухлянку. – Таас Бас пойдет со мной.
– А вы его кормили, дедушка? – спросила Эверстова.
– Я всегда вперед кормлю Таас Баса, а потом ем сам, – серьезно ответил Быканыров. – Вот я и готов. Утром буду здесь. Раньше буду, чем прилетят молодые.
Шелестов вышел проводить старого друга. Пока Быканыров осматривал и закреплял лыжи, майор думал: «Как много раз выручал меня этот надежный товарищ. И сколько раз еще доведется мне обращаться к его помощи?»
Он пожал руку охотника и стоял на ступеньках дома, пока Быканыров и Таас Бас не скрылись из глаз за строениями рудничного поселка.
«Теперь надо предупредить Якутск», – решил Шелестов, вернувшись в комнату.
– Сколько осталось времени до сеанса, Надюша?
Эверстова посмотрела на часы и ответила: тридцать две минуты.
– Ого! Не так уж много, – заметил Шелестов и, достав из полевой сумки карандаш и бумагу, сел за стол.
Подумав, Шелестов написал короткую телеграмму полковнику Грохотову:
«Полагаю, что напал на след преступников, которые скрылись в тайге. Принял решение преследовать их. Самолет отправил в Якутск. Прошу к его прилету подготовить офицера-оперативника, умеющего хорошо ходить на лыжах, и следующее, необходимое в тайге: недельный запас продовольствия, комплект сухих батарей для радиостанции, три пары лыж, палатку с печкой, две саперные лопаты, два бинокля, два компаса, четыре спальных мешка, походную аптечку. Кроме этого, прошу выяснять, кем и сколько времени работал на Джугджуре Белолюбский Василий Яковлевич. Прошу также прислать представителя судебной экспертизы для вскрытия тела Кочнева».
– Успеете зашифровать? – спросил Шелестов, подавая лист бумаги Эверстовой.
– Успею.
– Ну а я лягу.
– Ложитесь, ложитесь, Роман Лукич. Ведь вам завтра рано вставать.
– А вам?
– Мне что, я все ночи сплю, а вы…
– Я тоже сплю, и сейчас вы в этом убедитесь.
Эверстова принялась зашифровывать радиограмму, а Шелестов, быстро раздевшись, залез под одеяло.
Закончив сеанс с Якутском, Эверстова закрыла радиостанцию, положила ее себе под подушку и, готовя постель, посмотрела в сторону майора.
«Уснул, слава богу», – и она выключила свет.
Но она ошиблась. Шелестов не спал. Он размышлял над трагической судьбой инженера Кочнева.
«Как все это нелепо. Поехал человек в командировку и больше уже не вернется. А дома, в Москве, его ждут. Была у него, видно, семья, жена, дети… Знают ли они о том, что самый близкий для них человек погиб? Наверное, уже знают. Якутск, конечно, уведомил Москву. Кто же его убил? Белолюбский или этот “Красноголовый” – Шараборин?»
Шелестову было не по себе. Сознание, что убийца инженера на свободе и даже еще не установлен, отравляло его отдых, отгоняло прочь сон.
Шелестову казалось, что он действует медленно, вяло, нерешительно, что на его месте кто-то другой действовал бы активнее и за это же время добился бы определенных результатов. Ему всегда так казалось. Да и в самом деле, не пора ли на сегодняшний день иметь в руках что-то более точное, чем одни предположения?
«А что более точное? – задумался майор. – Гм… самое точное – это дать ответ на вопрос, кто и с какой целью убил Кочнева. Пока, к сожалению, на этот вопрос может ответить лишь один человек – убийца. Но через несколько дней отвечу и я. Кое-что для меня уже ясно сейчас. Что к убийству Кочнева имеет отношение Белолюбский – это для меня уже решенный вопрос. Что во всей этой истории не последнюю роль играет план, над которым работал Кочнев, – в этом я убежден. Что Белолюбский не тот, за кого себя выдает, – истина, не требующая доказательств. А дальше… Дальше идет нагромождение фактов, конкретных фактов, между которыми я еще не вижу пока закономерной взаимосвязи. При чем здесь, например, взрывчатка? С какой стати Белолюбскому понадобилось брить чью-то рыжую голову? Что за человек приходил украдкой на рудник, и можно ли утверждать, что это именно “Красноголовый”»?
Анализируя свои ощущения, Шелестов приходил к выводу, что не по себе ему было главным образом оттого, что он не смог сразу распознать в коменданте Белолюбском несоветского человека, авантюриста. А не распознав его, он допустил ошибку, доверился Белолюбскому и дал ему поручение.
Это ошибка, определенная и непоправимая, но… внутренний голос между тем протестовал:
«Ты что, майор, чародей, что ли, что хочешь, взглянув на человека, ставить вдруг безошибочный диагноз, честен он или нечестен, враг или друг!
Нет, брат, это не так просто! И в твоих действиях я не вижу никакой ошибки. Ты лучше подумай вот над чем: допустим, что ты не дал никакого поручения Белолюбскому. Не дал и все. И тогда бы Белолюбский не исчез. И тогда бы твой друг, опытный охотник, не нашел подозрительных следов, идущих от пруда в тайгу. И тогда бы ты не попал в дом Белолюбского, не нашел бы рыжих волос, остатков взрывчатки, не заинтересовался бы личным делом коменданта. Видишь, что получается! И действуй ты не так, а иначе, возможно, что и до сегодняшнего дня у тебя бы в руках ничего не было… Да… вполне возможно…»
С отяжелевшей от долгих раздумий головой майор Шелестов забылся лишь под самое утро.
В погоню
Лейтенант Григорий Петренко вышел от полковника Грохотова около часу ночи в приподнятом настроении.
Секретарь полковника предупредил его:
– Машина у подъезда. Вы готовы?
– Вполне, – ответил Петренко и, подойдя к вешалке, начал одеваться.
– Вы так хотите лететь? – удивленно спросил секретарь.
– Нет, что вы, – улыбнулся Петренко. – Я уже почти северянин. Окончательно оденусь на аэродроме. Ну, привет, – и он подал руку секретарю…
Петренко быстро сбежал по ступенькам со второго этажа, уселся в закрытый «газик», и шофер тронул машину.
«Вот это да!» – подумал Петренко уже в дороге.
И действительно, где он только не побывал за последнее время. Семь суток ехал поездом чуть ли не через всю страну от Москвы до Большого Невера. От Невера через город Незаметный – центр Алданских золотых приисков, через хребет Холодникан, по скованной льдом Лене, пробирался четверо суток до Якутска автомашиной, а сейчас уже катил на аэродром, чтобы сесть в самолет. Его направляли в командировку, в распоряжение майора Шелестова, которого он в глаза не видел и который ожидал его где-то далеко, в тайге, на руднике со странным наименованием Той Хая. А там, как предупредил полковник Грохотов, придется иметь дело с оленями, лыжами, а возможно, и с кое-чем другим.
Петренко недавно исполнилось двадцать четыре года. С тех пор как он помнит себя, его неотразимо привлекал и манил к себе север. Его влекли далекие неизведанные пространства, суровые края, глухая, изрезанная звериными тропами, тайга. Его всегда волновали книги и фильмы о севере.
Родившись на Украине, он втайне, в душе стремился к сибирским просторам, носил в груди неукротимую страсть охотника-путешественника.
Когда молодым офицерам, окончившим училище, объявили о возможности выезда для продолжения службы в Якутию, Петренко первым дал согласие на выезд и подал рапорт.
И вот он на крайнем севере, в Якутии. Только позавчера он добрался до Якутска, а сегодня летит уже дальше, как сказал полковник, на боевое задание.
Его товарищи смотрят на него, как на счастливца, считают, что ему просто везет. Петренко и сам, кажется, склонен думать то же самое. Опять новые места, и каждое новое место откладывает в нем новое, яркое впечатление.
Сейчас, по пути на аэродром, Петренко был под впечатлением беседы с полковником, кабинет которого он только что покинул.
Полковник Грохотов поговорил с ним о цели командировки, а потом подвел его к большой карте Советского Союза, висящей на стене, и сказал:
– Вот она – Якутия. Большой, суровый и очень богатый край. А вот тут, видите, еще даже не отмечено на карте, расположен рудник Той Хая, где вас ожидает майор Шелестов. Вы будете пролетать слободу Амгу, – это районный центр. В Амге жил когда-то сосланный туда писатель Короленко. В Вилюйске отбывал ссылку Чернышевский, в селе Покровском – Серго Орджоникидзе, из Верхнеленского каземата бежал Феликс Дзержинский. Смотрите, сколько места занимает Якутия. По территории она стоит на втором месте после Российской Федерации. Мне сказали, что вы сами изъявили желание…
– Так точно, товарищ полковник, – прервал Грохотова Петренко. – Мне очень хотелось здесь побывать.
– Побывать или работать?
– Конечно, работать. Я неправильно выразил свою мысль, – поправился Петренко.
– Это другое дело. – Полковник подошел к книжному шкафу. – Наша родина огромна, богата, и мы ее еще плохо знаем. А должны знать. Возьмите в дорогу вот эту книгу и почитайте. Советую почитать. Лично мне она доставила большое удовольствие…
– Спасибо, товарищ полковник. Обязательно прочту…
* * *
Глубокой ночью самолет поднялся в воздух. Температура опустилась до 42 градусов ниже нуля.
«Как только все живое выдерживает эту страшную стужу? – подумал Петренко, располагаясь поудобнее в отведенном ему месте. – Эх, и достанется тебе здесь, южанин! Не раз еще вспомнишь теплую, привольную Украину!»
Привыкший приспосабливаться к любой обстановке, полный сил, энергии, Петренко пригрелся и вскоре заснул. Проснулся он, когда едва-едва рассветало и солнца еще не было видно. Приник к оконцу.
Внизу то морем разливалась тайга, то тянулись безбрежные снежные пространства. Изредка попадались на глаза небольшие населенные пункты. Ближе к ним лес редел, светлел, мельчал. Светолюбивые сосны около жилых мест уж не так тянулись верхушками к небу, а больше раздавались куполами вширь.
Петренко с интересом всматривался вниз. Печные трубы в селах и деревнях, казалось, выходили не из домов, а торчали из пышных огромных сугробов. Припомнилось училище, топографический класс. Там вот так же, только не в снегу, а в вате, стояли различные домики и строения.
Большую судоходную реку Алдан – один из притоков Лены, Петренко узнал по вмерзшим в лед неподвижным кунгасам – мелким рыболовным судам. Среди моря снега и нагромождений льда эти маленькие суденышки выглядели жалко и беспомощно.
Чем дальше на северо-восток уходил самолет, тем однообразнее, угрюмее и суровее становилась природа. Надвигалась сплошная тайга, безлюдье.
В пути в воздухе застиг восход солнца. Брызнули его яркие, но негреющие лучи, и снег, будто охваченный огнем, запылал ослепительным пламенем.
Солнце все вдруг преобразило. Возникали картины невиданной красоты.
Петренко долго любовался ими. Потом, вспомнив о книге, данной полковником, он достал ее, раскрыл и начал читать:
«Простор поперек неведомый – широкая сияющая страна! Протяжение вдаль неведомое – необъятная вдоль земля!
С подножья восточных склонов путаными нитями перевита нарядная земля.
С западных склонов отчеканены ее красивые луговины. С северных склонов отлиты ее мауровые поля. С южных склонов раскинулись ее зеленого шелка долины. Вытянутым листам жести подобны ее урочища. Тени не видно – светлые озера…»
Так изображают Якутию героические поэмы народного эпоса «Олонгхо».
– Олонгхо… Олонгхо… – повторил Петренко, оторвав глаза от книги. – Интересно. Надо запомнить, – и опять углубился в чтение.
«…Но подлинное лицо Якутии сурово.
На громадном расстоянии от республики лежат теплые южные и западные моря. От Тихого океана она ограждена сплошной стеной Станового, Колымского и Анадырского горных хребтов.
С севера страна открыта всем ветрам. В пределах Верхоянска – Оймякона лежит полюс холода, самое холодное место на земном шаре, где температура опускается до 84,5 градусов по Цельсию.
Величественны просторы Якутии: пади и сопки, дуга и равнины. Темная нескончаемая тайга усеяна точно большими зеркалами – сверкающими озерами.
Бесчисленны реки и речки, несущие свои воды к суровому Ледовитому океану…
Семь месяцев длится якутская зима, с хрустальным звонким воздухом, с густыми молочными туманами и полным безветрием. Двухметровым ледяным панцирем покрыты реки…
Якутия почти не знает весны. Лето наступает мгновенно. Как только вскрываются реки, за три-четыре дня набухают и лопаются почки, прорастает трава, и страна одевается зеленью…
Начинается торопливая жадная жизнь. Солнце почти круглые сутки течет расплавленным золотом по бледно-голубому небу. Белые ночи прекрасны.
Голубоватый, пронизывающий свет, тишина, чуть побледневшая зелень и еще более необъятная, чем днем, безграничность просторов…
На девять квадратных километров здесь приходится один житель, а в таких районах, как Усть-Янский или Оленекский, в пятьдесят раз меньше…»
Старший лейтенант Ноговицын круто снизил машину, повел ее почти на бреющем полете и показал рукой вниз.
Петренко отложил в сторону книгу, вгляделся: волк! Настоящий северный волк, не торопясь, ленивой трусцой пересекал голую заснеженную равнину, как бы не замечая самолета и не страшась его.
Нетронутый снег, покрывавший равнину, подобно белому атласу, отливал чистой белизной.
Потом опять потянулась тайга. Казалось, что ей уже не будет конца и края, но через некоторое время она вдруг сразу расступилась, и взору Петренко открылась такая картина: справа тянулась к небу высокая, поросшая хвойным лесом гора, а слева у ее подножия теснился поселок.
«Наверное, это и есть Той Хая, – подумал Петренко. – А что означает “Той Хая”? Надо будет не забыть спросить».
Самолет шел на посадку, и Петренко были отчетливо видны улочки поселка, рудничные постройки, каждый отдельный домик.
Заслышав звуки приближающегося самолета, обитатели поселка высыпали на улицу, а ребятишки стремглав бросились к месту его посадки. Туда же спешил заместитель директора рудника в своей неизменной волчьей дохе. Он покрикивал на лошадь, махал огромными рукавами дохи, и лошадь мчалась чуть ли не в карьер, вздымая копытами комья снега.
Когда Ноговицын, Пересветов и Петренко вышли из самолета и сели в розвальни, Петренко спросил летчика:
– Вот странно! Кругом столько леса, а в населенных пунктах я не видел ни одного деревца. Да и вот тут тоже… Чем объяснить это?
– Очень просто, – ответил старший лейтенант. – У нас в Якутии, да и вообще на севере население извечно ведет борьбу с лесом. Лес наступает, а человек обороняется. И каждому хочется, чтобы хоть над ним, над его домом было чистое небо, а не лес.
Утро стояло морозное и необыкновенно тихое. И хотя небо было совершенно чистое, в лучах солнца мелькали и поблескивали едва заметные снежные пылинки. Они покалывали лицо.
– Видно, скоро снегопад начнется, – высказал предположение Петренко.
Ноговицын покрутил головой:
– Нет, это обычная у нас картина. Это вымерзает имеющаяся в воздухе влага и превращается в снежные кристаллики. Правда, можно подумать, что скоро пойдет снег. Вот смотрите, – и Ноговицын сделал несколько выдыхов. – Заметили, какой шум?
– Да, да…
– Этот шум, сопровождающий дыхание, можно услышать только при сильном морозе. Кто-то из сибиряков назвал его шорохом дыхания. А старики рассказывают, – добавил летчик, – что при желании на севере можно подслушать даже шепот звезд.
– Чудесно. А вы не знаете, почему руднику дано название Той Хая?
– Это по-якутски. В буквальном переводе Той означает – песнь, а Хая – гора. Получается Песнь-гора, а обычно понимают как Поющая Гора. Вон она, видите? – Ноговицын показал на гору. – Местность вокруг также называется Той Хая, и рудник пока именуется так же.
Розвальни между тем уже въезжали в поселок.
* * *
Шелестов, Быканыров и Эверстова, одетые по-походному, ходили возле четырех оленьих упряжек, оглядывая нарты и самих оленей.
Старик охотник сдержал слово и привел оленей задолго до прилета самолета.
– Хороши олени, слов нет, хороши, – сказал Шелестов, окончив осмотр. – Спасибо тебе, отец, спасибо и товарищу Неустроеву.
Быканыров кивал головой. Он был доволен, что выполнил в срок поручение.
– А вот, кажется, и тот, кого мы ждем, – сказала Эверстова, и все обернулись в сторону приближающихся розвальней.
Винокуров остановил лошадь метрах в десяти. Из розвальней вышли Ноговицын, Пересветов и Петренко. Все направились к Щелестову.
Петренко, придерживая левой рукой винтовку, взметнул правую к головному убору и четко, по-уставному доложил:
– Товарищ майор! Лейтенант Петренко прибыл в ваше распоряжение.
– Здравствуйте, товарищ лейтенант, – ответил Шелестов, протягивая руку. – Мы ведь еще не знакомы?
– Так точно. Позавчера только приехал в Якутск после окончания специального училища и стажировки.
Шелестов спокойно и внимательно оглядел лейтенанта.
«Вот так-так. Просил прислать опытного офицера-оперативника, а пожаловал…» – подумал про себя Шелестов и сказал:
– Выходит, с корабля и прямо на бал?
– Выходит так, товарищ майор, – и Петренко улыбнулся, обнажив чистые, ровные зубы.
– На севере бывали?
– Не дальше Иркутска.
– На лыжах когда-нибудь ходили?
– Имею первый всесоюзный разряд, – и лейтенант поправил сползающую с левого плеча винтовку с оптическим прицелом.
– Ага, – заметил майор. – Это уже хорошо. А это что? – и он показал на винтовку, будто никогда ее не видел.
– Я снайпер, – ответил Петренко. – Это призовая. Я без нее никуда.
– Тоже хорошо, – одобрил Шелестов. – И лыжник, и снайпер…
– Да. И два года был тренером по боксу, – добавил Петренко.
– Ах вот как, – это уж больше, чем хорошо. Ну так что же, знакомьтесь, – предложил Шелестов лейтенанту. – Это наша уважаемая радистка сержант Эверстова, Надюша Эверстова. А это товарищ Быканыров, мой старый друг, старый партизан, следопыт, отличный охотник и наш проводник.
– Очень рад, – пожимая новым знакомым руки, сказал лейтенант и счел нужным каждому добавить: – Грицько Петренко.
Эверстовой показалось, что лейтенант улыбается не вовремя, говорит слишком самоуверенно, смотрит очень смело.
Ну а в общем Петренко произвел на всех хорошее впечатление. Он был строен, выше среднего роста, видимо, хорошо физически натренирован. Из-под его меховой шапки выглядывала прядь русых вьющихся волос. Голубые глаза смотрели открыто, жизнерадостно. Сросшиеся у переносья широкие брови придавали его лицу мужественное выражение.
– Груз привезли? – обратился Шелестов к Ноговицыну.
– Так точно. Вот список всего. Полковник приказал еще кое-что добавить, вами не предусмотренное.
– А именно? – удивленно спросил Шелестов, развертывая список.
– Пятилитровую банку со спиртом.
– Правильно. Спасибо полковнику.
Шелестов просматривал список.
Эверстову в данную минуту больше всего интересовали сухие батареи к радиостанции, и она спросила майора:
– А батареи не забыли прислать? Ведь эти у меня почти совсем сели.
– Ничего не забыто, Надюша. Батарей два комплекта.
– Замечательно. Будем Москву слушать.
– Пожалуй, да… – как-то неопределенно согласился майор. Он свернул лист бумаги и положил его в карман. – А груз в самолете? – обратился он к старшему лейтенанту.
– Да, в машине. Я не решился без вас трогать.
– Правильно сделали, – одобрил Шелестов. – Подъедем к самолету, уложимся – и в путь. – Майор посмотрел на лейтенанта Петренко, с любопытством разглядывавшего оленей, и спросил его: – Вы сыты? Кушали что-нибудь?
– Вполне сыт.
– Не стесняйтесь, говорите правду. По пути ресторанов не будет.
– Сыт, товарищ майор. Мы со старшим лейтенантом основательно заправились перед самым вылетом.
– Подтверждаю, – сказал Ноговицын.
– Тогда к самолету. Сюда возвращаться не будем. Наш путь пойдет через пруд, вон туда, – показал Шелестов. В это время лейтенант Петренко подал ему заклеенный конверт. Подал и сказал:
– Это от ваших, товарищ майор. Передал полковник.
Едва заметная улыбка озарила мужественное лицо Шелестова. Это было именно то, в чем он нуждался. Зажав в руке конверт, он пошел к передним нартам.
Получение письма из дома, где он не был сравнительно долго, взволновало майора, хотя внешне он оставался спокоен и размерен – результат многолетней профессиональной привычки к тому, чтобы ни при каких обстоятельствах, будь то в большом, или малом, не выдавать своих внутренних переживаний.
А когда подъехали к самолету, майор сказал Быканырову:
– Василий Назарович! Распредели груз равномерно на все нарты и уложи. Тебе помогут товарищи. А я пока прочитаю… Что-то мне пишут из дома?
И только очень внимательный и хорошо знающий Шелестова человек, каким был старый охотник Быканыров, смог уловить в последних словах майора едва заметные теплые нотки.
– Все будет в порядке, – заверил Быканыров.
Шелестов отошел в сторонку, вскрыл конверт и начал читать. Это было обычное письмо любящей женщины и друга, находящейся в разлуке с дорогим человеком. Таких писем пишется много, и все они как будто одинаковы, но ни одно из них не теряет от этого своей ценности для того, кому оно предназначено.
Вначале жена сообщала о домашних делах, повседневных заботах, о своей общественной работе среди жен офицеров, о самочувствии, затем шло длинное, милое своей обыденностью и подробное описание того, как живет и что делает маленькая единственная дочурка Клава, как она растет, какие получила отметки в школе. И, казалось, не было в письме подробностей, которые бы воспринимались Шелестовым как ненужные и лишние.
Кончалось письмо словами, идущими от сердца, трогательными, волнующими, о том, как тяжело быть в разлуке и как мучительно хочется поскорее быть снова вместе.
Шелестов прочел письмо еще раз, подошел к лесенке самолета, которой сейчас уже никто не пользовался, сел на нее и задумался.
Письмо жены невольно перенесло майора в область мыслей и чувств, которые в жизни борца-коммуниста занимают не менее значительное место, чем мысли о повседневной работе.
Когда-то он, Шелестов, мечтал о совершении чего-то очень значительного и необычного, что поразило бы людей и заставило их говорить о нем. Это было давно, очень давно, когда майор был еще очень молод. Время шло, шли годы учения, тогда казавшиеся однообразными и скучными, а теперь встающие в памяти как очень привлекательные и дорогие. Комсомол воспитал в нем, не знавшем родителей, волю и настойчивость в преодолении трудностей учения и жизни. После школы пришла служба в пограничных войсках, которая дала много знаний, еще больше закалила физически и духовно. А потом Шелестов был переведен в органы разведки, с которыми у него связана пора зрелости и вся последующая жизнь, вступил в Коммунистическую партию, вне которой не может теперь представить себе своей жизни. Здесь окончательно сложились мировоззрение, характер. Здесь юношеские мечты о подвигах и героике, хотя и отвлеченные, но благородные по существу, получили реальную почву для своего осуществления.
Не стало, правда, прежней романтики, – будни труда, учения, борьбы неизбежно вытеснили ее, – но зато как углубилось знание жизни, понимание ее действительной красоты. Романтика преобразовалась в высокую цель – служить своему народу, оберегать его мирный труд, беспощадно бороться с врагами родины. Зрелость сплавила, сцементировала юношеские мечтания с повседневной, не блещущей внешними эффектами, но большой, целеустремленной, жизненно нужной и подчас очень опасной работой.
Шелестов с воодушевлением отдавался профессии разведчика, которая помимо специальных знаний и приемов требовала от него воли, мужества, находчивости, настойчивости в достижении поставленных задач, умения разбираться в людях. Он постепенно понял, что и моральным качествам также надо было учиться и что дело заключалось не только в преодолении внешних трудностей и препятствий, но и своих собственных привычек и многих черт характера.
Однако увлечение делом не помешало Шелестову полюбить девушку. Это было естественно, и не могло быть иначе. Шелестов встретил эту девушку перед самой войной здесь, в Якутии. Встретил и полюбил, а полюбив, часто спрашивал себя: сможет ли Вера стать ему настоящей спутницей в жизни, настоящим другом? Ведь как ни почетна работа разведчика, но она тяжела и требует от человека большого самоотречения. Он не сможет говорить, делиться с женой своей работой, своими заботами и волнениями – и что, быть может, было самым трудным, – радостью своих удач, как это имеет возможность делать большинство людей.
Но Шелестов не ошибся в Вере. В ней он нашел верного друга и моральную опору. А дочь только скрепила их союз.
Уезжая далеко в командировки, подолгу отсутствуя, Шелестов страдал от невозможности быть всегда вместе с любимыми людьми. Он преодолевал щемящее чувство тоски и говорил себе: «Я счастлив, по-настоящему счастлив. У меня очень нужная и почетная работа. У меня есть близкие, родные люди. У меня есть семья…»
Майор улыбнулся своим мыслям.
– Роман Лукич, – раздался голос Быканырова. – Совсем порядок.
Шелестов встал, отошел от самолета, осмотрел все придирчивым глазом, затем сказал:
– Хорошо, – и обратился к летчику, старшему лейтенанту Ноговицыну: – Если завтра погода позволит, сделайте небольшую разведку. Не исключено, что с воздуха удастся увидеть тех, кто нас интересует. Я сейчас не могу сказать точно, в каком направлении мы сами будем двигаться. Возможно, обнаружите заметные следы. Во всяком случае, держите связь с нами.
– Все ясно, товарищ майор, но я хочу предупредить, что мне сегодня еще раз придется побывать в Якутске.
– Что случилось?
– Тело Кочнева приказано доставить в Якутск.
– Вот это, пожалуй, правильно решили. И вскрытие там произведут?
– Совершенно верно.
– Ну что ж, я думаю, что вы успеете.
– Вполне успею, товарищ майор.
– И вот еще о чем я попрошу вас. Если комендант Белолюбский вернется на рудник, сообщите.
– Все будет сделано.
Шелестов, правда, совершенно исключал возможность возвращения коменданта на рудник, но дал это указание на всякий случай. Он предчувствовал, что Белолюбский скрылся, маскируя свои следы, не для того, чтобы вновь здесь появиться, и что он уже далеко от рудника и, конечно, причастен к гибели инженера Кочнева.
Когда все было готово к отъезду, Шелестов взял под руку лейтенанта Петренко и стал его знакомить с обстановкой, в которой все они оказались.
Затем каждый надел свой заплечный мешок, в котором лежали боеприпасы, спички, неприкосновенный запас продуктов.
– В путь, – раздалась команда Шелестова…
* * *
Уже четвертый час бежали олени, впряженные в легкие нарты, по снежной дороге. Собственно, дороги никакой не было, а был след, оставленный двумя парами лыж, была четко видимая на снегу лыжня. Она вела по открытым снежным местам, опускалась в ложбины, пересекала замерзшие речушки, озерки, болота, протоки, поросшие тальником, забирала крутизну.
На нарты и в лица путников от копыт оленей летели брызги пушистого, легкого неулежавшегося снега.
Иногда след лыж заводил в такую чащу, что, казалось, уже нет возможности из нее выбраться, но путники наши выбирались и вновь продолжали мчаться вперед, делая короткие, пятиминутные остановки для отдыха оленей и для перекура.
Переднюю пару оленей вел Шелестов, хотя сказать «вел» было бы не совсем правильно. Олени бежали сами по проложенному перед ними следу. На вторых нартах сидел старик Быканыров, на третьих сержант Эверстова, а на четвертых и последних – лейтенант Петренко.
Над людьми и оленями вился пар от дыхания. Он быстро замерзал и опадал хрустящим инеем на брови, лица, шерстяные шарфы.
За нартами, то немного отставая, то забегая вперед и скрываясь из глаз, бежал бочком вприпрыжку неутомимый Таас Бас. Иногда он останавливался, наткнувшись вдруг на звериный след, и пропускал нарты. Он долго стоял, внюхиваясь в след, фыркая и поводя острыми ушами. Потом вновь бросался к хозяину и его спутникам.
След лыж уводил все дальше и дальше от рудничного поселка, в глубь тайги, петлял, путался по крепям и вымерзшему тальнику, уходил то на север, то на юг. Заросли пихтача, ельника сменялись краснолесьем, среди которых мелькали белые березы. Тайга не оставалась однообразной, она менялась на глазах, преображалась.
Тоненько позванивал колокольчик на шее оленя-вожака, впряженного в передние нарты майора Шелестова.
Тихой, безмолвной была тайга, и под заунывный звон колокольца каждому думалось о своем.
Старик Быканыров думал о «Красноголовом». Он был почему-то уверен, что судьба и на этот раз вновь свела его с Шарабориным.
На сердце у Шелестова была тревога. Он и сам не отдавал себе отчета, почему она вдруг пришла. Ничего не изменилось с той минуты, когда они покинули рудник, а волнение охватило его сердце и держало в напряжении.
Может быть, оттого, что он до сих пор не знал, куда стремятся беглецы? Может быть, потому, что не было еще прочной уверенности в том, что, преследуя беглецов, он делает именно то, что надо делать?
Шелестов был во власти своих мыслей.
А лейтенант Петренко с любопытством всматривался в новые для него места.
Иногда, большей частью в ложбинках или в руслах заснеженных рек, чуть ли не из-под самых ног оленей вскидывались с шумом едва отличимые от снега, похожие на комочки, белые куропатки. Напуганные, возможно впервые видящие человека, они отлетали немного поодаль и вновь садились, пропадая в снегу.
«Глупые птицы», – думал Петренко.
Они видели сидящих на березах в сторонке, в неподвижных позах, похожих на чучела, тетеревов. При приближении нарт с людьми они с любопытством вытягивали шеи, крутили странно головами, но не проявляли особых признаков беспокойства.
Очередную короткую остановку сделали у примятого снега на месте привала беглецов. Олени встряхнулись и опустили головы, отяжеленные рогами.
Старик Быканыров тотчас же вместе с майором начал тщательно осматривать место привала. Делали они это молча, спокойно, внимательно. Шелестов поднял два окурка папирос «Беломорканал», а Быканыров извлек из снега несколько небольших костей.
– Однако устали они, – высказал свое мнение Быканыров. – Шибко устали. Мясо ели холодное. У якута сломалась лыжа. Правая. Он ее кое-как скрепил. Худо ему стало идти. Совсем худо. Теперь он позади шел.
Шелестов про себя подумал:
«Мудр и проницателен мой старый друг. Какие зоркие и наблюдательные у него глаза. Он читает следы, как я книгу».
А лейтенант Петренко не стерпел и спросил:
– Как вы все это узнали, товарищ Быканыров?
– Что все? – переспросил старик.
– Ну, хотя бы то, что они устали, что мясо ели холодное, что сломалась лыжа именно у якута? – пояснил свой вопрос лейтенант.
Быканыров курил трубку, улыбался, а в руках вертел кость.
– Хитрого, однако, тут мало. Медленно идут, часто отдыхают – наверняка устали. Здесь вот ели, курили, и прямо на снегу. И мясо ели холодное. Следов костра нет. Горячее мясо от кости отстает, а это, гляди… Лыжа сломалась у якута, сразу видать. Русский идет с палками.
Эверстова сказала:
– У нас олени сильные, хорошо бегут, и груз распределен равномерно, правильно. Я подсчитала, что ночью, в крайнем случае к утру, мы нагоним коменданта.
– А если они на лыжах пойдут по таким местам, где олень не пройдет? – высказал опасение Петренко.
– Не бывает так, – усмехнулся Быканыров. – Где пройдет человек – олень всегда пройдет.
– А олени у нас хорошие, слов нет. Молодец Неустроев. Спасибо ему за оленей, – добавил Шелестов.
– Неустроев знает, что делает, – заметил Быканыров. Ему всегда было приятно слышать лестные отзывы о своем председателе колхоза.
Быканыров бросил кости в снег, вытер руку, присел на первые нарты и, дымя трубкой, заговорил опять:
– Председатели бывают, однако, разные. Я всяких видел. Год, а то и два было тому назад. Приехали я и мой дружок к Окоемову. Окоемов – председатель колхоза «Охотник Севера». Старый председатель. Мы к нему забежали, вроде как в гости, по пути, чайку попить, поговорить. От нашего колхоза до «Охотника Севера» сто десять километров. Окоемов дома был. Хорошо нас встретил, ласково. Выложил лепешки горячие, прямо от камелька, сохатину вареную поставил, ханяк[10] дал, чай пили крепкий, черный. Ешь сколько вместится. Много ели, пили, потом трубки курили, разговаривали. Окоемов говорил, а мы слушали. Он говорил про колхозные дела. Все рассказал. Кто и сколько белок настрелял в сезон, сколько горностаев, лисиц наловил, сколько сдал в Якутпушнину. Окоемов все знает: какой бык самый лучший в стаде, какой приплод дала каждая важенка, сколько оленей в колхозе, у кого какое ружье, как оно бьет, кто лучший стрелок. Я слушал Окоемова, долго слушал, а потом спросил: «Однако, скажи, сколько свадьб было в этом году в твоем колхозе?» Окоемов засмеялся и говорит: «Вот уж не считал!» А я опять спросил: «А сколько у вас в колхозе за этот год новых людей народилось?» Окоемов опять засмеялся. «Что я ЗАГС, что ли, или шаман?» Видишь, какой он. А я на его слова обиделся. Как может такой человек быть председателем? В голове у него белки, горностаи, быки, важенки, ружья, а человека нет. Человека забыл Окоемов. А наш Неустроев – нет. У него первое дело человек. Вот и вчера. Пришел я, рассказал все, Неустроев и говорит: «Пошли в стадо. Выберем самых лучших». Прочный человек Неустроев. Глубоко смотрит.
Быканыров выбил золу из потухшей трубки, упрятал ее в кисет.
Шелестов уже тоже выкурил папиросу.
– Ну, трогаемся! – сказал он, усаживаясь на нарты.
И снова побежали олени, снова замелькали опушки, укрытые снегом болота, скованные льдом реки.
Заметно начинало темнеть. Короток день в эту пору на севере.
И вот после почти часовой езды первые олени сделали вдруг такой крутой поворот у березы-тройняшки, что нарты встали на бок, и Шелестов едва удержался на них.
И все сразу увидели, что лыжня кончилась и пошла накатанная нартовая дорога.
Шелестов остановил своих оленей.
– Белолюбский, однако, тоже пошел по этой дороге, – заключил Быканыров, не сходя с нарт. – И второй с ним пошел.
– Да, так и есть, – согласился Шелестов и тронул оленей…
Прошло не больше десяти минут, и майор остановил свою упряжку и даже оттянул ее немного назад. Он быстро сошел с нарт, сделал шага два в сторону и замер: на вмятом снегу зловеще выделялась большая лужа крови.
Шелестов стоял, не в силах оторвать глаз от крови, которая уже давно замерзла и затянулась коркой льда.
К майору подбежали Быканыров, Петренко, Эверстова.
– Кровь… – прошептала Эверстова.
– Да, и кровь человеческая, – добавил Петренко.
Снег вокруг был утоптан, умят, виднелось множество следов ног человека. Вмятины, пятна крови и беспорядочные следы ясно говорили о том, что здесь происходила борьба.
Таас Бас метался тут же, по брюхо в снегу, вдыхая в себя новые запахи.
Быканыров старался по следам на снегу представить себе хотя бы приблизительно, что тут произошло. Он нашел то место, где вначале упал с нарт один, затем кто-то другой. Он нашел и то место, где произошла первая рукопашная схватка. Тут, правда, не было следов крови, вот тут, метра два далее, можно увидеть несколько капель, а здесь… здесь целая лужа…
«Что же тут стряслось?» – думал про себя Шелестов, также оглядывая следы борьбы на снегу.
Таас Бас, между тем сердито фыркая, разгребал в сторонке передними ногами снег. Голова его то почти полностью исчезала, то вдруг появлялась совершенно облепленная снегом, точно напудренная. Потом Таас Бас еще раз нырнул головой в вырытую им яму и вынырнул оттуда, держа что-то в зубах.
Он взвизгнул и бросился к Быканырову.
– Нож, нож! – воскликнул лейтенант Петренко, наблюдавший за поисками собаки.
Все повернулись в сторону Быканырова. Тот взял нож, принесенный собакой, осторожно повертел его в руках и передал Шелестову. Это был северный якутский нож с длинным односторонним лезвием, с грубой, но прочной рукояткой из корня березы, со следами запекшейся крови.
Шелестов долго держал нож, думая о случившемся здесь кровопролитии, потом обернул его в бумагу и спрятал в полевую сумку.
– М-да… Дела… – произнес он тихо.
Все продолжали осматривать место происшествия, и от четырех пар глаз, настроенных обязательно что-нибудь найти, трудно было чему-нибудь остаться незамеченным.
Людям помогал Таас Бас, который, кажется, более всех был взволнован и метался в разные стороны.
– Кто-то ранен, а не убит, – крикнул вдруг Петренко. – Смотрите, он полз.
– Верно говоришь, – заметил Быканыров. – А там, где много крови, он лежал.
После тщательного обследования местности для всех стало ясно, что кто-то, раненый и потерявший много крови, ушел в одну сторону, а двое нарт и более чем четверо оленей – в другую, совершенно противоположную.
Встал вопрос, куда держать путь? И прежде всего этот вопрос встал перед майором Шелестовым.
Он рассуждал так:
«Направо скрылись те двое, которых мы преследовали. До сих пор они шли на лыжах, а теперь, видно, воспользовались оленями. А налево пошел тот, кому принадлежали олени».
Но это были только предположения.
Можно было разбиться на две группы: одной помчаться по следу нарт, а второй – скорее проверить, что произошло с раненым человеком и кто он.
Шелестов не хотел дробить свою группу, тем более в самом начале преследования. Кроме того, внутренний голос подсказывал ему: «Иди влево за человеком, который ранен. Возможно, от твоего появления зависит его жизнь. Возможно, если он жив, ты получишь от него важные сведения».
«Да, поедем влево», – решил Шелестов и приказал садиться на нарты. И когда все сели, он спросил:
– А где же Таас Бас?
Ему ответил Быканыров:
– Таас Бас ушел по следу человека.
Олени от окрика Шелестова рванули с места, но через какие-нибудь две-три минуты были им же остановлены.
Опять на снегу краснела лужа крови, хотя и меньше первой. Опять пришлось тщательно осмотреть местность, и после осмотра Быканыров сказал:
– Однако человек уже умер.
Все молчали. Затянувшееся молчание прервал Шелестов.
– Почему ты решил, что он умер?
– Он сам не пошел. Его кто-то понес. – Быканыров шагал по следу, а за ним осторожно следовали остальные. – Женщина его понесла. Смотрите, какая маленькая нога. И тяжело ей. Нога глубоко входит в снег.
– А ну, быстро на нарты! Поехали!
И олени помчались вновь. Они пронесли нарты через засыпанное толстым слоем снега и, наверное, вымерзшее до дна болото, врезались в тайгу и, наконец, выскочили на опушку.
Все увидели маленькую, с плоской крышей и большими нависями снега на ней, рубленую избу. У самых дверей сидел Таас Бас и, задрав морду к небу, тоскливо подвывал.
«Если собака сидит и никто ее не трогает, значит, опасности нет», – мелькнула мысль у майора Шелестова. Он остановил оленей у самой избы, быстро соскочил с нарт и открыл дверь. Открыл и остановился: на полу почти пустой, еще не обжитой и холодной комнаты, на подостланной шкуре оленя, неестественно вытянувшись, с закрытыми глазами лежал молодой мужчина-якут.
Около него на коленях сидела женщина и бормотала что-то невнятное.
– Что случилось? – тихо спросил по-якутски Шелестов, пропуская в дом Быканырова, Петренко и Эверстову.
Молодая женщина посмотрела на него скорбными глазами, тяжело вздохнула, но ничего не ответила.
Быканыров подошел к ней, взял ее за плечо и громко сказал:
– Зинаида? Почему молчишь?
Женщина вздрогнула, посмотрела на старого охотника, и в глазах ее закипели горькие слезы.
Она упала на грудь неподвижно лежащего человека и вместо ответа безудержно разрыдалась.
Шелестов обратился к Быканырову.
– Ты ее знаешь?
– Да, это наша колхозница Очурова Зинаида, а это ее муж Дмитрий.
Все находились в таком подавленном состоянии, при котором хотя и видишь, что произошло большое горе, но не знаешь, что предпринять.
Инициативу проявила Эверстова. Она оторвала, не без усилий, молодую женщину от лежащего на полу человека, усадила ее на чурбан, встряхнула и, заглянув ей прямо в глаза, заговорила строго, почти суровым голосом по-якутски:
– Ты почему молчишь? Зачем ты плачешь? Ты думаешь, твои слезы помогут чему-нибудь? Возьми себя в руки, – и она ее еще раз встряхнула. – Рассказывай, что случилось? Мы друзья твои. Кто убил твоего мужа?
– Убил… Убил… – со стоном выкрикнула Очурова и готова была вновь броситься к мужу, но Эверстова удержала ее на месте.
– Сиди так, сиди, я говорю…
– Зинаида! – пришел на помощь Эверстовой Быканыров. Он хотел, видимо, сказать что-то еще, но из глаз его закапали прозрачные, чистые стариковские слезы. Он смахнул их рукой, поморщился и тихо произнес: – Хороший был колхозник… Бывший фронтовик… До самого Берлина дошел, и вот…
У Петренко в сердце мгновенно, точно порох, вспыхнула ярость и также мгновенно, как порох, тут же сгорела от слов майора Шелестова.
– Почему был? – громко спросил тот, сбрасывая с себя автомат, кухлянку, рукавицы. – Еще рано говорить об этом.
Шелестов опустился на колени, взял руку Дмитрия.
Все умолкли и застыли в напряжении.
– Он жив! – твердо заявил Шелестов, прощупав пульс. – Надюша! Давайте с нарт санитарную сумку. Быстро! Петренко, разведите огонь.
Молодая якутка сидела выпрямившись, с испугом в глазах и зажав рот рукой, как бы стараясь сдержать готовый вырваться крик.
Быканыров бросился помогать Петренко. Эверстова принесла и уже раскрывала сумку.
– Помогайте мне, – потребовал Шелестов от хозяйки дома. – Разуйте его и разотрите ноги снегом.
Сам он расстегнул ворот рубахи Очурова и приложил ухо к левой части груди. Прислушался и сказал твердо и уверенно:
– Конечно, жив! И нечего распускать нюни и разводить панику.
Он разорвал гимнастерку, сорочку и, обнажив грудь и руки Очурова, увидел две раны: одну на плече, неглубокую от скользящего удара, и вторую, более серьезную, в области правого соска.
«Эти раны, – подумал Шелестов, – нанесены, видно, тем ножом, что лежит в моей сумке».
Шелестов при помощи Эверстовой стал обрабатывать раны йодовым раствором и сульфидинным порошком.
Жена Очурова старательно растирала снегом ноги мужа.
– Довольно, довольно! – прервал ее Шелестов. – Оберните ноги во что-нибудь теплое.
Пока Быканыров и Петренко разводили камелек, набивали котелки снегом, пока Шелестов и Эверстова обрабатывали и перевязывали раны, молодая якутка пришла в себя и рассказала, как все произошло. Рассказала подробно о непрошеном визите ночных гостей, об их просьбе, о желании мужа помочь людям, попавшим в беду, и, наконец, о том, как обеспокоенная долгим отсутствием мужа она решила выйти ему навстречу и подобрала его на снегу вот таким, какой он есть сейчас.
Шелестов осторожно кончиком своего ножа раздвинул плотно стиснутые зубы Очурова и при помощи Эверстовой влил в его рот две столовые ложки чуть разведенного спирта. Через несколько минут лицо раненого порозовело, хотя сам он по-прежнему оставался неподвижным.
В комнате уже ярко пылал камелек и шипел на огне спадающий с котелков снег. Петренко затащил в комнату большую охапку сухих поленьев и тихонько опустил на пол. Когда раненого приподняли, чтобы постелить под него вторую шкуру, он, еще не приходя в сознание, тихо, едва слышно, вздохнул. И все-таки этот вздох услышали все и сами облегченно вздохнули.
– Много крови потерял, – сказал Шелестов. – Смотрите, как он бледен. Но я уверен, что он выживет. Одна рана – пустяк, да и вторая не особенно опасна. Что у вас есть из продуктов? – обратился Шелестов к Эверстовой. – Наиболее питательного?
Эверстова развела руками.
– А я не знаю… – и перевела взгляд на Быканырова, который упаковывал груз. Старик пожал плечами.
– Ну-ка, поищите, – попросил майор.
Среди продуктов оказалось несколько банок со сгущенными сливками.
– Вот это, я думаю, то, что нам нужно, – сказал Шелестов.
– Правильно, – подтвердил Петренко. – Надо открыть банку и разогреть. Сливки – это большое дело.
– Да, да, правильно, – согласился Шелестов и спросил хозяйку: – Сколько было у вас оленей?
– Шесть. Шесть оленей и двое нарт. Олени сильные, очень хорошие. Они на них уехали.
– Однако их можно упустить, – высказал опасение Быканыров. – На оленях они далеко уйдут.
– Нельзя терять ни минуты, – поддержал его лейтенант Петренко и посмотрел на еще не пришедшего в сознание Очурова. Посмотрел и подумал:
«М-да… Человек был под рейхстагом, остался жив, а тут чуть не умер от руки какого-то подлеца».
– Мы их быстро догоним, – высказала свое мнение Эверстова. – У нас тоже хорошие олени. И у нас еще то преимущество, что мы будем преследовать их по накатанной, готовой дороге, а им надо ее прокладывать.
Шелестов молчал, думая о чем-то своем, потом спросил хозяйку дома:
– Значит, эти двое вам незнакомы?
– Нет.
– И теперь вы не знаете, кто они?
– Дмитрий смотрел их документы, но я не знаю.
– А каковы они собой, расскажите?
Очурова нарисовала портреты ночных гостей как могла, и со слов ее Шелестову, Быканырову и Эверстовой стало ясно, что один был русский, а другой якут. Русский, конечно, Белолюбский. Все приметы совпадали.
– А якут рыжий? Волосы рыжие? – поинтересовался Быканыров.
– Он совсем без волос. У него голова гладкая, как колено. Я еще подумала, зачем было человеку зимой снимать волосы?
«Волосы этот якут оставил в квартире Белолюбского, – рассуждал про себя Шелестов. – Но зачем это понадобилось?»
– Надо догонять их. Зачем терять время? – сказал Петренко.
– Правильно говоришь, лейтенант, – отозвался Быканыров.
Шелестов молчал. И хотя он сейчас сидел здесь, в лесной избушке, но мыслями был далеко в тайге, настигая этих двух, проливших кровь безвинного человека. Он слушал горячие высказывания своих друзей, но молчал. Он всегда дорожил временем, знал цену каждой минуте, но не собирался торопиться.
«Я должен услышать, что скажет Очуров», – решил он и очень удивил всех, когда объявил:
– Ночуем здесь. Пусть олени наши хорошенько отдохнут. А рано утром тронемся.
Возражать Шелестову никто не стал.
* * *
Дмитрий Очуров пришел в себя среди ночи.
– Зина… Зина… – позвал он.
Измученная и уставшая за день, Зинаида все же не хотела ни на минуту отойти от мужа, она торопливо склонилась над ним. Приподнялся чуткий Быканыров. Он приблизился к раненому, лежащему ближе других к огню, и сказал:
– Очуров?
– Это ты? – спросил, в свою очередь, раненый.
– Да, я. А это мои друзья. Все хорошо, лежи и не двигайся. Повезло тебе, однако, счастливый ты человек.
Через минуту уже все были на ногах.
Шелестов запретил раненому разговаривать, а остальным задавать ему вопросы. Очурова напоили сливками, разбавленными кипятком, а предварительно заставили выпить немного спирту.
– Самое хорошее лекарство, – сказал Быканыров, держа в руках пустой граненый стаканчик, из которого давали раненому спирт.
– Любите? – поинтересовался Петренко.
– Есть грех, – признался старик. – На севере все любят спирт. Хорошее лекарство и для больного, и для здорового.
Вовремя оказанная помощь сыграла свою роль. Жизнь победила. Очуров ощущал слабость от потери крови, но раны его не беспокоили. У него появился аппетит, и Шелестов разрешил накормить его густым наваром из-под пельменей.
Выпитый спирт слегка туманил его мозг. На побледневших щеках проступил румянец. В глазах появился блеск.
– Болит? – спросил Шелестов, показывая на грудь.
– Мало-мало…
– Не трудно будет отвечать на мои вопросы?
– Совсем нет…
Все сгрудились у раненого. Жена примостилась у изголовья.
– Вы, кажется, смотрели их документы?
– Да, смотрел. Русский – Белолюбский, комендант рудника.
Все переглянулись, а Быканыров не вытерпел.
– А якут кто? – спросил он.
– У него диплом учителя… я держал его в руках, – и, поморщив лоб, Очуров сказал: – А фамилию забыл…
– Не Шараборин? – подсказал старый охотник.
– Нет, не Шараборин.
Быканыров посмотрел на Шелестова, и на лице его отразилось разочарование.
Шелестов улыбнулся и сказал:
– Он же не дурак, этот Шараборин, чтобы появляться здесь под своей фамилией.
Быканыров часто-часто закивал головой.
– Правду сказал. Я не подумал.
– Оружие у них было?
Очуров отрицательно помотал головой.
– А что висело на шее у русского? – напомнила жена Очурова.
Тот усмехнулся, хотел протянуть к жене руку и со стоном опустил ее.
– Это не оружие, – пояснил он. – Это фотоаппарат в кожаной сумке.
– Фотоаппарат… – повторила про себя Очурова.
«Это совпадает с моими предположениями, – подумал Шелестов. – Значит, не напрасно Белолюбскому понадобилась электролампа такой большой силы. Не напрасно он прикалывал к столу план Кочнева».
Все смотрели теперь на Шелестова, так как никто не знал деталей происшествия на руднике.
Но Шелестов не стал больше задавать вопросов, а попросил Очурова рассказать, что произошло с ним после того, как он покинул сегодня утром дом.
Очуров рассказал все по порядку, до того момента, как он потерял второй раз сознание по пути к дому.
А Быканыров, слушая Очурова, не находил себе места. Ему не хотелось смириться с мыслью, что якут, бритый наголо, был не «Красноголовый».
Старый охотник топтался по комнате, с каким-то ожесточением сосал свою заветную трубку, и множество мыслей роилось в его голове.
Когда же Очуров окончил свой рассказ, Быканыров все-таки спросил:
– Скажи, какой из себя якут?
Очуров описал его внешность. По мнению Быканырова, она совпадала с внешностью «Красноголового». Но все же уверенности быть не могло.
– Ай-яй-яй… как плохо, – сетовал старик. – Однако было у него что-нибудь такое, чего нет у других?
Очуров силился вспомнить, но безуспешно.
– У него на левой ноге пальцев нет, – оказала Очурова.
– Пальцев? – спросил Шелестов.
– Да, пальцев. Вместо пяти, только один палец. Я сама видела, когда он разувался.
Ни Шелестов, ни Быканыров не могли, конечно, знать, что при побеге Шараборина из лагеря пущенная в него пуля сделала свое дело. И сообщение Очуровой ничего нового не внесло. Но это только казалось. Слова жены позволили Очурову вспомнить, что якут прихрамывал на одну ногу, и за эту деталь ухватился Быканыров. Перед его глазами встало то раннее утро, когда Таас Бас обнаружил след чужого человека, не зашедшего в дом.
– И тот припадал на одну ногу. Да, припадал.
– Ничего. Скоро мы узнаем, кого себе в друзья выбрал Белолюбский, – сказал Шелестов. – Готовьте поесть – и в дорогу. Вам, – он обратился к Очурову, – мы оставим лекарств, продуктов, а сами пойдем по следу этих людей. И все будет хорошо.
Бледное, беззвездное небо как бы поднималось все выше и выше. Начинало светать.
Самолет над тайгой
– Тохто… Тохто[11] … – твердил Шараборин сидящему впереди него Оросутцеву. – Упадут олени. Совсем упадут. Важенка совсем плохая.
Оросутцев не обращал внимания на призывы своего сообщника и гнал оленей, как одержимый.
Ему было явно не по себе. Во-первых, не так все получилось с этим хозяином оленей. Кто же мог предполагать, что дело дойдет до ножа? Ведь планировали сделать все тихо, гладко, без шума. И не потому Оросутцев нервничал, что его донимали угрызения совести за напрасно пролитую кровь. Отнюдь нет. Конечно, лучше было бы обойтись без помощи ножа, но раз Оросутцев обнажил нож, надо было кончать этого якута колхозника. А он оставил его недорезанного. А что это означает? Это означает, что его подберут или он сам доберется до жилья, и опасность погони станет реальной.
«Хотя, – рассуждал Оросутцев. – И так плохо, и этак. Ну, убил бы я его. А куда упрячешь? В снег, больше-то некуда. И как ты ни прячь, все равно следы не скроешь на таком снегу. И никуда не денешься. Плохо получилось. Очень плохо. Недодумал я все до конца. А все спешка. Надо бы поступить по-другому. Надо было выйти тайком ночью из дому, собрать оленей, взять лыжи, нарты, и делу конец. Ищи ветра в поле. А теперь всего можно ожидать».
Во-вторых, им не повезло с самого начала. Не успели они проехать и десятка километров от того места, где оставили недорезанного якута, как нарты Шараборина налетели на какую-то корягу, занесенную снегом, и вышли из строя. Один из полозьев сломался в двух местах, и нарты пришлось бросить. Теперь Шараборин и Оросутцев сидели на одних нартах.
– И нужно же было этому случиться! – негодовал Оросутцев. – Мои нарты прошли благополучно, а его… Эх, черт бы его побрал, – выругался Оросутцев и вновь стал кричать на оленей, размахивая руками.
Обозленный и занятый своими тревожными мыслями, он не замечал, что олени бегут не так, как бежали вначале первые два-три часа. Олени сбавляли темп бега, путали ногами, спотыкались на ровном месте.
– Отощали… Выдохлись… Отдых надо дать… – твердил свое Шараборин.
Он лучше Оросутцева знал оленей и ясно предвидел последствия такой бешеной гонки.
«Пока бегут – пусть бегут», – подумал Оросутцев.
Олени вынесли нарты на взгорок, медленно, как бы нехотя спустились по чистому месту вниз к самой стене тайги, запутались между елок и встали.
Оросутцев и Шараборин продолжали сидеть.
Несколько минут прошло в молчании, а потом Оросутцев сказал:
– Они сами знают, когда остановиться. Без нас знают.
– Плохо знают, – возразил Шараборин. – Еще раз так станут, и совсем не пойдут. Неделю гулять будут, а не пойдут. Отдых им надо давать. Два-три часа ехал – отдых. И опять два…
– Ладно, хватит, – оборвал его Оросутцев. – Начнешь разводить антимонию. Собирай дрова, а я распрягу их.
Оба сошли с нарт. Шараборин начал ломать сухостой, потом вытаптывать снег на том месте, где решил устроить привал.
Оросутцев выпряг оленей. Те сошлись мордами, обнюхались, всхрапнули. Их окутало облако теплого пара. Олени не могли отдышаться.
– Дай-ка мне твой нож, – попросил Оросутцев и, получив его от Шараборина, подошел к самому маленькому узкогрудому оленю – важенке. Та еле-еле держалась на ногах, низко опустив голову. Ее трясло как в ознобе. Бока ее тяжело вздымались.
Оросутцев погладил важенку по голове левой рукой. Животное, почувствовав ласку, приблизилось к человеку, посмотрело на него влажными, измученными, доверчивыми глазами и лизнуло шершавым языком его голую руку.
Потом потерлось о бедро Оросутцева.
И в это время Оросутцев сильным ударом правой руки вонзил важенке под самое сердце длинный острый нож. У важенки ноги сразу подкосились, и она, не издав ни звука, рухнула на снег.
Оросутцев опустился на колени и, не обращая внимания на слезы животного, которые каплями катились из его прекрасных глаз, вытащил нож и поднес под рану руки пригоршней. Кровь горячая, яркая била ключом, и Оросутцев пил ее большими глотками. Кровь текла красными струйками по его бороде, спадала на кухлянку, красила снег.
Шараборин стоял поодаль с охапкой дров в руках и, наблюдая, как лакомится его сообщник, облизывался.
– Разводи огонь, чего время теряешь, – сказал Оросутцев.
Шараборин пробурчал себе под нос что-то нечленораздельное и начал выкладывать костер.
Оросутцев же разделывал оленью тушу. Он был мастер на эти дела. Сняв шкуру с оленя, он разделил тушу на равные части. Выбрав несколько трубчатых костей, Оросутцев разрубил их ножом и стал высасывать из костей мозг. Он делал это сопя, причмокивая, производя звуки, похожие на работу поршня.
Отобрав более лакомые куски, Оросутцев бросил их в котел и натолкал в него снегу.
Шараборин уже развел костер. Сухое смолье схватилось сразу дружно, с потрескиванием и без дыма.
Котел подвесили над самым огнем.
Оросутцев снял с нарт дорожный мешок, достал из него бутылку со спиртом, вынул пробку и, расчистив снег рукой, поставил бутылку поодаль от огня. Потом он наложил ветвей от елки и сел на них.
Шараборин расположился напротив, по ту сторону костра, на куске перепревшей сосны. Он вначале сел поближе к огню, но лопнувшая губа от сильного жара стала саднить еще больше, и Шараборин отодвинулся.
Воздух над костром дрожал, струился, как летом от зноя, и уродовал все, что было видно сквозь него. Так бывает, когда смотришь на дно реки, сквозь воду, колеблемую ветром.
И Оросутцев казался Шараборину не таким, каким он был на самом деле.
Лицо Оросутцева на глазах у Шараборина то и дело менялось, делалось вдруг длинным, похожим на голову лошади, то будто раздавалось в стороны и походило на блин, то, наконец, расплывалось, и на нем нельзя было уловить знакомых черт.
Оросутцев совал руки чуть ли не в самый огонь и затем быстро отдергивал их. Потом он запел тоскливо, монотонно, тягуче какую-то непонятную для Шараборина песню без слов. Немного погодя Оросутцев умолк.
Слышно было, как потрескивало смолье в огне, да булькала закипающая в котле вода.
Шараборин выжидал, когда Оросутцев объяснит ему, куда и зачем они едут. Оросутцев обещал это сделать, как только они достанут оленей.
Значит, он должен это сделать теперь.
Оросутцев же в это время обдумывал, что и как надо сказать. Он не хотел посвящать Шараборина полностью в свои планы, но отлично понимал, что без объяснения дело не выйдет. Понимал он и другое, что сам он, без помощи Шараборина, не доберется до нужного места. Оно, это место, не так близко, и нужно хорошо знать тайгу, чтобы не сбиться с дороги и не заплутаться в ней. Но Оросутцева связывали сроки. И тайгу он не знал так хорошо, как знал ее Шараборин.
Оросутцев прикидывал, как сделать, чтобы не говорить Шараборину всего, но вместе с тем так, чтобы это выглядело убедительно.
В голове Оросутцева возникало до привала, да и сейчас, множество вариантов, но он все их отбрасывал. Не подходили они по той или другой причине. Перебрав все возможные варианты, Оросутцев пришел все же к выводу, что придется сказать, куда и зачем он торопится и почему ему нужен Шараборин. Другого выхода не было. Иначе Шараборин поймет, что его хотят надуть, и тогда не жди от него помощи. Конечно, можно припугнуть Шараборина, но не в такой обстановке. Сейчас он может разозлиться, плюнуть на все и уйти. А что будет делать Оросутцев один, даже в том случае, если в его распоряжении останутся олени? Этот вопрос больше всего волновал Оросутцева. Он считал себя не способным выбраться из такой глухой чащи без помощи Шараборина. Оросутцев прекрасно понимал состояние своего сообщника, его настороженность, выжидательное молчание.
«Да, дальше тянуть нельзя, – окончательно решил Оросутцев, – иначе он сбежит от меня в первую же ночь, да еще, чего доброго, уведет и оленей. И получится: близок локоть, да не укусишь».
Вода в котле уже исходила паром.
Шараборин взял тоненькое поленце и помешал им в котле.
– Ты все интересовался, куда я иду? – заговорил вдруг Оросутцев.
– Совсем нет, – ответил Шараборин. – Ты скажи правду, зачем я тебе, а куда ты идешь – мне не обязательно знать.
– Гм. Одно с другим тесно связано, – пояснил Оросутцев. – Мне надо как можно скорее добраться до Кривого озера. Понял? Знаешь такое?
– Знаю, однако.
– Был там?
– Был.
– А я вот не был. Дорогу до озера тоже знаешь?
– Тоже знаю, – подтвердил Шараборин.
– Я же и дороги не знаю. Поэтому ты должен довести меня до Кривого озера кратчайшим путем. И я не останусь в долгу. Ты получишь больше, чем ожидаешь. И, кроме этого, тебя отблагодарит Гарри.
Шараборина передернуло.
– Ты что? – удивился Оросутцев, заметив, как вздрогнул Шараборин.
– Опять Гарри?
– Да, опять. Но не скоро, весной и последний раз.
Шараборин смотрел на Оросутцева долго, пристально, силясь в его лице прочесть скрытый смысл его слов.
– Не веришь? – спросил Оросутцев и, не ожидая ответа, сказал: – Честно говорю, в последний раз. Я улечу с Кривого озера на ту сторону. За мной пришлют самолет. И тебе не придется больше ходить ко мне.
Шараборин ухмыльнулся. Он, конечно, не мог поверить этому. Ясно, что Оросутцев хочет обвести его вокруг пальца. Но зачем? Неужели он хочет отобрать у него деньги, полученные им от Гарри? Ерунда! Не может быть.
Если бы Оросутцева интересовали деньги, а не Шараборин, то он давно бы нашел время переложить их в свой карман. Дело, конечно, не в деньгах. Но при чем тут самолет? Какой самолет? Откуда?
– Не веришь? – еще раз спросил Оросутцев.
– Далеко, однако. Трудно поверить, чтобы долетел, – утаив все свои сомнения, ответил Шараборин.
– Чудак ты человек! Что значит расстояние в наше время? Не из Америки же он прилетит.
– А откуда же?
– Из Японии, конечно.
– Тоже, однако, далеко.
– Ничего не далеко. От ближней северной точки Японии до Кривого озера самое большее тысяча восемьсот километров. А для самолета последних конструкций это сущий пустяк.
Шараборина очень удивляло, что Оросутцев, никогда не объяснявший своих поступков, вдруг разоткровенничался. В чем же дело? Что случилось? Неужели и в самом деле речь идет о встрече самолета, который прилетит к Кривому озеру? Неужели правда, что Оросутцев собирается перебраться на ту сторону по воздуху?
– А как самолет найдет тебя? – спросил Шараборин. – Тайга – везде тайга. Озеро под снегом.
Оросутцев рассмеялся, показав свои крупные, редкие, подернутые желтизной зубы.
– Есть карты, есть ориентиры, наконец, есть сигналы.
– Опасно, – мотнул головой Шараборин. – Ночью надо лететь.
– Днем или ночью, для летчика не имеет значения.
– Ой-ей! – усомнился Шараборин. – Только ночью. Днем раз – и сшибут.
– А днем он и не полетит.
Стояла ледяная, беззвучная, как натянутая струна, тишина. Только говор двух людей, пыхтеньи закипающей воды в котелке, да потрескивание смолья в костре нарушало эту тишину. И вот появился новый звук. И если бы дело происходило летом, то этот звук сначала можно было принять за звук, производимый комаром. Но стояла зима, лютая стужа. Оросутцев и Шараборин сразу уловили, что где-то далеко звенит мотор. Звенит и подвывает, становится все явственнее, все слышнее.
Оба замерли, устремив глаза в голубые просветы неба, видимые сквозь густое переплетение заиндевевших ветвей.
Едва слышимый вначале звон мотора постепенно перерос в рокот приближающегося самолета. Звук нарастал, ширился, подавлял все остальные звуки. Ясно было, что самолет шел низко и где-то близко над головами.
Непонятное чувство слабости охватило вдруг Шараборина и заставило его встать на четвереньки. К горлу подступила тошнота. По телу, точно электрический ток, пробежал озноб. Удушливый, мгновенно пришедший страх сжал сердце точно тисками. Шараборин силился не потерять самообладания, потушить, подавить страх, но он вопреки всем его усилиям перехватывал дыхание.
Странно охнув, Шараборин быстро на четвереньках бросился под ветвистую елку. Он опрокинул бутылку со спиртом, свалил плечом жердь, на которой был закреплен котел с почти уже сварившимся мясом. Спирт попал на огонь и вспыхнул синим дрожащим пламенем, мясо вывалилось в костер, который зашипел, задымился.
Самолет с ревом прошел над молчаливой и неподвижной тайгой, звук его мотора стал тише, слабее и, наконец, замер где-то вдали.
Запах горящего спирта, обгорелого мяса смешался с дымом, и все это едкое, вонючее полезло в глаза, в рот, в нос Оросутцева. Он вскочил с места так резко, будто его кто-то уколол. Злоба заволокла его мозг мгновенно. Он едва смог обуздать вскипевшую ярость, едва удержал себя от неистового желания броситься с кулаками на своего сообщника. Вне себя он закричал:
– Дурак! Трус! Баба несчастная… Проломить бы тебе череп надо! – он сейчас забыл совсем, что должен соблюдать известную тактику в отношениях с Шарабориным. Его побелевшие и трясущиеся от злобы губы выплескивали невпопад различные бранные и оскорбительные слова. Он в сердцах пнул ногой пустую бутылку, утерявшую драгоценную влагу, сплюнул на огонь, в котором корчилось покрытое золой мясо, и внезапно умолк.
Шараборин вылез из-под елки, встал на ноги, угловато вскинул плечи, жалко и нелепо улыбнулся. Губы его кривились и некоторое время беззвучно двигались. Потом, чтобы вернуть себе утраченное мужество, он выпрямился, расправил плечи и обвел взглядом небо. Заикаясь, он сказал:
– Это я… чтобы он не заметил.
Холодные глаза Оросутцева блеснули, но он промолчал.
Только сейчас Шараборин почувствовал неприятный зуд в ладонях и вспомнил, что прошелся ими по горячей золе. Он потер руки, подул на них и, чтобы окончательно ликвидировать неприятный конфликт, сказал:
– Спирт у меня есть. Почти полная фляга.
Оросутцев продолжал молчать и стоял, широко расставив ноги. В голову лезли тревожные мысли: откуда взялся самолет? Чего он не видел здесь, в глухой тайге?
Шараборин ходил вокруг залитого водой костра и с сожалением смотрел на погубленное мясо. О еде нечего было и думать. Он подобрал пустую бутылку из-под пролитого спирта, понюхал ее и, покачав головой, бросил в костер.
А Оросутцев думал:
«Дурак, как я не успел рассмотреть, что это за самолет? Уж не тот ли, на котором пожаловал майор на рудник? Ведь я же тот видел и хорошо запомнил. Заметил нас летчик или нет? Скорее всего, заметил. Ведь сверху все хорошо видно. Этого только не хватало!»
– Однако низко летел, – проговорил Шараборин, не зная, что сказать другое. – Совсем низко.
– Да, – согласился Оросутцев. – Мне это не нравится. Запрягай.
Шараборин побежал за оленями. Оросутцев стал укладывать на нарты котел, дорожный мешок, а когда дело дошло до оленьей туши, он выругался и бросил ее в перегоревший костер. Надо было облегчить себя от всякого добавочного груза.
Когда все было готово и они садились на нарты, Шараборин сказал:
– Плохо ты сделал…
– Что плохо? – готовый огрызнуться, спросил Оросутцев.
– Надо было того насмерть резать.
– Я сам знаю, что плохо, – мягче сказал Оросутцев. – Кто же мог знать, что все так по-дурацки получится?
– Все надо знать, – сказал Шараборин. – Теперь, однако, надо скоро ехать до Кривого озера. По нашему следу пойдут. Хорошо бы, снег выпал.
Оросутцев ничего не сказал и тронул оленей.
* * *
А майор Шелестов со своими друзьями мчался по свежему следу и думал лишь об одном:
«Только бы не пошел снег. Все, что угодно, но только не снег. Тогда – пиши пропало».
Примерно после часа быстрой езды Шелестов сделал первую и, как все поняли, вынужденную остановку. Взоры всех обратились к лежащим перевернутым нартам.
– Мало-мало поломались, – сказал, посмеиваясь, Быканыров.
– Значит, они теперь с шестью оленями и одними нартами, – сделал заключение лейтенант Петренко.
Эверстова посмотрела на Шелестова.
А Шелестов, по привычке, рассуждал про себя:
«Хуже это или лучше, что у них вышли из строя одни нарты?» – и пришел к заключению, что этот факт не играет никакой роли. Преступники имеют шесть оленей и поэтому, при нужде, могут перепрягать уставших.
Около брошенных нарт задержались на несколько минут и тронулись дальше.
Часа через три, когда олени выбежали на широкую безлесную равнину, между двумя горами вдалеке, впереди послышался рокот самолета, и Шелестов остановил оленей. Все соскочили с нарт.
Шелестов и Петренко обратились к биноклям. На горизонте слева обозначилась едва заметная движущаяся точка. Она приближалась, увеличивалась, и уже невооруженным глазом можно было определить, что летит самолет.
Какой-то буйный восторг охватил друзей Шелестова, особенно старика Быканырова.
Самолет приближался, в воздух летели рукавицы и раздавались громкие, приветственные выкрики. Самолет опустился ниже, прошел чуть не над головами, развернулся, сделал второй заход и бросил вымпел. Тот быстро опускался на маленьком красном парашютике, относимый в сторону неощутимым движением воздуха.
Потом самолет с сильным ревом пошел вверх, прощально качнул плоскостями и полетел на запад. Все махали руками, пока самолет не скрылся с глаз.
– Молодец Ноговицын. Нашел-таки нас, – задумчиво произнес майор, глядя на горизонт.
– Хороший летчик, – решил высказать свое мнение лейтенант Петренко. – Знаете, когда мы летели из Якутска на рудник, он мне показывал волка. Скажу честно, до сих пор не видел живого волка. Я сам бы его ни за что не заметил. А Ноговицын говорит, что на волков можно охотиться с самолета. Правда это или нет?
– Правда, – ответил Шелестов. – Хорошая, интересная охота. Мне однажды довелось в ней участвовать, и я получил большое удовольствие. Но лучше охотиться с самолета поближе к весне, когда потеплеет. Самолет-то должен быть открытым, а сейчас в такую стужу и носа не высунешь.
За вымпелом захотелось бежать Эверстовой. Она быстро сняла с нарт лыжи и умчалась.
– Догоню! – весело сказал Петренко, охваченный спортивным азартом, и бросился к своим нартам.
– Нет, не догнать, – бросил ему вслед старик Быканыров. – Она уже полпути прошла. И крепко идет.
– Все равно догоню, – сказал Петренко.
Шелестов вынул коробку папирос, закурил и, прикинув глазом расстояние, пройденное Эверстовой, подумал: «Пожалуй, прав старик. Не догонит».
Петренко встал на лыжи, быстро закрепил их на ногах, сбросил с себя кухлянку и побежал наискосок, не по следу Эверстовой, а к зарослям тальника, куда, по его предположениям, упал вымпел. Он бежал, пригнувшись, размашистым, натренированным шагом опытного лыжника.
Прошло не более полминуты, как Быканыров уже изменил свое мнение.
– Ой, догонит, догонит… Ошибку я дал. Быстрый на ноги парень. Смотри, Роман Лукич, смотри!
Старик, стоя на месте, притопывал ногами и хлопал рука об руку. Майор, прищурив глаза, наблюдал за двумя фигурами, быстро скользящими по снегу.
«А и верно догонит», – подумал он.
Быканыров не стерпел:
– Надя! Надя! – громко крикнул он, сложив руки рупором. – Айда шибче! Айда…
Эверстова обернулась, но было уже поздно. Она увидела лейтенанта метрах в двадцати от себя.
Петренко обошел ее, вырвался вперед и, издали заметив красное пятно парашюта, направился к нему.
Он поднял вымпел, подошел к Эверстовой и подал его ей.
Та, тяжело дыша, смерила его оценивающим взглядом, но вымпел не взяла.
– Нет уж, сами несите, – сказала она. – Вам только за оленями гоняться.
Обратно они шли вдвоем, нормальным шагом. Петренко рассказал, что всего лишь три года назад впервые встал на лыжи, увлекся этим видом спорта и начал тренироваться.
– Я, конечно, не думал, что попаду на север, хотя и мечтал о нем. А вот пришлось. А лыжи, как видите, пригодились.
– Вы молодец, – похвалила, улыбнувшись, Эверстова.
– Вы шутите или серьезно?
– Вполне серьезно. Я сама занимаюсь спортом и уважаю людей, которые его любят. Вы же не только лыжник, но еще и снайпер, и боксер.
– Собственно, я увлекался всеми видами спорта, но лучшие показатели у меня были по лыжам, боксу, стрельбе.
– Ну а я так, середнячок, – призналась Эверстова. – И не разрядник. Как-то один раз я взяла первое место по бегу на сто метров в Якутске. Это было целое событие. Я пробежала дистанцию не то за четырнадцать, не то за четырнадцать с половиной секунд.
– Это уже неплохо для женщины.
– Возможно. Но это было очень давно.
Петренко всмотрелся внимательно в лицо спутницы и подумал:
«Что значит давно? Сколько же ей лет? По-моему, от силы двадцать два – двадцать три…» – и, не сдержав любопытства, спросил:
– Когда же это было?
– Это было летом сорок первого года, когда началась война и когда я была совсем еще девчонка. Мне было всего шестнадцать лет.
– Позвольте, позвольте… – проговорил Петренко и мысленно стал подсчитывать, сколько же сейчас лет его спутнице.
– Нечего позволять, – с теплой грустью в голосе ответила Эверстова. – Мне уже двадцать семь лет, я уже дважды мама и у меня два чудесных карапуза-сынишки.
– Ни за что бы не подумал! – воскликнул Петренко.
– Что не подумали?
– Что вам столько лет. Я бы не дал вам больше… больше… – и желая сказать приятное этой маленькой скромной женщине, добавил: – Ну, никак не больше двадцати.
– Спасибо за комплимент. А муж меня зовет старушкой.
– Конечно, в шутку?
– Ну да, сейчас я принимаю это как шутку, но лет через пять-шесть шутка будет звучать по-иному, на самом деле состарюсь.
– А муж ваш в Якутске? – продолжал интересоваться Петренко.
– Да.
– Давно, наверное, его не видели?
– Я его сутки назад, а он меня сейчас, наверное, видел.
На лице Петренко появились растерянность и в то же время любопытство. Эверстова звонко рассмеялась.
– Не догадались?
– Нет. Честно.
– Мой муж – механик самолета Пересветов. Вы с ним знакомы.
– Ах, вот оно что! Понятно.
– Вымпел! Вымпел быстрее! – потребовал Шелестов. – О чем это вы так горячо разговорились, что еле плететесь?
– Да так, о делах житейских, – ответила Эверстова.
– Пожалуйста, товарищ майор. – И Петренко подал вымпел.
Шелестов бросил в снег недокуренную папиросу, вынул из вымпела свернутый в трубочку листок бумаги, развернул его и прочел вслух:
«Еле отыскали вас. След от нарт идет на северо-восток. Людей и оленей не видели. Белолюбский на рудник не вернулся. Желаем успехов. Ноговицын, Пересветов».
Шелестов покачал головой и подумал: «И не вернется Белолюбский на рудник. Теперь это уже ясно», и, обратившись к своим друзьям, сказал:
– Поехали, товарищи. Нам засветло предстоит еще много километров сделать…
И опять помчались вперед, по следу, четыре пары оленей.
Старик Быканыров, не раскрывая рта, мурлыкал себе под нос несложную песенку, придуманную на ходу. Смысл ее в переводе на русский язык был таков: всему на свете есть начало и всему есть конец. Ничего нет без начала и без конца. Роет мышь, роет и дороется до колонка.
Олени бодро бежали, взметывая пушистый снег по проторенному, ясно видимому следу. След забирал то влево, то вправо, то падал вниз, под гору, то извивался и забирался в самую глухомань.
Шелестова и его друзей безмолвно встречали и провожали неподвижно стоящие сосны, ели, пихты, лиственницы.
Олени бежали по высокой вымерзшей траве, и тогда слышался хруст, будто нарты скользили не по снегу, а по песку.
Но вот олени легко взяли крутизну, начали спускаться вниз, и Шелестов остановил их: в зарослях он увидел следы костра. Резко и отчетливо чернели на снегу перегоревшие поленья, зола.
Сошли с нарт.
Это было то место, где Оросутцев и Шараборин утром делали привал и лишились завтрака из-за появления самолета.
– Десять минут отдыха. Перекур, – дал команду Шелестов. – Внимательно осмотреть все вокруг.
Не выпрягая оленей, все начали обследовать место привала преступников.
Нашли лужу крови, кости, разделанную и почему-то брошенную оленью тушу, угасший костер, в котором лежали куски обуглившегося мяса и стекла от разбитой бутылки.
«Теперь у них не шесть, а пять оленей, – сообразил Шелестов, – продуктов у них, видно, нет».
– Торопились… Шибко торопились, – сделал заключение Быканыров. – Все бросили.
– Наверное, почуяли погоню? – высказал предположение Петренко.
Шелестов ничего не сказал и только пожал плечами. Он еще раз подумал:
«Хотя бы не пошел снег. Сейчас перед нами открытая книга, читай и разумей, а пойдет снег – все занесет, все скроет».
Хотя день был на исходе и солнце уже укуталось на горизонте в морозную дымку, Шелестов не думал уже делать остановки на ночевку. Он не опасался за оленей и, следуя советам Быканырова, делал частые остановки.
Олени до сих пор не выказывали усталости, бежали быстро, весело, бодро.
«Медлить нельзя», – решил про себя майор и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь, а как бы разговаривая с самим собой:
– Интересно, когда они здесь были?
Быканыров, ни слова не говоря, опустился на корточки у костра и, сняв рукавицу, пощупал золу. Потом он начал осматривать кости и еще раз следы, оставленные ногами людей и оленей. Делал он это молча, с сосредоточенным, серьезным лицом.
Шелестов закурил, внимательно наблюдая за своим старым другом.
Эверстова стояла под пышной заснеженной елкой, похожей на невесту в белой фате.
Петренко незаметно подобрался с другой стороны елки и сильно стукнул по стволу прикладом винтовки. Иневый дождь вместе с большими хлопьями снега осыпал Эверстову с ног до головы. Эверстова вскрикнула от неожиданности.
– Вы стали как Дед Мороз, Надюша, – рассмеялся Шелестов.
Радистка, отряхиваясь, сказала:
– Ничего, я отомщу!
Быканыров поднялся, отошел от костра.
– Дело такое, – заметил он. – Они здесь были рано утром.
Шелестов посмотрел на часы.
– Ого… Четыре. Как же Ноговицын их не увидел? Хотя в такой чащобе разве увидишь! Нужно быть опытным таежником, чтобы здесь не заблудиться.
– А как вы узнали, дедушка, – поинтересовался Петренко, – что они были тут утром?
Старик встряхнул головой, посмотрел внимательно и цокнул языком:
– Годы, друг… Годы. Всю жизнь я провел в тайге. Родился здесь. Меня знает каждое деревцо, каждый кустик. Тайга – шибко большое дело. Тайгу надо узнавать душой, сердцем. У тайги много тайн, и не всем раскрывает она свои тайны. Тайгу надо полюбить, очень крепко полюбить.
– Мне кажется, я ее уже полюбил, – весело отозвался Петренко. – Нравится мне тайга. Чудесный край. А какая широта! Простору сколько, – и он раскинул руки.
– Хорошо, – похвалил Быканыров. – Ты полюбишь тайгу, и она тебя полюбит, и откроется тебе, и убережет тебя. Честному человеку хорошо в тайге, а худому – плохо. Худой человек обязательно пропадет в тайге. Совсем пропадет…
– Ну, пора ехать, – прервал Быканырова Шелестов.
Оленей вывели на след. Шелестов дал команду трогаться.
Под открытым небом
Надвигались сумерки. Крепчал мороз, и маленькими облачками от людей и оленей отрывался густой, сизый пар.
Шелестов считал, что уже пора останавливаться на ночевку, но место было неподходящее. След преступников вел наизволок по редколесью, где погуливал хотя и несильный, но при низкой температуре обжигающий ветерок.
Олени бежали уже не так весело, как днем. Они устали, и Шелестов их не понукал.
«Мои устали, а у меня два самых сильных, самых выносливых быка, – рассуждал майор. – Значит, остальные и подавно устали».
Шелестов решил устроить первую ночевку в затишье, среди густой тайги, но удобного места, по его мнению, еще не было.
Когда нарты въехали в распадок, густо поросший тальником, майор остановил оленей, и все подумали, что здесь и будет привал, но внезапно Шелестов потянулся к автомату.
Все насторожились. И лишь когда впереди с шуршащим звуком поднялся табун белых куропаток, стало ясно, какая дичь привлекла внимание майора.
– А я вообще не понимаю, как можно отличить от снега белую куропатку? – спросил Петренко. – Как это вы заметили, товарищ майор? Я сколько ни смотрю, ничего не вижу, а если и вижу, то лишь когда куропатки поднимутся.
– Привыкнешь, глаз приучишь, все будешь видеть, – ответил Быканыров.
– Черные головки куропаток здорово видно. Снег белый, а они черные. И сидят они всегда головками против ветра, чтобы ветер перья им не лохматил. Птице ведь тоже холодно. А птица тоже ум имеет. Ты знаешь, как тетерев спит зимой?
– Понятия не имею, – признался Петренко. – Спит, наверное, как все спят, сядет поудобнее на ветку, глаза закроет и спит.
– О нет, – заметил старик. – Тетерев хитрый. Он сядет высоко на дерево, сложит крылья и бух вниз в снег. Как камень. Уйдет глубоко, пророет норку вбок и спит.
– Здорово, я этого не знал.
Раздалось повизгивание Таас Баса. Все оглянулись. Пес стоял в стороне, разгребал передними лапами снег. Шерсть на его плечах поднялась.
– Что такое? – спросил Шелестов. – Что он нашел там?
– Сейчас погляжу, – ответил Быканыров и направился к Таас Басу. И стоило ему подойти вплотную, как он сейчас же определил: – Однако прошел сохатый. Большой зверь. Совсем недавно прошел.
Подошли Шелестов и Петренко. Да, действительно, в заросли тальника уходили следы размером чуть не с глубокую тарелку.
– Вот, тальник кушал сохатый, – показал Быканыров на обглоданный тальник. – Вот еще кушал. Старый сохатый, зубы уже плохие. Старик.
Шелестов посмотрел на часы. Поздновато. С каким удовольствием он выследил бы короля тайги – сохатого! Разве есть лучшая награда настоящему охотнику, чем убить такого зверя?
– Товарищ майор… – вкрадчиво обратился Петренко к Шелестову.
– Что?
– Разрешите мне пробежаться.
Шелестов помолчал и потом сказал:
– Поздновато, дорогой.
– Я в один миг обернусь. На лыжах, а вы езжайте потихоньку. Честное слово, я мигом слетаю, а вдруг да наткнусь.
– Наткнешься, выцеливай под сердце, а то уйдет. Крепкий зверь сохатый, а этот больше лошади, – вмешался Быканыров.
Шелестов раздумывал. Он опасался, что горячий по натуре лейтенант увлечется погоней, и след сохатого заведет его куда-нибудь.
А Петренко умолял:
– Товарищ майор, ведь скоро привал делать будем. Я по своему же следу и вернусь. Вернусь и доложу, что сохатый готов, испекся. Честное слово.
«А в общем, ничего страшного нет, – подумал между тем Шелестов. – Мы все равно сейчас должны сделать привал».
Петренко смотрел на Шелестова просящими глазами, а тот все еще колебался.
На подмогу пришел Быканыров.
– Зачем думаешь? Пусти лейтенанта. Пусть пробежится.
– Ладно, – сказал майор. – Только строго с одним условием: через полчаса не увидите сохатого – обратно.
– Есть, через полчаса обратно.
Петренко быстро снял с нарт лыжи и палки, опустил голенища торбазов, достал из сумки обмотки и перемотал икры, чтобы они не ослабли, поднял голенища, поправил ремень винтовки, встал на лыжи и с места пошел крупным шагом.
Он выбежал из распадка на пригорок и размашисто пошел дальше.
– Однако, шибко бежит, – одобрил Быканыров и поцокал языком.
– Да, лыжник из него первоклассный, – согласился Шелестов, провожая глазами удаляющуюся и уменьшающуюся фигуру молодого офицера.
– А не заведет его сохатый в дебри? – высказала опасение Эверстова.
– Я ему установил срок, – коротко ответил Шелестов.
Петренко оказался точным. Едва успели Шелестов, Быканыров и Эверстова распрячь оленей на месте, избранном для привала, как лейтенант оказался тут как тут.
Он бросил на снег большого черного глухаря, рассмеялся и сказал:
– Вот вам и сохатый! Ровно на тридцатой минуте смотрю, сидит царь-птица, а сохатого нет. Ну, думаю, чем пустым возвращаться, сшибу его, и сшиб.
– Вот как! – заметил Быканыров. – Однако у лейтенанта глаз хороший.
– Не спорю, не спорю… – согласился Шелестов.
Таас Бас осторожно обнюхал убитую птицу. У собаки была такая поза, будто глухарь сейчас взлетит и бросится на нее.
Быканыров поднял глухаря, пощупал.
– Мало-мало суховат, старик птица.
– Ничего, – сказала Эверстова. – На огоньке он помолодеет.
– Ну, за работу, товарищи, а то темнота наваливается, – подал команду Шелестов. – Силы распределим так: за тобой, отец, – обратился он к Быканырову, – дрова и костер. Я с лейтенантом буду разбивать палатку, а Надюша позаботится об обеде.
Эверстова рассмеялась.
– Что вы, какой обед, Роман Лукич, на ночь глядя. Скорее ужин.
– Надо совместить и то и другое, – предложил Петренко.
– Правильно, – одобрил Шелестов. – Принимайтесь за работу…
Из всех четырех одному лейтенанту Петренко предстояло впервые ночевать в тайге, на снегу, при чуть ли не пятидесятиградусном морозе. Он еще не представлял себе, как это будет, хотя много раз мечтал о такой возможности. Сейчас он больше всего опасался, чтобы кто-нибудь ненароком или умышленно не намекнул на то, что он новичок в тайге. Но каждый был занят своим делом.
Старый охотник отправился ломать сухостой. Эверстова копалась в мешках с продовольствием. Таас Бас, несмотря на большой перегон, не улегся, а рыскал вокруг стоянки, что-то вынюхивая, к чему-то прислушиваясь. Олени паслись. Они разгребали копытами снег, зарывались в него головами и щипали промерзший ягель.
Снегу тут было так много, что олени подчас почти полностью скрывались в нем, и были видны лишь их коротенькие подрагивающие комочки пушистых хвостиков.
Шелестов и Петренко саперными лопатами очистили от снега до самой земли квадратную площадку размером три на три метра.
– Вот тут мы и будем спать, – сказал Шелестов и, вооружившись топором, подошел к густой ветвистой елке. Он стукнул по стволу елки обухом и отпрянул. Ветви уронили нависи снега, иней и очистились.
– А теперь мы ее вот так, – продолжал майор, расчистил у подножья елки снег и начал сильными ударами рубить дерево под самый комель. Елка вздрогнула, издала звук, похожий на скорбный вздох, как бы задумалась на короткое мгновение, потом накренилась, скрипнула и с шумом рухнула на снег.
«Отжила свой век», – с грустью подумал Петренко. Ему всегда было грустно, когда рубили деревья.
Майор, ловко орудуя топором, обрубал у поверженной елки мохнатые ветки.
– Это будет наша постель. Вместо матрацев. И ничего лучшего не придумаешь.
Лапчатую хвою перенесли и уложили на очищенное от снега место. Образовался многослойный мягкий настил.
В центре квадрата поставили на землю круглую аккуратную небольшую железную печку. От нее вывели жестяную трубу. Там, где железо должно было соприкасаться с тканью палатки, майор закрепил широкий асбестовый поясок.
Потом Шелестов и Петренко сняли с нарт меховые спальные мешки и уложили на хвойном настиле.
– А теперь все это накроем, и делу конец, – сказал Шелестов. – Вам, надеюсь, приходилось ставить палатки, товарищ лейтенант?
– И не раз, товарищ майор.
– Ну и отлично. Так, значит, ваше имя Григорий?
– Да, вообще-то Григорий, а на родине звали Грицько.
– Грицько – это хорошо звучит. Грицько… Петрусь… Василь.
– Это по-украински.
– Ну что ж, Грицько. Тащите сюда палатку, а то мы запаздываем. Видите, товарищ Быканыров уже развел огонь.
Палатка из плотного полотна закрыла целиком расчищенное и застланное хвоей место. Майор вбил наискосок в мерзлую землю четыре кола, закрепил растяжки, вывел в специальное отверстие конец трубы.
– Вот и все, готово, – сказал Шелестов, поправляя полог палатки. – Да и пора.
В небе уже высыпали звезды.
Старик Быканыров поставил по обе стороны костра рогатины и положил на них жердь. На жердь он водрузил котел и широкодонный чайник, туго набитый снегом.
Шелестов и Петренко подошли к костру. Жадное пламя уже вскидывалось вверх, освещая все вблизи, и звезды на небе как бы погасли.
Эверстова отсчитывала из мешка промерзшие и гремящие, как орехи, пельмени. Глухарь, подстреленный Петренко, лежал уже ощипанный и выпотрошенный.
Быканыров закрепил глухаря на вертеле и подвесил над огнем.
Петренко полез в самую чащу тайги, погружаясь почти по пояс в снег.
Возвратился он с большой охапкой сухих дров, которые снес в палатку. Этого количества топлива показалось ему мало, и он решил принести еще. А когда вернулся вторично, из трубы уже вился дымок.
– А что будет, если я обложу палатку снаружи снегом? – спросил Петренко.
– Однако теплее будет, – ответил Быканыров.
Лейтенант схватил лопату, принялся за работу и через несколько минут осуществил свой замысел.
Быканыров в это время оттащил в сторону нарты и поставил их по порядку на выход.
Надя повернула вертел, на котором румянился и исходил соком глухарь.
Огонь костра темнил все вокруг. Чем ярче полыхал огонь, тем, казалось, ближе придвигалась к костру ночь и обступала сидящих вокруг четырех людей. И одновременно все выше и выше поднимался черный купол неба.
Огонь лизал, жадно обгладывал сухие поленья, зло шипел, пофыркивал, с треском выбрасывая из костра снопы искр.
– Сосна горит. Ишь, какую искру дает, – заметил Шелестов, покуривая папиросу.
– Береза, однако, лучше сосны. От березы тепла больше, а дыму совсем нет, – сказал Быканыров.
– А вот дуб, тот совсем как уголь горит. Жаль, что в тайге не растет дуб, – вставил Петренко.
Таас Бас уже окончил обход местности и лежал сейчас поодаль от костра, положив большую голову на свои мощные лапы. Его глаза на свету казались зелеными светящимися точками.
Костер разгорался все ярче, все жарче, как бы вызывая на поединок лютую стужу. Но понадобилось бы очень и очень много огня, чтобы хотя на полградуса сбавить леденящий душу мороз. Он отступил лишь на какие-нибудь метр-два от костра, а дальше обжигал с неменьшей силой, чем и огонь.
Белым атласом отливали стволы близко стоящих берез. На маленькой елке таял снег от жары и падал невидимыми каплями.
– Где сейчас Белолюбский? – сказал как бы самому себе Быканыров.
– Наверное, как и мы, ужинать собирается, – ответила ему Эверстова.
– А может, бегут без оглядки, – резонно предположил Петренко.
– Они ведь тоже на оленях, – возразила Эверстова, – а оленю через каждые два-три часа нужен отдых. Да и поесть олени должны.
– Верно, – сказал Быканыров. – Правильно говоришь. Нарты вперед оленя и без оленя не побегут.
Помолчали. Потом заговорил Шелестов.
– А глухие здесь места. Кажется, тут никогда нога человеческая не ступала.
Быканыров покачал головой.
– Э, Роман Лукич, ступали тут ноги разных людей, и худых и хороших. В восемнадцатом году в этих местах таилась банда Красильникова-Гордеева. Таилась тут, а нападала на села, стойбища, издевалась над советскими людьми. А нам, партизанам, пощады никакой не было. Летом так делали: словят человека в тайге, разденут догола, привяжут к дереву и бросят. И пропал человек. Совсем пропал. Гнус облепит его сплошь, и через час-два высосет всю кровь. Кровинки не останется. А зимой по-другому. Поймают, разденут, свяжут, воткнут в снег и водой обольют. А ведь мороз стоит, большой мороз. Такой мороз, что птица летит и падает. Потом мы побили всех бандитов.
Старик умолк, перебирая в памяти тяжелое прошлое и посасывая свою короткую трубку.
– Вы партизаном были, дедушка? – заговорил лейтенант Петренко. – Расскажите нам, как вы дрались с врагами советской власти. Это очень интересно.
Быканыров молчал и кивал головой.
– Правда, расскажите, – попросила и Эверстова. – Мне папа рассказывал что-то про генерала Пепеляева, но я тогда маленькой была, не помню уже. А когда стала больше, папа умер.
Старый охотник посмотрел на Эверстову добрыми глазами и спросил:
– Когда умер отец?
– В тридцать восьмом году. Мне было тогда тринадцать лет. Отец у меня был русский, а мать якутка. Отца выслали в Якутию в шестнадцатом году за участие в революционном движении. Он жил в Туле и работал на оружейном заводе. А здесь участвовал в Гражданской войне. И с генералом Пепеляевым дрался.
– Я тоже помню генерала Пепеляева, – сказал Быканыров. – Я тоже бился против него.
Петренко и Эверстова стали упрашивать старика, чтобы он рассказал про генерала Пепеляева, их поддержал и Шелестов.
– Расскажи, отец, расскажи. Это полезно знать не только им, молодым, но и мне.
Быканыров согласился и рассказал вот что.
Японские империалисты давно зарились на советскую землю и давно вынашивали мечту стать хозяевами Дальнего Востока, Сибири, Якутии. И вот, в тысяча девятьсот двадцать втором году они подготовили к высадке на территории Советского Союза экспедицию, возглавляемую белогвардейским генералом Пепеляевым. Сформировали отряд, около тысячи человек, состоявший в основном из офицеров. Отряд снабдили всеми видами вооружения и Охотским морем доставили до советского порта Аян. Там отряд высадился и направился в глубь Якутии. Он шел по глухим местам, тайгой, где не было войсковых частей, не встречая сопротивления, предавая огню редкие населенные пункты, истребляя всех сторонников советской власти. Перед Пепеляевым стояла задача захватить Якутск, свергнуть народную власть и укрепиться там.
По пути к Якутску к отряду генерала Пепеляева примыкали кулаки, остатки разгромленных банд, уголовники, и отряд все рос и рос. К зиме он дошел до районного центра – поселка Амга, от которого оставалось два-три перехода до Якутска.
Над Якутском нависла большая угроза. В Якутске не ждали врага. Якутск не располагал воинскими частями. Но надо было спасать положение.
– Я был тогда в Якутске, – продолжал Быканыров. – Коммунисты собрали отряд сотни в три человек и послали навстречу генералу. И я попал в тот отряд. Добровольно пошел. Отряд наш из Якутска добрался до деревни Петропавловской на лошадях, а оттуда пешком пошли на Амгу. Холодно, с едой совсем плохо, оружие больше охотничье. Пять дней мы шагали, но до Амги не дошли. Послал нам навстречу Пепеляев своего помощника генерала Вишневского. И начали мы с ним драться. Трудно было. В землю не спрячешься, земля как железо. Убьют товарища, мы за него прячемся и стреляем. Бился генерал, бился, а не одолел, однако, нас. Осталась нас сотня, а все бьемся. И не пустили белых в Якутск. Потом пришла подмога, и разбили мы пепеляевцев. А на другой год и самого генерала Пепеляева изловили.
Быканыров умолк и посасывал уже потухшую трубку. Немного погодя он грустно добавил:
– Однако плохо я рассказал. Много можно говорить, а не умею.
– И так все ясно, отец, – приободрил его Шелестов. – Важно, что ты сам все пережил, испытал все тяготы тех лет и вот сидишь с нами и рассказываешь.
– Да, правильно, – согласился старик. – Я и Пепеляева самого видел.
– А нас тогда еще и на свете не было, – сказала Эверстова.
Пока шла беседа, Надя осторожно запускала в котелок пельмени, они быстро закипели, дошел и глухарь.
– Ну, давайте кушать да отдыхать, – объявил, вставая, Шелестов. – Есть будем в палатке. Заносите все туда.
В палатке было просторно, тепло и светло от раскалившейся печи. Все сняли шапки и кухлянки.
Расселись по правую сторону от входа. Эверстова поставила посередине котел с пельменями и раздала ложки.
Шелестов, прежде чем приступить к еде, подмигнул Эверстовой, и та без пояснений поняла команду. Она достала из мешка алюминиевый бидон с узким горлышком и начала разливать по эмалированным кружкам спирт.
– Сегодня можно двойную порцию. Условия, приближенные к фронтовым, – сказал Шелестов.
Быканыров крякнул, потирая руки.
Эверстова наделила мужчин двойной порцией, а себе налила два-три глотка, да и те разбавила водой.
Все подняли кружки, и Петренко пошутил:
– Сто грамм за дам.
– За одну даму, – поправил Шелестов.
Шелестов сразу глотнул все, одним глотком. Петренко хотел последовать его примеру, но поперхнулся, закашлялся. Быканыров отпивал свою долю маленькими глотками, будто пил горячий чай, и после каждого глотка причмокивал. Эверстова еле одолела свою порцию и даже прослезилась.
– Спирт надо умеючи пить, – сказал Шелестов, принимаясь за пельмени.
– И надо знать, когда пить.
– Как это понимать? – спросил Петренко.
– А так, – продолжал Шелестов. – Вот сейчас, после дороги, перед едой, перед отдыхом это даже полезно, а вот в дорогу – нельзя. Ведь ясно, что спирт не только возбуждает, придает аппетит, но еще и притупляет чувствительность. Хватишь на дорогу, и, кажется, мороз тебе нипочем, и в сон клонит, смотришь, и заснул, когда не надо, а то и отморозил что-нибудь. Недаром же есть поговорка: пьяному и море по колено…
– Правду говоришь, – сказал Быканыров. – В дорогу идешь – нельзя пить. Спирт уйдет – совсем холодно станет.
После пельменей дошла очередь до глухаря, Эверстова еле-еле разломала его на куски.
– Ну и птичка, – усмехнулась она.
– Что птичка? Хорошая птичка, – заметил Петренко, взяв себе кусок.
Шелестов тоже выбрал кусок, попробовал его зубами и положил на место, мотнув головой.
– Совсем старая птица. Сто лет ей. Не по моим зубам, – разглядывая глухаря, проговорил Быканыров.
– Выражаясь словами одного из героев Дюма, можно сказать: я уважаю старость, очень уважаю, но только не в жареном виде, – сказала Эверстова.
Раздался дружный смех.
– Придется твоего «сохатого», Грицько, отдать на съедение Таас Басу, – предложил Шелестов.
Из-под полога высунулась голова Таас Баса. Он посмотрел своими преданными глазами на людей и тут же лег. Его глаза как бы говорили: правильно, зачем вам мучиться? Давайте старого глухаря мне. Мои зубы с ним справятся.
Эверстова собрала куски и бросила их собаке.
Потом пили густо настоенный, почти черный чай и разговаривали на разные темы. Так Петренко узнал, что Эверстова была на его «ридной» Украине.
– В начале сорок четвертого года я была в Полтаве, училась на курсах радистов, все надеялась попасть на фронт, да так и не успела, – рассказала Эверстова. – А то, может быть, встретилась бы где-нибудь с Романом Лукичом.
Тот улыбнулся одними глазами.
– Вот уж на фронте мы никак бы не встретились.
– Почему? – задал вопрос Петренко.
– Я был по ту сторону фронта.
– В тылу у немцев?
– Да.
Петренко шумно вздохнул и сказал, обращаясь впервые к майору по имени и отчеству:
– Ну, вам, Роман Лукич, есть о чем рассказать. Это ведь не шутка – в тылу врага.
– Да, бывало всякое, – уклончиво ответил майор. Он вообще не любил много говорить, а тем более не любил говорить о себе. – Когда-нибудь, в другое время поговорим. Сейчас же я предлагаю отдыхать.
– А дежурить по очереди не будем? – поинтересовалась Эверстова.
– Не будем, – ответил Шелестов. – Имея такого сторожа, как Таас Бас, можно спать спокойно. Как, отец? – обратился он к Быканырову.
– Точно, Роман Лукич. Он за версту чужого учует…
Вскоре в палатке стояла тишина.
* * *
Проснувшись утром и высунув голову из спального мешка, Эверстова увидела майора. Он сидел по-восточному, подобрав под себя ноги, перед маленьким кусочком зеркала, прикрепленным к шесту, и брился.
Печь уже горела, и в палатке было тепло.
Эверстова обвела взглядом палатку и убедилась, что спальные мешки Быканырова и Петренко пусты.
«Здорово! – подумала Эверстова. – Оказывается, одна я всех переспала!»
Но рассвет едва-едва занимался.
Эверстова вылезла из мешка.
– Доброе утро, Надюша! – приветствовал Эверстову Шелестов, не поворачивая головы, и продолжал усердно водить бритвой по щеке.
– Доброе утро, Роман Лукич! Проспала я?
– Пока еще нет. Официально подъема не было.
– А вы знаете, как чудесно спалось. Я уже давно так не спала.
– Вы… – раздался снаружи голос Петренко. – Вы северянка, а что сказать мне, южанину? Я еще никогда не испытывал такого удовольствия. И если бы кто-нибудь сказал мне год, полгода тому назад, что можно так хорошо спать на таком морозе, в тайге, я бы ни за что не поверил.
Эверстова откинула полог палатки, сделала шаг и ахнула.
Лейтенант, оголенный по пояс, набирал пригоршнями снег и натирал им лицо, руки, плечи, грудь.
– Это же безумие! – вскрикнула Эверстова. – Роман Лукич! Посмотрите, что он делает.
– Знаю, видел… Ничего страшного, – отозвался Шелестов.
– Закалка, Надюша. Это большое дело – закалка, – повернувшись к Эверстовой, сказал Петренко. – Вы простите, что я вас называю по имени.
– Это не страшно и не опасно, а вот вы можете легкие простудить.
– Ерунда, – уверенно ответил Петренко, забежав в палатку. – Теперь я разотру тело вот этим мохнатым полотенцем, и все. Я всегда зимой снегом натираюсь, а когда нет снега, обливаюсь холодной водой.
Под смуглой, блестящей кожей лейтенанта перекатывались крепкие мышцы.
– Все это хорошо, – продолжала Эверстова. – Но не надо забывать, что вы не на Украине, а в Якутии.
– Напрасно беспокоитесь, Надюша, – вмешался в разговор Шелестов. – Привычка – большое дело.
Эверстова покачала головой, вошла в палатку и посмотрела на свои часы.
– У меня сейчас сеанс с Якутском.
Шелестов окончил бритье.
– Ладно, – сказал он. – Работайте, а мы с лейтенантом приготовим завтрак…
Якутск передал, что Белолюбский на Джугджуре неизвестен, что инженер Кочнев не покончил с собой, а убит, и что убийц надо найти и задержать во что бы то ни стало.
Шелестов прочел радиограмму и покачал головой.
«Значит, экспертиза подтвердила мой вывод, – подумал он. – Конечно, убит, и задержать преступников надо при всех обстоятельствах».
Завтрак, состоявший из нарезанной крупными ломтями колбасы, сливочного масла, пшенной каши из концентрата и чая, был готов, но все ждали возвращения Быканырова, который, встав раньше всех, ушел на лыжах, заявив майору, что хочет «мало-мало погулять».
Вернулся охотник, когда уже рассвело.
– Ну как, следопыт? – встретил его вопросом майор Шелестов.
Быканыров не торопился с ответом. Он развязал шарф, опустился на корточки, набил трубку табаком, распалил ее и лишь тогда заговорил:
– Вперед ходил, по следу… Когда едешь – одно, а когда идешь – другое дело. Однако я правильно думаю: с Белолюбским бежит тот, который был у моего дома.
– Из чего ты заключил? Садись, ешь, – сказал Шелестов.
– Холодно. Они едут-едут, а потом то один, то другой сойдут с нарт и бегут рядом. Греются. И у одного ноги разные. Видать, хромает. И тот хромал.
– И вы в темноте увидели? – усомнился Петренко.
– Увидел, – коротко бросил старик и принялся за еду.
– Я не пойму, отец, что тебе дает это открытие? – пожав плечами, сказал Шелестов. – Тот это или не тот, не вижу в этом разницы.
Быканыров, занятый едой, промолчал.
Враг путает следы
С раннего утра с севера подул слабенький и в другое время года почти неощутимый ветерок. Но сейчас, когда температура опустилась за сорок градусов, этот «ветерок» палил и обжигал до боли. Он дул немного слева, сбоку, и когда Шелестов и его друзья преодолевали открытые места, то ветер безжалостно выдувал из одежды остатки тепла, заставлял делать движения, допустимые при сидячем положении.
Стоило на какие-то секунды снять рукавицу, как пальцы рук обжигало точно огнем. Мороз пробирал основательно, «до самых костей», сковывал тело, ноги людей, неподвижно сидящих на нартах, и потому все изредка сходили с нарт и делали пробежки.
След преступников по-прежнему то уходил в тайгу, то выбирался на открытые места, а потом привел к широкой замерзшей реке. Ее можно было угадать по одному крутому берегу и по заснеженным торосам, которыми она ощетинилась.
По неподвижной, взъерошенной, точно шерсть вырвавшегося из драки медведя, поверхности реки, можно было судить о единоборстве, поединке двух стихий: воды и мороза, происшедшем в начале зимы. Вода, видно, долго боролась, сопротивлялась, а мороз наседал и одолевал. Наконец, река, обессиленная, замерла, притихла, накрепко скованная морозом. Он покрыл ее толстой и прочной коркой льда, от берега до берега. Но подо льдом, если прислушаться, кипела, сердито бурлила и глухо рокотала неуемная вода. И в этом рокоте можно было распознать угрозу: «Подожди, придет и мой черед, пусть только пригреет весеннее солнце, пусть только придут ко мне талые воды, прибавят мне сил, и я покажу тебе, мороз, какова я. Я сброшу с себя прочь твой ледяной панцирь и опять побегу свободно…»
След преступников повел по отлогому берегу реки, забежал в ее излучину, а потом вдруг забрал в сторону, на восток.
Не хотелось останавливаться, не хотелось терять времени, не особенно приятно было снимать рукавицы и на таком холоде доставать карту и компас, но другого выхода не было.
«Черт бы побрал этого Белолюбского, – подумал про себя майор. – Чего его тянет в сторону?»
Шелестов извлек из планшетки карту, снял с правой руки спиртовой компас и через несколько минут убедился, что беглецы изменили направление своего движения. Если раньше они мчались строго на северо-восток, то теперь неожиданно повернули на восток.
– Н-да… Непонятно, что они затевают, – высказал вслух свои мысли Шелестов. – Или хотят пробиться к чукчам, или к корякам…
– У них путь один, – вставил Быканыров. – И у нас путь один.
Все поправили шарфы, повязали их повыше, потуже, закрыв рот, нос и оставив только узенькие щелки для глаз.
Из-за отрогов сливавшегося с горизонтом далекого горного хребта поднялось бессильное, напоминающее сейчас рефлектор, солнце. Оно светило ярко, невольно заставляя опускать веки, но совсем не грело. В его косых лучах клубились мириады мельчайших, точно пылинки, хрусталиков.
Все сели на свои места. Шелестов тронул переднюю упряжку. Помчались олени, заскрипели полозья нарт. И опять началась погоня.
А след преступников забирал все правее и правее, наводя на бесплодные размышления Шелестова и его друзей. И в самом деле, что заставило беглецов изменить направление? Препятствий, если глядеть на северо-восток, никаких не было. Река не могла служить препятствием, а широкая долина ее, покрытая ровным слоем снега, представляла даже удобство, в сравнении с тайгой и самой рекой. В чем же дело?
«Значит, они что-то затевают, – рассуждал про себя Шелестов. – А что именно, при всем желании понять пока трудно».
Думал об этом и лейтенант Петренко.
«Остается только преследовать, – размышлял он. – Стараться побыстрее сократить расстояние и поскорее нагнать их. Никакая выдумка, смекалка, находчивость здесь ни при чем. Не помогут. Да и что придумаешь? Ничего».
И старый охотник Быканыров был занят мыслями.
«Однако хуже нет ожидать или догонять, – думал он. – Можно разъехаться в разные стороны, но что толку от этого?»
Да, толку в этом никакого не было. И маловероятна была возможность, бросившись в разных направлениях, перерезать вдруг путь беглецам. Перед глазами бежал единственный след, он забирал все правее, он мог и дальше забирать правее, но мог неожиданно свернуть и в противоположную сторону.
Шелестов все понукал и понукал оленей, наращивая темп бега.
А незадолго до полудня, преодолев крутогор и быстро спустившись вниз, упряжка Шелестова уперлась в свежий след, оставленный нартами. Шелестов остановил оленей, огляделся, всмотрелся, и ему стало ясно. Да и не только ему, а и другим стало ясно, что они уже были тут раз.
– Это же та самая излучина реки! – звонко крикнула Эверстова.
– Да, правильно, – подтвердил Шелестов.
– Вот так штука! Что же это означает? – заинтересовался Петренко.
– Путают, однако, следы. Сбить нас хотят со следа, – сказал Быканыров.
– Вы сидите, товарищи, – распорядился майор, – а я осмотрю все хорошенько. Что мы здесь уже были, – сомнений нет. Здесь я вынимал карту, сверялся с компасом. Вон мои следы. Сидите, не сходите с нарт.
Майор встал на нартах во весь рост и начал осматриваться. Потом достал опять карту, компас, повернулся лицом строго на северо-восток.
Впереди, в прозрачной морозной дымке тонули едва угадываемые глазом и меняющие свои контуры отроги хребта. Направо, откуда Шелестов и его спутники только что съехали, поднимался берег реки, местами оголенный, местами поросший низким кустарником, редколесьем. На самом крутогоре виднелась группа берез, тесно прижавшихся друг к другу, окруженная зарослями тальника. Налево размахнулась бескрайняя тайга, то зеленая, то буро-зеленая, то, наконец, черная. Тайга была и позади, где делали привал и ночевку Шелестов и его товарищи.
По виду майора, по его неторопливым движениям, по пытливым взглядам, которые он бросал то в одну, то в другую сторону, трудно было определить его мысли.
По виду он, как всегда, был спокоен и немного суров. Но так только казалось. Майора озадачил ход преступников, и он упорно старался разгадать, что они затевают. Он волновался.
«Какой в этом смысл? – спрашивал он сам себя. – Ведь они сделали круг, пересекли свой собственный и наш след и теперь уже подались на запад. Значит, обратно, назад? Зачем? Для чего тогда было тратить время понапрасну?»
– И они тут не оставили следов, не сходили с нарт. Замечаешь, Роман Лукич? – сказал Быканыров, прервав размышления Шелестова.
– Давно заметил, – отозвался тот. – Потому-то я и сказал вам не сходить с нарт.
– Значит, рассчитывают обмануть нас, – произнес Петренко.
– Одного можно обмануть, – заметил Быканыров, – двоих трудно, троих еще труднее, а четверых шибко трудновато. Однако придется ехать и нам за ними. Опять в тайгу.
– Другого выхода нет. У них одни нарты, и на запад пошел только нартовый след, – высказал свое мнение Петренко.
– А как еще могло быть? – спросила Эверстова.
– Могло быть и так, – объяснил лейтенант, – что один поехал на нартах на запад, а другой на лыжах, или верхом на олене подался в другую сторону.
«Мысль правильная», – подумал Шелестов и решил, что одному, пожалуй, придется сойти с нарт и осмотреть следы.
– Отец, – обратился майор к старому другу. – Посмотри-ка следы. Может быть, и вправду они разъединились. Только осторожно.
– Понимаю, – коротко ответил Быканыров. Он, не сходя с нарт, снял лыжи, поставил их в колею от полозьев нарт, потом встал на лыжи и пошел вперед. Он прошел сначала на запад, куда вел новый след, постоял там несколько минут, затем вернулся, прошел на северо-восток. Там тоже задержался, осматривая следы оленей и нарт. Обостренное чутье и зрение старого охотника позволили ему по каким-то ускользающим, не дающимся другому глазу признакам определить, что оба преступника поехали на нартах на запад. – Они вместе поехали, – сказал он вернувшись.
Шелестов подумал:
«День уже наполовину прошел, надо торопиться», – и возобновил погоню.
* * *
Когда негреющее солнце уже погружалось в густую вечернюю дымку, оказалось, что Шелестов со своими друзьями сделал еще один круг, еще раз пересек и старый след преступников и свой собственный где-то на юго-востоке и оказался на том же месте, где был в полдень, у той же излучины реки.
Остановились. Надо было дать отдых оленям.
– Да они хотят, однако, сбить нас со следа, – сказал Быканыров.
«Теперь это уже очевидно, – подумал майор. – Они сделали два круга, полную восьмерку, и, конечно, умышленно».
– Они проверили и убедились, что за ними погоня, – заметил Петренко.
Шелестов протирал рукой слипшиеся от мороза веки. Последние три-четыре километра он ехал, как принято говорить, с ветерком. Оторочки его шапки, кухлянки покрывал густой слой инея.
«Вот тут я утром ориентировался с картой и компасом, – думал Шелестов, еще не покидая нарт. – Вон та самая группа берез, окруженная тальником, вон видна верхушка елки, занесенной снегом. И теперь надо узнать, где же они, в каком направлении поехали?»
Преступники поставили перед ними трудную задачу. Сейчас с перекрестка уходили три направления с готовым следом. По-прежнему на северо-восток, вдоль берега реки, на восток, через взгорок и, наконец, на запад.
Все сидели с озабоченными лицами. Шелестов не подавал команды сходить с нарт, хотя в этом уже ощущалась явная потребность: мороз делал свое дело и, как обычно, крепчал к вечеру. Надо было походить, размять застывшие члены.
Наконец Шелестов разрешил сойти с нарт, и все направились к нему, стараясь идти по уже пробитой колее, не оставляя новых следов.
Надо было посоветоваться, обменяться мнениями.
Шелестов, щуря глаза и хмуря брови, свесил ноги на одну сторону с нарт и сказал:
– Ну и ну! Шутка сказать! Через этот перекресток за день прошло по два раза пять нарт и тринадцать оленей. Попробуй-ка, разберись в этом нагромождении.
Даже Быканыров стоял, явно озадаченный, Петренко и Эверстова молча смотрели на Шелестова.
– Видите, что получается, – продолжал майор. Он вычертил пальцем на снегу против себя восьмерку, обозначил начальными буквами стороны света и заговорил опять. – Попробуем исключить маловероятное. На юго-восток они не могли поехать, так как мы приехали оттуда. Они бы столкнулись с нами. Это ясно. Это направление наверняка отпадает. Ехать вторично на запад, то-есть назад, им, по-моему, нет никакого смысла. – Майор помолчал, подумал и продолжал: – Таким образом, для них остаются два направления: на восток и на северо-восток. Иной возможности я не вижу. Но куда именно они поехали, вот в чем задача?
– А не вздумают ли они еще раз описать одну из двух петель? – высказал предположение Петренко.
Шелестов поднял голову, посмотрел на лейтенанта и как бы про себя заметил:
– Одну из двух петель… Одну из двух… А какую же?
– Да любую…
Шелестов опустил голову и полез в карман за папиросами.
– Это очень рискованно и опасно для них самих, – сказал он после небольшой паузы. – Представьте себя на их месте. Они, попав вот сюда, тоже, очевидно, думали, в каком направлении податься, и не исключали возможности встретиться с нами.
– Да, пожалуй, – согласился Петренко.
– Назад они не побегут, – твердо заявил Быканыров. – Они, однако, обмануть нас хотели, и теперь пойдут вперед.
– Вперед-то вперед, но куда именно? – спросил Шелестов. – На северо-восток – вперед, на восток – тоже вперед.
Быканыров пожал плечами.
В разговор вмешалась Эверстова.
– А Таас Бас не нанюхает, куда они поехали?
Шелестов посмотрел на Быканырова, а тот, в свою очередь, на Таас Баса. Пес лежал на самом перекрестке, высоко держа остроухую голову, и, услышав свою кличку, встал на ноги.
– Шибко трудно, – ответил Быканыров. – Много следов. Он бы и сам учуял, а то спокоен.
– Но попробовать же можно? – сказал Петренко.
Быканыров закивал головой и подал собаке команду по-якутски, что в переводе означало: «Ищи, Таас Бас… чужой… ищи!»
Пес сорвался с места, энергично забегал, заметался, принюхиваясь к следам, обнюхал все четыре направления и, подбежав к Быканырову, сел против него, заглядывая в глаза хозяина. Он склонял голову то вправо, то влево, и вид у него был какой-то растерянный, виноватый.
– Прав, отец, – сказал Шелестов. – В такой путанице и Таас Бас не разберется…
А сумерки сгущались, густела морозная дымка. Уже исчезли в ней отчетливо видимые днем отроги хребта.
Олени перебирали ногами, как бы выказывая этим свое нетерпение.
Шелестов сидел несколько минут молча, потом встал и сказал:
– Мы должны исключить всякую возможность для преступников улизнуть от нас. И гадать, куда они поехали, не будем. Мы постараемся обеспечить все направления. И придется сделать так: ты, отец, – обратился он к Быканырову, – останешься здесь, у перекрестка. Спрячешься и будешь наблюдать. Если они решили еще раз сделать петлю, то им не миновать перекрестка. Понял меня?
– Правильно. Понял.
– Перед тобой будет стоять задача узнать, какое они направление изберут, если вновь появятся здесь. Но они тебя не должны видеть. Ни в коем случае. Ты должен остаться для них незамеченным. Упрячешься в тальник, вон под теми березами, и будешь ожидать. Мы оставим тебе двое нарт. Увидишь, – пропусти, ни окрика, ни выстрела, ничего. Выжди, пока они удалятся, и тогда езжай на одних нартах по их следу. Вторые нарты оставь здесь. Пусть олени отдохнут. Они нам нужны будут. Вон на той, самой большой, березе сделай зарубку, чтобы мы знали, куда ты поехал. Острием вверх – значит на северо-восток, острием направо – значит на восток. Ты меня понимаешь и знаешь, как это сделать.
– Понимаю, Роман Лукич, – ответил Быканыров. – А вы как же?
– Мы? – переспросил Шелестов. – Мы вот так: я поеду на северо-восток, а Петренко и Эверстова на восток.
– Ага, мудро… – одобрил Быканыров.
– Ясно, – сказал Петренко.
– Но еще раз запомни, – предупреждал майор старого друга. – Ты один, а их двое, и как они сейчас вооружены – неизвестно. Значит, драки не затевай. В драке можно кого-нибудь из двух подстрелить насмерть, а это не входит в нашу задачу. Мы должны схватить их обоих живыми. Ты должен высмотреть, куда они поедут, и последовать за ними. А мы тебя догоним.
– А если они здесь не появятся? – задала законный вопрос Эверстова.
– Тогда, отец, ожидай кого-нибудь из нас, – ответил майор.
– Однако, возьми с собой Таас Баса, – предложил старый охотник.
– Зачем же?
– Э-э! Слушай меня. Таас Бас найдет меня, где хочешь. И посылать ко мне никого не надо. Сам найдет. А с ним я и вас найду.
Майор согласился и сказал:
– Приступаем к делу.
Двое нарт с оленями отвели на взгорок, направо от излучины реки, в самые заросли тальника. Быканыров сел в засаду у берез. Они стояли метрах в двадцати от перекрестка. С места засады перекресток был виден как на ладони. Старик снял с нарт спальный мешок, влез в него по самую грудь и сказал:
– Теперь меня и мороз не возьмет.
– А мы вам и свои мешки оставим, – предложила Эверстова. – Зачем они нам в дороге? Лишний груз.
– Тоже верно, Надюша. Ночевать мы не собираемся, – сказал майор.
Три спальных мешка: Шелестова, Петренко и Эверстовой, постелили один на один, и получился большой меховой матрац.
– Совсем ладно, – одобрил Быканыров, кладя сбоку от себя двустволку.
Шелестов подумал и сказал:
– Вообще все вещи с наших нарт правильнее оставить здесь. И палатку, и печь, и мешки с продуктами. Оставим при себе только заплечные мешки. А ну, быстро, все сюда!
Через несколько минут весь груз с двух нарт перенесли на место засады Быканырова.
– Очень ладно, очень ладно, – сидя в мешке и попыхивая дымком, сказал Быканыров. – Совсем легко будут бежать ваши олени.
Уходя с места засады, Шелестов, Петренко и Эверстова меховыми рукавицами выровняли снег и замели следы, ведшие от перекрестка до Быканырова.
Шелестов посмотрел в сторону, где остался Быканыров, и сказал:
– Отлично. Отсюда сейчас ничего не видно, а ночью и подавно. Ну а теперь, лейтенант, садитесь на свои нарты с Надюшей и езжайте на восток по следу. Дорога вам уже знакома. Я же поеду по следу на северо-восток. И запомните главное: мы должны встретиться на этой петле и не выйти из нее.
– А если они выйдут из петли и пойдут новой дорогой? – спросил Петренко.
– Безразлично, – твердо сказал Шелестов. – Сходимся на кругу и не выходим из него, даже если обнаружим новый след. Ясно?
– Ясно.
– Вот так. Если я наткнусь на новый след, буду ожидать вас, вы наткнетесь – ожидайте меня. Тогда решим, что делать. И еще учтите, – не загнать оленей. Через час-полтора делайте хотя бы десятиминутную остановку. Ну а если встретитесь с ними, руководствуйтесь одним. Вы слышали, что я сказал товарищу Быканырову, то же скажу и вам. Оба они должны быть схвачены живыми. Я затрудняюсь сейчас сказать вам, как это сделать. Трудно в таких случаях дать рецепт. Но потому я и посылаю вас двоих. Сообразуйтесь с обстановкой и помните, что эти типы не остановятся ни перед чем и в средствах не будут разбираться. Не горячитесь. Знайте, что в спину убивают и храбрых. Действуйте.
– Есть действовать! – отчеканил лейтенант Петренко и, пропустив вперед себя Эверстову, направился к своим нартам.
Шелестов тоже уже хотел садиться на нарты, но вспомнил про собаку.
– Таас Бас! Таас Бас! – окликнул он пса.
Но собаки не было видно.
– Таас Бас! – вновь позвал Шелестов и услышал голос Быканырова:
– Иди, иди, Таас Бас… Иди, так надо…
Псу, видно, непонятно было, зачем и почему он должен покидать своего хозяина, но он все же выполнил команду и подошел к майору.
Тот погладил собаку, достал из кармана кусочек сахару и дал Таас Басу. Сахар хрустнул на зубах у собаки. Она повиляла хвостом и посмотрела в сторону Петренко и Эверстовой, удаляющихся на нартах на восток.
– Со мной пойдем, Таас Бас, со мной, – заговорил майор, усаживаясь на нарты. – Мы же с тобой старые знакомые. Зачем терять дружбу? Э-гей!.. – крикнул он на оленей…
И перекресток опустел.
* * *
В холодном сиянии дрожащих звезд спала тайга. С черно-бархатного и, казалось, низкого-низкого неба падали едва ощутимые игольчатые пылинки инея.
Томительно и нудно текло время.
Быканыров сидел, притаившись, на нартах, всматривался, вслушивался, выжидая возможного появления врага, и боялся кашлянуть, закурить, выдать себя неосторожным движением.
Одиночество приучило Быканырова разговаривать с самим собой, но сейчас он воздержался и от этого. Он сидел молча, тихо, точно застыл, и только непрошеные грустные мысли приходили в голову. Вспомнилась жена, умершая два десятка лет назад, вспомнился сын, погибший от рук белобандитов. И старому охотнику думалось, что очень несправедлива судьба бывает к людям: молодые уходят из жизни, а старые остаются, живут.
Конечно, всем жить хочется, и старым, и молодым, но горько и обидно, что жена, которая была на десять лет моложе его, умерла раньше его. И сын тоже…
Быканыров чувствовал, как безжалостный, лютый мороз пробирается уже в спальный мешок, постепенно охватывает и холодит тело. Но он сидел по-прежнему неподвижно и невольно вздрагивал, когда похрапывали отдыхающие олени.
«Нет, сюда не вернется, однако, Белолюбский, – подумал старик. – Напрасно сижу тут».
Когда наваливалась сонная одурь, Быканыров резко встряхивался и устремлял глаза на перекресток. Так случилось и сейчас. Сон начал затуманивать мозг, и старик передернул плечами. Вдруг до его чуткого уха дошел невнятный шум. Точнее, это был звук, похожий на шорох. Быканыров знал, что разные звуки могут быть в тайге, знал и то, что в таком просторе некоторые звуки умирали, едва успев возникнуть. Но схваченный его ухом звук не пропадал, а слышался все явственнее в сторожкой, выжидательной тишине.
Быканыров напряженно всмотрелся вперед, откуда доносился шорох, и увидел человека. Одинокий человек приближался к перекрестку с запада, и легкий скрип издавали лыжи, на которых он шел. Теперь уже отчетливо на фоне снега была видна его фигура. Он двигался без палок, с опаской, изредка останавливаясь и всматриваясь в дорогу.
Человек шел с той стороны, откуда его меньше всего ожидали. Вот он опять остановился, присел на корточки, опять поднялся, пошел.
Расстояние между Быканыровым и неизвестным сокращалось.
И тут Быканыров отметил, что человек припадал на одну ногу.
«Тот, тот, – подумал старый охотник. – А почему один? Где второй? Где Белолюбский? Где олени, нарты?»
Напрягая зрение, он всматривался в медленно приближающуюся фигуру. Их разделяло теперь расстояние метров сорок, не более.
У человека не было ружья, и руки его были свободны. И потому, что человек шел не так, как обычно идут честные люди, а вслушивался, всматривался, опускался на корточки, рассматривал следы, останавливался, Быканыров решил, что перед ним сообщник Белолюбского, именно тот человек, который не зашел тогда в его избу, а возможно, и «Красноголовый».
Мысли зароились в голове Быканырова. Почему он в самом деле один? А может быть, майор или лейтенант задержали Белолюбского, а этот убежал?
«Не иначе так, – мелькнула мысль. – Да еще подранил кого-нибудь из наших. Подранил, а теперь не знает, куда идти. Боится показать новый след. А вдруг… – нет, Быканыров отбрасывал нехорошие мысли. – А что, если я его словлю? – задался вопросом старый охотник. – Шелестов, видать, словил Белолюбского, а я словлю этого. А что? Он один, ружья нет. Ой, хорошо будет! Спасибо скажет Роман Лукич».
Неизвестный дошел в это время почти до перекрестка и вновь остановился, как будто чуя, что его подстерегает какая-то опасность.
Быканыров уже не чувствовал холода. Наоборот, сейчас ему вдруг стало жарко, даже душно, и почему-то подрагивали руки. Он осторожно, не производя шума, выпростал ноги из спального мешка, подмял его под себя коленями. Потом взял в руки бескурковку.
Неизвестный присел, вглядываясь в следы.
«Ишь ты, тоже осматривает. Хочет знать, куда ушли наши, – подумал Быканыров и увидел, что человек вдруг неожиданно выпрямился. Надо подойти поближе к перекрестку. Пусть он увидит, что у меня есть ружье. Тогда он не побежит. Знает, что от пули далеко не уйдешь».
Человек постоял несколько секунд неподвижно и, будто убедившись, что опасности никакой нет, вновь опустился на корточки, продолжая всматриваться в следы.
«Так и сделаю», – решил Быканыров, и, пока неизвестный исследовал следы на снегу, он бесшумно поставил ноги на лыжи и, держа в одной руке ружье, другой раздвинул тальник и покатился вниз.
– Тохто! Тохто! – громко крикнул он, потрясая бескурковкой и приближаясь к перекрестку.
Человек быстро поднялся, увидел Быканырова с ружьем в руках, повернулся и бросился бежать в ту сторону, откуда пришел.
«Уйдет… Шибко бежит… Уйдет… – кольнула тревожная догадка старого охотника. – А я его попугаю… Возьму повыше и бахну. Пусть знает, что ружье мое может стрелять».
Быканыров остановился, вскинул к плечу приклад ружья, поскользнулся, но все же выстрелил. Эхо отозвалось глухо, тоскливо.
И вдруг произошло невероятное: человек остановил бег и упал лицом вниз. Одна лыжа соскочила с его ноги, откатилась вперед, а вторая встала торчком.
Быканыров опешил и протер глаза. Как могло случиться, что он, первоклассный охотник, убивавший белку в глаз, попал в человека, когда брал на голову выше? Ведь он хотел припугнуть его, но не убить, и даже не ранить.
А человек лежал неподвижно, распластавшись на снегу большим черным пятном.
«Худо дело… Совсем худо. Однако убил я его. Поскользнулся, занизил и попал».
В голову пришли горькие мысли: зачем он ослушался майора? Зачем показал себя? Зачем выстрелил?
«Роману Лукичу нужен живой враг, а не мертвый. Худо получилось. А может, я его только подранил?» – подумал Быканыров и пошел вперед.
Но неизвестный не проявлял никаких признаков жизни, не шевелился, не стонал.
«Убил… Убил… Худо получилось», – твердил про себя старый охотник, приближаясь к распростертому на снегу человеку.
Подошел вплотную.
Человек лежал, уткнувшись лицом в снег, левая рука его была выброшена вперед, а правая придавлена головой…
– Что же делать? – произнес уже вслух Быканыров, сбросил с ног лыжи, опустился над неизвестным и приподнял его руку. Она была тяжела, как у мертвого. Быканыров сунул руку под шапку лежащего перед ним человека и ощутил голую кожу. – «Красноголовый», – сказал он. – Шараборин. Значит, судьба мне его кончить. А что же теперь скажет Роман Лукич? Как я буду смотреть ему в глаза? Ведь он приказал, а я ослушался.
Быканыров встал, выпрямился.
– Куда же попала пуля? – спросил он самого себя.
И вдруг неподвижное тело произвело резкое движение, обхватило его ноги, сильно дернуло их на себя, и Быканыров упал навзничь.
Он не успел опомниться, не успел сообразить, не успел оказать никакого сопротивления. Все это уложилось в считанные секунды. На него навалилось всей тяжестью большое человеческое тело и что-то режущее опалило бок. Свет померк…
Когда Быканыров очнулся, то первое, что ощутил, – неуемную, ноющую, рвущую за душу боль в левом боку. И, чтобы не вскрикнуть от этой страшной боли, он прикусил губы и услышал человеческие голоса.
– Ружье и патроны нам кстати, – сказал кто-то простуженным голосом, и в этом голосе Быканыров узнал помутившимся сознанием коменданта Белолюбского.
– Ехать надо, торопись… Чего ждать? – послышался второй голос.
И этот голос признал Быканыров. Он принадлежал «Красноголовому».
– А не оживет ли он? Как ты его? – спросил Белолюбский.
– От моего ножа, однако, никто в живых не оставался, – ответил Шараборин. – Это у тебя плохо получается. Как у плохого охотника подранки.
Превозмогая нестерпимую боль и подавляя в себе потребность издать стон, Быканыров крепко стиснул зубы. Он чувствовал, как согревала его левый бок собственная горячая кровь, текущая из раны, но боялся пошевелиться.
– Как же оказался он здесь без оленей? – опять раздался голос Белолюбского.
– Не знаю. Зачем думать? Ехать надо, а не думать, – тревожился Шараборин.
– Ну, ехать, так ехать, – согласился Белолюбский и добавил: – Наверное, он на лыжах сюда прибрел. А откуда?
Никто ему не ответил.
Немного погодя послышался характерный окрик погонщика оленей, и ухо Быканырова уловило знакомый звук тронувшихся с места нарт.
Когда наступила тишина, старый охотник открыл глаза. Над ним был звездный мир, просторный и загадочный, огромный и холодный. Быканыров с большим трудом перевернулся на правый бок, приподнялся, опершись на одну руку, и увидел удаляющиеся на северо-восток, к излучине реки нарты.
Быканыров проводил их долгим взглядом, пока нарты не слились с ночной темнотой, и подумал с горькой обидой о своей неудачной судьбе:
«Однако обманул меня “Красноголовый”. Шибко обманул. Пропаду я. Совсем пропаду… Ох, как болит в боку… Острый у него нож. Длинный нож… Пропаду, и не узнает Роман Лукич, куда скрылись Белолюбский и “Красноголовый”. Худо будет… Зарубку надо сделать на березе… Зарубку… Зачем отдал Таас Баса? Выручил бы меня пес. Не дал бы меня зарезать… Глупый я старик… Совсем глупый… О-ох…»
Затаив боль, Быканыров попытался было подняться и встать на ноги, но крепкие ноги старого партизана, неутомимого охотника, исходившие за свою долгую жизнь много километров, так ослабли, что не удержали его тело. Он упал грудью на снег и задышал часто, с присвистом. Сердце выстукивало с перебоями и все глуше и глуше.
Лежа неподвижно, он думал:
«До берез недалеко… Сколько же шагов? Шагов двадцать, двадцать пять. Ноги не идут, поползу… Зарубку надо сделать. Тогда изловит Роман Лукич и “Красноголового” и коменданта… Приедет сюда… увидит зарубку… и…»
Быканыров, собрав силы, пополз к тому месту, где долго просидел в засаде. Он не мог сразу сообразить, почему вдруг так холодно стало одной руке, а увидев, что она голая, догадался, что где-то обронил рукавицу.
Тогда он, оберегая от палящего, как раскаленное железо, снега руку, начал отталкиваться локтем. Он производил судорожные движения и толкал свое тело вперед, подобно гусенице. Следом за ним, на снегу, оставалась глубокая, точно пропаханная, борозда.
Быканыров полз, делая частые остановки, припадая всем телом к снегу, тыкаясь в него головой, теряя каплю за каплей источник жизни – кровь.
Изредка старый охотник жадно хватал ртом пушистый снег и глотал его.
Внутри у него все горело. Стремясь унять странный огонь, пылавший внутри, он все глотал и глотал снег. Глотал и опять припадал к земле, чувствуя, что силы совсем покидают его.
И все-таки, сознавая свою вину и мучаясь, что не может поправить ее, он все полз и полз, движимый вперед не столько мышцами тела, обмякшими, потерявшими упругость и силу, отказывающимися повиноваться, сколько последним напряжением воли.
И расстояние постепенно сокращалось. Быканыров видел тальник, видел растущие кучкой березы с опущенными голыми ветвями.
Достигнув, наконец, подножия самой большой березы, он обхватил рукой ее ствол, простонал от все возрастающей боли и, уткнувшись лицом в снег, опять замер на несколько минут.
«Сделаю зарубку… Сделаю, однако… не будет ругать меня Роман Лукич…» – думал Быканыров. Обхватив холодный и скользкий ствол промерзшей березы слабыми руками, он призвал на помощь все силы, уперся дрожащими коленями в снег и начал подниматься.
В висках постукивали молоточки, перед глазами плясали разноцветные огоньки. Встав с огромным трудом на ноги, Быканыров обнял руками березу и приник щекой к ее атласной ледяной коре.
– Так… Так… Теперь надо достать нож, – приказал он самому себе.
Голая правая рука уже не ощущала холода и почти не слушалась. Он долго нащупывал ею под кухлянкой закрепленный на поясе нож. А губы беззвучно шептали:
– Поехали они прямо к излучине… на северо-восток… Стрелу надо вырезать вверх… не уйдут… не уйдут…
Он медленно, почти омертвевшей рукой с несгибающимися окоченевшими пальцами вырезал на белой коре березы черную стрелу острием вверх, и силы покинули его. Рука разжалась против воли, и нож выпал.
Быканыров попытался всмотреться в снежную даль, но все сливалось в глазах, звезды плясали на небе. Он сильно вдохнул в себя всей грудью обжигающий легкие студеный воздух и крикнул:
– О-э-э-э! Умираю! – но крик его, слабый, короткий, как вздох, надломился и словно провалился в пустоту.
Ноги совсем потеряли упругость и подгибались словно подрезанные.
Быканыров, не отрываясь от ствола дерева, сполз вниз. Он с трудом повернулся, уселся под березой и оперся на нее спиной.
И в это время к нему подошел оторвавшийся от привязи олень. Он ткнулся в лицо Быканырова влажным носом и обдал его своим теплым дыханием.
Олень отошел.
«А где мое ружье? – возник вдруг запоздалый вопрос, на который Быканыров сам же и ответил: – “Красноголовый” взял… взял ружье, которое подарил Роман Лукич…»
И никогда до этого, за всю свою более чем семидесятилетнюю жизнь, Быканыров не испытывал ни более сильной обиды на самого себя, ослушавшегося опытного и дальновидного майора, ни более жгучей ненависти к «Красноголовому», который так много бед принес таежникам и так хитро обманул его, старого партизана.
Быканыров был уже равнодушен к уходящей из его тела вместе с кровью жизни. Невыносимо острая некоторое время назад боль в левом боку перешла затем в тупо колющую, потом в ноющую и, наконец, стихла.
Старый охотник почувствовал что-то вроде облегчения. Тело его начинало наливаться приятно-сладкой истомой. Но в глазах, глубоко запавших и окруженных чернотой, еще слабеньким огоньком светилась жизнь.
– Счастливое дерево… – подняв глаза и глядя на ветви березы, тихо проговорил Быканыров. – Ты еще долго будешь видеть звезды… небо…
О большую березу, под которой сидел Быканыров, со скрипом, колеблемая небольшим ветром, терлась маленькая береза. А старику чудилось, будто совсем-совсем близко скрипят полозья приближающихся нарт. И еще ему чудилось журчание потоков талой весенней воды, шелест трав, переливчатый звон птичьих голосов.
Печальная улыбка застывала на лице старого охотника, веки смежались, будто наваливался сон.
Быканыров не слышал уже, как где-то недалеко жалобно и тревожно проплакал заяц.
Тревожная ночь
Мороз склеивал веки и обжигал лицо, но Петренко чувствовал себя хорошо, бодро и даже тихо напевал какую-то веселую украинскую мелодию.
– Что вам так весело? – спросила сидящая сзади Эверстова.
– А я и сам не знаю, – честно ответил лейтенант. – Возможно, потому, что мне кажется, будто именно мне с вами придется поймать этих бандитов.
Эверстова промолчала и подумала:
«Да, хорошо бы, конечно».
На ухабах, косогорах нарты забрасывало и метало в стороны. Нарты натыкались на невидимые, занесенные снегом пни, их подкидывало вверх, и тогда Эверстова крепче хваталась за лейтенанта.
– Держитесь хорошенько, – предупредил Петренко, прочно упираясь ногами в полозья нарт. – А то потеряю вас, тогда мне майор задаст перцу.
Петренко и Эверстова ни на минуту не забывали, что их задача состоит не только в том, чтобы сделать повторный круг или нагнать преступников, но еще и следить за тем, не выйдет ли их след из круга куда-нибудь в сторону.
Винтовку Петренко держал на предохранителе, и она висела у него на груди, чтобы каждую секунду ею можно было воспользоваться.
Лейтенант мысленно уже разработал план, как надо повести себя в случае встречи с врагами, и чувствовал уверенность в своих силах. Этот план состоял из нескольких вариантов, в зависимости от того, где и как произойдет встреча: в тайге, на чистом месте, неожиданно встретятся они с преступниками или настигнут их.
«В живых я их, конечно, оставлю, – рассуждал про себя Петренко, – но ребра обоим попробую. Как пить дать. Это не нарушит приказа майора».
Новых следов не было. Преступники если и прошли этой дорогой вторично, то из круга не выходили.
По наезженной колее олени бежали сравнительно быстро, но, помня указания майора, Петренко регулярно, следя за часами, делал короткие привалы и давал животным отдых.
В два часа ночи сделали получасовую остановку, выпрягли оленей и пустили кормиться. Петренко с винтовкой в руках сел на нарты, чтобы исключить возможность быть настигнутым преступниками врасплох, а Эверстова вытащила из заплечного мешка радиостанцию.
Предстояло провести сеанс с Якутском. Полковник Грохотов интересовался, что дало преследование, и Эверстова сообщила, как они условились с майором, о ранении колхозника-якута Очурова, о похищении оленей и о хитрости преступников, которые пытаются сбить преследователей со следа.
– А где майор? – последовал вопрос.
Эверстова ответила и на это, объяснив, что пришлось разбиться на три группы, если майора и Быканырова поодиночке можно считать группами.
Потом Грохотов попросил передать майору, что на рудник Той Хая вылетело двое следователей, и приказал, как только они встретятся с Шелестовым, связаться с Якутском. Грохотов предупредил, что с данной минуты центральная радиостанция в Якутске все время будет слушать позывные Шелестова и что связь, таким образом, можно установить в любую минуту.
– А мне уже есть захотелось, – призналась Эверстова, окончив сеанс.
– Единственно, что могу предложить, – сказал Петренко, – это шоколаду. – Он достал и отдал Эверстовой начатую еще перед вылетом из Якутска плитку шоколада. – На более фундаментальную закуску у нас нет времени.
– Да, пожалуй, – согласилась Эверстова.
Олени вновь потянули нарты по виляющему среди густой тайги следу.
У Петренко настроение после привала изменилось. Он уже потерял надежду на встречу с преступниками и молчал. Молчал и думал о своем: думал о том, что по возвращении из командировки в Якутск, надо сейчас же вызвать к себе мать. Она и так живет одна уже четыре года, пока он учился и проходил стажировку.
«И надо попросить полковника, чтобы он дал мне хотя бы две маленькие комнатки», – подумал Петренко.
И он был уверен, что Грохотов пойдет ему навстречу. Петренко потерял отца в сорок втором году. Отец был командиром батареи и погиб на фронте.
Петренко потерял старшего брата-летчика, сбитого в неравном бою. И у него осталась мать, к которой он сохранил детски-нежную любовь.
«Сколько она пережила, бедняга, сколько испытала мытарств за время эвакуации. Где ей только не пришлось побывать и чего только не пришлось увидеть. И откуда у нее столько душевных сил? Как стойко она переносит удары жестокой судьбы и остается мужественной, работоспособной. Я ей дал слово, что будем жить вместе, и сдержу слово. С ее специальностью нетрудно найти работу. Врачи в Якутии нужны не менее, чем на Украине. Но отпустят ли ее? Конечно, я думаю, отпустят», – и, вспомнив рассказ Эверстовой об ее умершем отце, Петренко захотел вдруг узнать у спутницы, есть ли у нее мать и чем она занимается. И он спросил:
– Надюша, а ваша мать в Якутске?
– Да.
– А что она сейчас делает?
– Сейчас? – Эверстова усмехнулась про себя. – Сейчас, наверное, спит.
Петренко рассмеялся.
– Да нет, вы не так меня поняли. Вообще чем занимается?
– Это другое дело.
– Не секрет?
– Что вы! Она работает агрономом в совхозе. Она первая из женщин-якуток агроном.
– Это хорошо, – заметил Петренко.
– И этим она обязана моему отцу, – продолжала Эверстова. – Когда он женился на ней, она была почти неграмотной. Он ежедневно занимался с ней сам, потом нанял учителя и заставил идти учиться.
– Вы любите мать? – спросил вдруг Петренко.
– Очень.
– Я тоже. Как вернусь, сейчас же ее вызову из Запорожья. Как вы думаете… – но лейтенант не окончил фразы.
Впереди между стволами деревьев мелькнуло что-то темное и непонятное. Петренко даже не успел предупредить спутницу. Он резко остановил оленей, круто повернув их вправо. Так круто, что нарты встали на бок и перевернулись. Эверстова свалилась в снег.
Петренко же твердо встал на ноги, взял винтовку на изготовку и замер, устремив взгляд вперед.
Теперь и Эверстова, поднявшись, увидела, что впереди что-то мелькает и приближается к ним.
– Тс-с… – едва слышно произнес лейтенант, припал на одно колено и приложил приклад к плечу.
Он уже готов был выкрикнуть команду, которую заранее обдумал, но рассмотрел, как что-то темное и, во всяком случае, не человек накатывается на них.
Эверстова вздрогнула, присела и тут же крикнула:
– Да это же Таас Бас! Таас Бас, хороший пес, хороший.
Собака уже подбежала, заметалась от одного к другому, подпрыгивала, пытаясь лизнуть в лицо.
– Фу… – облегченно и в то же время разочарованно вздохнул лейтенант. Он думал, что наконец подошла решительная минута, а тут, вместо преступников, оказался Таас Бас.
Эверстова ласкала собаку.
– Как вы его не подстрелили? Вот был бы номер!
– Ну уж нет. Стрелять я не собирался, а если бы и выстрелил, то не в цель. Скажите правду, что вы подумали?
– Я… Я… – замялась Эверстова. – Честно говоря, струхнула немножко.
– Бывает, – уронил Петренко. – Это со всеми бывает. Настоящий трус тот, кто никогда не скажет о том, что испугался.
– Значит, недалеко Роман Лукич.
– Выходит так. Таас Бас, наверное, вырвался вперед.
– А уж не случилось ли что-нибудь с майором?
– Исключаю. Совершенно исключаю. Смотрите, как Таас Бас ведет себя весело.
И не успел Петренко проговорить это, как до cлуха обоих дошел характерный скрип полозьев нарт, а через несколько секунд показалась упряжка Шелестова.
Майор подъехал совсем близко. Олени сошлись морда в морду. Майор встал с нарт, размялся.
– Ну и напугал нас Таас Бас, – призналась Эверстова.
– А почему вы тут остановились? – спросил Шелестов.
Петренко объяснил.
Шелестов закурил и сказал:
– Да, напрасно мы потеряли несколько часов. Следов не видели?
– Нет… Нет… – почти в один голос ответили Петренко и Эверстова.
«Опять эти мерзавцы провели нас, – подумал Шелестов. – Значит, они решили повторить ту петлю, а не эту, и подались на запад». И спросил:
– Олени устали?
– Незаметно. Бегут хорошо, – ответил Петренко.
– Отдых давали?
– Да, несколько раз.
– Сеанс был? – поинтересовался он.
Эверстова рассказала о том, что передал Якутск и что передала она ему.
Шелестов слушал и одновременно продолжал думать:
«Не может быть, чтобы они решили вернуться назад. Надо быть круглыми идиотами, чтобы решиться на это. Это новая хитрость. И они, наверное, опять появятся на перекрестке. Нельзя терять ни минуты».
– Сколько времени по вашим часам? – спросил майор.
Петренко и Эверстова всмотрелись каждый в свои часы. Время у всех троих совпадало. Было начало четвертого.
– Возвращаемся на перекресток, – сказал Шелестов. – Вы моей дорогой, а я вашей. И будьте все время начеку.
– Понимаю, – ответил Петренко.
Все сели на нарты. Олени разминулись и удалились в противоположные стороны.
…Тайга редела. Чаще стали мелькать березы, а потом олени выбежали на безлесный кусок равнины и побежали веселее. Дорога здесь была легче, прямее, уже не попадались пни, бурелом, валежник. И видимость стала лучше.
Сделалось как бы светлее, хотя до рассвета было еще далеко. Ветерок тоже стих и был почти неощутим.
По договоренности, выработанной еще в тот момент, когда покидали Быканырова, Петренко смотрел налево, Эверстова – направо.
Но перед глазами по-прежнему стелилась и уводила вперед хорошо видимая даже ночью дорога.
И вот, примерно часа через полтора после безостановочной езды по равнине, ведущей к излучине и уже знакомой, Эверстова вдруг вскрикнула, схватила лейтенанта за плечи:
– Стойте, стойте! Следы!
Петренко остановил упряжку.
– Где? – спросил он.
– Проехали. Я отчетливо видела, – и, соскочив с нарт, Эверстова побежала назад, погружаясь в снег. Отбежав метров двадцать, она с тревогой в голосе позвала лейтенанта: – Идите сюда… Скорее… Проехали и не заметили… Точно, следы…
«Как же не заметили, когда заметили», – подумал Петренко, идя к Эверстовой.
– Вот, смотрите… – сказала та.
Но можно было не говорить и не показывать. И так было видно. От накатанной дороги влево на северо-восток, под углом примерно градусов в тридцать, уходил новый, совсем свежий след, который и заметила Эверстова.
Петренко достал компас, положил его на ладонь, и компас подтвердил, что след уходил именно на северо-восток.
– Они пошли по своему прежнему курсу, – проговорил он.
– Но как не заметил Роман Лукич? – удивилась Эверстова.
– Да, действительно… Хотя, знаете что? Когда он проезжал здесь, видимо, следа еще не было.
– Так что же, выходит, что они проехали после майора?
– Выходит так, – сказал Петренко. – И уж если бы майор пропустил след, что совершенно невероятно, то Таас Бас наверняка бы его обнаружил.
– Да, да… Я и забыла о Таас Басе. Значит, они ехали следом за Романом Лукичом, по его следу, а тут взяли круто влево.
– Наверное, – разница только во времени. Мы проехали полпути до перекрестка и до излучины.
Эверстова опустилась на колени и внимательно всмотрелась в след, идущий на северо-восток и проложенный одними нартами.
– А вы знаете что? – спросила она, поднявшись. – Мы сейчас должны встретиться с товарищем Быканыровым. Так ведь? Он же должен последовать за ними…
Петренко задумался.
– Может быть, он тоже проехал?
– Нет, – опровергла предположение лейтенанта Эверстова. – Никак этого не может быть. Тут прошли одни нарты. Это определит любой пионер.
– Ну, если так, то мы скоро встретимся с дедушкой, – не спорил Петренко.
– Да. И чем скорее встретимся, тем лучше. Ведь все равно придется ожидать майора.
– Совершенно верно. Поехали!
* * *
До перекрестка у излучины реки осталось, по подсчетам Петренко и Эверстовой, уже не более километра, но старого охотника не было.
Олени уже сбавили бег – устали.
– Я прав, – заметил лейтенант. – Дедушка Быканыров, наверное, проехал за ними.
– Могу спорить, что нет, – уверенно заявила Эверстова. – Я же полуякутка, полурусская, в тайге не раз бывала и ездила много. Я не определю точно, сколько прошло нарт, если их прошло несколько, ну, допустим, четверо, пятеро. И это очень трудно определить, но когда прошли одни нарты – ошибиться невозможно.
Петренко хотел возразить спутнице. Он хотел сказать, что большое значение имеет время суток. Одно дело днем, совсем другое – ночью. Можно же ошибиться в темноте. Но он не успел возразить. До слуха его и Эверстовой отчетливо долетел собачий вой.
Петренко придержал оленей, и те встали.
– Слышите? – спросил он.
– Слышу.
Вой раздавался метрах в четырехстах, если не меньше, от перекрестка и от того места, где был оставлен в засаде Быканыров.
– Таас Бас? – сказал неуверенно Петренко и тут же добавил: – А может быть, волк?
– Нет, не волк. Это Таас Бас. И как он воет, прямо по сердцу скребет.
– Значит, майор уже там?
– Но почему так воет Таас Бас?
– Не понимаю. Поехали…
Приближаясь к перекрестку, лейтенант думал:
«Где же Быканыров? Почему он не пошел по следу преступников? Возможно, заснул и проглядел? Ой, как жутко воет…» – и Петренко гикнул на оленей.
Уже черно вырисовывались растущие кучкой березы. Получилось так, что нарты Шелестова и Петренко подошли к перекрестку одновременно. Олени чуть не столкнулись.
Шелестов спрыгнул с нарт и быстро оглядел местность вокруг.
Стояла тишина, и только хватающий за душу вой Таас Баса нарушал ее, казался здесь ненужным и противоестественным.
Таас Бас выл в зарослях тальника. Он вырвался вперед почти за километр до перекрестка. И, подъезжая, майор также услышал вой собаки, и он взволновал его не меньше, чем Петренко и Эверстову.
– Ну, как? – спросил Шелестов, стоя на месте, и что надо было понимать под словом «как» – Петренко не мог сообразить. То ли это относилось к вою Таас Баса, то ли к тому, что заметили на пути Петренко и Эверстова.
– Мы обнаружили их след, товарищ майор.
– Где?
– Километрах, примерно, в восьми отсюда.
– Куда идет след?
– На северо-восток. Я точно определил по компасу.
– И след совсем свежий, от одних нарт, – добавила Эверстова.
– Но где же Быканыров? – спросил Шелестов, и в его вопросе послышалась тревога.
Петренко развел руками.
– Не знаю, мы его не встретили…
– Но почему воет Таас Бас? Что случилось? – не в силах сдержать волнения, спросил майор.
– Мы сами перепугались, – робко заметила Эверстова.
А Таас Бас продолжал выть и выл как-то призывно-жалобно, точно зовя на подмогу.
Шелестов машинально поправил автомат, болтающийся на груди, сделал несколько шагов и остановился. Рядом с ним стали Петренко и Эверстова.
Они отчетливо увидели странную, точно кем-то пропаханную борозду в снегу, идущую от перекрестка туда, где был оставлен в засаде Быканыров и где сейчас выл Таас Бас.
Шелестов и его друзья стояли в оцепенении не двигаясь.
Ночная мгла медленно, как бы нехотя, редела, таяла. Гасли в небе звезды на западной стороне, а на востоке, сквозь предрассветные сумерки уже проглядывал неуверенный утренний свет.
– Отец! А отец! – дрогнувшим голосом громко крикнул Шелестов.
Отозвалось и быстро угасло только эхо.
– Таас Бас! Ко мне! Таас Бас! – опять крикнул Шелестов.
Таас Бас умолк на мгновение, но потом завыл опять еще жалобнее, еще тоскливее.
Шелестов, вдруг сгорбившись, точно на плечи ему взвалили непосильную ношу, увязая по колени в снегу, пошел вперед, по борозде.
Петренко и Эверстова следовали за ним.
И вот при свете рождающегося утра Шелестов увидел капли замерзшей крови. Майор почувствовал, как под сердцем у него похолодело, как утратили твердость ноги.
«Что тут стряслось? – задавал себе Шелестов тревожный вопрос. – Откуда взялась кровь? Почему не отзывается Быканыров?»
Тяжело дыша, идя по глубокому снегу, о том же думали и друзья Шелестова.
И то, что представилось глазам всех троих, когда они подошли к березам, точно пригвоздило их к месту: на снегу, под самой большой березой, упершись спиной в ствол, как-то перекосившись и неестественно свесив голову, сидел неподвижный Быканыров.
Таас Бас, не замечая подошедших людей, сидел возле хозяина и, задрав морду, выл. В сторонке, сбившись в кучку и подрагивая, стояли четыре оленя.
Эверстова закрыла лицо руками. Шелестов стоял, глядел и словно не видел раскрывшейся перед ним картины. Потом он рванулся вперед, завяз в снегу и упал. Его обошел лейтенант Петренко. Он подбежал к старику, опустился на колени. Полуприкрытые веками, потерявшие живой блеск глаза Быканырова показались Петренко искусственными. Брови и ресницы были густо припорошены инеем. Лицо, изрытое морщинками, с застывшей улыбкой, выражало покой и удовлетворение. От дедушки Быканырова веяло холодом, смертью. Под ним на снегу ярко вырисовывалась лужица крови, уже затянутая ледяной коркой.
– Жив? – приглушенно крикнул Шелестов.
У Петренко не повертывался язык сказать страшное слово. Вместо ответа он взялся за холодную, уже негнущуюся руку старика в надежде, что хоть слабое биение пульса опровергнет страшное подозрение. Но тщетно.
Шелестов, не повторяя вопроса, тоже опустился на колени, сбросил рукавицу, перехватил своими пальцами запястье старика. Другой рукой он медленно провел по застывшему лицу… Все противилось ужасной мысли, что его старый преданный друг уже мертв, что он сидит против человека, для которого все теперь безразлично. Шелестов бесслезно плакал. От нестерпимой внутренней боли лицо майора постарело, глаза ввалились. К чувству тяжелой утраты примешалось горькое сознание, что, возможно, он что-то не так сделал, чего-то недоучел, не предусмотрел, что это и послужило причиной гибели старого охотника.
Шелестов встал. Надо бы сказать: «Да, конец…» – но вместо этого, немного повысив голос, он приказал:
– Палатку. Быстрее разбивайте палатку.
Петренко и Эверстова бросились выполнять приказание.
«Нет, – сказал себе Шелестов. – Пока я не предприму всего, что в наших силах, я не успокоюсь. Я бы не простил себе этого».
У майора еще теплилась надежда, что вообще свойственно человеку. Он знал случай, когда людей, уже признанных мертвыми, удавалось возвратить к жизни. Шелестов ясно представлял себе, что надо как можно быстрее, не теряя ни одной минуты, разбить палатку, развести огонь в печи, растереть лицо, руки, а возможно, и все тело Быканырова снегом, спиртом, чтобы не дать лютому холоду завершить то, что начали враги, осмотреть рану, обработать ее.
– Надя, спальный мешок!
Эверстова взяла мешок, лежащий у берез, и подала майору.
«Его нужно прежде всего обезопасить от холода, – решил Шелестов. – А может быть, он замерз?»
Вместе с Эверстовой Шелестов уложил непослушное, негнущееся тело Быканырова в меховой мешок, освободив прежде ноги старика от торбазов и сняв с него кухлянку.
Уже рассвело, хотя солнце еще не показалось.
Втроем они поставили палатку, натянули ее, принесли несколько охапок сухого хвороста, Петренко сбегал к стоящим невдалеке елям и нарубил с них ветвей. Он уложил ровным слоем лапник на расчищенном месте и осторожно посоветовал майору:
– По-моему, надо бы скорее рану осмотреть.
– Знаю, – сказал Шелестов, устанавливая печь и выводя трубу. – Но на холоде это исключается.
Эверстова ломала сухой хворост, готовясь разжечь огонь в печи, и беззвучно шевелила губами. Тяжелые мысли угнетали ее.
«Все-таки страшна смерть, – думала она. – Берет всех, кого ей хочется. И человек бессилен. Неужели мы его не спасем? Неужели он умер? Ой, чего бы я только не отдала за его жизнь! Вот Очуров. Он получил два удара ножом, а теперь уже, наверно, ходит».
И Эверстовой самой непонятно было, почему так близок, так дорог стал ей дедушка Быканыров, человек, которого она несколько дней назад совсем не знала.
– Надя! – опять обратился к ней Шелестов. – Когда сеанс с Якутском?
– В любое время, Роман Лукич. Я же вам говорила.
– Забыл… – признался Шелестов.
Эверстова положила хворосту в печь, чиркнула спичкой. Огонь занялся сразу, запылал, загудел. Железная печь, принесенная с мороза, начала постреливать, потрескивать.
Быканырова внесли в палатку, вынули из спального мешка и начали снимать с него одежду. Она вся, особенно левая сторона, была густо пропитана кровью. Когда Шелестов разрезал нижнюю рубаху и повернул Быканырова на бок, он чуть не вскрикнул: пониже лопатки в левом боку зияла страшная рана. От такой раны и большой потери крови для любого было бы чудом остаться живым.
– Все усилия напрасны, – тихо сказал майор. – Кровь уже свернулась.
Шелестов долго молчал, вглядываясь в лицо покойного, и думал:
«Вот и расстался ты со мной, мой старый, верный друг».
В палатке царила тишина.
Майор вышел из палатки, сел на нарты, уперся локтями в колени и, положив подбородок на ладони рук, задумался.
А Эверстова и Петренко в тяжелом молчании сидели у изголовья покойного.
– Опять убийство, – проговорила наконец Эверстова.
– Да, – тихо подтвердил Петренко.
* * *
Шелестов решил тщательно осмотреть местность, чтобы создать себе представление, как и при каких обстоятельствах погиб его друг. Идя к перекрестку, он думал: Быканыров или сам обнаружил место своей засады, или преступники заметили его.
Следы крови вывели за перекресток. Тут были видны две вмятины в снегу, оставленные телом человека. Одна вмятина была совершенно чиста, а другая почти залита теперь уже замерзшей кровью. И от этой вмятины Быканыров, видимо, и начал ползти, оставляя за собой след крови.
Какие предположения ни строил майор, но воссоздать картину убийства не мог, как не мог знать и того, что первую вмятину на снегу оставил Шараборин, когда притворился убитым.
Но некоторые выводы, в результате тщательного обследования местности, Шелестов все же сделал.
То, что четверо оленей, двое нарт и весь груз на них оказались нетронутыми, заставляло думать, что преступники не были на месте засады, возможно, и не знали, что там скрывался Быканыров. Преступники, видимо, очень торопились, потому что не захотели тратить время на осмотр местности.
След, похожий на пропаханную борозду, с пятнами крови на нем, принадлежал только Быканырову. Других следов тут не было.
Исчезновение ружья и патронташа даже не требовало объяснений. Было бы странным, если бы Белолюбский и его сообщник, будучи безоружными, отказались прихватить с собой ружье и патроны.
Шелестов, продвигаясь шаг за шагом, дошел наконец до того места, где они нашли мертвым Быканырова, и тут увидел на коре березы стрелу, указывающую направление, в котором скрылись убийцы.
«Он вырезал стрелу после ранения, – решил Шелестов. – Вырезал и уже больше не сошел с места. И все говорит за то, что он, бедняга, видимо, сам виноват. Не послушал меня – и обнаружил себя. Скорее всего, решил задержать их, вступил в борьбу и… погиб».
Шелестов обошел все место засады, поросшее тальником, и не нашел там ничьих следов, кроме следов оленей.
«А Белолюбский бежал на северо-восток, – решил он. – Об этом говорит стрела, это же подтвердили Петренко и Эверстова. Ну, ничего, ничего. Далеко вас, господа, не пущу. Не уйти вам от меня, – и опять мыслями вернулся к Быканырову. – А ведь я верил в тебя, отец, как в самого себя. Так верил, что не допускал мысли, что ты поступишь по-своему. Видно, мне самому здесь нужно было остаться в засаде, а тебя послать вместо меня. Но кто же мог знать, что враг придет оттуда, откуда его не ждали. Как я мог подумать, что ты, старый партизан, опытный охотник, проявишь горячность? Как странно, дико, нелепо. Несколько часов назад я слышал твой бодрый голос, говорил тебе, поучал тебя, а сейчас ты лежишь неподвижный и равнодушный ко всему».
Горькие мысли майора оборвала Эверстова, вышедшая из палатки:
– Роман Лукич! Будете передавать что-нибудь в Якутск?
– Да, – коротко ответил Шелестов. Он вошел в палатку, достал из полевой сумки блокнот и написал телеграмму полковнику Грохотову:
«Сегодня ночью от рук преследуемых нами преступников погиб наш проводник, известный охотник, член колхоза Василий Назарович Быканыров, находившийся в засаде. Обстоятельства его гибели для меня еще не ясны, и все подробности я доложу вам устно по возвращении. Прошу через дирекцию рудника Той Хая уведомить правление колхоза. Родных у Быканырова нет.
Погоню продолжаю. Все данные говорят за то, что мы имеем дело с опасными преступниками, не брезгающими никакими средствами в достижении своей цели.
Ставлю задачей настичь их в течение ближайших двух суток».
* * *
Родилось яркое утро. Морозное колечко опоясывало негреющее солнце.
Быканырова решили похоронить на взгорке, под березами.
Но не так-то легко было подготовить могилу в скованной морозом земле. Вначале развели огромный костер. Когда он окончательно перегорел и опал, Шелестов и Петренко сгребли в сторону золу и обуглившиеся головешки. Потом майор взялся за топор, а лейтенант за лопату.
Но земля оттаяла ненамного, всего на каких-нибудь десять – пятнадцать сантиметров, а дальше шла вечная мерзлота, от которой топор и лопата отскакивали, как от железа. После долгого и утомительного труда, набив на руках кровавые мозоли, майор и лейтенант отрыли могилу глубиной сантиметров на восемьдесят.
– Довольно, – сказал Шелестов, садясь на край могилы. – Зверь уже не разроет.
Тело Быканырова обернули в плащ-палатку и положили в могилу. И здесь, на дне могилы, Быканыров показался Шелестову совсем маленьким, точно мальчик-подросток.
Петренко стал засыпать могилу комками мерзлой земли. Шелестов и Эверстова стояли тут же в глубоком молчании.
Майор почувствовал, что со смертью старого друга ушел в прошлое кусок его собственной жизни.
На месте могилы уже образовался холмик, и Петренко засыпал его снегом. Эверстова плакала. Петренко отвернулся, чтобы скрыть просившиеся наружу слезы.
– Прощай, отец, прощай, Василий Назарович, – только и мог выговорить Шелестов, держась рукой за сердце.
А северное утро сияло своими красотами. Мелькали в воздухе серебристые звездочки инея. Синевой отливала тайга. Уже вырисовывались на горизонте синие отроги хребта. Но это яркое утро и все прелести его только подчеркивали тяжесть утраты и были даже как-то оскорбительны. И только сознание еще не выполненного долга и гнев к врагам приглушали боль.
Шелестов подошел к березе, вынул из ножен нож, вырезал на атласной коре дату и сделал два пояска.
«Чтобы не потерять, – подумал он. – Я еще приду когда-нибудь к тебе, отец, проведаю тебя…»
Таас Бас не мог понять, что произошло с его хозяином. Он бродил, как побитый, не зная, куда приткнуться. Вначале его беспокоила неподвижная поза хозяина, его молчаливость. Он тыкался носом в ноги покойника, старался держаться около него или на таком месте, с которого можно видеть его. А когда хозяина не стало и тело его укрыла земля, Таас Бас заметался и стал жалобно выть. Он не мог понять, зачем спрятали в землю человека, которому он был так предан, которому так верно служил и которому был другом. И немало усилий приложил майор Шелестов, чтобы успокоить собаку. Таас Бас наконец перестал выть, но от поданной ему еды отказался.
Когда Петренко и Эверстова запрягали оленей, Шелестов подозвал к себе пса, погладил его, думая в эту минуту, что вот так же совсем недавно гладил и ласкал собаку Быканыров.
– Верный друг, – проговорил майор, – будет теперь у тебя новый хозяин, потерял ты старого. Жить бы ему еще да жить, а он ушел. Ну, не горюй. Я тебя никому в обиду не дам. В Якутск заберу с собой.
Шелестов, Петренко и Эверстова стали усаживаться каждый на свое место на нарты. Нарты Быканырова теперь замыкали обоз.
Таас Бас заволновался опять, забегал вокруг, а потом взбежал на взгорок к березам, где возвышался покрытый снегом холмик, и застыл на месте. Он, казалось, думал: что предпринять? Куда побежать? То ли к далекой одинокой избушке, около которой он прожил много лет, где вокруг, в тайге ему известна каждая тропинка? То ли остаться здесь, у этого холмика, где лежит его хозяин? То ли, наконец, последовать за новым хозяином?
Нарты тронулись и взяли курс на северо-восток. Таас Бас остался на месте. Шелестов повернулся и окрикнул собаку:
– Таас Бас… Таас Бас… Ко мне!
Пес жалобно взвизгнул и труской волчьей побежкой направился за нартами, низко опустив голову.
Оросутцев допускает ошибку
Холодный воздух был пропитан запахом хвои. Гигантские мачтовые сосны как бы подпирали низкое черное небо, усыпанное звездами. Четкие и острые стрелы елей высились над молодыми березками. Там, где ели сплетались ветвями и образовывали подобие шатра, горел костер. Огонь с треском выбрасывал вверх желтые языки пламени.
У костра сидели Оросутцев и Шараборин. Они только что расположились на ночевку, развели огонь и теперь ждали, когда сварится мясо.
Шараборин с болезненной гримасой оттопыривал опухшую нижнюю губу и осторожно мазал ее нутряным жиром оленя.
Оросутцев рассматривал длинный нож своего сообщника, пробовал прочность его рукоятки. Удовлетворенный осмотром, он бросил нож Шараборину.
– Да, от этой штучки дырка будет приличная, – сказал он. – И в руке лежит хорошо. Все-таки здорово у тебя получилось. Я опасался, что он тебя пометит пулей или зарядом дроби, а вышло, ты его пометил. И как это ты не растерялся?
Шараборин помял губу кончиками пальцев и проговорил своим сипловатым голосом:
– Чего теряться? Он крикнул: «Тохто – стой!» Я побежал, а он – бах! Я подумал: «Однако плохой стрелок или не хочет убивать меня. Видать, живым хочет взять». И вижу, один он, никого кругом. Тогда я взял и упал. Пусть он думает, что убил меня. Он так и думал. Совсем глупый старик. Столько жил-жил, а глупый…
– Ну-ну, а дальше? – спросил Оросутцев, положил себе на колени ружье, когда-то принадлежавшее Быканырову, и стал осматривать его.
– А дальше… Он подошел, я его за ноги хвать – и на снег, а потом раз… и конец.
– Ловко придумал. Ей-богу, ловко. Я бы, пожалуй, не нашелся, молодец, – одобрил Оросутцев.
– Я не придумал. Я уже так делал. Когда сходишься в драку один на один, это самый верный способ.
– Да… – протянул Оросутцев, поглаживая отполированное до блеска ложе ружья. Ружье ему определенно нравилось, и он, по праву старшего, решил уже присвоить его себе. – А хорошо я все-таки сделал, что послал тебя вперед на лыжах. Если бы мы подъехали к перекрестку на нартах вдвоем, он мог бы нас перещелкать.
– Не знаю. Может быть, – отозвался Шараборин, а про себя подумал: «Тебя бы убил, ты впереди сидишь, а я бы опять прикинулся убитым».
Помолчали.
Костер и двух людей окутывал ночной мрак, сдавливала и обступала тайга. Тишину нарушало потрескивание огня, на котором доходило варившееся в котле мясо второго убитого оленя.
– Однако они опять идут по нашему следу. Худо, – нарушил молчание Шараборин.
– И твоя хитрость не помогла, – уколол его Оросутцев.
– Да, не помогла. Убил я старика, и майор теперь, наверно, совсем злой стал.
Опять замолчали.
Оросутцева томили тревожные мысли. Он опасался, что Шараборин в конце концов откажется вести его до Кривого озера, до места посадки самолета. А больше всего Оросутцев боялся, что Шараборин ночью просто бросит его одного, а сам исчезнет. Сам он, конечно, не доберется до озера.
Оросутцеву трудно тягаться с Шарабориным в знании тайги. Тот избороздил ее вдоль и поперек, знает все потайные воровские тропы, может завести куда угодно и откуда угодно вывести. И хотя до конечной цели, как говорится, рукой подать, но не достигнет ее Оросутцев без Шараборина.
Эта тревожная мысль закралась в голову Оросутцева с того самого момента, когда они покинули рудник. Страх возрос после того разговора, когда Шараборин прямо сказал, что не имеет желания идти вместе и что у него есть какие-то свои дела. Он еще более усилился после неожиданного появления над ними самолета.
После расправы с колхозником Очуровым Шараборин все время ныл и твердил, что их уже преследуют, что за ними погоня, в то время как к этому не было еще никаких оснований. А потом Шараборин предложил сделать восьмерку. Они на восьмерке потеряли чуть ли не сутки, но зато стало ясно, что за ними в самом деле погоня.
И опять Шараборин заговорил о том, что нет смысла идти вдвоем до Кривого озера, что Оросутцев и сам не маленький и дорогу найдет, что вообще лучше разойтись, это спутает преследователей, собьет их со следа.
Оросутцев упорно думал над тем, как заинтересовать сообщника, чем привлечь его к себе, какое изобрести средство, что предпринять, чтобы Шараборин проникся, как и он, одной целью: к сроку добраться до озера.
В былые времена Оросутцев что хотел, то и делал с Шарабориным, а сейчас он ясно понимал, что уже не властен над ним.
Шараборина также тревожили мысли. Он чувствовал, что не может докопаться до сути, не может объяснить себе поведения Оросутцева. Он рассуждал: самолет, наверное, прилетит за Оросутцевым, иначе зачем ему идти к Кривому озеру, в округе которого на добрую сотню километров нет никакого жилья. Конечно, прилетит. Видимо, говорит правду. Но почему улетает Оросутцев? Что его заставило так неожиданно покинуть рудник?
«Однако это интересно, – думал Шараборин. – Спросить прямо? Но нет, он не скажет правды. Знаю я его. – И вдруг мелькнула мысль, от которой захватило дух и стало жарко. – А что, если я откажусь идти дальше? Не хочешь сказать правды, не пойду! Что он со мной сделает? Ничего. Без меня он заплутается в тайге. Пропадет вовсе. Никогда не найдет Кривого озера. Точно. А что будет со мной, когда мы дойдем? Оросутцев, однако, убьет меня. Убьет и заберет деньги. Все заберет. Зачем я ему нужен буду?»
Перед Шарабориным возникла совершенно новая картина, словно до этого он был слепой.
Оросутцев прервал его размышления.
– Когда, по твоим расчетам, мы будем у Кривого озера?
Шараборин насторожился: правду сказать или соврать? И подумав, что из его ответа Оросутцев ничего полезного для себя не извлечет, сказал правду:
– Осталось, однако, километров пятьдесят. Завтра в это время.
Оросутцев посмотрел на часы: стрелка подходила к цифре шесть. Он подумал: «Если так, то до прилета самолета останется в запасе не меньше шести часов. Да, не меньше. И этого времени вполне хватит для того, чтобы заготовить дрова для сигналов. Значит, до озера совсем недалеко. Остались сутки. Ну а если Шараборин не захочет идти дальше? Тогда что? Доберусь ли я один? Успею ли к сроку?» – и опять спросил:
– И все время держать на северо-восток?
– Да.
Шараборин снял котел с жерди, поставил его на снег. Снег зашипел, превращаясь в пар.
– Мясо готово, однако, – сказал он и подбросил в костер несколько сухих поленьев. Их сразу охватил огонь.
– Ну что ж, давай ужинать, – отозвался Оросутцев, примащиваясь поудобнее у самого котла, из которого клубами валил густой, горячий пар. – Ты хвалился, что спирт есть, – угощай!
Шараборин молча полез рукой под кухлянку и снял закрепленную на поясе флягу.
«Все равно, я узнаю правду, – решил он. – Попугаю его, скажу, что не пойду дальше, и он расскажет. А спирт развяжет ему язык. Голова слабая у Василия, и когда он шибко пьет, то язык ее не слушает».
– Давай сюда, – потянулся Оросутцев. – Сам налью сколько надо.
Шараборин отстранился.
– Зачем так? Мой спирт, я хозяин.
С языка Оросутцева уже готово было сорваться ругательство, но он сдержал себя. Он вовремя сообразил, что из-за мелочи можно поссориться, а ссора к добру не приведет.
«Стерплю, стерплю», – твердил он себе, сдерживая ярость, и совсем мирно, беззлобно сказал:
– Ох, и жадный ты. А ведь мой спирт ты разлил сдуру…
– Разлил, твоя правда, – согласился Шараборин.
Он сейчас тоже не заинтересован был в ссоре. У него зрели другие планы. Поэтому он добавил:
– Я хозяин. Я буду угощать. Хорошо буду угощать.
– Посмотрим, – с недоверием сказал Оросутцев и поставил перед Шарабориным свою эмалированную кружку вместимостью не меньше двух стаканов.
Шараборин неторопливо отвинтил от горлышка фляги колпачок и, наливая спирт в кружку Оросутцева, повторил:
– Хорошо буду угощать.
Оросутцев был очень удивлен, когда увидел, что Шараборин явно обделил себя. Оросутцеву досталось больше спирта. Его кружка была почти наполнена.
А себе Шараборин налил вдвое меньше.
Оросутцев хотел уже спросить, чем объясняется такая щедрость хозяина спирта, но Шараборин предвосхитил его любопытство:
– Я сгубил твой спирт. В долгу у тебя был. Теперь мы квиты.
– Согласен. Квиты, – и Оросутцев взял свою кружку. – Пей, а то выдохнется и уже той крепости не будет.
Оросутцев выждал, пока Шараборин высосал из кружки свой спирт, а потом уже приложился сам. Он был очень осторожен и, прежде чем выпить, подумал: «Мало ли чего не случается в жизни! Бывало так, что и умирали от одного глотка спирта».
Оросутцев, если говорить правду, не увлекался алкоголем и пил редко. Но уж если пил, то пил до той поры, пока, как он сам выражался, душа принимала.
Он опорожнил кружку с девяностоградусной, огненной жидкостью чуть не залпом и даже не поморщился. Только две слезинки выдавил спирт из его глаз. Вдохнув в себя вопреки правилам, выработанным опытными пьяницами, морозный воздух, Оросутцев смачно крякнул и очень ловко голой рукой выхватил из дымящегося котла горячий кусок мяса.
Шараборин последовал его примеру.
Оба ели быстро, жадно, с азартом, будто опасаясь, что кто-нибудь вдруг нарушит их еду и выхватит изо рта куски. Они громко чавкали и проглатывали мясо, почти не пережевывая его.
Хмель брал свое, кружил голову, туманил приятно мозг.
Шараборин отбросил далеко в сторону последнюю обглоданную кость и вдруг сказал:
– Последний раз пили вместе… Я, однако, дальше не пойду. Укажу тебе дорогу, а дальше ты, как знаешь, пойдешь сам.
Он сказал это и оскалил зубы в улыбке.
Оросутцев откинулся назад и от неожиданности весь как-то сжался, будто на него навели ружейный ствол.
– Ты что? – едва смог выговорить он, сдерживая накипавшую злобу.
– Не пойду, – подтвердил Шараборин и продолжал: – Ты таишься от меня, думаешь: «Глупый Шараборин, ведет и пусть ведет, а зачем ведет, не его дело». Ты уедешь на самолете, а я что? Куда я пойду? Сзади майор… Ты будешь там, а я опять в лагерь. Плохо так, совсем не годится. Ты будешь жить, а я подохну, как собака. Изловят меня. Они идут по следу, а от следа никуда не уйдешь. Тайга, тундра, горы, – везде след…
Слушая Шараборина, Оросутцев почти машинально достал папиросу и сжег не менее дюжины спичек, прежде чем закурил, хотя рядом было так много огня.
Он сделал несколько жадных глубоких затяжек, от которых еще больше закружилось в голове. Но он еще не был пьян до такой степени, чтобы не понять, что в эту минуту решалась его судьба. Он еще ясно отдавал себе отчет в своих действиях, мыслях. Он хорошо знал, что завтра, в это время, должен быть у Кривого озера, иначе все пропало. Самолет может прилететь только раз, и только завтра, как сообщил Гарри. Что делать? Но тут изворотливый и еще не отказавшийся служить ум Оросутцева внезапно подсказал ему решение, провокационный ход. Сейчас, больше, чем когда-либо, он представлял себе, что нельзя ни ругаться, ни оскорблять Шараборина.
– Чего же ты хочешь? – спросил Оросутцев.
Шараборин посмотрел на него, будто прицелился, и Оросутцев отчетливо увидел его расширенный зрачок, отливающий желтизной, точно у кошки.
– Я? Я?.. – заговорил Шараборин. – Я хочу знать, что будет со мной, когда ты улетишь?
Таким вопросом Шараборин сбивал своего сообщника с занятых им позиций. Оросутцев ожидал ответа, а не вопроса. Он замешкался, а Шараборин, воспользовавшись паузой, уже сам отвечал на свой вопрос:
– Я сам знаю. Пропаду я… Изловят меня. Так или нет?
«Он прав, – мелькнула мысль у Оросутцева. – Что же сказать ему? На какую карту сделать ставку, чтобы не сорваться?»
– Молчишь? – продолжал Шараборин и, подняв щепку, стал нервно ковырять ею в зубах.
– Нет, тебя не изловят, – сказал наконец, и сказал очень твердо и уверенно Оросутцев. – Не изловят. Ты улетишь вместе со мной. Довольно тебе тут болтаться, жить затравленным волком, бродить по непролазным чащобам. Довольно! Хватит! Поживем еще на той стороне.
Шараборин на какое-то мгновение поверил словам Оросутцева, но потом подумал: «Врет, однако. Доведу я его до озера, и там он меня прикончит. И никуда я не полечу». – И тут же сказал:
– Хитрый ты… Знаю я тебя. Зачем я нужен на той стороне?
Сознание у Оросутцева начинало раздваиваться, мысли обрывались, путались, и ему нужны уже были некоторые усилия, чтобы выражать свои мысли правильно, логично, сводить концы с концами.
– Ты так же нужен, как и я, – сказал Оросутцев. – Нам обоим большое дело доверили. Понимаешь? Обоим. Гарри обещал тебе что-то? Обещал.
– Какое дело? – задал вопрос Шараборин.
Тяжелая мутная волна прошла по телу Оросутцева и разбилась о голову. Он скрипнул зубами, зажмурил глаза и сильно закусил нижнюю губу. Потом потер лоб рукой и бросил в огонь папиросу с изжеванным мундштуком.
В душе опять вспыхнули огоньки злобы.
Разные мысли копошились в его хмельной голове:
«Что такое тайна? – спрашивал он себя. – Тайна – это, конечно, большое дело. По крайней мере до последних дней она была большим делом, и я ее свято хранил. Да! От нее зависела и моя жизнь, и мое благополучие.
Только один Гарри знал, что я делаю и что буду делать. А что такое тайна сейчас, здесь, в такой обстановке? Ничто. Что изменится от того, что Шараборин узнает сейчас то, что знаю я? Ничего. Абсолютно ничего. Я завтра уже буду в воздухе. Шараборин только на сутки узнает то, что ему не надо знать, но зато он поверит мне и доведет меня до Кривого озера. А там… там я знаю, как мне поступить. Нет, он не попадет в руки майора. Это не нужно. Майор заставит его говорить, и Шараборин выболтает все. Он ведь трус, последний трус. Он выболтает про Гарри, а с Гарри мне, возможно, еще придется встречаться. Нет, Шараборин не попадет к майору, а если и попадет, то уже ничего не скажет. Хм… конечно, можно наврать ему сейчас что угодно. Но поверит ли в это вранье Шараборин? Он не так глуп. Он не поверит. Он плюнет и уйдет, и останусь я здесь наедине со своей тайной. И два пути останутся передо мной: или быть настигнутым майором, или издохнуть здесь в этой проклятой тайге. Я не выберусь из этой чащобы сам, даже если Шараборин расскажет, как идти. А если я выберусь и найду Кривое озеро, то приду поздно. И что толку тогда? Кому нужна будет моя тайна?»
Шараборин долго молчал, глядя на Оросутцева суженными глазами, и потом опять сказал:
– Бери меня с собой. Согласен, но скажи, какое большое дело дал тебе Гарри? Если ты друг – скажи правду.
Со стороны Шараборина это был продуманный заранее, взвешенный ход.
И Оросутцев решился.
– Видишь вот это? – он выпростал из-под кухлянки футляр с фотоаппаратом. – Видишь?
Шараборин кивнул головой.
– Вот в нем все и дело. Я заснял план инженера Кочнева, и за этим планом прилетит самолет. Из-за этого плана я убил Кочнева…
– Самолет прилетит, план возьмет, нас оставит, – возразил Шараборин.
– Балда ты, – в сердцах выпалил Оросутцев, возмущаясь тем, что Шараборин и этому не верит. – Пленка не проявлена, и аппарат мы отдадим тогда, когда будем на той стороне.
Если бы Оросутцев не вспылил и не обозвал Шараборина балдой, тот бы еще сомневался, а теперь, зная характер своего старшего сообщника, он изменил первоначальное мнение.
Шараборин смотрел пристально на Оросутцева, ожидая дальнейших откровенностей. Он верил и не верил своим ушам. Никогда Оросутцев не посвящал его в подробности своих дел и поступков.
«А может, и правду сказал? – успокаивал себя Шараборин. – Дорожит он фотоаппаратом. Это я сразу подметил».
– И Гарри предупредил меня, – снова заговорил Оросутцев, – чтобы я в трудный момент ничего не скрывал от тебя. Он так и писал на твоей башке. Значит, он доверяет тебе.
– Почему, однако, ты загодя не сказал? – поинтересовался Шараборин.
– Потому, что ты трус, паникер, окаянная душа! – грубо отрезал Оросутцев. – Расскажи тебе все раньше, ты бы со страху давно убежал.
И этому поверил Шараборин. Такая манера говорить была свойственна Оросутцеву.
Шараборин сидел по-прежнему на собственных ногах, в неподвижной позе, и только глаза его поблескивали при свете огня.
– А ты крепко веришь, что самолет прилетит? – все-таки спросил он.
Хмель опять ударил в голову Оросутцева, земля вдруг заняла место неба, но он встряхнулся и продолжал:
– Они больше нас с тобой в этом заинтересованы. Чудак! За этим планом они чуть ли не год гонялись. Да они готовы не один, а дюжину самолетов прислать.
– Значит, веришь? – повторил вопрос Шараборин.
– Э-э… за этот план они хорошие денежки выложат.
– А когда прилетит самолет? – уточнял Шараборин.
– Прилетит обязательно, черт его не возьмет. Прилетит и никуда не денется. Все учтено, все предусмотрено. Я тоже не дурак, я отдам аппарат, когда твердо стану ногой на той стороне. А иначе шиш…
Оросутцев отвечал уже невпопад, повторялся, речь его стала неровной, мысли убегали, он выхватывал их клочками.
– В какое время прилетит самолет? – упорно твердил свое Шараборин.
– Я же сказал. Ну? Будем ждать его с двенадцати ночи до двух. Разожжем пять костров конвертом. Вот так… – Оросутцев хотел начертить пальцем на снегу расположение костров, но упал на бок и выругался. Поднявшись, он рассмеялся. – Разожжем и встретим… И мое дело в шляпе… – и спохватился. – И твое дело тоже. Улетим, и шабаш. Довольно. Свое мы сделали. Мы и там еще пригодимся. Такими, как я, не бросаются, жирно больно. И буду жить, как душа пожелает. Надо только не опоздать…
– Не опоздаем, – заверил Шараборин.
– Спирт еще есть?
– Нет, – ответил Шараборин.
– Ладно, черт с ним… Не проспать бы только… Будем мы с тобой скоро как вольные птицы. Чихать мне на все.
– Однако не проспим? – заметил Шараборин, думая о чем-то своем.
– А старика ты здорово чикнул, – продолжал Оросутцев, укладывая неловкими движениями недалеко от костра хвойные ветви. – Молодец, если бы майора так чикнуть…
– Майор не спит, видать, – оглянувшись, произнес Шараборин. – Он бежит по следу.
– Не бойся! – укладываясь спать и подсовывая под себя ружье, сказал Оросутцев. – У нас всегда два выхода: или живыми остаться, или на одной веревке болтаться. А в общем, ничего не будет до самой смерти. Ложись.
Шараборина передернуло. Он сделал головой такое движение, будто хотел освободиться от захлестывающей его горло петли, и подбросил в огонь большое полугнилое полено.
«Пусть тлеет помаленьку», – решил он и тоже прилег на другой стороне костра.
Каждый из них тешил себя мыслью, что надул другого. Вскоре в тишину ночи вошел храп Оросутцева. Он храпел так сильно, что казалось, человек или задыхается, или захлебывается.
Сообщников разделял постепенно потухающий костер. Оросутцев спал крепким, скорее тяжелым сном охмелевшего человека и не чувствовал никакого холода, а Шараборин не спал.
Он лежал с открытыми глазами, на боку, подобрав колени, и смотрел на огонь, который то совсем потухал, то вдруг находил себе новую пищу и ярко вспыхивал.
Гнилое полено тлело, чадило, и удушливый дым относило в сторону Оросутцева.
Шараборин не мог спать. Мысли давили его мозг. Уж сколько времени он не мог обрести душевного покоя! Сколько времени он с тревогой пытался проникнуть мыслями в будущее и найти ответ на вопрос, что его поджидает!
Пытался и не находил. И вот сегодня он лежит и не знает, что произойдет с ним завтра. Не верит он Оросутцеву. Не такой человек Оросутцев, чтобы сказать правду и оказать помощь другому. Да и он, Шараборин, не такой человек, чтобы принять ложь за правду. Да, он верит в то, что Оросутцев убил инженера и переснял какой-то важный план. Ничего в этом удивительного и невозможного нет. И не вызывает у него сомнений и то, что этот план надо обязательно к завтрашнему дню доставить к Кривому озеру, куда прилетит самолет. И что за план дадут большое вознаграждение, тоже правда. И что самолет прихватит Оросутцева – тоже верно. Но вот в то, что Оросутцев готов прихватить с собой на ту сторону его, в это Шараборин никак не мог поверить. Нет, нет и нет. Зачем Оросутцеву делить с кем-то свою славу и деньги? Зачем ему нужен Шараборин? Какой дурак пожелает себе живого свидетеля, который может где-нибудь и когда-нибудь сказать что-то лишнее?
Да и на что, кому нужен Шараборин на той стороне?
Шараборин поежился, протянул руку, перевернул трухлявое полено.
Вот Оросутцев. Хитрый он. Хотя и пьяный, но ума не теряет. Правда, выболтал многое, но все это неспроста, а с определенным расчетом.
Оросутцеву надо, чтобы его довели до Кривого озера. Довели в срок. А все остальное насчет «вольных птиц», «свободы», – все это чистая выдумка.
Зачем Оросутцеву брать на шею какую-то обузу? И ничего ему Гарри не писал насчет Шараборина. Брехня это. Гарри мог и сам сказать об этом при встрече. А там, когда они придут к озеру или когда прилетит самолет, Шараборину придет конец. О, да… Оросутцев умеет это делать. Его не надо этому учить.
Костер уже перегорал, рушился. Шараборин придвинулся к нему поближе.
Оросутцев по-прежнему храпел с каким-то ожесточением.
«А майор совсем близко, – с опаской подумал Шараборин. – И не один он. У него трое или четверо нарт. И что же получается? Дойдем мы до Кривого озера, и там меня кончит Оросутцев. Не дойдем, не успеем, – майор изловит. Изловит, и опять мне конец. И так и этак худо. Совсем худо. И так конец, и этак конец. Оросутцев не оставит меня в живых, а я его веду. Не доведу, не успею, – майор изловит. Колотился всю жизнь, а что толку?»
Начал донимать мороз. Остывали ноги, спина, руки Шараборин прятал под кухлянку. Он ежился, вертелся на месте, но все это мало помогало.
На душе было чадно, смутно, сердце тревожно ныло и билось в груди короткими неровными толчками. Шараборин уже не мог лежать. Он приподнялся, сел, подобрав под себя ноги. Прислушался. Тайга хранила молчание. Закурил.
Стало как будто теплее. Но потом дым табака показался ему горьким, вызывающим тошноту, и он отбросил прочь папиросу.
В костре догорали и пропадали последние огоньки. До утра было еще очень далеко.
Внутренний голос напоминал Шараборину, что эта ночь может стать последней ночью в его жизни, что все зависит от него самого. Надо действовать, надо что-то предпринимать. Он стоит на решающем рубеже своей жизни.
А Оросутцев храпел.
«Свинья, – подумал Шараборин. – Совсем свинья. Шибко пьяный и не мерзнет. Будет спать до утра. Однако много я ему дал спирта».
И вдруг, озаренный какой-то новой мыслью, неожиданно пришедшей в голову, он быстро поднялся на ноги, странно скособочился и тихо позвал Оросутцева:
– Василий?
Молчание.
Шараборин весь напрягся от наплыва тревоживших его мыслей, вобрал голову в плечи, сделал осторожный шаг вперед и уже громче повторил:
– Василий?
По-прежнему молчание.
Шараборин выждал несколько секунд, чувствуя, как пересыхает горло и прерывается дыхание. И уже совсем громко, точно желая разбудить Оросутцева, крикнул:
– Василий, а Василий!
Ответом был все тот же храп.
Шараборин постоял некоторое время в нерешительности, что-то напряженно обдумывая, а потом решил обойти вокруг угасшего костра. Он шел, и снег оседал под его ногами, а Шараборин нарочито сильно нажимал торбазами, чтобы звучнее слышался хруст. Он сделал круг и вернулся на прежнее место.
Оросутцев оставался недвижимым.
– Спит как мертвяк. Здорово спит, – чуть слышно проговорил Шараборин, громко кашлянул несколько раз сряду и приблизился вплотную к Оросутцеву. Приблизился и наклонился над ним, упершись руками в свои колени.
От Оросутцева так сильно разило спиртным перегаром, что даже мороз не мог его перебить.
– Фу… Чистый спирт, – сказал Шараборин.
Оросутцев лежал на правом боку, лицом к костру, на бескурковке Быканырова. Конец ствола ружья торчал под самым его подбородком.
Шараборин безуспешно попытался вытянуть ружье, ухватившись рукой за ствол, и выругался про себя.
«Однако крепко держит, сволочь…»
Шараборин выпрямился. Предательская дрожь пробежала по его телу, ноги и руки тряслись, но решение уже созрело, и останавиться на полпути он не мог.
«Однако попробую пошевелить», – решил он и, прихватив рукой ворот кухлянки Оросутцева, стал дергать его, сначала неуверенно, робко, а потом все сильнее и сильнее.
Оросутцев спал непробудным сном сильно пьяного и физически здорового человека. И, как бы испытывая терпение Шараборина, стал храпеть еще громче.
«Здорово спит, черт», – отметил про себя Шараборин.
Он долго колебался, охваченный каким-то неодолимым страхом, боролся сам с собой.
«Вот, как и тогда, у избы Быканырова», – вспомнил он.
Шараборин несколько раз протягивал нерешительно руку к груди Оросутцева и, будто наткнувшись на раскаленные угли, резко отдергивал ее обратно.
«Дурак, совсем дурак… Трус… Правду сказал Оросутцев», – проклинал Шараборин в душе самого себя за робость и наконец, преодолев ее, осторожно сунул голую руку в разрез кухлянки. Рука нащупала твердый и теплый кожаный футляр фотоаппарата. Шараборин зажал футляр и как бы оцепенел. Он не знал, не мог сразу сообразить и не сразу вспомнил, что футляр закреплен на ремне, но почувствовал, что на лбу выступили капельки пота. Стало жарко. Он стоял, согнувшись, боясь выпустить из руки то, к чему так долго опасался притронуться.
И наконец пришла немного запоздалая мысль. Шараборин полез свободной рукой под свою кухлянку, нащупал нож, вынул его из ножен, ловко обрезал с обеих сторон тонкий ремешок и облегченно вздохнул. Футляр с фотоаппаратом был в его руках. Шараборин постоял мгновение в раздумье, потом поднял полу кухлянки и засунул футляр в карман брюк.
Ему захотелось сейчас громко смеяться над Оросутцевым, который всегда считал себя умнее других, а его, Шараборина, принимал за глупца. Но он сдержал себя.
«Нет, однако, не засмеюсь. Рано смеяться», – подумал он.
Потом Шараборин пальцем попробовал остро отточенное жало своего длинного охотничьего ножа, опустился на одно колено, занес высоко руку для удара, да так и застыл.
«Дурак, совсем дурак… – быстро сообразил он. – Зачем его резать? Не надо. Пусть спит. Пусть живет, – и он отошел от своего сообщника. – Оживлю огонь, пусть греет его. Будет тепло, он будет спать. Проснется, а меня нет. Оленей всех возьму, а лыжи ему оставлю. Однако на лыжах он далеко не уйдет. Нагонит его майор. Нагонит, а он будет стрелять и, может, убьет майора. И след я спутаю. А жив останется, – майор с ним говорить будет. Долго говорить. А я за это время дойду до Кривого озера. И не изловят меня. Я один, а оленя четыре. Улечу я. Скажу тем, в самолете, что настигли нас, его убили, а я отбился. И делу конец. Правильно, однако, решил».
Шараборин спрятал нож, наломал поблизости сухостоя и бросил его в костер. Тот некоторое время дымил, шипел, а потом выбросил вверх желтые огненные крылья.
– Вот я какой, – сказал сам себе Шараборин, когда собрал оленей и подвел их к нартам.
Он подтянул поясной ремень поверх кухлянки, поправил шарф. На то, чтобы впрячь оленей, ушло несколько минут. Двух свободных оленей он привязал сзади к нартам.
Собрал и уложил на нарты все: котел, заплечный мешок Оросутцева, сырое промерзшее мясо. И усмехнулся про себя.
«Еды ему не надо. Скоро его будет кормить майор».
Он кинул взор на спящего Оросутцева, взял за поводок оленей и повел их с места стоянки не на северо-восток, а на запад.
«Однако сделаю крюк, – решил Шараборин. – Обойду горы. Там худо совсем, и олень не пойдет. Зайду к озеру слева. Там чистое место. Времени хватит, времени много, успею».
Через несколько минут его поглотила тайга.
* * *
Ночную темень тронул рассвет. Одна за одной гасли побледневшие звезды, и восточная часть неба зацветала утренней зарей.
Оросутцеву чудилось во сне, будто над ним плывет, делая большие круги, самолет. Плавает, плавает, отыскивает место для посадки и никак не может приземлиться. Вот уже самолет совсем низко. Так низко, что даже видно летчика, высунувшегося по грудь из кабины. Летчик приветливо машет рукой и что-то кричит. Оросутцев силится понять его, но ничего не получается. Голос летчика заглушается рокотом мотора. Оросутцев тоже начинает кричать, но из его горла вылетают слабые звуки. И, конечно, летчик не слышит его.
«Улетит, улетит… – в отчаянии думает Оросутцев. – Что же делать?»
Самолет удаляется, превращается в маленькую точку, но вот делает разворот и летит обратно совсем низко, почти вровень со снегом, прямо на него. Он страшно гудит, все увеличивается в размерах и вдруг включает фары. Они горят так ярко, что слепят глаза. А самолет вот уже совсем рядом, он убьет Оросутцева. Тот хочет отскочить в сторону, к одному из разложенных костров, но ноги не слушаются его. Они как ватные. Наконец, Оросутцев делает невероятное усилие, срывается с места и прыгает прямо в костер. Самолет с ревом проносится мимо, но огонь костра жжет ноги. Так жжет, что нельзя больше терпеть…
Оросутцев вскрикнул, проснулся и первое, что почувствовал, – жар в одной ноге. Он вскочил и обнаружил, что тлеет торбаз.
Оросутцев выругался и присыпал горящее место снегом.
Потом он почувствовал холод во всем теле и боль в голове. Он попрыгал на месте, похлопал себя руками, чтобы согреться, и лишь тогда заметил, что нет Шараборина.
«Пошел за оленями», – решил он и, повернув голову, скривился: тупая боль сильно давила в затылке.
«Хорошо бы сейчас пропустить чарочку спирта, – с сожалением подумал Оросутцев. – Сразу бы все как рукой сняло. А мы, кажется, проспали. Рассветает. Давно пора быть в дороге. Так, чего доброго, не только к озеру не поспеешь, а еще и попадешь в лапы майора. – Он обвел взглядом место привала: – И чего он там копается?»
Оросутцев постоял немного и потом крикнул:
– Эй, Шараборин! Где пропал?
Тайга переломила звук голоса и сразу поглотила его.
«Костер разводить не будем, – соображает Оросутцев. – Поздно. Обойдемся без горячего. Поедим в дороге сырого мяса. Ничего не случится. А там у озера видно будет. – Он машинально посмотрел на то место, где вчера была подвешена разделанная туша оленя и не увидел ее. – Хм… Что за чертовщина? Или он уже уложил мясо на нарты? Наверное, так и есть».
Но, осмотрев все кругом, Оросутцев не увидел и нарт.
Что-то тревожное и еще непонятное кольнуло сердце.
– Эй! Шараборин! Куда тебя черт занес? – громче крикнул он, и опять никто не отозвался.
Легкий на ногу Оросутцев обежал место привала раз, другой, третий, всматриваясь в просветы между стволов сосен, под елки, но ни мяса, ни нарт, ни оленей, ни Шапаборина не обнаружил. Обнаружил он другое и, пораженный страшной догадкой, весь съежился и обмяк: от привала, в тайгу, на запад уходил нартовый след. Вперемежку со следами оленей путался след ног Шараборина.
Оросутцев, еще не веря собственным глазам, долго смотрел, как завороженный, на уходящий след, и вдруг стремительно бросился по нему вперед. Он бежал, спотыкаясь, утопая по колени в снегу, падая и вновь поднимаясь. И когда пробежал метров сто, окончательно понял, что произошло именно то, чего он так опасался. Шараборин бросил его. Шараборин убежал.
Он взял нарты, оленей и бежал.
Спазмы перехватили горло. Оросутцеву показалось, что в тайге не хватает воздуха. Он жадно, открытым ртом, точно рыба, выброшенная из воды, ловил его, глотал, чуть не задыхаясь. У него было сейчас состояние человека, не умеющего плавать и попавшего вдруг в большую открытую воду.
Его охватило чувство безнадежности, безвыходности, потерянности. Все померкло перед глазами. Исчезли сосны, ели, беспросветной, серой и безмолвной показалась тайга, потемнело расцветающее небо. Все превратилось в непроглядную темень.
И Оросутцев стоял один, долго, неподвижно, свесив, как плети, руки, будто неживой, будто не человек, а что-то высеченное из камня, подавленный, опустошенный, уничтоженный и, казалось, неспособный уже ни на что.
А когда он очнулся, то первое, что сделал, сунул руку под кухлянку.
Фотоаппарата не было. Рука нащупала жалкий, ненужный остаток ремня.
– Не может быть… Не может быть!.. – дико вскрикнул Оросутцев и бросился обратно к месту ночевки.
Он раскидал ногами хвойный настил, облазил на коленях небольшую поляну, но аппарата не нашел. И только теперь, присмотревшись к ремешку, на котором держался футляр, он увидел, что ремень обрезан в двух местах.
«А может, мне все это приснилось? Как самолет и летчик?»
Нет, это был не сон. Оросутцев протер глаза и увидел только то, что и мог увидеть: ружье и лыжи.
Глаза у него точно остекленели, губы распустились, нижняя челюсть отвисла и подрагивала. Ему почудилось, что он сходит с ума. Он судорожно сжал голову руками.
И Оросутцеву не удалось сдержать то, что само по себе помимо его воли рвалось наружу. От сознания, что произошло что-то страшное, непоправимое, он завыл точно зверь. Из его горла вырывались звуки странные, порывистые, выдававшие растерянность, отчаяние, злобу.
Оросутцев упал на то место, где проспал ночь, упал вниз лицом, подложив под голову руки, и застыл.
Он долго лежал, пока окончательно не пришел в себя.
Он вспомнил вчерашний вечер, обрывки разговора, застрявшие в пластах одурманенной хмелем памяти.
«Да, я допустил ошибку, страшную, роковую ошибку. Я сказал ему много такого, чего не надо было говорить. Но как это все вышло? Как он посмел?»
Это последнее никак не укладывалось в голове Оросутцева. Он готов был рвать на себе волосы, биться о землю. На пути его еще никогда не попадались люди, которые бы могли его перехитрить, обмануть. А те, кто пытался это сделать, потом горько раскаивались и, как правило, расплачивались жизнью. Оросутцев всегда считал себя хитрым и умным, сообразительным и дальновидным. Его никогда не пугала пограничная стража, его не смущали замысловатые запоры сейфов, он всегда умел и удачно обходил расставленные на его пути препятствия. Он научился быстро сближаться с людьми, от которых можно было извлечь пользу для своих хозяев, умел расположить к себе этих людей, пробраться к ним в душу, говорить языком советских граждан, и вдруг… Кто, кто? Шараборин! Да, именно Шараборин! С которым он намеревался расправиться окончательно не позднее, чем сегодня, там, у Кривого озера. Этот дурак и трус смог обвести его вокруг пальца, как маленького ребенка.
И другое ясно понял Оросутцев. Он понял, что Шараборин не просто бежал, а направился к Кривому озеру. Ведь не напрасно же он украл фотоаппарат.
Оросутцев уселся на снегу. Отчаяние и гнев обострили его мысли.
«Дурак… Оболтус… Как повернулся у меня язык выболтать ему все? – хлестал он сам себя. – Спирт, конечно, спирт. Он нарочно налил мне много, чтобы выведать все. Подпоил, а я идиот. Последний идиот… Поверил, кому поверил? Уж лучше бы он, сволочь этакая, прирезал меня, как этого старика Быканырова. Ведь теперь тайга проглотит, сожрет меня, – и задумался. – А почему в самом деле он меня не прикончил? Ведь я спал как убитый, и даже не слышал, как он залез мне под кухлянку. Что остановило его? Да, конечно, теперь все ясно! Он умышленно не зарезал меня. Да, умышленно. Он хочет прикрыться мной, хочет, чтобы меня настиг и схватил майор. Но нет, не бывать этому! Не выйдет!» – и он вскочил с места, точно его кто-нибудь хлестнул бичом.
Оросутцев быстро посмотрел на часы. Восемь утра. Он машинально завел часы и начал высчитывать вслух.
– Так, до восьми вечера – двенадцать часов, а до двенадцати ночи – шестнадцать. Если я в час буду идти по пять километров, нет, по четыре километра или даже по три, то я сделаю сорок восемь километров. Могу успеть. Надо успеть. Успею. Он вчера сказал, что осталось пятьдесят километров. Это я хорошо помню. И хорошо помню, что надо идти строго на северо-восток.
Он встал на лыжи и начал быстро закреплять их на ногах, все время твердя про себя:
«Успею… Успею… А у Кривого озера мы встретимся с тобой, рыжий дьявол. И поговорим по душам. Ружье-то у меня, а не у тебя. И будь я проклят, если не найду озера».
Оросутцева немного озадачило то обстоятельство, что Шараборин пошел не на северо-восток, а на запад. Но он заподозрил в этом хитрость.
«Нет, дудки, не выйдет… – сказал он сам себе. – По твоему следу я не пойду. По нему пойдет майор».
Почувствовав вдруг прилив решимости и готовности идти хоть на край света, Оросутцев поправил ремень ружья, сорвался с места и, отталкиваясь палками, побежал, странно подпрыгивая, толчками на северо-восток.
Последний перегон
Уже розовела на востоке каемочка неба, когда Шелестов, Петренко и Эверстова, в сопровождении Таас Баса, покинули место ночевки и возобновили погоню. Правильнее было бы сказать не место ночевки, а место ночного привала, так как и в эту ночь, как и в предшествующую ей, никто из троих почти не сомкнул глаз. На всех тяжело отразилась гибель старого охотника Василия Назаровича Быканырова. Не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать. И хотя каждый из троих отлично понимал, что операция еще не завершена, что преступники еще не пойманы, что надо беречь силы и быть готовыми ко всяким неожиданностям, тем не менее никто не мог заглушить в себе боль и тяжесть утраты.
Ночной привал прибавил сил, пожалуй, лишь одним оленям, которые и отдохнули, и хорошо выспались.
Про Таас Баса этого нельзя было сказать. Пес, с того момента, как покинули перекресток, еще не притрагивался к еде, которую ему давали, а ночью несколько раз начинал жалобно скулить и выть.
И если Петренко и Эверстова, тяжело воспринявшие смерть человека, ставшего им близким за несколько суток знакомства, еще могли делиться друг с другом своими переживаниями, то майор Шелестов стал еще менее разговорчив. Он говорил лишь о самом необходимом.
Когда в просвет хвойного моря, колышущегося над головами едущих, показалось солнце, Шелестов посмотрел на часы: было уже начало десятого.
Тайга как бы очнулась от дремы и стала преображаться на глазах. В лучах утреннего солнца она меняла свою окраску из мрачной, хаотической, какой она казалась ночью, превращалась в спокойно-суровую и величавую. К небу тянули свои шатровые кроны могучие сосны-великаны, приветливыми и нарядными казались пушистые ели. Неповторимая игра красок чаровала глаз.
Шелестов, долго общавшийся с тайгой и любивший ее, был неспособен воспринимать сейчас всю ее красоту. Он запечатлевал все лишь зрительно, механически, а не душой.
После гибели старого друга все окружающее казалось ему незначительным. Он был в том тягостном душевном оцепенении, от которого нет лекарств. Привычка, выработанная годами, не раскрывать своих внутренних переживаний еще более усиливала и осложняла их.
Да и как он, связанный прочной мужской многолетней любовью с Василием Назаровичем, мог так, вдруг, легко освободиться от воспоминаний о нем.
Нет, это не просто. Совсем не просто. Воспоминания шли чередой, ярко оживляли давно, казалось, уже забытые встречи с Быканыровым, задушевные беседы с ним, его высказывания, поступки.
Шелестова все время мучила неотвязная мысль: в какой мере он лично повинен в смерти Быканырова. И не потому мучила его эта мысль, что он боялся ответственности или наказания за случившееся, а потому, что он сильно любил старика и воспринял его гибель, как чуть ли не самую большую утрату в своей жизни.
«Да, моя ошибка, – рассуждал с горечью он, – состоит в том, что в засаде я оставил тебя, отец, а не себя и не Петренко. Но я в глубине души мало верил в то, что преступники вновь появятся на перекрестке. Я почти исключил такую возможность, а потому и решил оставить тебя. А ты, Василий Назарович, не послушал меня, видимо, погорячился и не успел продумать последствий своей инициативы. Вот как бывает в жизни. Разные бывают ошибки…»
Олени, неожиданно для майора, провалились в пустое пространство, и Шелестов не сразу понял, что упряжка и нарты угодили в большую яму, занесенную снегом. Олени вытягивались в струнку, лезли из кожи, пытаясь выкарабкаться наверх, но нарты не трогались с места. Оказалось, что левая нога майора, попавшая между пнем и стойкой, на которой держались полозья перевернутых нарт, тормозит движение.
Когда подбежали Петренко и Эверстова, майор не без усилий выпростал ногу, и олени легко вынесли нарты на крутой край ямы.
Петренко подал руку майору. Шелестов крепко схватил ее, легко поднялся наверх, но тут, ступив левой ногой на утоптанное место, присел и скривился.
– Ушиблись, товарищ майор? – озабоченно спросил Петренко.
– Да, видно, так, – ответил Шелестов. Прихрамывая, он сделал несколько шагов к нартам и сел на них.
– Нужно же… – с досадой произнесла Эверстова. – Что это за яма?
– Кто же ее знает, что это за яма, – сказал майор, ощупывая ступню левой ноги. – Мало ли их в тайге…
– А ведь они тоже в этой яме побывали, – заметил Петренко, имея в виду Белолюбского и его сообщника.
– Да, – согласился Шелестов, – поскольку здесь проходит след.
– Больно? – спросил участливо Петренко.
– Немного. Видно, ушиб.
– А ну дайте я пощупаю, а вы говорите, где больно, – предложил лейтенант.
Шелестов не возражал и вытянул вперед ногу.
Петренко опустился на колени, прощупал ногу в голени, а когда дошел до ступни, Шелестов дернулся и едва не вскрикнул.
Петренко посмотрел на майора, на лице которого отразилась боль, и сказал не совсем уверенно:
– Возможно, вывих, вам надо разуться.
Майор закивал головой.
И уже более уверенно Петренко распорядился:
– Надюша! Давайте сюда санитарную сумку, я быстренько разведу огонь.
Пока Эверстова отвязывала с нарт сумку, а Петренко подбирал сухие сучья и поленья, майор еще раз попытался стать на левую ногу и опять, ощутив боль, сел на нарты.
«Черт бы побрал эту яму, – в сердцах подумал он. – Этого сейчас только и не хватало. Хорошо еще, что Грицько и Надюша не навалились на меня со своими оленями и нартами. Совсем была бы каша».
Несколько минут спустя вблизи огня костра Петренко уже осторожно держал в обеих руках разутую ногу майора.
– Да, вывих… Определенно вывих. Видите, уже опухоль, – говорил он, ощупывая больное место. – Вывих в щиколотке. Неприятно, но не страшная вещь. Со мной это не раз приключалось, когда прыгал на лыжах с трамплина. Я уже имею кое-какой опыт в этом отношении. Дайте-ка, Надюша, вазелин, – и тут Петренко без предупреждения сильно дернул на себя ногу майора, заставив его вскрикнуть, вновь ощупал, намазал вазелином и стал делать массаж. – Ну, как теперь? – спросил он майора немного погодя.
– Лучше, товарищ Грицько, – ответил Шелестов и облегченно вздохнул. – Определенно лучше. Я никак не ожидал, что вы мастер на все руки.
– Уж прямо и мастер, – возразил лейтенант, смущенный похвалой. – Хороший физкультурник все должен уметь.
– А вы считаете себя хорошим? – с улыбкой спросила Эверстова, довольная тем, что молодой лейтенант оказался таким энергичным и расторопным.
– А разве я так сказал? – еще больше смутился Петренко.
Шелестов и Эверстова впервые после памятной ночи рассмеялись.
– Но учтите, Роман Лукич, – продолжал лейтенант. – Опухоль увеличится и, пожалуй, продержится два-три дня.
– Чувствую, чувствую, – согласился Шелестов. – Она, эта опухоль, нужна мне сейчас, как трамвайный билет.
Теперь рассмеялся Петренко.
Ступать на левую ногу майор теперь не мог, а поэтому прыгал на правой. На больную ногу Петренко наложил компресс, а так как с компрессом нога не входила в торбаз, то последний пришлось разрезать в подъеме. Когда торбаз водворили на ногу, Петренко обмотал его своей обмоткой.
Майору неудобно было сидеть на нартах в прежней позе, он не мог упираться обеими ногами, а упирался только правой. Поврежденную ногу он положил сверху, вытянув вперед.
– Не нога стала, а какая-то колода, – возмущался майор, пристраиваясь на нарты лейтенанта Петренко. – Теперь вы, Грицько, поедете головным и постарайтесь быть внимательнее меня. Если и вы еще свернетесь в какую-нибудь яму, то нам не догнать Белолюбского.
– Догоним, куда они от нас денутся, – уверенно сказал Петренко, осматривая упряжку оленей и нарты, на которых ехал ранее майор.
Молодой лейтенант был очень доволен тем, что Шелестов поручил ему идти головным.
«Действительно, надо глядеть в оба», – рассуждал он, проверяя, как закреплен груз на нартах и не вывалится ли что по пути после такой встряски.
– Трогайте, трогайте. Зимний день короток, – поторапливал его Шелестов.
– Сейчас, товарищ майор, – отозвался Петренко, оседлал нарты и, подражая майору, гикнул на оленей.
Те взяли с места крупной рысью.
А примерно через час передняя упряжка, управляемая Петренко, внезапно встала. Олени майора не смогли сдержать бега и вскочили передними ногами на задок нарт лейтенанта.
– Что случилось? В чем дело?
Петренко легко соскочил с нарт и взял винтовку на изготовку.
– Ночевали они здесь. Видите? – показал он на виднеющиеся на снегу остатки костра, хвойный настил и отпечатки человеческих ног.
Майор внимательно осмотрел местность. Она была здесь дикой, угрюмой.
– А ну-ка, Таас Бас, ищи… ищи чужого… – отдал он команду собаке.
Таас Бас забегал, принюхиваясь к запахам, оставленным чужими людьми. Эти запахи ему уже были знакомы – и вызывали у него приступы озлобления.
Шерсть на загривке Таас Баса приподнялась. Он остановился на мгновение у перегоревшего костра, потянул носом и решительно бросился на запад, по следу, оставленному нартами.
– Я пробегусь за ним, посмотрю… – сказал Петренко, снимая с нарт лыжи.
– Давайте, – согласился Шелестов. – Только недалеко.
– Есть недалеко, – и лейтенант побежал за собакой по накатанному следу.
Эверстова тоже сошла с нарт и начала осматривать место привала преступников. Она обошла вокруг костра и вдруг увидела новый след.
– Товарищ майор! – вскрикнула она.
– Да, Надюша!
– Лыжный след.
– Лыжный?
– Да.
– Куда идет?
– А вот, смотрите, – и она попыталась пробежать по свежему следу, но вскоре провалилась по колени в снег. – След ведет в противоположную сторону.
– Вижу, вижу. Пока он идет на северо-восток.
– Придется встать на лыжи и проверить, – предложила Эверстова.
– Проверить надо, но не вам. Вот лейтенант возвратится, мы ему и поручим это дело.
– Да я ведь, Роман Лукич, не хуже его бегаю.
– Не в этом дело, Надюша. Вы же теперь еще лучше должны понимать, кого мы преследуем.
– Я понимаю, но…
– А если понимаете, значит, хорошо. Да вот и лейтенант.
Действительно, возвращался Петренко. Впереди его бежал Таас Бас. Пес, достигнув делянки, огляделся, опустил голову, принюхался и сразу же обнаружил лыжный след, замеченный Эверстовой. Таас Бас взвизгнул и бросился по следу.
– Что это такое? – спросил озадаченный Петренко.
– Новый след. Лыжный. Один из них пошел на лыжах. Я сразу увидела, – горячо выпалила Эверстова.
Петренко присвистнул и сказал:
– А нартовый след пошел на запад, а точнее, даже на северо-запад. Я пробежал метров двести, а Таас Бас дальше. Так что же? Выходит, что и этот след надо проверить.
– Обязательно, – сказал майор. – Пройдите, проверьте, а тогда будем решать, что предпринять.
– Есть, – ответил Петренко и встал на готовую лыжню.
– Но далеко не уходите, – опять предупредил майор.
– Понимаю…
Петренко возвратился, примерно, через полчаса. Шелестов и Эверстова в ожидании его грелись у разведенного костра.
– Ну как? – поинтересовался майор.
Петренко сбросил лыжи, вытер рукавом лицо, по которому пот проложил тоненькие кривые бороздки, и доложил:
– Лыжный след ведет на северо-восток. Я пробежался основательно, но след не виляет, а идет прямо. Значит, они решили разойтись. Опять что-то затеяли. Наверно, хотят выиграть время.
Эверстова спросила:
– Не пойму, каким образом они могут его выиграть?
– Время здесь ни при чем, – ответил за лейтенанта майор. – Тут что-то другое. Они, видно, хотят распылить наши силы. Если так, то это неудачный ход. На лыжах от оленя далеко не уйдешь.
– А так не могло быть, – заговорил Петренко, – что на лыжах кто-то специально пошел для того, чтобы отвлечь на себя наше внимание?
Эверстова перевела глаза на майора. Тот помолчал некоторое время и сказал:
– Сомневаюсь, едва ли. Маловероятно. Что значит отвлечь на себя внимание? Это значит пожертвовать собой. Это вы имеете в виду?
– Получается так, – ответил Петренко.
Шелестов усмехнулся.
– Не думаю. Ни на какие жертвы эта публика неспособна. Знаю из личного опыта, что, когда на них надвигается опасность или реальный намек на нее, они скорее перегрызут друг другу горло, нежели пожертвуют собой ради сообщника. Это же не люди, а отребье рода человеческого. Перегоревший шлак, накипь…
– Да, вы правы, – согласился Петренко.
– А теперь надо установить, кто из них пошел на лыжах, а кто воспользовался нартами? – сказал Шелестов.
– Я это установил точно, – спохватываясь, что не сказал этого ранее, доложил Петренко.
– Я тоже знаю, – ответила Эверстова, прервав лейтенанта.
– Что вы знаете? – обернулся Шелестов к радистке.
– Знаю, кто пошел на лыжах. Русский. Комендант Белолюбский.
Шелестов докурил папиросу и бросил окурок.
– Совершенно верно, – подтвердил Петренко.
– А почему вы оба решили так? – спросил майор.
– Якуты так же редко ходят с палками, как русские без палок. А этот пошел с палками.
– Точно, – добавил Петренко. – И еще одна деталь: лыжный след более свежий. Это, конечно, мое предположение. Мне думается, что давность его не превышает трех-четырех часов. С натяжкой можно согласиться на пять часов; но ни в коем случае не более. За это головой могу поручиться.
Петренко умолк. Майор посмотрел на него и спросил:
– Допустим, что это так. К какому же выводу вы приходите?
– Я так считаю, – сказал Петренко и сел рядом с Шелестовым. – Допустим, что Белолюбский покинул это место четыре часа назад и идет он, в среднем, без всякого отдыха, по семь километров в час. Тогда получается, что он удалился от нас на двадцать восемь – тридцать километров. Не более. Я в этом уверен, как лыжник, и сбрасываю со счета то обстоятельство, что он идет не по готовой лыжне, а по цельному снегу. Это не так просто. Так?
– Ну, ну, продолжайте, – заметил майор.
– Значит, если, не теряя времени, последовать за ним на оленях, то его можно нагнать через два, самое большее, через три часа.
Шелестов молчал и кивал головой, думая про себя:
«Да, часа через три, если не меньше. Без отдыха идти очень трудно».
– И я хочу предложить, – сказал Петренко, но его прервал Шелестов:
– Знаю, что вы хотите предложить. Заранее знаю. Я вот тоже думаю: сесть на запасные нарты, кстати, олени в них еще не так устали, и пока эти три упряжки будут отдыхать, попробовать нагнать Белолюбского.
– Правильно, товарищ майор, – все более возбуждаясь, продолжал Петренко. – Только разрешите сделать это мне.
Шелестов неторопливо закурил новую папиросу. Выпустив облачко сизо-голубого дыма, он прищурился. Ему понятно было состояние энергичного, нетерпеливого и неискушенного в боевых делах лейтенанта. Он сам был когда-то таким и хорошо помнит, как ему впервые начальник пограничной заставы поручил нагнать и задержать нарушителя советской границы, проникшего на нашу территорию. С каким рвением и энтузиазмом он пошел на боевое задание. Это было давно, очень давно, но память отлично сохранила все детали боевого крещения.
Петренко сидел как на иголках, но не решился заговорить.
Молчание затянулось, и его нарушил сам майор:
– А кроме вас и некому это сделать, – сказал он с улыбкой. – Я-то ведь инвалид.
– Правильно, товарищ майор. Ногу надо поберечь, она еще пригодится.
– Возможно, – заметил майор. – Поезжайте вместе с Надюшей.
Петренко перевел глаза на Эверстову.
– Да, только вместе. Два глаза хорошо, – а четыре лучше. Поедете на запасных оленях, а эти пока будут отдыхать и кормиться. И Таас Баса прихватите с собой.
– Ну, уж нет, – возразил вдруг Петренко. – Одного мы вас не оставим.
Шелестов внимательно посмотрел на лейтенанта, а тот, выдержав взгляд майора, продолжал:
– Да вы сами согласитесь: остаться в таком положении, – он показал на ногу, – совершенно одному, отлично зная, с кем мы имеем дело…
– Правильно говорит лейтенант, – вмешалась Эверстова. – Таас Бас должен остаться с вами, Роман Лукич. Да иначе и нельзя. Это будет преступлением…
– Даже? – усмехнулся майор. – Ну ладно, уговорили. Пусть Таас Бас остается. Собирайтесь. Вы, Надюша, снимите с нарт весь груз, а вы, Грицько, притащите мне дровец, иначе я замерзну. На одной ноге не напрыгаешься.
Когда дрова были принесены и нарты готовы к отъезду, Петренко разложил по карманам обоймы с патронами, повесил поверх кухлянки бинокль.
– Кажется, я готов, – сказал он.
– Если кажется, то проверьте еще раз, – предложил майор.
– Да, готов, – твердо сказал Петренко, поправляя ремень винтовки.
– Тогда возьмите в моей сумке наручники. И помните, что кто бы ни был этот человек, он должен попасть в наши руки живым. И еще: если не нагоните в течение четырех часов, возвращайтесь. Поняли? И последнее: продвигайтесь осторожнее, будьте всегда наготове, особенно в темных местах. Я не исключаю, что они могут устроить засаду. Иначе непонятно, зачем они разделились. А я покараулю здесь.
– Все ясно, товарищ майор. Можно отправляться?
– Трогайтесь.
– Пошли, товарищ сержант, – пригласил Петренко Эверстову и направился к нартам.
Через несколько секунд упряжка, увозящая Петренко и Эверстову, скрылась из глаз.
Шелестов опустился на одно колено, подбросил в костер сухих поленьев и сел на прежнее место.
«Странно, чтобы не сказать больше, – подумал он. – Действительно, зачем понадобилось Белолюбскому встать на лыжи, когда в их распоряжении было четыре оленя? Хм… Что же тут придумать?»
Майор сидел, положив руки между ног и сжав их коленями.
Солнце уже достигло того места, где оно должно быть в полдень. На него наползали небольшие облачка, и оно обиженно хмурилось, точно было этим недовольно.
Вспомнив, что Таас Бас после утраты своего хозяина еще ничего не ел, Шелестов подтянул мешок с продуктами, достал из него два куска замерзшего мяса и начал их отогревать на огне.
Когда мясо оттаяло, майор подозвал к себе Таас Баса. Пес подошел. Он погладил его и дал ему мясо. На этот раз Таас Бас не отказался от еды и, отойдя в сторонку, стал грызть мясо.
– Правильно, дружище, – одобрил Шелестов. – Мне тоже тяжело, ой, как тяжело, но надо жить. И горем горю не поможешь. Вот лишь бы не заснуть только от скуки, да не влипнуть, как кур во щи. И хотя ты верный часовой, а все же я поберегусь от сна.
* * *
Через полтора часа быстрой езды по тайге след лыж вывел преследователей в русло небольшого, промерзшего до дна ручья. Местами ручей был укрыт нетолстым слоем снега, а местами обнажен до льда.
И чем дальше двигались Петренко и Эверстова, тем все более сужались и сближались крутые берега ручья, напоминая собой узкое горное ущелье.
Левый берег, позолоченный косыми лучами солнца, походил на многослойный кусок из различных по окраске геологических пород. Кое-где на нем висели, точно гирлянды, изъеденные и измочаленные дождями и морозами, потерявшие жизнь корни. Поверху, по самому гребешку берега, сплошной стеной тянулась тайга.
А по правому берегу громоздились отполированные ветрами до блеска совершенно лысые черные скалы. Они то лезли друг на друга, карабкаясь вверх и как бы ища простора, то угрожающе нависали прямо над головами, готовые вот-вот сорваться. Между скал, там и сям, торчали, закрепившись каким-то чудом, молодые сосенки.
– Вот видите? – обратилась к Петренко Эверстова. – Опять он отдыхал.
– Вижу, – отозвался лейтенант. – Значит, он отдыхал уже семь раз за эти полтора часа, и если допустить, что на отдых уходило не больше пяти минут, значит, тридцать пять минут долой.
– Видно, лыжник из него неважный, – заметила Эверстова.
– Трудно сказать. Возможно, что он сознательно экономит силы.
След забирал все вверх и вверх, ущелье сужалось, дорога становилась с каждой минутой труднее. Видно было, как преступник прокладывал дорогу между валунами, выпирающими из-под снега, обходил их.
Олени перешли на шаг. Нарты натыкались на валуны.
– Придется идти пешком, – сказал Петренко и хотел было уже сойти с нарт, как их подбросило и перевернуло.
– Кажется, свалились? – весело, не теряя бодрости духа, сказала Эверстова и рассмеялась.
– Да, что-то вроде этого, – в тон ей ответил Петренко, быстро поднявшись.
Олени встали. Бока их тяжело вздымались, точно мехи горна. Над их головами, низко опущенными к самой земле, клубился пар.
Петренко помог Эверстовой подняться и отряхнуть снег, потом тронул оленей.
Ущелье становилось все уже и мельче и, наконец, исчезло, но подъем делался еще круче.
– Тут, должно быть, истоки ручья, – высказала предположение Эверстова.
– И из таких-то вот ручейков и образуются огромные реки. Ну что это за речушка? Так, мелюзга, а сложить их сто, двести, получится знаменитая Лена или Алдан, Вилюй, Олекма.
– Алдан, Вилюй и Олекма – это притоки Лены.
– Это я знаю. И Витим тоже приток Лены. И Пеледуй.
– Правильно.
Олени, идя шагом, с трудом тащили за собой пустые нарты, которые то переворачивались, то кренились на бок, то с ходу ныряли в какие-то ямы.
Ущелье уже осталось позади, но дорогу преграждали бог весть откуда занесенные сюда полусгнившие бревна, оголенные и острые, каменные наросты и густо растущий невысокий, но очень цепкий кустарник. Через все это было очень трудно пробиваться. Олени вновь остановились.
– Какой-то первозданный хаос, – сказал Петренко к ослабил шарф на шее. – Смотрите! – обратился он к Эверстовой. – Крутизна, крутизна-то какая!
– А, по-моему, подъему скоро конец, – заметила Эверстова. – Видите, вдали лесок начинается. Там, наверное, перевал.
– Возможно. Но куда черт несет этого Белолюбского? Вот бы что я хотел знать, – и лейтенант вытащил из кармана спиртовой компас. Он положил его на ладонь, загнал шарик воздуха в кружочек, нанесенный в самом центре стекла, и совместил надпись «Норд» с острием намагниченной стрелки.
Эверстова взглянула на компас, через плечо лейтенанта и, смеясь, ответила на его же вопрос:
– Черт его несет строго на северо-восток.
– Вы правы. Опять, как и ранее, на северо-восток, – согласился лейтенант. Он спрятал компас, посмотрел на часы и задумался.
Майор разрешил идти по следу четыре часа, а Петренко использовал только два. Значит, два часа еще в запасе. Кустарник тянется еще, примерно, с километр, и пробираться через него нет никакого смысла. Силы оленей на исходе. Олени могут выдохнуться окончательно, а этого допустить нельзя. И в то же время нельзя не использовать оставшиеся два часа. Возможно, что эти два часа внесут ясность в создавшееся положение. Значит, надо действовать и не терять драгоценного времени.
– Я вот что предлагаю, Надюша, – заговорил Петренко. – Вы останетесь здесь с оленями, а я попытаюсь пробраться по следу до перевала. Посмотрю, как и что там. У нас с вами в запасе два часа. Их, я думаю, хватит мне, чтобы выбраться на гору. Как истекут четыре часа, я немедленно возвращаюсь обратно, независимо ни от чего. А олени пусть отдыхают. Иначе они нас обратно не довезут. Согласны?
– С чем? – спросила Эверстова.
– С тем, что олени не довезут нас обратно.
– Да… Но это очень необходимо?
– Что именно?
– Одному идти по следу?
– И необходимо, и неизбежно. – Петренко угадал чувства Эверстовой. Она не считала возможным пускать его одного, а потому он решил мягко и тактично объяснить, почему принял такое решение. – Олени очень устали, вы видите сами. Они могут попадать. Это нас не устраивает. Так ведь?
– Да, – еще недостаточно уверенно ответила Эверстова.
– Возвращаться обратно, не использовав определенного майором времени, неразумно. Верно?
– Да, еще два часа.
– То-то и оно. За два часа я могу отмахать километров десять – двенадцать. Возможно вполне, что Белолюбский, забравшись на гору, решит основательно передохнуть, подкрепиться чем-нибудь. Вы заметили, что он еще ни разу не разводил огня за всю дорогу? А вот тут он распалит вдруг костер, расположится, а я и свалюсь ему как снег на голову. Представляете картинку?
– Примерно.
– Я бы, конечно, не возражал идти вдвоем, но бросать на произвол судьбы упряжку, это значит потерять голову. Ведь все может быть. Мы с вами пойдем, отойдем километров пять, а Белолюбский, сделав петлю, придет сюда, сядет на нарты и был таков.
Эверстова закивала головой.
– Я все это прекрасно понимаю, но, пожалуйста, будьте осторожнее. За это короткое время на наших глазах и так произошло много страшного.
– Ничего не поделаешь, – заметил Петренко, отвязывая лыжи и палки. – Борьба без жертв невозможна.
– Ну, знаете ли… – возмутилась Эверстова. – С таким ответом я не согласна. Надо делать все возможное, чтобы жертв не было. Эти убийцы не стоят и волоса с головы такого человека, как дедушка.
Петренко уже встал на лыжи, проверил прочность их крепления, осмотрел готовность винтовки, попробовал, как действует освобожденный от смазки и почти насухо протертый затвор. Все оказалось в порядке, как и должно было быть.
Вооружившись палками, Петренко сказал:
– Вы правы, Надюша. Но я тоже прав, спорить не будем. Обещаю быть осторожным. Буду глядеть и глазами и затылком.
– Ну, счастливо… – бросила вдогонку Эверстова.
* * *
Лейтенант затратил не больше получаса, чтобы добраться до перевала.
Остановился, передохнул и немало удивился: как резко и быстро изменилось все вокруг.
Перевал был совершенно гол. На нем отсутствовала не только какая-либо растительность, но даже не держался и снег.
Взору лейтенанта открылась лежащая внизу и тоже безлесная долина, в которую круто спускался след лыж, оставленный Белолюбским.
Долина, покрытая, точно серебристой скатертью, чистым снегом, тянулась километров на восемь или девять, а дальше за нею в неоглядную даль уходила черная тайга, похожая издали на огромную звериную шкуру.
Петренко оттолкнулся палками, легко пробежал по лыжне несколько шагов и, вглядевшись в след, уходящий вдаль, остановился как вкопанный.
– Он! Он! Неужели?!
Впереди внизу, километрах в трех от него, маячила на снегу одинокая черная точка.
Петренко, не теряя из виду эту уменьшающуюся точку, быстро вытащил из-под кухлянки бинокль, поднес его к глазам, также быстро подрегулировал линзы и четко и ясно увидел человека. До него, казалось, было теперь не больше трехсот метров, и он просматривался, как на ладони. Высокий, плечистый, в короткой кухлянке или дошке, с ружьем за спиной, энергично работая двумя палками, он быстро удалялся в северо-восточном направлении и то становился вдруг маленьким, когда низко пригибался, то вновь вырастал, когда выпрямлялся.
– Вот она цель нашей погони! Вот наконец-то…
Сердце у лейтенанта зачастило, как у завзятого охотника, увидевшего крупного зверя. Он посмотрел на часы и подумал: «В моем распоряжении еще час с лишним».
Петренко снял с себя поочередно винтовку, бинокль, кухлянку. Винтовку он вновь повесил на шею, а кухлянку и бинокль оставил на снегу.
«Нет, от меня он не уйдет. На такую дистанцию мне не потребуется отдыха, а вот как ему – не знаю. Он с утра на ногах, а я только встал на ноги. И кажется мне, что ноги у меня больше тренированы, чем у него. А, в общем, сейчас все это будет видно».
Петренко поправил шарф, сильно оттолкнулся палками и покатился вниз.
Он бежал, почти не ощущая тяжести собственного тела, превратившись в комок напряженных мышц и нервов. Ветер свистел в ушах, мороз, точно огнем, палил лицо. Петренко мчался, не обращая ни на что внимания, поглощенный единственной мыслью нагнать преступника и оправдать доверие, оказанное ему майором.
Преследование захватило, захлестнуло его целиком. Он не смотрел по сторонам, не оглядывался назад. Он весь напрягся в своем стремлении нагнать Белолюбского.
Но, пробежав с километр, Петренко почувствовал, что во рту пересохло, в груди что-то жжет, дыхание стало прерывистым, неравномерным, сердце колотится не в меру сильно.
Он сбавил темп бега, перешел на шаг, остановился, сбросил с себя ватную стеганую фуфайку и остался в форменной суконной гимнастерке.
Разгоряченный Петренко уже не чувствовал холода.
«Горячо взял с места. Напрасно. Надо было постепенно наращивать темп. Ну, ничего. Сейчас придет второе дыхание. Ничего…»
Он посмотрел вперед и с удовлетворением отметил, что нужда в бинокле отпала. Расстояние между ним и Белолюбским сократилось до такой степени, что Петренко видел коменданта уже невооруженным глазом.
– Неужели не оглянется? – спросил самого себя Петренко, готовый возобновить погоню, но в этот момент Белолюбский, словно услышав его вопрос, остановился, оглянулся и бросился бежать уже сильнее.
«Теперь вперед!» – скомандовал сам себе Петренко и побежал вслед Белолюбскому, постепенно наращивая скорость.
Потом он вынул из кармана носовой платок, сунул его в рот, закусил зубами и освободил шею от шерстяного шарфа, мешавшего равномерному дыханию.
«Вот и в норму вошел», – отметил он про себя с радостью наблюдая, что расстояние между ним и комендантом сокращается.
Гимнастерка, заправленная в стеганые ватные брюки, вздувалась пузырем на спине лейтенанта, но он все ускорял и ускорял бег, призывая на помощь каждую мышцу своего натренированного тела.
Расстояние между ними сокращалось. Не более двухсот метров отделяло теперь Петренко от Белолюбского.
Мелькала мысль: «Окажет ли сопротивление?»
Ухо лейтенанта уже улавливало скрип лыж Белолюбского и звенящий звук палок, которыми тот отталкивался. Эти звуки подбадривали Петренко и давали ему новую энергию.
И вот Белолюбский еще раз остановился и повернул голову через плечо, точно волк.
Петренко немного сбавил бег, выжидая, что предпримет враг.
Белолюбский остановился на какую-то секунду и побежал вновь.
И когда дистанция между ними сократилась метров до семидесяти, Петренко сделал энергичный бросок вперед, остановился, вынул изо рта платок, вздохнул всей грудью и, сложив руки рупором, крикнул:
– Эй, бандюга! Стой!
Белолюбский мгновенно остановился, пригнулся, точно ожидая удара, неуклюже повернул голову назад и, издав какой-то нечленораздельный звук, вновь бросился вперед.
– Стой! Стрелять буду! – крикнул Петренко, снял винтовку и передернул затвором.
Но Белолюбский продолжал бежать, и лейтенант вынужден был не отставать от него.
Когда же расстояние уменьшилось метров до пятидесяти, Петренко остановился, сбросил с правой руки рукавицу, взметнул винтовку к плечу, затаил по привычке на мгновение дыхание и нажал плавным движением пальца на спусковой крючок.
Выстрел прокатился по снежным просторам многократным, долго не замирающим эхом, переломился и угас.
Петренко не брал на этот раз Белолюбского на мушку, он дал как бы предупредительный выстрел. Но преступник, видимо, решил, что надо что-то предпринимать. Он внезапно остановился, схватился за ружье, воткнул в снег палки и залег лицом к лейтенанту.
«Ага, тут не до шуток, – подумал Петренко и тоже упал на грудь, – что-то вроде поединка получается», – и тут он только почувствовал и увидел, как зло подшутил над ним безжалостный мороз. Он прихватил кончик его указательного пальца и оставил маленький лоскуток кожи на спусковом крючке.
В это время грохнул выстрел, и пуля с визгом прошла над головой.
«Впервые в жизни по мне стреляют. Наверное, жеканом бьет, на дробь не надеется», – смекнул Петренко и, обуреваемый задором, свойственным всем молодым людям, крикнул:
– Бросайте ружье, господин комендант… Стрелять не умеете. Учитесь, как надо стрелять…
Он подвел линзу оптического прицела под глаз и увидел, как лежит Белолюбский, погрузившись в снег, и как торчат по обе стороны его две лыжные палки.
Одна палка легла на мушку, и Петренко спустил курок. Палка переломилась, точно срезанная бритвой. Петренко взял на прицел вторую, и опять раздался выстрел. И вторая палка была перебита надвое.
– Отбросьте ружье в сторону! – скомандовал Петренко. – Иначе оно немедленно разлетится в ваших руках. – Слышите?
Белолюбский лежал неподвижно. Через оптический прицел Петренко увидел на его спине кусок перебитой им палки.
«Чует, мерзавец, наверное, что я в него не буду бить», – подумал Петренко и вдруг заметил, что Белолюбский шевельнулся, приподнял лицо, заметенное снегом, и быстро выстрелил второй раз.
«Дурак, – отметил про себя Петренко. – Что же ты дальше будешь делать? Перезаряжать двустволку?»
Так оно и получилось. Белолюбский изогнулся, и Петренко догадался, что он полез под кухлянку за патронами.
«Но надо раньше выбросить стреляные гильзы», – рассуждал Петренко, не отводя глаз от оптического прицела и наблюдая за каждым движением Белолюбского.
А тот, опасаясь, видно, чтобы в стволы ружья не попал снег, осторожно перевернулся на бок, приподнял двустволку и переломил ее надвое для перезарядки.
Этого только и ждал Петренко. Он приложился и дал четвертый выстрел.
Что-то звякнуло, хрустнуло, и Белолюбский уткнулся головой в снег.
Без всяких опасений Петренко вскочил на ноги, встал на лыжи, достал новую обойму и перезарядил винтовку.
– Вставайте! – громко крикнул он. – Вставайте, а то я сделаю из вас решето!
Белолюбский не сразу начал подниматься, и в сердце лейтенанта закралась тревога: уж не задела ли его пуля.
Нет, видимо, не задела, потому что комендант не только встал, но даже отряхнулся от снега.
– Вы не ранены? – спросил Петренко, приближаясь и держа винтовку на изготовке.
Белолюбский не ответил, а лишь отрицательно покачал головой.
Петренко приблизился метров на пятнадцать и увидел на снегу остатки того, что несколько минут назад называлось охотничьим ружьем.
«А жаль ружья, – подумал Петренко. – Ведь из него стрелял не так давно дедушка Быканыров. Но иного выхода не было. Враг без ружья лучше, чем враг с ружьем».
Петренко остановился.
Несколько минут офицер-разведчик и преступник стояли в молчании, разглядывая один другого, изучая, примериваясь.
Белолюбский смотрел озлобленно, с вызовом, и весь вид его говорил о том, что при любом положении он готов оказать сопротивление.
– Бывший комендант рудничного поселка Той Хая Белолюбский? – последовал вопрос, прозвучавший для преступника, как выстрел.
– Я пить хочу, – ответил Белолюбский.
– Хотенья остаются хотеньями. Я разрешаю вам поглотать снега.
Болезненная гримаса скривила лицо коменданта, и, зачерпнув горсть снега, он затолкал его в рот.
– А теперь становитесь на лыжи и марш вперед. Быстрее поворачивайтесь! – подал команду Петренко. Белолюбский выполнил ее.
Петренко сошел с лыжни в сторону, пропустил вперед задержанного и направился за ним следом, выдерживая дистанцию шагов в десять – двенадцать.
Белолюбский шел не торопясь, неуверенно, потому что лишился палок, а возможно, и потому, что устал.
Но такие темпы не устраивали лейтенанта. Короткий день быстро угасал, и надо было торопиться.
– Живей, живей, господин комендант, а то вам придется вот так, как есть, на снегу ночевать, – предупредил Петренко.
Белолюбский прибавил шагу.
– Стойте! – потребовал Петренко.
Белолюбский остановился.
Петренко приблизился и бросил ему свои палки.
– Возьмите, так лучше будет.
Белолюбский вооружился палками и зашагал увереннее и быстрее.
Петренко, как тень, следовал за ним, выдерживая прежнюю дистанцию и держа оружие наготове.
По пути он подобрал ватную стеганку и надел ее. И это было в самую пору, потому что тело, разгоряченное погоней, давно остыло, и лейтенанта уже пробирал мороз.
«Хорошо еще, что свитер был под гимнастеркой, а то и околеть можно при такой температуре», – подумал он и, посмотрев в гору, на мгновение остановился. С перевала, до которого теперь оставалось рукой подать, стремглав неслась на лыжах Эверстова. Она шла по-местному, по-северному, без палок, накренив корпус вперед, и взмахами правой руки сохраняя равновесие. Под левой рукой у нее была зажата кухлянка, брошенная Петренко на перевале.
«Вот так-так, не выдержала, беспокоилась, видно», – с чувством благодарности к товарищу подумал Петренко.
Эверстова ловко обежала идущего впереди Белолюбского.
– Одевайте немедленно кухлянку. Давайте мне винтовку. Вот так. Я все видела в бинокль, который вы оставили на перевале, а когда началась стрельба, уже не могла стерпеть. За оленей не беспокойтесь, быка я привязала, а важенка никуда от него не отойдет. Ну и молодец же вы все-таки! А Белолюбский зверем смотрит, я мельком взглянула на него. Он, наверное, узнал меня. Смотрите, даже не оглядывается.
– Пусть себе идет, – сказал Петренко, забирая обратно винтовку.
– А не убежит он? – высказала опасение Эверстова.
– Не думаю, – уверенно ответил Петренко. – Он очень близко познакомился с моей винтовкой. А на всякий случай сделаем вот что. Доставайте пистолет и идите впереди него.
– Есть, товарищ лейтенант, – ответила Эверстова.
Петренко приказал Белолюбскому остановиться и пропустил Эверстову вперед. Движение возобновилось.
Перевала достигли через несколько минут. Погода резко изменилась.
Закатное солнце, точно затянутое густой синевой и безлучное, падало за пики снежного хребта, волоча за собой серые тени. Небо на горизонте, покрытое мутно-сизой мглой, припало к земле. Быстро сгущались сумерки. На перевале играла поземка, по-местному хиус, завивая в длинные хвосты снежную пыль. Тайга, раскинувшаяся внизу, за перевалом, замерла, притихла, прислушиваясь и готовясь к чему-то неизбежному.
– Метель будет, товарищ лейтенант, – сказала Эверстова. Она стояла и смотрела из-под руки на уходящее солнце. – Надо торопиться.
– Идите, идите, – отозвался Петренко и подумал: «Действительно, надо торопиться. Погода мне тоже не нравится. Как же нам поступить? Заставить Белолюбского бежать сзади, за нартами, нельзя: он тертый калач и имеет в своем арсенале тысячу уловок и хитростей. Махнет в сторону, и ищи его потом. Стрелять в него тоже нельзя, ведь его надо доставить живым. А в темноте и прицел не взять. Пустить его вперед на лыжах тоже ничего не получится. Да и как он будет идти с наручниками? Придется его на нарты сажать, а самому бежать следом. Другого выхода нет!»
А Эверстова думала о другом:
«Как хорошо, что мы успели! Еще час или полтора, и поземка замела бы след, особенно там, в долине, на чистом месте. И Белолюбский ушел бы, и мы до привала не добрались бы. Как там Роман Лукич? Наверное, уже беспокоится».
Спуск с перевала под гору, хотя и затрудненный росшим здесь в изобилии цепким кустарником, прошел значительно быстрее, чем предполагали Петренко с Эверстовой. Ветер здесь был немного слабее, и его грозное нарастание слышалось лишь в верхушках высоких сосен. Наступала быстрая в этих краях, с короткими сумерками, ночь.
Но вот показались нарты, привязанный к ним на длинной веревке олень-бык и пасущаяся в стороне важенка.
Почувствовав приближение людей, олени повернули головы.
Петренко приказал Белолюбскому остановиться, подошел и потребовал у него лыжи и палки, потом передал винтовку Эверстовой и вынул из кармана стальные наручники.
– В случае чего, стреляйте по ногам, и только по моей команде, – тихо, почти шепотом сказал он и заметил, как у нее тихонько дрогнула в руках винтовка. – Поняли?
– Есть, – коротко отозвалась Эверстова.
Петренко приблизился к Белолюбскому.
– Вытяните руки вперед! – скомандовал он и, посмотрев на лицо преступника, увидел на нем подтеки липкого, уже замерзающего пота. – Вытрите лицо.
Белолюбский вытянул левую руку, правой стал вытирать лицо… Лейтенант не увидел, а скорее почувствовал, закрепляя металлический браслет на одной руке, как по нему пробежал острый скользящий взгляд преступника.
– Ой! – раздался вскрик Эверстовой.
Белолюбский, видя что его и вооруженную женщину разделяет сейчас безоружный лейтенант, размахнулся правой рукой, но… получив внезапно сильный удар в подбородок, отлетел в сторону, точно мешок с опилками, и упал навзничь.
Лейтенант, как оказалось, был начеку.
«Здорово, кажется, я его турнул», – подумал он, бросился к упавшему, но тот, быстро оправившись, вскочил на ноги и, вобрав голову в плечи, тяжело дыша, стал надвигаться на него.
– Бросьте валять дурака! – предупредил лейтенант, принимая боксерскую стойку и чуть пятясь назад. – Бросьте, а не то я вам ребра переломаю.
Но его предупреждение не возымело действия. Тот решил идти ва-банк и, подойдя вплотную, бросился на Петренко.
Возможно, что Белолюбский был физически не только крупнее, но и сильнее Петренко, но он не владел мастерством боксера. Нанеся несколько беспорядочных ударов, не давших никакого эффекта, он сразу изменил тактику и попытался схватить молодого противника и подмять его под себя. Но из этого ничего не получилось. Петренко не допускал его близко к себе и в то же время бил его в лицо, в грудь, под ребра точными рассчитанными ударами, точно вымешивал густое тесто.
Эверстова, хотя и убедилась в преимуществе лейтенанта, все же опасалась за него. Напряженная до предела, она металась из стороны в сторону, стараясь занять такое место, с которого можно было бы выстрелить, не ранив лейтенанта. Ей уже пришла в голову мысль подкрасться к озверевшему Белолюбскому и ударить его прикладом, но этого не потребовалось. Лейтенант сделал противнику полный нокаут. Получив сильный удар в висок, Белолюбский упал, точно бревно, на спину. Петренко склонился над ним, выпростал обе руки и защелкнул браслеты наручников.
Отойдя в сторону, он вытер рукавицей вспотевшее лицо, сделал несколько вдохов и выдохов и сказал:
– Ничего, сейчас отойдет. Это не смертельно.
– Подумайте, какой негодяй, – возмущалась Эверстова. – Вы знаете, я вся горю…
Петренко усмехнулся.
– Он не дурак, Надюша. Знает, что мы в него стрелять не будем, а потому и идет на все. – Он посмотрел в сторону Белолюбского. – Пусть отдыхает. Давайте запрягать оленей. Я так прогрелся, что, видно, не замерзну до самого привала.
Помогая лейтенанту запрягать оленей, Эверстова сказала:
– Ну, знаете, Грицько, это замечательно! Честное слово! Я бы никогда не подумала, что вы так легко справитесь с этаким медведем. Он же куда больше вас!
Польщенный похвалой, уставший и в то же время радостный оттого, что вышел победителем из схватки с опасным преступником, Петренко ответил:
– Спасибо добрым людям, что вызвали во мне любовь к стрелковому делу, лыжному спорту, боксу. Смотрите, все пригодилось, и все пришлось использовать.
– Да… Это большое дело… – и, прервав мысль, Эверстова сказала: – Смотрите, он встает.
– Ну и пусть, – произнес Петренко. – Вы, Надюша, сядете впереди и поведете упряжку. Сзади вас я посажу его.
– А вы? – быстро спросила Эверстова.
– Я пойду сзади на лыжах.
– Позвольте, – возразила Эверстова. – Уж лучше я пойду на лыжах.
– Вы сядете на нарты, – сказал Петренко, и Эверстова прекратила разговор.
Тучи наползали на тайгу, порывами налетал ветер.
Когда нарты подвели к Белолюбскому, тот стоял, широко расставив ноги, и, видно, еле-еле держался на них. Его пошатывало из стороны в сторону.
– Садитесь вот сюда, – указал ему место на нартах Петренко.
Белолюбский не произнес ни слова, только скрипнул зубами, сел, и его привязали веревкой к нартам.
Поземка задувала уже и здесь. Она шуршала в кустарниках, завивалась, обещая буран. Подгоняемые сзади ветром, нарты покатились в обратный путь.
Уцепившись палками за нарты, скользил на лыжах Петренко.
Пурга
В парусиновой палатке, освещенной печкой, сидели майор Шелестов, лейтенант Петренко, сержант Эверстова и скованный наручниками Белолюбский.
Снаружи бесновалась пурга. Кругом все завывало, гудело, скрипело, сотрясалось. Ветер бушевал с чудовищной силой, крутил, свистел, люто ревел. Он вздымал снег тучами кверху и бросал на тайгу; выметал его начисто на открытых местах, обнажая стылую, промерзшую землю; зарывался в него, точно бурав, вертя глубокие воронки; перекатывал его словно воду волнами, мгновенно наметая бугры и сугробы.
Ветер проникал всюду: в таежные крепи, на перевалы и в ущелья, на вершины гор и в долины рек, сотрясал могучие сосны, грозясь повергнуть их в прах, гнул в дугу податливые нежные березы, лохматил и безжалостно ломал молодняк – ельник, растущий в одиночку; налетал сильными, стремительными порывами на палатку, силясь вырвать ее вместе с шестами и растяжками, закрутить и унести на своих крыльях бог весть куда. Но прочно закрепленная руками человека и приваленная метровым слоем снега палатка не только не поддавалась его усилиям, но и сохраняла внутри тепло, так необходимое людям. Только парусина палатки трепыхала и издавала звуки, похожие на барабанный бой.
Олени, отказавшись от поисков ягеля, сбились плотно в кучку и держались поближе к людям.
Таас Бас лежал в углу палатки, положив большую голову на свои сильные лапы, и глаза его выражали грустную покорность. Изредка пес поднимался, потягивался, высовывал нос из палатки и тут же возвращался на прежнее место.
Стихия неистовствовала. Тайга охала, вздыхала, стонала и как бы звала кого-то себе на помощь.
«Уже час прошел, как началась эта кутерьма, – рассуждал про себя Шелестов. – Сколько лет живу в Якутии, но еще ни разу ничего подобного не видел».
Он полулежал на правом боку, вытянув вперед поврежденную ногу, опухоль с которой еще не спала, но уже позволяла наступать на ногу. За спиной майора, подобрав под себя ноги, ютилась Эверстова. Белолюбский сидел против Шелестова, их разделяла горящая печь, а неподалеку от Белолюбского расположился лейтенант Петренко.
В красноватом отблеске пламени печки лицо преступника с оставленными на нем рукой лейтенанта синяками и кровоподтеками имело зверский вид.
Монотонным голосом, без всяких оттенков, развязно Белолюбский плел всякую чепуху, отвечая на поставленные перед ним вопросы.
Почему он покинул рудник? По самой простой причине. Выйдя от майора Шелестова с полной готовностью выполнить его поручение – обойти дома жильцов поселка, он неожиданно узнал от одного из рабочих рудника, что недалеко от пруда обнаружены следы неизвестного. Он заподозрил, что это следы именно того человека, который нужен майору. Он решил проявить инициативу, действовать немедленно, и бросился по следу. Он считает, что поступил вполне правильно, и не понимает, почему его самого вдруг начали преследовать и одели на него наручники? То, что он ушел от нартового следа в противоположную сторону, тоже объясняется очень просто: он шел ночью, не желая прерывать преследования. И сбился. Уклонился немного на северо-восток. Откуда ружье? Как откуда? Он его подобрал в пути на снегу.
Его, видно, обронил тот, кого он преследовал. Почему не послушал офицера, не остановился и оказал сопротивление? Да потому, что принял этого офицера за злоумышленника, которого преследовал. Погоны не успел рассмотреть в горячке. Не до погон было, когда в тебя стреляют.
Белолюбский умолк. Ему хотелось, чтобы майор ставил ему еще вопросы, выдал бы свою осведомленность.
Наговорившись вволю, он попросил пить. Петренко налил из чайника остывшей воды и поднес ее ко рту диверсанта. Тот выпил ее большими отрывистыми глотками.
Майор Шелестов не ставил больше вопросов. Он молчал. Молчал и диверсант. Молчал и думал. Мысли его двоились. Он понимал, что песенка его спета и что выхода никакого для него нет. Ему было совершенно ясно, что майор молчит не потому, что ему нечего сказать. Если бы не вероломство Шараборина, пожалуй, стоило бы продолжать начатую сначала линию поведения, продолжать морочить голову этому майору всякой галиматьей. Он отлично знал, что обвиняемый может говорить все, что взбредет на ум, отрицать все обвинения, опровергать все улики, отметать все доказательства. Если бы не Шараборин! После совершенной им подлости, измены, какой смысл имеет эта игра? Будет ли он, Белолюбский, врать или нет, его все равно не освободят.
Нет, нет. Да и в конце концов докопаются, кто он, а возможно, уже и докопались. Продолжать запирательство? Молчать? Упорствовать? Зачем? Для того молчать, чтобы спасти Шараборина? Оттянуть время и дать ему возможность сесть в самолет и оказаться на той стороне? Да провались он сквозь землю, рыжая сволочь! Будь проклята эта хитрая беззубая собака, укусившая его, Белолюбского, исподтишка. Он улетит, получит деньги, предназначенные не ему, а Белолюбскому, будет жить и на все плевать, а тот, кто заработал эти деньги собственным горбом, будет сидеть за решеткой, и не год, не два, не пять, всю жизнь. О-о-о! Уж он знает, какой срок определит ему суд. Почти точно знает. Да и хорошо еще, если срок. А если похуже срока? Шараборин, обокравший его, присвоивший его деньги, будет жить припеваючи и смеяться над ним, а он в это время будет гнить.
Нет! Этому не бывать! Никогда не бывать!
Но Белолюбский еще не решался сказать правду и полностью разоблачить себя. Он отучился говорить правду, хотя в данном случае и сознавал, что правда погубит и того, кто нанес ему удар в спину. Не поступи так Шараборин, Белолюбский отдыхал бы сейчас на расстоянии одного перехода от Кривого озера, и неизвестно еще, настигла бы его погоня или не настигла.
Да зачем гадать? Можно точно сказать, что не настигла бы. Пурга отрезала бы путь преследователям, как она отрезала сейчас от них Шараборина. И тот, конечно, торжествует. Да, он, видно, и сделал все с таким расчетом, чтобы Белолюбский попал в руки майора. Конечно! Такая мысль приходила в голову Белолюбскому еще на последнем привале. Шараборин для спасения своей собственной шкуры отдал на съедение его.
Так что же? Ради этого молчать? Врать, зная наверняка, что вранье не спасет?
Но почему майор ни слова не промолвил о Шараборине? Почему он не заикнулся ни разу об инженере Кочневе? Неужели весь переполох начался с того, что они прирезали двух якутов: молодого и старика? А вдруг именно так? Тогда вообще нет никакого смысла молчать и прикрывать грехи того, кто тебя продал.
– Думаете? – нарушил его молчание майор.
Белолюбский вздрогнул от неожиданности, погруженный глубоко в собственные мысли. Они у него путались, собирались в петельки, завивались в узелки, а узелки развязать не удавалось. Да что там говорить: его изобретательный ум уже терял свою гибкость.
– Как вы сказали? – переспросил он.
– Я спрашиваю: думаете?
Белолюбский усмехнулся.
– Мне нечего думать, – ответил он.
– Видно есть, коли так долго думаете, – спокойно заметил майор.
Искушенный неоднократными беседами с врагами, Шелестов уже привык к их повадкам, к их тактике, и его нисколько не удивляло глупое и ничем не оправданное поведение Белолюбского. Но он не хотел раскрывать преждевременно своих карт, не хотел показывать свою осведомленность и боялся неосторожным вопросом испортить все дело.
Майор еще не знал ни того, кто убил Кочнева, ни того, с какой целью совершено это убийство, ни того, куда бежали убийцы, ни того, наконец, что их заставило разъединиться и побежать в разные стороны.
Не мог знать Шелестов и того, какая внутренняя борьба происходила у сидящего перед ним диверсанта.
Майор нервничал от сознания, что второй злоумышленник недосягаем и находится в безопасности. Пурга, конечно, упрячет его следы. А там, попробуй, ищи ветра в поле.
Подчас раздражение принимало острую форму, перерастало в ярость, при которой теряешь власть над собой: в желании встать, схватить за грудь этого матерого волка, встряхнуть его раз-другой хорошенько и заставить заговорить по-настоящему. Но кто-кто, а уж Шелестов хорошо знал, что следователь, дающий волю рукам, показывает, как правило, свое бессилие, беспомощность и неумение разоблачить врага.
А время шло. Пурга продолжала свой неистовый концерт.
Белолюбский мучительно боролся с самим собой, с охватившими его чувствами. Он так плотно и сильно сжал челюсти, что даже скрипнул зубами.
– Без трех минут восемь, – уронил Петренко, ни к кому не обращаясь и глядя на циферблат часов.
Белолюбский вздрогнул. В голове его быстро пробежало:
«Через четыре-пять часов прилетит самолет. Может быть, там, в районе Кривого озера, и пурги нет? Прилетит и увезет Шараборина. А я, идиот, сижу и молчу. А что толку из этого? Разве это спасет меня? Только ухудшит дело, усугубит вину. А он, мерзавец, будет торжествовать и издеваться надо мной».
Ярость вскипела, забурлила в нем с такой силой, что потемнело и задвоилось в глазах. Ему вдруг показалось, будто перед ним сидит не один, а два майора.
Шелестов взглянул на свои часы и небрежно сказал, обращаясь к Белолюбскому и скрывая ладонью зевоту:
– Что ж, если у вас нет настроения рассказывать о себе правду, отложим беседу до утра. Будем отдыхать.
«Отдыхать, хорошенькое дело, – подумал Белолюбский и шумно вздохнул, вытянул неестественно прямо свой корпус. – Я буду отдыхать, а Шараборин сейчас, возможно, готовит дрова для встречи самолета. Нет, этому не бывать. Не бывать, будь он трижды проклят. Я буду гнить в тюрьме или в земле, а он, рыжая собака…»
– Спрашивайте, я расскажу всю правду, – прорвало его вдруг.
Он рассчитывал, что от этих слов все вскочат со своих мест и засыплют его вопросами, но ничего подобного не произошло. Все, как сидели, так и продолжали сидеть, не издав ни возгласа восторга или удивления. Больше того, майор, видно, совсем не торопился с вопросами, и лицо его ничего не выражало. Он медленно выбрал из коробки папиросу, помял ее между пальцами и долго рассматривал этикетку на ее мундштуке, будто видел ее впервые и будто она имела для него несравненно большее значение, нежели готовность Белолюбского говорить правду. Эта неторопливость раздражала, выводила из себя диверсанта.
«Будет он курить или нет? Зажжет он папиросу?» – спрашивал он с досадой сам себя.
Шелестов чиркнул спичкой, закурил и прямым твердым взглядом посмотрел в глаза преступника.
– Для вас это единственный выход, – спокойно и сдержанно произнес он.
Тот пожал плечами и подумал:
«Почему единственный? Хотя, да… А что он может знать обо мне? О чем он меня будет спрашивать?»
– Ну, рассказывайте, – подтолкнул его майор.
– Спрашивайте, что вас интересует, – уклончиво ответил Белолюбский. – Я на все отвечу.
– Вечера вопросов и ответов устраивать не собираюсь, – с прежним спокойствием сказал майор. – Если вы решились говорить правду, начните, и вот с чего: при вас обнаружено два комплекта документов: на имя Белолюбского и Оросутцева. Ваша настоящая фамилия?
– Оросутцев, – ответил диверсант. И, немного подумав, добавил с улыбкой и развязностью, которой он пытался маскировать свою тревогу: – Вам, конечно, интересно знать, как я стал Белолюбским?
– Пока нет, – неожиданно ответил Шелестов. – Всему придет свое время. Это мой последний вопрос на сегодня. Если вам есть что рассказать мне, прошу…
«Все знает, – обожгла догадка мозг диверсанта. – Знает и играет со мной, а время идет».
И он заговорил, беспрестанно оглядываясь и шаря по палатке беспокойными глазами, будто в ней сидел кто-то, могущий взять под сомнение его слова или опровергнуть их…
Да, до этого он врал. Даже сам не знает, почему. Возможно, боялся ответственности. Вполне возможно. И это естественно. А теперь расскажет все-все без утайки. С самого начала и до конца. Он все обдумал, взвесил.
Он готов понести любое наказание по заслугам. Так вот. Несколько дней назад на рудник Той Хая пришел Шараборин. С ним он знаком давно. Шараборин знает отлично прошлое Белолюбского как контрабандиста и в любое время мог выдать его органам следствия. Если бы не Шараборин, Белолюбский не сидел сейчас здесь, а продолжал бы честно работать комендантом рудничного поселка. Но, появившись на руднике, Шараборин, путем угроз и вымогательств, заставил его выкрасть ключи от сейфа, которым пользовался приехавший из центра инженер Кочнев. Он выкрал ключи. Шараборин снял с них слепки и изготовил точно такие же. Потом он проник к сейфу, когда Кочнев был на вечерней прогулке, открыл сейф, извлек из него какой-то важный план и начал фотографировать. В это время в комнату вошел Кочнев. Шараборин выстрелил в него из пистолета и убил его наповал.
Окончив съемку, Шараборин водворил карту на место в сейф, выбрался, никем не замеченный, из конторы и той же ночью оставил рудник. Ему, Белолюбскому, он приказал перед уходом проверить, что последует на руднике после его бегства, и явиться к нему в тайгу в условное место. Белолюбский так и сделал, в чем теперь горько раскаивается. Чтобы скрыть свои следы, он привязал к рукам и ногам оставленные ему Шарабориным медвежьи лапы. В фотоаппарате Шараборина хранится непроявленная пленка. Он несет ее к Кривому озеру. Через четыре или пять часов, а точнее говоря, между двенадцатью и двумя часами сегодняшней ночи, у Кривого озера должен приземлиться заграничный самолет и взять к себе на борт Шараборина. Шараборин рассказывал, что за план ему обещано иностранной разведкой большое денежное вознаграждение, и, самое главное, чему тот придавал особенное значение, – вывоз с территории Советского Союза. Самолет прилетит, со слов Шараборина, с крайней северной точки японских островов и сядет на пять костров, выложенных конвертом. Вот и все. Хотя, нет… Этим преступления Шараборина не исчерпываются, и утаивать их теперь нет никакого смысла. По пути к озеру Шараборин на глазах у него тяжело ранил, а возможно, и убил колхозника Очурова, чтобы забрать у него оленей и нарты. Точно так же Шараборин поступил и с неизвестным якутом-стариком, ружье которого ему понравилось. Он прирезал этого старика при встрече с ним. И с ним, Белолюбским, Шараборин поступил тоже подло. Беря его в проводники к Кривому озеру, он обещал ему большое вознаграждение, но ничего не дал. Больше того, когда до озера оставалось совсем пустяки, каких-нибудь пятьдесят километров и Шараборин понял, что доберется до него самостоятельно, он бросил сонного Белолюбского на произвол судьбы, с одним ружьем и лыжами, взял оленей, продукты и нарты и удрал. Между прочим, Шараборин совсем недавно бежал из лагерей. По его шее давно веревка плачет. И еще одна маленькая деталь. Шараборин не имеет личных документов, кроме учительского диплома на фамилию Потапова.
Вот теперь все…
Белолюбский умолк.
Шелестов попросил лейтенанта подать ему полевую сумку. Получив ее, он извлек планшетку с картой и углубился в ее рассматривание.
Белолюбский спросил себя мысленно, правильно ли он поступил, изложив обстоятельства дела именно в таком виде, и решительно ответил:
«Да, правильно. Да, да, да… Влип я – хорошо, но пусть и он сломает себе шею. Уж теперь-то майор не даст ему возможности выбраться на ту сторону. Ни за что не даст. В этом я уверен. И пусть Шараборин, попав, как и я, в лапы майора, говорит, что хочет, из этого ничего не выйдет. Пусть он выкручивается, пусть доказывает, что он не верблюд и не тот, кем я его представил. Едва ли ему поверят. А мне поверят. Да. Возможно, уже поверили. Я первый, сам пошел на откровенность и рассказал все. И это мне зачтется. И на следствии, и на суде я буду твердить то же самое. Я-то ведь за свою жизнь еще ни разу не попадался и не сидел, а Шараборин ой-ой!
Ну… а если, бог даст, нам доведется попасть в одну камеру или отбывать срок в одном месте, я ему зубами перегрызу горло. Сам подохну, но перегрызу. Он еще узнает меня. Но чего тянет майор? Что он сроду не видел карты? Или никак не найдет это злосчастное Кривое озеро? В чем дело? Остались считанные часы! Надо немедленно запрягать оленей, садиться на нарты и, невзирая на вьюгу, мчаться, сломя голову, к озеру. Ведь Шараборин и в самом деле может улететь. Чего же ждет майор? Почему он не торопится?
Надо быстро, очень быстро ехать, чтобы покрыть расстояние в пятьдесят километров и подоспеть вовремя. Хотя… если у майора сильные олени, он уверен в них и знает хорошо дорогу, то пятьдесят километров – пустяки. Ну, максимум три часа. Так чего же порю горячку? Старый дурак. Нервы. Нервы расшатались».
Белолюбский окинул вороватым взглядом лейтенанта Петренко, майора, по-прежнему разглядывающего карту, и опять продолжал свои рассуждения:
«Да, да. Можно еще кое-что продумать и, главное, не торопиться и держать себя в руках. Возможно, еще не все пропало. Если майор прихватит меня с собой до озера, а иного выхода у него, по-моему, нет, то я попытаюсь упросить его снять наручники. Попытаюсь. Что я теряю? Ровным счетом ничего. И не сейчас. Нет, нет… Не сразу, а уже в дороге. Скажу, что отмерзают руки. Начну охать, стонать. Что-нибудь придумаю. А без наручников в такой кромешной темноте стоит только метнуться в сторону, сделать пять-шесть шагов, и тебя никакой дьявол не сыщет. А стрелять в меня они не будут. Это точно. Я им нужен живой. В этом я уже убедился. Ну а на худой конец можно рискнуть дать тягу и с наручниками. Не так уж они и прочны. Добраться бы только до первого камня, а там они вмиг разлетятся. И пусть тогда рыжая собака разделывается за все своей собственной шкурой. Пусть. Вот только силы надо беречь. Силами подзапастись надо».
И вдруг неожиданно даже для самого себя Белолюбский выпалил:
– Есть я хочу, гражданин начальник. Покормили бы.
Шелестов оторвался от карты, сложил планшетку и сказал:
– Что же вы ломались, когда вам предлагали?
– Так, по глупости… Погорячился…
Шелестов усмехнулся.
– Дайте ему что-нибудь, – сказал он Петренко, взяв от печи остро отточенный топор с изогнутым топорищем и положив под себя. – И снимите с него наручники. Пусть сам поест.
Белолюбский не верил своим ушам.
Лейтенант подал ему отваренное мясо, начатую банку рыбных консервов, кусок пшеничного калача и освободил одну руку от браслета наручника.
«Наручники! – криво усмехнулся про себя Белолюбский и размял освобожденные руки. – Жалкий металл! А какая в них сила! Вот я свободен, а через несколько минут опять раб».
Голодая более суток, Белолюбский ел быстро, жадно и даже попросил дать еще хлеба. Майор разрешил, и лейтенант дал целый калач. Тот и его уничтожил.
Во время еды Белолюбскому пришла отчаянная мысль: попытать счастья, свалить ногой печь и попробовать выскочить из палатки. Но эту мысль он сразу же отбросил, как негодную. Лейтенант, с кулаками которого он так близко познакомился, пристально следил за ним, да и загораживал выход. И пес, о котором диверсант забыл думать, лежал и смотрел на него.
«Нет, не сейчас. Теперь ломаться не буду и попрошу еще раз поесть в дороге», – решил Белолюбский.
Когда с едой было покончено, лейтенант, не ожидая команды майора, подошел к Белолюбскому и накинул на руки второй браслет.
«Вот и все», – отметил про себя Белолюбский, услышав звук защелкнувшегося автоматического замка.
Майор продолжал молчать и курил одну папиросу за другой. Вот он достал новую коробку «Казбека».
Надо было обладать большой выдержкой и крепкими нервами, чтобы не выдать своего волнения. А разве можно не волноваться, когда более или менее стала ясна картина преступления? Нет, невозможно.
Шелестов хорошо знал врагов и их психологию, чтобы принять за чистую монету признания Белолюбского. Практика говорит, что преступник всегда старается свалить вину на сообщника и максимально уменьшить свою собственную вину. В данном случае это было тем более вероятно, что Белолюбский считает Шараборина вне досягаемости властей и, следовательно, не боится его разоблачения. Что же касается самолета, то это могло быть правдой. Ведь неизвестно, какое чувство у преступника было сильней: стремление к тому, чтобы избежать очной ставки и разоблачения или, наоборот, желание, чтобы сообщник разделил его собственную судьбу.
Возможно, что Белолюбский и тут врал. А что, если нет? Сознание того, что Шараборин может избегнуть рук правосудия и нанести урон родине, передав иностранной разведке план большой государственной важности, страшно волновало майора. Он лишь не показывал этого. Конечно, если бы не пурга и перед ним, как до этого, лежал след, он бы не пощадил ни себя, ни друзей, чтобы проверить показания Белолюбского и нагнать Шараборина. А сейчас, в такую темень и буран об этом нечего было и думать.
– Который час? – спросил Шелестов рассеянно, совершенно забыв, что на руке у него собственные часы.
– Половина девятого, – в один голос, точно по команде, ответили Петренко и Эверстова.
Шелестов с отчаянием думал:
«Уходит время, и ничем его нельзя ни восполнить, ни остановить. Как жаль, что для суток отведено всего лишь двадцать четыре часа. И как жаль, что глаза наши не могут достигать расстояний, которые способны пробегать мысли».
И мысли майора сейчас были далеко-далеко, на пути к Кривому озеру, к которому стремился Шараборин.
«Значит, прав был в своих догадках Василий Назарович, – думал майор. – Чуяло его сердце, что он имеет дело с “Красноголовым”. Где же он сейчас, этот “Красноголовый”? Сидит где-нибудь в яме и ждет, пока пройдет непогода? Или пробирается через таежные дебри к озеру, невзирая ни на что? А может быть, он уже добрался до озера? Что такое пятьдесят километров? Ерунда. А у него четыре оленя. Хм… И еще вопрос: смогу ли я добраться до Кривого озера, где никогда не был? Едва ли. Возможно и доберусь, но буду плутать. И опять нужно время».
Шелестов поднялся с места, осторожно ступил на больную ногу, шагнул, отвязал натянутый ветром шнур, отбросил полог палатки и, пригнувшись, вышел наружу. Порывистый ветер сильно ударил, прихватив дыхание, колкий снег сек лицо.
– Това… – хотел Шелестов позвать лейтенанта Петренко, чтобы обменяться с ним мнением с глазу на глаз, но сразу захлебнулся. Ветер погасил его крик на полуслове, и Петренко ничего не услышал. Да и невозможно было что-нибудь услышать среди шума бури! Вокруг все кипело, бурлило, и в белесой замети нельзя было увидеть даже пальцев собственной вытянутой руки.
Шелестов, чтобы устоять на ногах, наклонил корпус вперед, будто готовясь ударить кого-то головой, и то еле-еле удержался.
«Сидеть здесь нам крепко, – подумал он. – Будь она проклята, эта пурга. И нужно же было ей свалиться на наши головы именно сегодня! Уйдет “Красноголовый”. Определенно уйдет. А чего доброго, переберется на ту сторону. И что предпринять, ей-богу, не знаю. Что только делается! Ничего не видно. Жуть какая-то», – но тут ему мгновенно пришла новая мысль.
Шелестов вернулся в палатку, задернул полог, закрепил конец шнура за стойку и остановил глаза на Эверстовой.
Радистка приподнялась и без слов поняла, что интересует майора, и сказала:
– Могу сейчас же.
Шелестов кивнул головой, сел на прежнее место, достал из полевой сумки блокнот, карандаш и стал быстро писать.
Эверстова вынула из чехла портативную радиостанцию, раскрыла ее, надела наушники и попросила Петренко вывести антенну.
Вынужденное бездействие мучило Эверстову. Она готова была разрыдаться от сознания того, что ни майор, ни лейтенант, ни она не могут придумать и предпринять что-нибудь действенное для поимки ускользающего из их рук Шараборина. А тут еще вдобавок ко всему сидит этот Белолюбский, в присутствии которого нельзя обмолвиться лишним словом.
Установив антенну, в палатку вошел Петренко. Он не мог скрыть своего волнения.
«Неужели упустили? Неужели уйдет? Как же быть? В конце концов нельзя же сидеть на месте! Шут с ней, с погодой», – думал он.
Он попросил кусочек бумаги у Эверстовой, быстро набросал на нем несколько фраз и передал листок Шелестову.
Тот прочел:
«Разрешите мне запрячь в нарты оленей, взять запасных, прихватить Белолюбского и пробираться вместе с ним к озеру».
Шелестов покачал отрицательно головой, бросил бумажку в печь и подумал:
«Горячая молодость! Для нее нет преград!» – и спросил, подавая Петренко листок:
– А как вы на это смотрите?
Быстро пробежав несколько строк, лейтенант с улыбкой ответил:
– Положительно. Прекрасно…
– Передайте тогда Надюше.
Эверстова, получив бумажку, прочла ее, посмотрела на майора и быстро закивала головой. Потом она склонилась над радиостанцией и стала искать в эфире позывные центра.
«Совещаются, – подумал Белолюбский. – Вот же бестолковые люди! Сколько же еще на свете идиотов! Ну чего тянут? Ведь скоро девять часов. Осталось каких-нибудь три часа!»
Он убеждался, что его «признание» не пошло впрок. Непонятные для него офицеры, оказывается, не желают чинить препятствий Шараборину в его намерении перебраться на ту сторону. Все внутри у Белолюбского ходило ходуном. Он не стерпел и, с трудом уняв раздражение и злобу, внешне спокойно, с прежней развязностью сказал:
– По-моему, нам торопиться надо, гражданин начальник. Улетит Шараборин. Как пить дать, улетит.
– Пурга, – не менее спокойно ответил Шелестов. – Слышите, что там творится? Придется запасаться терпением. Никакой самолет в такую погоду не прилетит. Собьется с курса. А одолеть пятьдесят километров за три часа при таком буране никому не под силу. Да и олени не пойдут.
– Олени не пойдут, – человек пойдет, – попытался Белолюбский еще раз воззвать к разуму майора. – Лейтенант отличный лыжник, я тоже неплохо хожу.
– Поздно, – отрезал майор. – Не надо было мудрить, а говорить раньше.
Белолюбский закусил губу. Гримаса передернула его лицо. Глаза его налились кровью. Он готов был взвыть от обиды, готов был кататься по земле. Мысль о том, что уже завтра, быть может, Шараборин будет далеко и, вспоминая его, станет смеяться, вызывала неодолимые приступы бешенства. Он поднял скованные руки и с ожесточением стал рвать волосы.
Но никто не обратил на это внимания.
Взоры майора и лейтенанта были прикованы сейчас к Эверстовой. Вот она подняла левую руку ладонью вверх, как бы стремясь водворить тишину, и затем сказала:
– Меня просят переходить сразу на прием.
– Нет, нет, – запротестовал Шелестов. – Ни в коем случае. Пусть сначала принимают.
Эверстова поняла майора и энергично застучала ключом.
* * *
Было десять часов с минутами. Петренко и Эверстова по приказанию майора легли спать.
Белолюбский сделал вид, что тоже спит, и лежал с закрытыми глазами на спине, протянув ноги к печке. Опустошенный, подавленный, он потерял сон.
Все рухнуло, все планы разлетелись вдребезги, и его мозг уже не видел никакого выхода.
Шелестов не спал и не пытался ложиться. Он сидел, курил одну папиросу за другой и, прислушиваясь к завываниям ветра, думал о своем. Мысли его то витали около Кривого озера, то заносили его в Якутск, в круг семьи, то возвращали назад, туда, к перекрестку, где остался лежать Василий Назарович Быканыров, то упорно бились над решением вопроса, как и что надо выведать еще от пойманного Белолюбского.
Когда сон начинал туманить его голову, Шелестов протягивал руку к сухим поленьям и подбрасывал их в печь, чтобы она не затухла.
Около одиннадцати часов майору показалось, будто порывы ветра стали слабее. Он прислушался. Действительно, палатка уже не сотрясалась, ветер не задувал в трубу, стало сравнительно теплее.
«Хотя бы… Хотя бы…» – подумал с тоской Шелестов и, приподнявшись с места, вышел на воздух.
Первое, что сейчас же бросилось в глаза, – хорошая видимость, которой не было час тому назад. Конечно, видимость не отличная и даже не обычная, но вполне достаточная, чтобы легко разглядеть и пересчитать оленей, сбившихся в кучку метрах в десяти от палатки. А еще некоторое время тому назад это было невозможно.
Снег почти не падал. Сквозь разрывы в облаках кое-где проглядывали звезды. Но самое важное – улегся ветер. Еще не совсем, правда, но значительно. Шелестов мог теперь без всяких усилий стоять во весь рост.
«Хорошо… Замечательно…» – заметил Шелестов. Вооружившись лыжной палкой и прихрамывая на левую ногу, он обошел место стоянки и убедился, что все следы, ведшие на привал и с привала, исчезли, будто их никогда и не было. Кругом лежал цельный, нетронутый снег. «Выходит, что, приехав сюда вчера часом или двумя позднее, мы бы потеряли не только Шараборина, но и Белолюбского. – Майор постоял несколько минут и, наблюдая, как заметно слабеет ветер, подумал: – Выбился из сил, присмирел».
Он вернулся в палатку, не торопясь закурил и, заметив, как под приспущенными веками Белолюбского поблескивают глаза, сказал ему:
– Что притворяться, ведь не спите? Поднимайтесь.
Белолюбский тяжело вздохнул и сел.
– Курить хотите?
Белолюбский смотрел и молчал, точно приговоренный к смерти.
– Значит, не хотите курить? – повторил вопрос Шелестов.
Белолюбский передернул плечами.
– Да нет, закурю, если дадите.
Шелестов достал папиросу, прикурил ее о свою и, дотянувшись до Белолюбского, сунул ее ему в рот.
– Курение успокаивает нервы, – заметил майор, сделал глубокую затяжку и выпустил дым. – Что ж, давайте продолжим беседу. У вас есть настроение?
Белолюбский молчал. Конечно, откровенная беседа его не устраивала. Ему хотелось бы ограничиться тем, что он уже сказал о себе и о Шараборине. Но во имя того, чтобы вызвать к себе известное расположение или даже жалость со стороны майора, ради того, чтобы получить возможность оказаться в дороге без наручников, он готов был пойти на все. Надежда на это ни на минуту не покидала Белолюбского. И хотя он отлично понимал, что после оказанного сопротивления лейтенанту, после попытки расправиться с ним ему почти невозможно рассчитывать на доверие, он на что-то надеялся. Больше того, надежда росла и крепла. Теперь Белолюбскому было ясно, что вопрос преследования Шараборина отпал. Шараборин уже вне опасности и наверняка у Кривого озера. Значит, следует думать лишь о том, как обрести свободу, как вырваться из рук майора. Можно, конечно, опять избрать тактику молчания, но что это даст? Пожалуй, ничего. Это лишь обозлит майора, настроит его против него. И, видно, придется опять говорить, с расчетом, что этот разговор будет последним. Не может быть, чтобы не было выхода.
– Ну так как? – напомнил майор, прервав раздумье Белолюбского.
– Спрашивайте, – ответил тот.
– Только без вранья, – предупредил майор.
– Я говорю правду.
– Пока вы ничего не говорите, – поправил его майор.
– Ну, говорил.
– Это мы увидим. Дальше увидим, – сказал он и спросил: – Сколько времени пробыл на руднике Шараборин?
– Пожалуй, суток двое.
– Точнее.
– Не знаю.
– Вы давно знаете Шараборина?
– Давно.
– Примерно?
– Лет… лет… – Белолюбский прищурил глаза. – Да, лет двадцать.
– Где он останавливался в этот раз на руднике? У кого ночевал?
– Точно не знаю. Я бы сказал. Честно говорю, – точно не знаю.
– А не точно?
Белолюбский пожал плечами, усмехнулся. Ох, и дотошный человек этот майор.
– Меня это, скажу правду, даже не интересовало, – ответил он.
– Почему?
– Ну, видите… Я вам уже говорил. Повторю еще раз. Я давно решил покончить со своим прошлым и на руднике работал честно. Я собственным потом хотел смыть со своего тела родимые пятна. Об этом вам все скажут. Спросите любого на руднике. А когда появился Шараборин, я понял, что от прошлого не так легко отделаться. Признаюсь честно: у меня даже возникла мысль прихлопнуть Шараборина, но рука не поднялась. Одно дело защищаться, и совсем другое нападать.
– Где же вы с ним встречались, беседовали? – последовал вопрос.
– А так, где придется, в разных местах.
«Запутает он меня. Ей-богу, запутает!» – подумал Белолюбский и решил отвечать по-прежнему спокойно, хорошо понимая, что с ответами на такие невинные вопросы медлить нельзя. Надо отвечать, не задумываясь.
– Конкретнее?
– Конкретнее? Пожалуйста. Один раз возле моего дома, это в ту ночь, когда он только явился на рудник. Второй раз у пруда, как мы заранее условились, в третий – около конторы, а в последний – возле продовольственного магазина.
– На воздухе?
– Да.
– На морозе?
– Конечно. А что тут такого?
– Ничего, ничего. Я просто уточняю. Ключи от сейфа вы ему тоже передавали на воздухе?
– Да, у пруда. А возвратил он их мне у продовольственного магазина.
Шелестов кивнул несколько раз головой и закурил новую папиросу.
– Фотоаппарат Шараборин держал при себе или передавал вам? – спросил он после небольшой паузы.
– О! Шараборин хитрый человек.
– То есть?
– Он знает, что надо держать при себе.
– Значит, надо понимать, что фотоаппарат в ваших руках не был?
– Ни разу.
– Ясно.
– А зачем Шараборин взял деньги у убитого Кочнева?
Белолюбский усмехнулся, и лицо его приобрело сейчас то выражение, которое впервые там, на руднике, в кабинете Винокурова, даже понравилось Шелестову.
– Хитрость придумал. Рассчитывал на то, что следствие придаст убийству Кочнева уголовный характер и пойдет по неправильному пути. Убит, мол, с целью ограбления.
– Интересно, интересно… Коварный человек ваш Шараборин, – задумчиво произнес Шелестов. – Ну а теперь расскажите мне по порядку, как вы дошли до жизни такой? Все, все расскажите. Кто вы в конце концов по профессии, чем занимались, откуда родом. Учтите, что рано или поздно это придется рассказывать. А время у нас есть.
– Вывертывать себя наизнанку? – спросил Белолюбский.
– Если вам это сравнение нравится, – пожалуйста.
– Тогда разрешите мне еще раз закурить. Я покурю, подумаю. Конечно, жизнь это такая штука, что запомнить ее всю невозможно. Из-за давности времени многое выпало из памяти, но кое-что и осталось.
– А вы постарайтесь вспомнить, – посоветовал Шелестов.
– Постараюсь, – согласился Белолюбский и прикинул: «Мягко стелет, да как бы спать было не жестко. А какой выход? Опять путать? Путать все, с начала до конца? А вдруг ему обо мне известно больше, чем я думаю? Как тогда? Можно ли тогда рассчитывать на какое-то снисхождение и надеяться на то, что он снимет наручники? Едва ли. Ну и, наконец, это же просто беседа. Протокол-то он не пишет. А если мне не удастся вырваться, я заговорю по-другому».
Он жадно выкурил папиросу и начал рассказывать о себе. Но рассказывал неохотно, лениво. Он не говорил, а как бы жевал жвачку, липкую, тягучую. Складывалось впечатление, будто слова застревали у него в горле и он не находил в себе сил вытолкнуть их оттуда.
Когда Белолюбский делал длительные паузы или уходил явно в сторону, Шелестов поправлял его, умело ставил наводящие вопросы, обращал внимание на разрывы и пробелы в биографии, на неувязки во времени и датах, сравнивал противоречивые, взаимно исключающие друг друга утверждения и спрашивал, какое из них надо считать правильным.
Белолюбский насторожился. Он убеждался в том, что один рассказанный эпизод тянет за собой другой, а тот – третий, и так постепенно клубок разматывается против его желания. К каждому эпизоду невольно прилипают фамилии, детали, подробности, и все надо увязывать, обосновывать или же обрывать и молчать.
Припертый к стене поставленным вопросом, он изворачивался, ерзал от возбуждения на месте, нервничал, терял нить рассказа и путался.
«Да… он сумел меня разговорить, заставил выложить все. В тени остаются связи с иностранной разведкой, но об этом пока ни слова. И так все выболтал. А что поделаешь? Тут – или-или. Или вовсе ничего не говорить и молчать, или говорить. А начал говорить, – видишь, что получается, – подумал Белолюбский, когда Шелестов перестал задавать вопросы. – Неужели он и теперь не снимет наручники? По-моему, снимет. Он, видно, не ожидал, что я так разоткровенничаюсь».
А Шелестов думал:
«Ну и тип. Негде пробы ставить. И, наверное, думает, что я весь рассказ его принял за чистую монету. Да… За ним надо наблюдать еще зорче и обязательно нести дежурство. Для кого же он переснимал план? Для кого? А в общем, об этом после. Сейчас не время». И вслух сказал:
– Что же, давайте подведем итог. Я вас понял так: вам пятьдесят четыре года. Родились в Чите. Фамилия отца и матери – Ведерниковы. Отец был извозчик, мать – портниха. Восемнадцати лет в Первую империалистическую войну вы пошли добровольцем на фронт, а потом также добровольно перешли в белую армию, с остатками которой бежали в Маньчжурию. Там вы обосновались на некоторое время, а в двадцать втором году впервые попали на территорию Якутии в составе отряда, возглавляемого белогвардейским генералом Пепеляевым. Так?
– Правильно, – согласился Белолюбский и подумал: «Память у него хорошая».
– В двадцать третьем году, после разгрома Пепеляева, вы опять бежали в Маньчжурию и обосновались в Харбине. И стали не Ведерниковым, а Красильниковым. Работали в харбинском отеле «Модерн» официантом. Затем перешли на работу в японскую фирму Кокусай унио, имевшую исключительное право на ввоз контрабандных товаров в Китай. С этого момента вы стали контрабандистом, неоднократно переходили границу в сторону Советского Союза и возвращались обратно…
– Совершенно верно.
– В тридцать девятом году вы в последний раз пробрались в Якутию под фамилией Оросутцева, решили порвать с прошлым и стать честным человеком.
– Да.
– В этих же целях вы сменили фамилию Оросутцева на Белолюбского.
– Да.
– А где вы достали документы на имя Белолюбского?
– Чего проще. В тайге за золотой песок можно достать любые документы. Купил у одного парня на Джугджуре.
Шелестов помолчал. Хитрая, едва заметная улыбка дрожала на его губах.
– Плохи ваши дела, Белолюбский, – сказал он.
– Как? Я не понял.
– Прекрасно вы все понимаете. Стаж вашей вражеской деятельности очень велик, а вот сводить концы с концами вы не научились. Да это и не так просто. Точнее, это очень сложно. Чтобы ложь выдать за правду, нужно большое искусство.
Вся уверенность, весь гонор и развязность слетели с Белолюбского, как чешуя с рыбы под ножом опытного повара.
Он пожал плечами и сказал:
– Ваше дело, думайте, как хотите.
Шелестов рассмеялся.
– Почему мое? Ваше дело думать. Ведь не мне, а вам отвечать придется.
– Я все сказал, – угрюмо бросил Белолюбский и в душе выругал себя за то, что вообще начал говорить.
– Вы сказали то, о чем нельзя не говорить, – строго сказал Шелестов. – А о главном умолчали.
– Не понимаю, – покрутил головой Белолюбский.
– Я вам помогу понять. Напомню кое-что. Зачем вы обрили Шараборина?
– Я?!
– Да, вы.
– Не брил. Он пришел бритым.
– И сбритые волосы принес в вашу квартиру?
– Не знаю.
– Это дело другое. А для чего вы получали взрывчатку?
– Рыбу глушить.
– Много наглушили?
– Не вышло ничего. Потонула взрывчатка, и не сработала капсюля.
– Допустим. А почему фотоаппарат, который вам якобы не передоверил Шараборин, висел не на его, а на вашем плече?
– Не знаю. Я сказал то, что было.
– Вы сказали, что Очурова ранил Шараборин, а ведь ранили вы. Ведь Очуров жив и здоров!
Белолюбский молчал.
«Проклятие, – думал он. – Неужели рыжая собака Шараборин попал в их руки ранее меня? Откуда майор все знает?»
– Разговор предстоит еще большой, – сказал Шелестов. – Молчанием вы не отделаетесь. – Шелестов приподнялся. – Грицько! Надюша! Подъем!
Петренко и Эверстова вскочили и, еще не придя в себя, смотрели на майора заспанными глазами.
Шелестов вышел из палатки.
– Вот и конец вьюге, – сказал он громко. – И тишина какая стоит…
Разъяснило. Небо очистилось, и на нем показались звезды. Хвойное море, недавно колыхавшееся из стороны в сторону, стояло притихшее, присмиревшее. Окружающее приняло свои естественные очертания. Лишь у подножия елки ветерок слегка завивал снежную пыль, она клубилась и тянулась к палатке. Олени разбрелись и рыли копытами снег в поисках ягеля.
Колокольчик на шее быка-вожака тихонько вызванивал где-то в стороне. Из палатки вышел лейтенант Петренко.
– Собирать оленей? – спросил он.
Шелестов, раскурив папиросу, посмотрел на часы.
– Да нет, рановато. Без семи двенадцать, – сказал он. – Я считаю, что прежде, чем отправиться в путь, надо основательно подкрепиться. А вы?
– Не плохо было бы.
– Ну и договорились…
На той стороне
В зале офицерского ресторана висел тяжелый табачный дым, до предела пропитанный винными парами. Звенели бокалы, слышался стук карточных колод, неумолчный гомон человеческих голосов, прерываемый то здесь, то там или раскатистым смехом, или разноязычными выкриками:
– Каррамба!
– Ферфлухт!
– Проклятие!
Лица картежников были искажены неровным верхним светом и кипевшими в них страстями.
Эдсон Хауэр сидел один за маленьким столиком, поставленным около буфетной стойки, и заканчивал чтение только что полученного письма от жены.
«…Меня крайне опечалило твое решение остаться там еще на месяц.
По-своему ты, конечно, прав, дорогой. Деньги – большое дело. Сейчас я это чувствую, как никогда. Стелла, узнав, что я сменила старый “Форд” на новый “Шевроле” и купила гарнитур в гостиную, стала опять бывать у нас. Ее Джон ставит сейчас новый фильм “В тени электрического стула”. Я видела несколько кадров. Что-то изумительное! Если бы ты был около меня. А в общем, смотри сам. Тебе виднее. Я буду терпеливо ждать. Если ты найдешь пару к той китайской вазе, что прислал в последний раз, вопрос о гостиной будет разрешен. Стелла, как только приходит, берет в руки эту вазу и разглядывает до того восхищенно и долго, что я начинаю злиться. Она дает мне за нее восемьсот долларов. Эта Стелла готова, кажется, умереть за доллар. Представляю, что будет с Зиммером, если он увидит вазу. Он же антиквар до мозга костей. Он с ума сойдет.
Ну вот пока и все. Сейчас пойду в банк и положу деньги. Пиши каждый день. Обязательно. Жду. Всегда твоя Лилиан».
Эдсон вложил письмо в конверт, постучал им о стол и сунул в карман.
«Да… – подумал он. – Достать вторую такую вазу неплохо, но очень трудно. Дела идут так, что побывать вторично в Северной Корее, видимо, не придется. А жаль, очень жаль. Ваза действительно стоящая и может служить украшением любого дворца. И как я тогда прохлопал?»
Пенная струя пива полилась из бутылки в стакан. Эдсон обвел прищуренными серыми глазами небольшой, но очень шумный зал, заполненный летчиками разных национальностей, и поморщился. Скучища неимоверная! И что только находят люди в картах? Непонятно.
Вспомнив, что его должен ожидать майор Даверс, Эдсон поднялся, бросил на стол бумажку и покинул ресторан.
Выйдя на воздух, он остановился на мгновение, ослепленный блеском лучей заходящего солнца. Гладь Японского моря отражала синеву неба и зыбкую солнечную дорожку. На дальнем рейде четко вырисовывались контуры военных кораблей. В прозрачном синем воздухе кувыркались белые голуби, и где-то далеко авиационный мотор напевал свою монотонную песню. Торопливо бежали на запад, видоизменяясь на ходу, курчавые облака, и края их горели светло-оранжевым пламенем.
Эдсон застегнул кожаную куртку и быстро сбежал по шатким ступенькам широкой деревянной лестницы вниз к морю. Он не хотел опаздывать, не любил, чтобы его ожидали, и, зная, что берегом скорее можно дойти до аэродрома, зашагал по протоптанной летчиками узенькой дорожке.
С моря дул легкий западный ветерок. Небольшие волны лениво набегали на песчаный берег, облизывали его и откатывались назад.
Эдсон шел, переваливаясь с боку на бок и наступая на собственную тень. Мысленно он подводил итог сегодняшнему дню, а потом перешел к предстоящему разговору с Даверсом.
«Это же норовистая лошадь! – рассуждал он, размахивая на ходу руками. – Трудно знать, когда и какой ногой она брыкнет. И, собственно, что он мне? Почему я должен с ним церемониться? Я вольная птица и плевать на него хотел. Не сговоримся – брошу все к чертям и улечу. А нет, так возьму и захвораю. Еще лучше. Пусть тогда повертится и походит вокруг меня».
Эта мысль пришла в голову неожиданно и стала сосать его, как пиявка.
Нарастающий звук мотора отвлек Эдсона от размышлений. Он повернулся. С юга тяжело и низко плыл транспортный самолет.
«Айзек прилетел», – отметил про себя Эдсон и остановился, следя глазами, как самолет выпустил шасси, выровнялся и пошел на посадку.
На аэродроме шла обычная жизнь. Техники и мотористы возились у машин с откинутыми капотами, что-то подкручивая и подвинчивая, сновали бензозаправщики, выруливали на старт самолеты, постукивал электродвижок на радиостанции. Из рупора лились звуки грустной японской песенки.
Японцы грузчики, вытянувшись в длинную подвижную цепочку, таскали на склад квадратные белые ящики. Когда у машины Айзека улеглась пыль, Эдсон направился к ней. Все равно по пути.
Маленький, с плутовским румяным лицом, кругленький и весь как бы обтекаемый, Айзек стоял у самолета и заносил что-то в свой коммерческий блокнот. Перед ним на траве лежали кожаные перчатки.
– Айзек? – приветствовал его Эдсон.
– Да, в этом я почти убежден, – весело отозвался тот.
«Никогда не унывает, как мальчишка…» – с завистью подумал Эдсон и спросил:
– Опять желтомордых привез?
– На этот раз нет. Своих ребят. Отвоевались. Двое в пути приказали долго жить.
– Да… – протянул Эдсон, не зная, что сказать.
– Вот тебе и да. Так вот и мы, летаем-летаем и долетаемся. Одного сегодня видел, ну, прямо кочерыжка, а не человек.
Эдсон задержался около Айзека, чтобы переброситься несколькими словами, и спросил:
– Как у тебя эта неделя?
– Неплохо. На четыреста долларов больше.
Эдсон потоптался на месте, покачал головой и затем сказал:
– Везет тебе, в рубашке родился.
– Ха-ха-ха… – закатился Айзек. – Уж кто бы говорил, только не ты. Тебе нечего прибедняться. За сегодняшний ночной вылет ты отхватишь раза в два больше, чем я за всю неделю. Я-то ведь знаю, куда ты готовишься, – и Айзек лукаво подмигнул.
Эдсон промолчал и подумал:
«Вот же проныра! Как он узнал? Ведь Даверс говорил, что об этом не знает ни одна душа».
Айзек хлопнул Эдсона по плечу и, опять подмигнув, добавил:
– Теперь, парень, сохранить тайну трудно. Не такие времена пошли. Необычный рейс требует и необычных приготовлений. Сразу в глаза бросается.
Чтобы перевести разговор на другую тему, Эдсон громко спросил:
– Что нового за вторую половину дня на тридцать восьмой?
Айзек безнадежно махнул рукой.
– Китайские добровольцы отрезали нашу роту и начисто искромсали. У Петерса не вернулись три машины. Тома на моих глазах сбили зенитки, и он воткнулся прямо в землю. Крепс сделал вынужденную на их территории… Хватит?
– Вполне, – сказал Эдсон и тоже махнул рукой. Беседу надо было кончать, он пожелал успеха приятелю и направился через аэродром к домику майора Даверса, стоявшему в конце первого проулочка.
Ветерок покачивал открытую дверь дома, и она скрипела при каждом движении. У самого порога стояла бочка с протухшей дождевой водой. Эдсон сплюнул и по грязной циновке через узенький коридор прошел внутрь домика, сильно пригнувшись на пороге.
Даверс лежал на раскладной кровати с сигарой во рту и с книгой в руках. Глаза его были забронированы стеклами очков в роговой оправе. Увидя вошедшего, он поднялся, бросил книгу на стол и сунул босые ноги в шлепанцы.
– Садись, старина, – пригласил он Эдсона. – Я тебя заждался, – и посмотрел на часы. – Одну минутку, – и он стал поправлять одеяло и подушку.
Эдсон сел, снял шлем и причесал слежавшиеся на голове волосы. Залысины делали его лоб большим и высоким.
Он принюхался и почувствовал странную смесь запахов от дыма сигар, грязного белья и одеколона. В горле запершило. Эдсон прокашлялся и обвел медленным взглядом комнату.
В ней были: ничем не покрытый круглый стол с изогнутыми ножками, два стула, кровать, телефон и гобелен на стене.
Японский гобелен редчайшей ручной работы, не вязавшийся с обстановкой комнаты, привлек внимание Эдсона.
Оторвав глаза от гобелена, Эдсон перелистал книгу с захватанными краями листов, прочел название: «Женщина-вампир» – и подумал:
«Лилиан умерла бы от радости, получив такой гобелен. Для чего он ему? Странный человек!» – и Эдсон перевел глаза на майора.
Тот приводил в порядок свою хилую растительность на голове, стоя перед маленьким стенным зеркальцем.
Понаслышке Эдсон знал, что работник разведывательной службы Даверс – человек с неудавшейся личной жизнью. Рассказывали, что его бросили три жены, но Даверс, кажется, переносил все эти невзгоды без особого вреда для своего здоровья.
Майор повернулся, стряхнул пепел сигары прямо на пол и сел верхом на стул против Эдсона. Потом он положил руки на спинку стула и, посмотрев на гостя близко поставленными глазами неопределенного цвета, спросил своим каркающим голосом:
– Ну, как решил?
Даверс был прям, как ружейный ствол, высок, тонок и чрезмерно сух. За глаза его называли воблой, а иногда миной замедленного действия, так как никто не знал, когда и от чего он может взорваться. Белые вдавленные виски делали его голову узкой. На лице, гладко выбритом и покрытом множеством мелких и крупных морщин, бросались в глаза отвислые щеки. Подбородка у него не было. Почти прямо от нижней губы начиналась белая тонкая шея.
– Цена не сходная, – угрюмо ответил Эдсон и невольно задержал глаза на гобелене.
– Помилуй! – воскликнул Даверс. – У тебя совесть есть?
– Бесспорно есть. А денег нет. Если и есть, то очень немного. Во всяком случае, для меня мало.
Даверс покачал головой, глаза сузились. Эдсон ожидал вспышки, но ее не произошло.
– Практичный ты, старина, – упрекнул он гостя.
Эдсон кивнул головой. Это правильно. Он был очень практичен. Практичность сквозила не только в его словах, но и поступках. Но разве это порок?
– Значит, правду мне говорили, – продолжал майор, – что когда Эдсон Хауэр Богу молится, он и тогда денежные подсчеты делает, – и не дав гостю возразить, спросил: – А у других, по-твоему, денег много?
– Смотря у кого. Для этих целей, как мне и вам известно, ассигновано сто миллионов долларов. Чего же тут прижимать? Я же не в богадельню пришел. Я не солдат, я человек вольнонаемный и летаю за деньги. Это мой заработок. И я имею право торговаться.
– Бесспорно, – согласился Даверс.
– Ну и при том Якутия – это не Япония.
– Как я тебя должен понимать?
– Очень просто. Собьют в два счета. И ночь не поможет.
Даверс откинулся назад и расхохотался. Дряблая кожа затряслась на его щеках.
– Такая вероятность равна нулю, – сказал он. – Ты полетишь на машине с советскими опознавательными знаками. Кто же тебя собьет?
– Это неважно, – махнул рукой Эдсон. – Садиться я должен?
– Непременно.
– Вот видите! Без посадки я пойду за предложенную вами сумму, а с посадкой… А на кой дьявол садиться? Неужели их нельзя выбросить с парашютами?
– Вообще можно. Но, во-первых, у них очень много груза, а во-вторых, ты должен будешь, высадив двоих, взять на борт одного, который тебя будет ожидать и подготовит сигналы. Его ты привезешь сюда, ко мне. Тут, старина, все обдумано и предусмотрено.
Эдсон поерзал на стуле и спросил:
– А погода тоже предусмотрена?
– Ну, уж тут я ни при чем. Операция должна быть выполнена при любой погоде. Игра стоит свеч.
Эдсон ухмыльнулся, почесал затылок.
– Интересно все же, – разглаживая рукой шлем, произнес он, не глядя на майора. – Кто и сколько кроме меня заработает на этой операции?
Майор встал, развел руками и, пододвинув стул, тоже подсел к столу.
– На этот вопрос могут ответить только Даллес и Бог. Только они, – сострил он.
Эдсон не хотел сдаваться. Он твердо решил это заранее. Краем уха он слышал, что будто бы уже трое человек отказались от полета, на который он дал принципиальное согласие Даверсу.
– Я не хочу рисковать головой, жизнью за эту ничтожную сумму, – проговорил он. – Там снегу по пояс. Сядешь и влипнешь, как муха в мед.
– Твоя машина на лыжах, и моторы у тебя хорошие. Я это точно знаю.
– Моторы хорошие, а вот предчувствия не совсем хорошие.
– Это удел слабых и психически больных. Ни я, ни мой шеф не относим тебя к числу таковых, иначе бы ты не сидел против меня. Профессия летчика требует людей сильных, волевых.
Эдсон с шумом вздохнул и вяло уронил:
– Люди разные бывают. Вы один, я другой.
– Ерунда! – отрезал Даверс. – Мы прежде разведчики, а потом уже люди.
Эдсон упрямо дернул головой. У этого майора на каждое слово было готово два.
– Вы забываете, майор, – сказал он, – что жизнь не стоит на одном месте. Все меняется. Не так давно мы были на севере Кореи, а сейчас опять опустились за тридцать восьмую параллель. То, что легко можно было проделать вчера, – сегодня не пройдет. Предложите любому этот полет…
– Только без философии, старина, – перебил его Даверс. – К черту эти твои диалектические узоры: «Жизнь не стоит на одном месте», «Все меняется»… Терпеть не могу. Надо лететь. Понимаешь? Лететь.
– Какая уж тут, к шутам, философия, – огрызнулся Эдсон. – Вы говорите, что «надо», а я вам говорю, что плавание предстоит далекое и трудное.
– Ничего, ты хороший пловец, Эдсон. Очень хороший.
Эдсон усмехнулся.
– Хм… хороший. Хорошие всегда и тонут. Берут даль, рискуют и тонут.
– Э! Тонуть не советую. У тебя молодая жена…
У Эдсона в груди уже нарастало раздражение. Так можно без конца тянуть волынку и ни до чего не договориться.
– При чем тут жена?
– А потом, если уж ты такой несговорчивый, – заметил майор, – то я попробую поговорить с Джемсом. Он, кажется, не из робкого десятка, деньги любит и такой же вольный сокол, как и ты.
– Нашли героя. Он, не долетая до границы, наложит в штаны и вернется.
«Это вполне возможно. Тут он прав», – подумал Даверс и спросил:
– Чего же ты хочешь?
– Вот это другой разговор. Удвойте сумму – полечу, – и он хлопнул по столу большой ладонью. – А нет, – до свиданья. Надоела эта канитель.
Даверс прошелся по комнате взад и вперед, потер рукой то место, где должен быть подбородок, и глянул на часы. Время истекало, а другого кандидата он не имел.
– Ладно! Черт с тобой, – пробурчал он. – Плачу двойную, только не ершись.
Эдсон полез в карман, достал лист бумаги, испещренный вдоль и поперек разными резолюциями, и положил на стол.
Несколько минут спустя, бросив прощальный взгляд на гобелен, довольный собой, Эдсон покинул майора.
* * *
Вылет назначен был на двадцать с половиной часов по якутскому времени.
Ровно в двадцать на «джипе» подкатил на аэродром Эдсон Хауэр.
– Все готово! – доложил ему помощник, когда Эдсон сходил с машины. – Представитель Даверса тут. Он полетит с нами.
– Пускай себе летит на здоровье, – весело отозвался Эдсон и направился к самолету, который уже напоили бензином. У Эдсона было хорошее настроение. Пятидесятипроцентный аванс от условленной платы лежал у него в кармане. Он легко поднялся по лестнице в самолет, пожал руку молодому капитану – представителю Даверса, мельком взглянул на двух невзрачных, широкоскулых, с раскосыми глазами субъектов, одетых по-северному, которых предстояло высадить на той стороне, и вдруг крикнул: – Что это за самоуправство?
Перед ним встали помощник и капитан.
– Вы полагаете, что летим на ярмарку? Сейчас же упаковать груз в два места, иначе я его весь выброшу за борт.
Груз, привлекший внимание Эдсона: железная печка, утепленные палатки, спальные меховые мешки, надувные резиновые матрацы, несколько пар лыж, подбитых короткой оленьей шерстью, набор охотничьих ружей и пистолетов, ракеты, ракетницы, радиоаппаратура, батареи, боеприпасы, взрывчатка, эмалированная и чугунная посуда, лопаты, топоры, пилы, бидоны со спиртом и продукты питания, – лежали внавалку на сиденьях.
– Толкайте все в спальные мешки, – приказал Эдсон. – На выгрузку я дам две минуты, не более, а этак и за час не переносишь.
Началась беготня, суетня, суматоха.
Весь экипаж, исключая двух субъектов, вывозимых на ту сторону, начал укладку груза.
Когда все было готово, Эдсон с выводящей из себя неторопливостью осмотрел упакованный груз, проверил, не забыто ли что, и пошел в кабину управления.
В точно назначенное время он вырулил машину на старт.
У Кривого озера
Путь Шараборина к Кривому озеру был отмечен трупами трех оленей, загнанных, запаленных и брошенных им на снегу.
Отдавая себе ясный отчет в том, что все решает время, Шараборин не стал считаться с оленями. Он гнал их без передышки и покидал нарты лишь в тех случаях, когда его особенно донимал холод. И, покидая нарты, Шараборин не приостанавливал движения, не давал отдыха животным, безжалостно погонял их, а сам, чтобы согреться, бежал следом за нартами.
Третий олень пал у него во второй половине дня, когда до Кривого озера, по примерным подсчетам Шараборина, оставалось не более трех километров. Оставшийся четвертый и последний олень тащить нарты с человеком был не в силах. Он выпряг оленя, навьючил его сумками с мясом и, встав на лыжи, повел его в поводу. Теперь пришлось продвигаться медленно, прокладывая самому себе дорогу по глубокому снегу. Да и погода начала вдруг неожиданно портиться. Грозное, хмурое небо не предвещало ничего хорошего. Подула поземка, вернейший признак надвигающейся пурги. Солнце потеряло свои лучи и, окутанное туманной дымкой, потускнело.
Шараборин очень устал, но близость цели, знание местности удесятеряли его силы. А когда тайга начала мало-помалу редеть и расступаться, уступая место голой равнине, забирающей немного на север, Шараборин окончательно воспрянул духом. Теперь он твердо убедился, что идет правильно и не сбился с пути.
Равнина привела его к замерзшей реке, впадающей в Кривое озеро. Тут Шараборин уже бывал.
– Скоро дойду… Скоро озеро будет. Только бы пурга не разыгралась, – говорил он сам себе, стараясь прибавить шагу. Но уставший олень отказывался ускорить темп, натягивал повод и сдерживал движение.
Да, тут Шараборин уже бывал. Память его прочно хранила все, что было связано с этими местами. Вот тут на изгибе реки он когда-то, будучи голодным и не имея продуктов, наткнулся на большой табун куропаток и настрелял их более десятка. Вот там, метрах в двадцати от берега, под кучно растущими соснами, образующими своими кронами что-то вроде хвойного шатра, он ставил ветвяной шалаш и прожил в нем несколько суток. А дальше, в месте впадения реки в озеро, он ловил рыбу с охотниками-эвенками. Тогда Шараборин выдал себя за представителя «Якутзолототранса», и эвенки поверили ему.
Все это было и давно, и в то же время как будто недавно.
Олень натянул повод и остановился. Остановился и Шараборин.
– Давай передохнем малость, – разрешил он животному. Олень был еще нужен Шараборину, и его надо было сохранить.
Бока оленя тяжело вздымались, тонкие ноги дрожали.
«А вдруг упадет? – подумал с опаской Шараборин. – Худо будет, один не управлюсь».
А поземка все крутила и крутила, завивая длинные, точно шлейфы, хвосты. Густая серая муть затягивала небо и превращала день в сумерки. Ветер усиливался, налетал порывами и больно сек лицо.
– Устал я, страх как устал, – разговаривал сам с собой Шараборин и посмотрел назад. Поземка быстро делала свое дело и заметала следы нарт, оленя и человека. – Вот это хорошо. Совсем хорошо. Никто меня не найдет. Подумают, пропал Шараборин, а он не пропал. Ну, пошли… пошли… – понукал он оленя.
И вот наконец впереди показалось покрытое многослойной снежной шубой с отлогими берегами Кривое озеро. Длинное, вытянувшееся с запада на восток, оно простиралось километра на два. К южному берегу озера, на всем его протяжении, вплотную подступала высокая тайга, а северный берег был совершенно гол, и на нем крутил снежные вихри разгулявшийся ветер.
– Добрался, однако, слава богу, – облегченно вздохнул Шараборин и посмотрел на часы. – О, совсем рано! Половина пятого. Еще много времени до двенадцати часов. Все успею сделать и отдохну маленько. Напрасно торопился. Теперь пурга не страшна, теперь я уже на озере, а то бы мог сбиться.
Шараборин выбрался на середину озера, облюбовал подходящее место и тут же, не откладывая дело в долгий ящик, решил запастись сушняком для сигнальных костров.
– Конвертом… Пять костров конвертом… – твердил он, вспоминая слова своего сообщника. – И пока надо складывать в одну кучу, а то снег заметет и ничего не отыщешь.
Потянув за собой оленя, он зашагал к южному берегу, к тайге. Дойдя до первого дерева, предусмотрительный Шараборин крепко привязал оленя. Он знал, что одиночка олень, да еще голодный, не будет держаться человека и уйдет на поиски ягеля. И уйдет так далеко, что его потом днем с огнем не сыщешь. И лишь после этого Шараборин начал ломать сухостой и вытаскивать из-под снега валежник.
Нет, Шараборин не устал, куда там! Ему только казалось, что устал. И казалось, когда был в пути, когда еще не была видна цель. А сейчас он не чувствовал никакой усталости. Наоборот, своими уверенными действиями он выказывал столько энергии и физической силы, что можно было подумать, будто он весь день отдыхал, а не провел его в дороге.
Ворох сушняка все рос и рос, а Шараборин все таскал и таскал его.
– Довольно, однако, хватит. Теперь возить надо, – сказал он и, вытащив из походного мешка сыромятные ремни, стал увязывать хворост.
Ему пришлось сделать три конца на озеро и обратно, чтобы перевезти заготовленное топливо.
Прикинув на месте сложенный груз, он пришел к заключению, что хвороста все же маловато и для пяти костров будет недостаточно. Но быстро накатывались сумерки, небо срослось с землей, порывы ветра становились все сильнее и сильнее, лохматили снег, крутили вихри.
– Худо дело. Надо еще достать берестяной коры. Иначе спичек не хватит, – рассуждал Шараборин. – Ну, кору я после добуду. Время еще есть. – И тут он ощутил, что начинается снегопад.
Родившийся, выросший в тайге и проведший в ней всю свою жизнь, Шараборин знал, что надо делать, и не пал духом. Лишь на короткое мгновение ему пришла тревожная мысль: а вдруг самолет не прилетит в такую погоду, – но и эту мысль он отогнал от себя.
– Прилетит. Пурга долго не будет, – успокоил себя Шараборин.
Он понимал, что разводить костер в такую погоду, когда ветер чуть ли не сбивает с ног и крутит так, что вокруг уже ничего не видно, нет никакого смысла. Ветер разметет костер.
– Переждать надо бурю, – сказал Шараборин и опять принялся энергично действовать, предварительно закрепив повод оленя к вороху сухостоя. Он торопливо разгреб ногами снег, сделал небольшую выемку, уложил на ее дно мелкий хворост, крупные жерди густо натыкал вокруг и создал нечто вроде изгороди. Потом подвел оленя, повалил его в выемку и залег рядом с ним, прижавшись к его спине.
– Вот так, сказал он, удовлетворенный проделанным. – Иначе пропаду.
Пурга расходилась все больше и больше, бросая космы снега, окутывая все кругом непроницаемой белесой мутью.
Человек и олень, обмениваясь теплом, грели друг друга. Шараборин чувствовал, как поверх него уже образуется слой снега. Снег, конечно, не прибавлял тепла, но сохранял его, оберегал оленя и человека от ветра.
А ветер все крепчал, завывая на все лады.
Шараборин, лежа под нарастающей снежной шубой, пытался утихомирить оленя, который нет-нет, да и порывался встать и покинуть снежное логово. А когда олень успокоился, Шараборин стал разбираться в волновавших его чувствах. А времени у него было много, чтобы заняться этим.
Он был теперь окончательно спокоен за свою безопасность.
– Никто меня, однако, не найдет, – рассуждал он. – Следы пропали. Замело все начисто.
Тревога о том, что самолет в такую погоду может не прилететь, гнездилась, правда, где-то глубоко внутри, но он не давал ей разрастись. Наоборот, Шараборин старался верить в то, что самолет прилетит и что он улетит. А как ему хотелось улететь! Как его волновала жажда не испытанных сполна наслаждений! Какие перспективы открывало перед ним денежное вознаграждение! Он даже не хотел вспоминать сейчас о той жалкой сумме денег, которую он хранил в своем таежном тайнике, куда, кроме него, не ступала ни одна человеческая нога. Именно жалкой и ничтожной, в сравнении с той, которую, как он был уверен, ему дадут за план.
– А сколько дадут? – задавался он вопросом. – И почему я не спросил Василия, сколько дадут? Дурак! Хорошо бы знать. Однако много дадут. Может быть, сто тысяч. А может быть, пятьдесят. Пятьдесят – тоже много.
От одной мысли, что в его кармане окажутся такие деньги и он сможет их, никого не опасаясь, тратить куда хочет, направо и налево, Шараборин хмелел, как от выпитого спирта. Он строил различные предположения, как и куда, в какое дело лучше определить деньги, чтобы они не лежали мертвым капиталом, и, вспомнив вдруг, что сам видел в Харбине, когда случайно там был, решил:
– Открою курильню опиума. Да, правильно. Василий говорил, что курильня большой доход дает. Но это было в Харбине. А там, куда я прилечу, будет опиум?
Этого Шараборин не знал и ответить на свой вопрос не смог.
– Тогда я… тогда я придумаю что-нибудь другое, – утешил он себя. – С деньгами нигде не пропадешь. Только здесь, на этой проклятой земле, я ничто, и деньги для меня ничто, все равно что снег зимой. А там другое дело.
И ему нисколько не жаль было покидать эту холодную, с вечной мерзлотой землю, которую глупцы называют родиной. И в самом деле, глупцы.
Даже больше того – дураки. Что такое родина? Пустое, ничего не значащее слово. И надо же было придумать такое слово – родина! Родина там, где дадут много денег, где получишь право делать с этими деньгами, что захочешь, где можно зажить иной жизнью, где можно избавиться от гнетущего страха, навеваемого не только тяжелыми думами, но и каждым встречным человеком, даже собственной тенью, даже собственными следами. Когда-то здесь была родина Шараборина, а теперь прошло время, и не стало родины.
Пропали, не оставив никакого следа, купцы, которым можно было с выгодой сбывать пушное золото – драгоценные лисьи, беличьи, горностаевые, песцовые шкурки, вымениваемые десятками на полбутылки спирта у охотников; вымерли окончательно все шаманы, с помощью которых легко было держать в полном повиновении доверчивых местных жителей; исчезли куда-то безвозвратно золотоноши, за которыми не раз охотился Шараборин в тайге, пуская в ход свой длинный нож, и из карманов которых он не раз пересыпал золото в свой карман; не стало совсем людей, так любивших дурманить свой мозг и кровь опиумом, морфием, кокаином и расплачиваться за это граммами золота.
Да, вот тогда тут была настоящая родина для Шараборина. А теперь что?
И народ поумнел. Очень поумнел. Так поумнел, что теперь уже нельзя и думать о том, чтобы у якута, эвенка или юкагира получить за склянку спирта шкуру черно-бурой лисы-серебрянки, как это было два-три десятка лет тому назад. Так поумнел, что его теперь перестали волновать золотые самородки, ради которых люди ранее перегрызали друг другу глотки. Так поумнел, что сразу опознает в тайге чужого человека и считает своим долгом присмотреть за ним. Так поумнел, что уже не нуждается в услугах такого опытного проводника, как он, Шараборин.
Кому же нужна такая родина? Никому. Во всяком случае, Шараборину не нужна. Судьба на этой родине никогда не была милостива к нему. Наоборот, она часто так сильно прижимала его, что нечем становилось дышать, она заталкивала его в такие темные щели, из которых, казалось, никогда уже не выбраться. Как много было в его жизни дней, когда он не загадывал о будущем, а с шаткой надеждой думал лишь о том, как бы уцелеть до завтра и не оказаться в тюрьме или лагере за прошлые дела.
Как можно после всего считать эту огромную землю, покрытую снегом и тайгой, своей родиной? Как можно не питать злобы к этой родине?
Шараборин долго, годами копил злобу на родину. Злоба складывалась из мельчайших крупиц неудовлетворения, отчаяния, крушения надежд, неуемной тяги к старому, отмирающему на глазах миру, непримиримой вражды ко всему новому, побеждающему. Злоба постепенно росла, формировалась, крепла, твердела и превратилась, наконец, в лютую ненависть, которую уже никак и ничем нельзя было заглушить.
– Теперь всему конец, – шептал Шараборин. – Кончились изнурительные скитания. Довольно считать деньги копейками! Тысячами буду считать. Буду жить и брать все радости мира, как говорил Василий. Только он говорил не «брать», а вкушать.
Почувствовав, что мороз подбирается к нему, Шараборин задвигал ногами, стал растирать руки о шерсть оленя. Разные мысли боролись в нем.
– А если не прилетит самолет? Ну и пусть не летит. Обойдусь и без него. План у меня есть. Пойду на Большой Невер, встречу Гарри, отдам ему фотоаппарат и получу деньги. Скажу, что с Василием несчастье случилось. Скажу, что подстрелили его, а он мне передал фотоаппарат. Придумаю, что сказать. И никто не сможет проверить меня. И Гарри не сможет. А Василию конец. Совсем конец. Если его не успеет изловить майор, он подохнет в тайге. С голоду подохнет. От мороза околеет. Пурга его прикончит. И так лучше. Довольно, поводил я его. Поводил, а что видел? Ничего. Однако все-таки он большая сволочь. А я выберусь отсюда. Не раз выбирался. Лыжи есть, олень есть, мясо есть, нож есть. Я не пропаду.
От этих мыслей Шараборин успокоился. Стало легче на сердце. Стало даже теплее. Он начал впадать в забытье, в полусон, засыпал и просыпался, возвращался к действительности, поплотнее прижимался к оленю и не отгонял сна. Время еще много, и если спится, так почему не спать? И сон его одолел.
Выла вьюга. Спал человек. Тихо дышал не спящий голодный олень. Лишь часы на руке человека неутомимо продолжали свое дело.
* * *
Шараборин спал и видел сон. Он видел старика Быканырова, в которого всадил нож на перекрестке. Удар был силен, и нож вошел в бок по самую рукоятку. После такого удара человек не сможет больше жить. Не сможет жить и Быканыров. В этом Шараборин был твердо уверен. Но что это? Старик вдруг зашевелился, приподнялся, встал на четвереньки, начал что-то сильно кричать и пополз на него. Шараборин попятился, обронил нож. Старик поднял нож, встал на ноги и, размахивая ножом, стал приближаться. И старик стал не похож на себя. Он превратился в огромного медведя с головой человека.
Надо бежать. Бежать, как можно скорее, но ноги не слушаются. А медведь все ближе и ближе, и в руке его уже не нож, а огонь.
– О-о-о! – воскликнул Шараборин, испугав оленя и заставив его вздрогнуть. И сам испугался своего голоса, показавшегося ему чужим. Он уже проснулся, но не мог еще освободиться от какой-то истомы, заволакивавшей его мозг. Перед ним еще стоял страшный образ, навеянный сновидением.
А когда Шараборин окончательно пришел в себя, он почувствовал, что руки его костенеют от холода, на ногах же его лежал олень, и они так замлели, будто отмерли.
Шараборин выпростал ноги и сразу сообразил, что если бы они каким-то чудом не попали под оленя, то он бы их уже не имел. Мороз сделал бы свое дело.
Шараборин прислушался. Стояла глубокая тишина.
– Пурги нет. Неужели я так долго спал? – он сделал движение и только теперь ощутил, что замерзли не только руки, но и все тело.
Он перевалился с правого бока на живот, уперся в землю руками и ногами и стал спиной рушить снежную кровлю. Без особых усилий он разворотил спасшую его от смерти берлогу и поднялся. Вслед за ним поднялся и олень.
Шараборин толкнул оленя, и тот, выпрыгнув из берлоги, отошел в сторонку и отряхнулся.
– А время, время?.. – спохватился Шараборин и, чиркнув спичку, посмотрел на часы. Стрелка перевалила за двенадцать. – Сколько же я спал? Дурак. Вот дурак!
По звездному черному небу низко-низко мчались разметанные ветром облака. Снег уже не шел. Ветер улегся и был почти неощутим.
Шараборин стал прыгать на месте, чтобы согреться, хлопал по телу руками и тут вспомнил, что пора разводить костер, а берестяной коры он так и не достал.
– Однако сбегаю за корой, – сказал он, высвобождая лыжи и закрепляя их на ногах. – И оленя возьму. Навалю на него побольше. И хворосту прихвачу еще. А то ведь долго придется костры палить.
Шараборин оглянулся и увидел оленя метрах в двадцати, бегущего на запад.
– Тохто! Тохто!!! – крикнул Шараборин, но олень даже не остановился.
Шараборин стал звать оленя поласковее, но и это не помогло.
Тогда он бросился вслед оленю на лыжах. Но разве можно догнать оленя, который уже не хочет больше служить человеку!
Подпустив к себе Шараборина совсем близко, олень остановился, поднял голову, увенчанную рогами, всхрапнул, пригнулся и крупными прыжками стал удаляться.
Шараборин остановился и, налитый злобой, следил за ним глазами.
А когда олень скрылся, он выругался и погрозил ему кулаком.
– Ушел… Совсем ушел… Пошел корм искать, сволочь… – процедил сквозь зубы Шараборин и, повернув назад, бросился к тайге. Возвратился он с большой охапкой сухой березовой коры и, проверив время, начал быстро раскладывать хворост на пять кучек конвертом.
А время подходило к часу ночи.
– А что, если самолет уже прилетал? – подкралась страшная мысль, от которой стало не по себе и похолодело под сердцем. – Прилетал, а я спал и ничего не слышал. Страшно…
Размышляя так, Шараборин выложил пять костров, наломал березовую кору и подсунул ее под поленья каждого костра. Потом вздул огонь, и тот змейкой взвился сначала на одной, затем на другой и, наконец, на всех пяти кучках.
Шараборин забегал, засуетился, подправляя костры, и, наконец, остановившись около центрального, задрал голову в небо. Оно уже совсем очистилось от облаков, но на нем нельзя было увидеть ничего, кроме звезд.
Они дрожали, перемигивались и будто дразнили Шараборина.
«Не прилетит, не прилетит…» – как бы твердили все они в один голос.
Шараборин протянул руки к огню, напряженно, до звона в ушах, вслушиваясь в тишину. А томительная тишина, завладевшая природой, ничего не обещала.
– Если самолета долго не будет, не хватит сушняка, – подумал он с огорчением, но идти в лес не решился.
Бежали секунды, минуты. Шараборин то и дело поглядывал на часы. А как только время перевалило за час, он уже больше не отрывал глаз от циферблата. С каждой новой минутой надежда слабела, угасала и на ее место приходило отчаяние.
Да и было от чего отчаиваться. Бежавший олень мог служить не только средством передвижения, но и пищей, без запасов которой нечего было и мечтать о возвращении в тайгу. Значит, сейчас решалась его судьба.
И вдруг уже в половине второго, в сторожкой напряженной тишине он услышал звук, заставивший его вначале вздрогнуть, а затем застыть на месте. Звук возник где-то на юго-востоке. Ясно – это пел свою песнь авиационный мотор. Робкий и неуверенный звук постепенно рос и наплывал с высоты.
Шараборин стоял не шевелясь, будто опасаясь, как бы своими движениями не спугнуть этот долгожданный звук.
И наконец, когда звук перерос в отчетливо слышный рокот, Шараборин вскрикнул:
– Он, он! Летит… Летит!
Шараборин утратил душевное равновесие. Он испытывал такое ощущение, точно родился вторично на свет.
Он заметался от костра к костру, пододвинул упавшие поленья и вдруг начал вытанцовывать от радости на месте, издавая какие-то окающие звуки и беспорядочно размахивая руками.
Прекратив танец и пощупав в кармане фотоаппарат, он весь напрягся и стал всматриваться в черное небо. Самолет, как ему казалось, делал круги, но увидеть его никак не удавалось. Но вот Шараборин увидел три точки, три тускло светящиеся плывущие точки среди неподвижного звездного неба. Это были бортовые огни самолета.
– Прилетел! Прилетел! – опять вскрикнул Шараборин и пришел в неистовое веселье. Веселье так опьянило его, что он, не задумываясь, подобрал тут же лежащие лыжи и бросил их в огонь. – Горите, горите… Вы не нужны мне больше! Совсем не нужны! Не буду я теперь ходить на лыжах! Летать буду! Ездить на машинах буду!
Самолет быстро снижался. С ревом, свистом и рокотом, выбрасывая из выхлопных труб комки огня, он пронесся вдоль озера раз-другой, а потом, раскидав с полдюжины ослепительно ярких ракет, круто пошел на посадку.
Каждая ракета рассыпалась на множество мелких разноцветных огоньков. Тут были и синие, и фиолетовые, и красные, и желтые, и белые.
– Как днем! Как днем! Все видно, как днем! – захлебываясь от восторга, вопил Шараборин, и вдруг яркий свет мгновенно иссяк и стало темнее пуще прежнего. Шараборин от неожиданности протер глаза и лишь тогда увидел метрах в ста от себя контуры застывшей на месте большой стальной птицы. Она была уже на земле, тихо урча моторами.
Забыв про дорожную сумку, запасы мяса и про все на свете, Шараборин со всех ног бросился к самолету. Он рывком перемахнул через пылающий костер, упал раз, проваливаясь в глубокий снег, упал второй раз и вдруг растерял все силы сразу.
Тяжело дыша, он поднялся и увидел, как открылась широкая дверца в самолете и в рамке света обозначился громоздкий и неуклюжий человеческий силуэт.
– Я тут! Я тут! – заорал во все горло Шараборин и, будто подталкиваемый кем-то в спину, опять бросился вперед.
Он, спотыкаясь, подбежал к самолету и, не чувствуя самого себя от обуревавших его чувств, ухватился за поручни выброшенной лесенки.
Полковник Грохотов
В большой комнате собрался оперативный офицерский состав. Тут были и майор Шелестов, и старший лейтенант Ноговицын, и лейтенант Петренко, и сержант Эверстова.
Шелестов сидел поодаль от всех, около высокого массивного сейфа.
Через пять больших окон в комнату с улицы вливался яркий свет солнечного полдня. Здесь было тепло и забывалось о том, что за стенами дома сорокаградусный мороз. У короткой глухой стены, на которой висела карта, стоял небольшой столик с двумя стульями по бокам.
Офицеры тихо, вполголоса, но оживленно беседовали между собой, а когда в дверях показался полковник Грохотов, сразу умолкли и встали.
– Прошу садиться, – сказал Грохотов низким, резковато-властным, но не громким голосом и прошел через всю комнату к маленькому столику.
Фамилия полковника никак не вязалась с его внешним обликом. Небольшого роста, узкоплечий, худощавый, с впалыми бледными щеками, Грохотов производил впечатление больного человека. Да так было и в самом деле. За прожитые пятьдесят два года полковник испытал немало невзгод и лишений, имел несколько ранений, в том числе и одно тяжелое, и последнее время часто хворал. Болели простреленные ноги, пошаливало сердце.
У Грохотова была еще и душевная рана. В Отечественную войну он потерял всю семью. Эта рана не заживала и сочилась.
Подчиненные любили его, уважали и немного побаивались. Прошедший большую жизненную школу и школу разведывательной и контрразведывательной работы, он слыл за умного, опытного, дальновидного начальника с кипучим и деятельным характером и большой выдержкой. Грохотов никогда не выходил из себя, не нервничал, не кричал на подчиненных, не бранился зря. Он был ровен, строг, требователен и справедлив.
Собравшиеся знали, зачем их вызвали сюда, но полковник счел нужным об этом напомнить.
– Часть из вас, товарищи офицеры, знает, а часть не знает о событии, имевшем место на руднике Той Хая. А знать должны все без исключения. Сейчас майор Шелестов расскажет нам подробно обо всем. Прошу, Роман Лукич… – обратился с теплыми нотками в голосе Грохотов и, вздохнув, опустился на стул.
Шелестов покинул свое место и подошел к карте, на которой его собственной рукой был четко и ясно, видимо, для всех, нанесен маршрут проведенной операции.
Полковник Грохотов повернулся к нему вполоборота и оперся рукой на спинку стула.
– В данном случае, – начал Шелестов, – я и мои товарищи столкнулись с необычным происшествием. Я постараюсь доложить обо всем подробно.
И Шелестов со свойственной ему неторопливостью, обстоятельно, но и без лишних слов рассказал все, начиная с того момента, как он прилетел на рудник, и вплоть до той ночи, в которую разыгралась пурга. Он не скрыл от присутствующих неопределенности и неясности положения, с которым он столкнулся на первом этапе дела, и сомнений в правильности своих действий в ходе преследования врага.
Шелестов выложил все начистоту. Он знал, что его слушают не только умудренные опытом и видавшие виды офицеры, но и молодежь, которой, как и лейтенанту Петренко, предстоит не раз столкнуться с происшествием, подобным этому. На таких и на других делах им нужно учиться. Он специально остановился на лейтенанте Петренко, который при первом боевом крещении проявил себя энергичным, способным и инициативным офицером; на сержанте Эверстовой, которая помимо своих прямых обязанностей радистки оказывала непосредственную помощь в поимке диверсантов.
– Успех операции, – сказал майор, – обеспечил не я один, а наш небольшой, но сплоченный коллектив. И сейчас даже трудно сказать, кто сыграл большую, а кто меньшую роль. Да и не в этом дело.
Шелестов особенно подчеркнул, что считает своей ошибкой оставление в засаде на перекрестке Василия Назаровича Быканырова. Надо было оставить или лейтенанта Петренко, или остаться самому.
– Не согласен, – с места сказал Грохотов. – У вас разве были основания сомневаться в товарище Быканырове?
Лейтенант Петренко посмотрел на Шелестова. Что он скажет?
Майор ответил без колебаний:
– Никогда я в Василии Назаровиче не сомневался, товарищ полковник.
– Так зачем же вы делаете такой вывод? Я не вижу в этом никакой логики. Вы, возможно, к такому выводу пришли потому, что товарищ Быканыров погиб.
Шелестов задумался. Ему тяжело было говорить о своем старом друге. В самом деле: в чем виновен Василий Назарович? В том, что проявил неосторожность, погорячился? Но им, конечно, руководило хорошее чувство – схватить врага. И притом он ведь столкнулся не с двумя диверсантами, а с одним. Желание взять его было очень велико. И трудно сказать, как бы поступили на месте Быканырова он сам или лейтенант Петренко.
– Вполне возможно, товарищ полковник, – ответил Шелестов после долгой паузы и добавил: – У меня все.
Грохотов встал и спросил, нет ли вопросов, и после того как майор ответил на них, разрешил ему сесть. Потом заговорил сам. Он пояснил, что Шелестов коснулся лишь того, что было связано непосредственно с боевой операцией, и не затронул результатов следствия. Но это и не входило в его задачу. Грохотов отнес к заслуге майора Шелестова то, что он тщательно, придирчиво занялся сбором улик и вещественных доказательств. Такие, казалось бы, незначительные факты, как появление в кабинете Кочнева электролампы необычно большого размера, как кусочек взрывчатки, обнаруженный в подполье дома коменданта рудничного поселка, как мнимая склонность Белолюбского к глушению рыбы, склонность, которую он впоследствии никогда больше не проявлял, как пучки слипшихся рыжих волос, найденных в мусоре и, как выяснилось после, принадлежавших сообщнику Белолюбского Шараборину, как футляр от будильника, случайно найденный в тайге лейтенантом Петренко, как исчезновение из кармана Кочнева незначительной суммы денег, в то время как все личные документы инженера остались нетронутыми, как, наконец, противоречия и несовпадения в личных документах Белолюбского, хранившихся на руднике, правильно и закономерно навели Шелестова на мысль, что убийство представителя Главка инженера Кочнева не просто уголовное убийство и что Белолюбский и его сообщник, тогда еще неизвестный, имеют отношение к убийству.
Полковник говорил медленно, тихо, с большим напряжением. Все знали, что ему по состоянию здоровья трудно долго говорить.
– Майор Шелестов, – продолжал Грохотов, – имел все основания не поверить словам Белолюбского, не поверить тому, что иностранная разведка пришлет за ним самолет с посадкой у Кривого озера. Признаюсь, что я тоже сильно сомневался в этом, получив радиограмму Шелестова в ту тревожную ночь. Насколько мне известно, в прошлом Якутии подобных случаев не было. Но Шелестов хоть и колебался, но не мог все же исключить возможности появления самолета и, ввиду особой важности дела, уведомил меня об этом. И поступил совершенно правильно. В таких случаях и надо так поступать: оставаться со своими сомнениями и колебаниями, а меры тем не менее предпринимать, ибо никогда нельзя ручаться за абсолютную правильность тех или иных предположений. Я одобрил решение майора Шелестова и отдал приказание послать к озеру самолет Ноговицына. Нам повезло в том, что Ноговицын в ту ночь как раз находился со своим самолетом на руднике Той Хая, куда он отвозил группу следователей и специалистов. А от рудника до Кривого озера не так уж далеко. Ноговицын переждал бурю, вылетел и сделал все, что надо. Шараборин, добравшийся засветло к озеру, ничего не подозревая, принял наш самолет за иностранный, что и следовало ожидать. Таким образом, и второй диверсант попал в наши руки.
Грохотов откашлялся, прижав руку к груди, выдержал небольшую паузу и продолжал:
– Оказывается, товарищи, мы иногда еще недооцениваем силы и возможности противника. Как видите, и майор Шелестов, и я усомнились в том, что иностранная разведка решится послать к нам в тайгу, на такое большое расстояние, да еще в такую погоду, самолет с посадкой. А она послала.
Офицеры переглянулись, насторожились. То, что иностранный самолет все-таки был послан в тайгу, явилось для них неожиданной новостью.
Полковник Грохотов пояснил:
– Правда, самолет иностранная разведка послала не специально за Белолюбским. Она хотела убить одновременно двух зайцев: самолет должен был на нашей территории высадить двух агентов, прошедших специальную подготовку, и снаряжение, им выданное. И, высадив их, взять на борт Белолюбского. Но факт остается фактом. Ни погода, ни расстояние, ни климатические особенности нашей республики не остановили иностранную разведку. Самолет был послан под нашими опознавательными знаками, нарушил нашу границу, проник на нашу территорию, но… был посажен нашими самолетами на одну из советских баз.
Кто-то из офицеров не сдержался и крикнул:
– Вот это замечательно!
Раздались дружные хлопки.
Грохотов обвел всех усталым взглядом и поднял руку, прося тишины.
– Вы сами теперь понимаете, – продолжал он, – что, не имея радиограммы майора Шелестова, мы не смогли бы своевременно предупредить наших пограничников. Но, имея ее, мы предупредили пограничников, и они посадили чужой самолет. Какие выводы нам следует сделать из всего этого? Мне думается, вот какие: никогда не игнорировать мелочей. Мелочи играли и всегда будут играть большую роль в раскрытии преступлений и в поимке вражеских лазутчиков. В нашей работе и не должно быть слова «мелочь». Все может стать важным и существенным. Надо только уметь подмечать все мелочи, глубоко анализировать их и обобщать.
Второй вывод: стремиться нащупывать слабые стороны врага, его уязвимые места.
Третий вывод: до конца разоблачать пойманного врага, до той поры, пока не останется ни малейшей неясности, никакого сомнения. Тактика большинства преступников нам известна. Она показывает, что преступник становится не на путь откровенности, признания своей вины, а на самом деле пытается обелить себя, скрыв свои преступные дела и связи, оговорить другого, предать своего сообщника. Смотрите, что произошло с Белолюбским.
Сказав о том, что был сфотографирован план и что прилетит самолет, он, казалось, выдал главное. Так ведь? А главное, как выяснилось, он пытался утаить. И только правильно поставленное следствие дало нам возможность размотать весь клубок. Белолюбский долго пытался водить нас за нос и делал это даже тогда, когда ему было ясно, что его собственная судьба предрешена. Когда мы приперли Белолюбского к стенке, он пытался выгородиться и взвалить всю вину на Шараборина, тогда как Шараборин только выполнял функции обычного связника и проводника.
Далее, Белолюбский, рассказав кое-что из своего прошлого, пытался умолчать о главном. Как теперь выяснилось и полностью подтверждено, он являлся агентом двух иностранных разведок: японской и американской.
Агентом японской разведки он стал в тридцать втором году, с момента оккупации Харбина японскими войсками. Он жил в то время там.
Многие из вас должны помнить, что в те годы начальником японской военной миссии в Харбине являлся небезызвестный полковник Доихара Кензи. Тот самый Кензи, которого иностранные журналисты прозвали японским Лоуренсом. Кензи прилично владел русским языком и договорился с Белолюбским один на один.
Вы, может быть, спросите, откуда полковник Кензи узнал о существовании Белолюбского. Я отвечу на этот вопрос. Белолюбский в условиях Харбина не был уж такой незаметной личностью. На Торговой улице он имел свой собственный особняк, в котором до прихода в Харбин наших войск проживала жена Белолюбского, его два взрослых сына и их жены.
Белолюбский долгое время состоял пайщиком крупной японской фирмы Кокусай Унио. Он был тесно связан с активными белогвардейскими кругами. Полковнику Доихара Кензи Белолюбского рекомендовали два человека: председатель комитета белых эмигрантов Колокольников и председатель союза русских монархистов генерал Кислицын.
Как видите, Белолюбский не просто контрабандист. Кличкой контрабандиста он прикрывался, как ширмой, а на самом деле был завзятым шпионом. В сорок пятом году, вследствие событий на Дальнем Востоке, связи Белолюбского с японской разведкой оборвались. Белолюбский, бросив семью в Харбине, бежал в Южную Корею. Там его нашли американцы, перевербовали и уже как своего агента перебросили на нашу территорию. Наконец, следствию удалось выяснить, что за Белолюбским стоит человек, через которого поддерживается связь с внешним миром. Мы пока не знаем, что это за человек и как его зовут. Шараборину, и даже Белолюбскому, он известен лишь по кличке «Гарри». Но он не иностранец. Это уже известно. Во всяком случае, в самое ближайшее время, в первую среду, четверг или пятницу марта, мы с ним познакомимся. Между «Гарри» и Белолюбским есть такая договоренность: если самолет по какой-либо причине не прилетит, то «Гарри» будет ожидать Белолюбского на станции Большой Невер в вагоне владивостокского поезда.
Надеюсь, что майор Шелестов и лейтенант Петренко организуют эту встречу.
Четвертый вывод: враг не гнушается никакими приемами, даже явно устаревшими, если они оправдывают себя в данный момент. Под этим я имею в виду использование головы Шараборина для обмена информациями между Белолюбским и «Гарри», и медвежьих лап для укрытия своих следов. С первым приемом люди ознакомились чуть ли не век назад, а второй прекрасно известен пограничникам.
Наконец, пятый, последний и особо важный вывод. Вокруг нас еще много фактов ротозейства и притупления политической бдительности. А все это на руку врагу, все это помогает ему скрываться и орудовать на нашей земле.
Вот сейчас возникает вопрос: как иностранная разведка могла узнать, что инженер Кочнев в эту свою командировку будет занят работой по окончанию плана нового промышленного района? Как – ответьте мне? – Полковник остановился, обвел взглядом офицеров и заговорил вновь: – Можно предполагать, что кто-то проболтался в Главке. И именно в Главке, потому что не Белолюбский ориентировал «Гарри» на Кочнева, а «Гарри» дал задание Белолюбскому. Значит, кто-то вольно или невольно выболтал, а замаскировавшийся, притаившийся где-то враг использовал болтовню. А ключи от сейфа? Как бы их ни хранил покойный инженер Кочнев, а если они попали, когда он был еще жив, в руки диверсанта и благополучно возвратились на место, значит, хранил он их плохо. Я уже не говорю о безобразной охране рудника, когда на его территорию можно проникнуть кому угодно. А назначение на должность коменданта рудника человека, биография которого и имевшиеся анкетные данные о нем не совпадали друг с другом? Легкомыслие, не имеющее себе равного! Говорить обо всем этом надо во весь голос.
Дело Белолюбского и Шараборина должно послужить примером для тех, к счастью, редких в нашем коллективе товарищей, которые думают, будто наша отдаленная республика не может привлечь к себе внимания иностранных разведок. Полагать так – значит не только глубоко заблуждаться, но и терять политическую бдительность. Кто-кто, а уж мы, разведчики и контрразведчики, обязаны постоянно помнить указание нашей партии о том, что враг не прекращал и не прекращает подрывной работы против Советского государства.
Он забрасывал и будет пытаться забрасывать к нам шпионов, террористов, диверсантов. Он искал и будет искать среди советских граждан людей неустойчивых и малодушных, чтобы привлечь их для работы против нас. Он фабриковал и будет пытаться фабриковать против нашей родины различные провокации. Он старался и будет по-прежнему стараться получить в свои руки любой документ, выдающий планы, замыслы и мечты советских людей. Забывать об этом нам с вами непростительно и преступно. Я кончаю. Основное сделано.
Два опасных диверсанта пойманы и обезврежены. Но главное впереди. Третий и, пожалуй, наиболее опасный враг, скрывающийся под личиной советского человека, находится еще на свободе и творит свое грязное дело. Я имею в виду человека под кличкой «Гарри». Где он сейчас – трудно сказать. Кто скрывается за его спиной – покажет недалекое будущее. Наша ближайшая задача – изловить «Гарри».
Гарри
Вечером того дня, когда полковник Грохотов беседовал со своими подчиненными, по одной из улиц Владивостока, держа путь к городской железнодорожной кассе, шагал ничем не примечательный с виду человек. На нем было поношенное серое демисезонное пальто, высокие фетровые сапоги и пыжиковая шапка. Приподняв короткий воротник пальто, человек придерживал его одной рукой. Холодный, резкий ветер, дувший с моря, бил в лицо, выворачивал полы пальто, пробирался в каждую щелку.
Трудно было признать в этом человеке пассажира спального вагона, с которым осенью прошлого года встречался Шараборин. Но это был он. Это был Гарри.
Высокий, сухопарый, длинноногий, он шел крупным шагом и ничем не выделялся от людей оживленного в любое время года приморского города.
Гарри был до предела раздражен и зол. Он весь был под впечатлением только что имевшей место встречи со своим патроном Хилгом. Хилг держит себя, особенно последнее время, крайне бесцеремонно и вызывающе. Хилг задирает нос, не хочет считаться с тем, что Гарри нужно ведь и отдыхать, и пользоваться благами жизни, иначе зачем нужна эта жизнь? Хилг взял да и назначил свидание во Владивостоке. Дернул же его черт! Не нашел другого подходящего места. Из-за этого пришлось переть в такую даль. А чем, собственно, они, то есть он, Александр Поваляев, и Теодор Хилг, отличаются друг от друга? Почему Хилг имеет право говорить: «Я буду вас ожидать там-то», «Вы плохо стараетесь», «Я вам поручаю» или «Перед вами дилемма», или, наконец, «О деньгах говорить еще рановато». А на долю Поваляева остается лишь соглашаться, унижаться, робко, неуверенно, возражать, приводить какие-то неубедительные в глазах Хилга доводы, а в конце концов делать все, что прикажет Хилг. Везет этому Хилгу! Он ловко пристроился под маркой друга Советского Союза в одном из европейских телеграфных агентств, и уже который год все ему сходит с рук. А уж как умело ему удается быть «объективным» в своих немногочисленных статьях. Да. Хилг – его «босс», и от этого пока никуда не уйти Поваляеву. Никуда. Он волей-неволей должен считаться с Хилгом и с его желаниями.
Сегодня Гарри, он же Поваляев, идя на свидание с Хилгом, твердо решил высказать ему все свои претензии, обиды, свою неудовлетворенность положением, но как только он увидел недовольное лицо, жесткие, холодные и недоверчивые глаза Хилга, решимость «все выложить» мгновенно пропала.
Хилг сидел один за столиком в вокзальном ресторане и тянул из кружки подогретое московское пиво.
Не успел Гарри сесть, как Хилг каким-то свистящим шепотом предупредил его:
– Заказывайте сами себе что-нибудь. Мы не знаем друг друга. Мы незнакомы. Если кто подсядет или приблизится, – прекращайте разговор. И времени у меня в обрез. Через час я еду обратно. Поняли? – и Хилг поднес ко рту кружку.
Гарри ничего не сказал, кивнул головой и, поманив к себе официанта, не глядя на карточку, предложенную им, заказал стакан черного кофе и два пирожных.
Хилг, выждав, когда официант отошел, наклонился и, навалившись грудью на столик, спросил:
– Как вы условились с Оросутцевым? Куда он должен доставить план?
Гарри легонько отстранился. Во-первых, его озадачил довольно странный вопрос, а во-вторых, он почувствовал острый и противный запах сыра рокфор, которым всегда несло от его патрона.
Собравшись с мыслями, Гарри ответил:
– Я писал Оросутцеву, чтобы план он доставил на станцию Большой Невер и искал меня с первой среды марта до пятницы в спальном вагоне владивостокского поезда. Но это в том случае, если не прилетит самолет…
– Так вот, этот случай подошел. План инженера Кочнева в наши руки не попал.
– То есть?
– Очень просто. Самолет, посланный с Японских островов, не вернулся на свою базу и пропал. Пропал бесследно весь экипаж и два человека, предназначенные к высадке в Якутии. Есть предположение, что самолет потерпел аварию над Охотским морем и не достиг восточного материка. В ту ночь над морем прошла сильная буря. – И Хилг выпрямился.
– Как все это неожиданно, – заметил Гарри.
Насмешливая улыбка тронула злые и тонкие губы Хилга.
– Наша профессия, мой дорогой, всегда полна неожиданностей.
– Да… Что же теперь делать?
– Ничего особенного. Купите расписание поездов, сделайте подсчет и берите заранее билет. Ориентируйтесь на всякий случай не на среду, а на пятницу. Надо довести начатое дело до конца.
– А как же с Оросутцевым? – спросил Гарри.
– Прихватите и его к себе за пазуху, – и Хилг рассмеялся, неприятно оскалив выступающие вперед желтые зубы.
– Я не об этом, – сдерживая раздражение, сказал Гарри. Он не переносил, когда люди, без всякой причины к тому, начинают смеяться.
– А о чем?
– Насколько мне известно, за план Кочнева вы обещали Оросутцеву вывозку на ту сторону и…
– Мало ли что я обещал. Обещал потому, что была реальная возможность к этому. Он не ребенок, сам должен понимать, что посылка самолета не обычное дело. Растолкуйте ему как следует. Объясните, что до лета вопрос с вывозкой отпадает.
– Но ему, кажется, обещано и большое денежное вознаграждение?
Хилг покосил глазами на край стола, где лежал маленький, обитый кожей чемоданчик.
– Прихватите с собой. Я уйду и оставлю его. Это для Оросутцева.
Гарри задумался. Ну а вдруг Оросутцев заупрямится, что с ним бывало уже не раз, и поставит ультиматум: или план, или вывозка на ту сторону?
– Хм… А если он…
– Никаких если, – прервал его Хилг. – Он за деньги душу свою продаст. Что вы его не знаете? Действуйте. Я буду ждать от вас условной телеграммы. Всего.
И Гарри остался один. Кофе, поданный с большим опозданием, показался ему противным, и он через силу выпил его. На пирожное и смотреть не хотелось…
И вот он шел сейчас покупать билет, чтобы в первую пятницу марта быть на станции Большой Невер.
«Но не будет же это вечно продолжаться? – спросил он сам себя. – Не буду же я всегда у него на побегушках?»
Мысленно оглядываясь на оставшийся уже позади отрезок жизни, Гарри убеждался, что не может не признать за собой умения пробивать себе дорогу и преодолевать трудности на своем пути. А сколько было этих преград?
Сколько было трудностей? Вспомнить страшно.
Ведь в самом деле жизнь его была не легкой. Все время приходилось приспосабливаться к обстоятельствам, к «духу времени», к людям, унижаться, просить, ловчиться. В редкие моменты удавалось говорить открыто, по душам, о том, что тебя волнует, мучает, угнетает, что тебе нравится и что ты ненавидишь. Родился он в Восточной Сибири незадолго до революции в семье материально обеспеченного инженера Поваляева. Его нарекли Александром в память его деда по матери, видного адвоката. И уж очень скоро начались для Александра жизненные невзгоды. Других они как-то обходили, миновали, а на него валились, как шишки на бедного Макара. Отец умер в первые годы советской власти, а когда точно, Александр даже не помнит, как не помнит он и самого отца. Мать его ничего не умела делать, да и не хотела. Она была избалована жизнью и твердо верила в скорый и неминуемый крах советской власти. Но советская власть держалась. Сбережения погибли. Надо было работать. Александр же учился, а мать не умела работать. Она изворачивалась, как могла, продавала и обменивала вещи, но это не было выходом из положения. Подчас приходилось очень туго.
Но вот началась новая эра. Появилась отдушина. Советская власть ввела нэп. Мать сказала по этому поводу: «Так постепенно все обернется к старому. Дай-то бог. Немного осталось терпеть, Саша».
Появились иностранные концессии. И мать Саши, которой нельзя было отказать в практичности и сообразительности, поступила, как считает Александр, очень правильно, сойдясь и связав свою дальнейшую жизнь с одним из сотрудников концессии «Лена Гольдфилс» – англичанином Сплитом. Жизнь Саши и его матери резко переменилась: появились деньги, продукты, иностранные вещи.
Сплит до революции много раз бывал в России, знал русскую жизнь, любил общество, был сам гостеприимен. Александр и сейчас с удовольствием вспоминает широкий образ жизни, который ввел в их доме его отчим.
Сплиту нравился Александр. Александр был в восторге от Сплита. Сплит не раз говорил, что из парня может выйти толк, и это придавало уверенности Александру. Сплит часто и подолгу беседовал с Александром, рассказывал об Англии, о заграничных странах, о том, где и когда ему довелось бывать.
Александр слушал отчима с упоением и готов был слушать его без конца.
Сплит вообще по натуре своей был весельчак и большой оптимист. Он был твердо убежден, что без английского оборудования, без английских специалистов немыслимо существование русской золотой промышленности. Он верил, что концессия «Лена Гольдфилс», глубоко пустив цепкие и разветвленные корни в недра Восточной Сибири, будет с каждым днем все более процветать. Он безапелляционно утверждал, что советская власть постепенно переродится, что социалистический эксперимент провалится, не выдержав испытания временем. Вышло, правда, несколько иначе, чем это думал Сплит. Вышло так, что коммунисты скоро смогли обходиться без чужих рук и без чужого оборудования. Концессия перестала существовать. Иностранцы убрались восвояси. Вынужден был уехать в Англию и Сплит, позабыв прихватить с собой свою новую жену – мать Александра.
Для Александра это явилось большим ударом. Опять все перевернулось вверх ногами. Намеченные планы сорвались. Надежды лопнули. Атмосфера довольства и благополучия, к которой он начал привыкать, развеялась, как дым на ветру. Мечты о карьере, богатой жизни, поездке за границу рухнули подобно карточному домику. И единственное, что осталось у Александра от Сплита, – это пренебрежительное отношение ко всему русскому и хорошее знание английского языка.
С переменой жизни все кругом стало серо, неинтересно и скучно.
А для матери Александра отъезд Сплита был еще большим ударом. Он ее окончательно выбил из колеи. Она впала в апатию, стала выпивать. Не будучи крепкого здоровья, она слегла и вскоре умерла.
Александр остался один. В этих условиях от него потребовалось присутствие духа, и он был уверен, что проявил его. Впоследствии он часто похваливал себя за это, не замечая, что, собственно, нужно было благодарить других. Советские люди позаботились о нем, тогда еще несовершеннолетнем, помогли стать на ноги, получить образование за счет государства. Потом ему дали работу, хорошую и полезную, где он мог бы приобрести специальность. Но эта работа показалась ему неинтересной, а главное, малооплачиваемой. Такой уровень жизни не удовлетворял его. Ему удалось устроиться на складе кинофабрики, где он имел дело с дефицитными в то время материалами – пленкой, химикалиями, – и это пришлось очень кстати. Он быстро смекнул, в чем дело, и результатом этого явилось значительное улучшение материального положения. Он овладел фотоделом, приобрел по дешевке несколько фотоаппаратов и стал на дому выполнять частные заказы. Это тоже приносило приличные доходы.
У Александра к этому времени образовался большой круг знакомых среди артистов, видных советских работников. Он встречался с ними на домашних вечеринках, танцульках, загородных прогулках.
Но тут, к сожалению, с кинофабрики пришлось уйти. Туда нагрянула ревизия, и возникли разные неприятности. Александр еле-еле выкрутился.
Потом он устроился переводчиком в систему «Интурист». Помогло хорошее знание английского языка, которому обучил его отчим Сплит.
В «Интуристе», правда, не было дефицитных материалов, но открылись другие возможности. Жить было можно и вполне прилично. Надо было только проявлять умение находить нужную линию и держаться за нее.
Частые поездки по стране приносили доходы. Среди иностранцев попадались интересные, яркие люди, похожие на Сплита. Они владели толстыми бумажниками, солидными кожаными чемоданами, изящными несессерами, разными элегантными безделушками. В их окружении порой забывалось, что ты находишься не за границей, а в Советском Союзе. От них перепадало и Александру. Он не брал «на чай», но охотно принимал «подарки».
В особенности хорошо отнесся к Александру уже немолодой турист англичанин мистер Эванс. Александр сопровождал его в поездках. Они беседовали на самые разнообразные темы и очень откровенно.
Заинтересованный необычной биографией Александра, мистер Эванс увидел в нем «соотечественника» и несколько раз одаривал деньгами. А когда Эванс узнал, что в Англии проживает отчим Александра – Сплит, он вызвался во что бы то ни стало разыскать его и заинтересовать судьбой пасынка.
Мистер Эванс, несомненно, сыграл определенную роль в жизни Александра.
В откровенных беседах с Эвансом Александр много рассказывал о своих впечатлениях, вынесенных из поездок по Советскому Союзу, о людях, о новостройках, об изменениях, происходящих в окраинных республиках и в деревне.
Покидая Советский Союз, Эванс заверил Александра, что в самое ближайшее время жизнь его изменится в лучшую сторону, и оставил ему ценный подарок: чудный отрез на костюм, бритвенный прибор и кожаный чемодан.
Эванс, как оказалось, не бросал слов на ветер. Прошло не так уж много времени, и через «Торгсин» на имя Александра Поваляева стали регулярно поступать переводы довольно крупных сумм.
Эта неожиданная помощь сделала жизнь Александра совсем приятной. А вскоре переводы через «Торгсин» стали единственным источником его существования, так как Александр по неизвестным ему причинам попал под сокращение штатов и был уволен из «Интуриста». Александр был возмущен таким несправедливым, как он был уверен, к нему отношением.
В эти памятные для него дни возникло знакомство с Петром Андреевичем.
Правда, он и раньше сталкивался с Петром Андреевичем по делам «Интуриста», но тут Петр Андреевич пришел к нему сам и проявил к Александру самое неподдельное участие.
С первых же дней их знакомства Петр Андреевич показал себя человеком очень дальновидным, опытным в житейских делах, весьма практичным, с трезвыми взглядами на окружающее, а главное, очень сердечным и кровно заинтересованным в судьбе Александра.
По совету Петра Андреевича и при его содействии (он работал ревизором в Наркомате железнодорожного транспорта) Александр устроился учиться на бухгалтерские курсы. Петр Андреевич уверенно говорил, что это очень пригодится.
На бухгалтерских курсах Александру показалось очень скучно: народ простой, серый, с ограниченными интересами и притом крайне однобокий.
Учащиеся говорили чрезвычайно много о политике, об успехах индустриализации и коллективизации, о своей будущей работе. Все заграничное они осуждали и зло высмеивали, как буржуазное и, конечно, плохое, фанатично верили в процветание и мощь Советского Союза и неизбежный крах капитализма. В свободное от занятий время организовывали по своей инициативе всевозможные диспуты на разные темы, устраивали вечера самодеятельности, вечера вопросов и ответов, пели революционные песни.
Александр, разумеется, вторил им во всем, ходил на собрания и диспуты, но вспоминал это время, как мучительное для себя: уж очень лицемерить и лукавить приходилось ему, да так, чтобы не попасться.
А тут еще ликвидировали «Торгсин». Александр пал было духом, но на помощь ему опять пришел Петр Андреевич. Он заявил Александру, что у кого не бывает в жизни трудностей, что надо помогать друг другу и он, в частности, от души окажет ему материальную поддержку. Улучшатся дела Александра, и тогда он компенсирует Петра Андреевича чем сможет.
Александр от помощи не отказался, а по окончании бухгалтерских курсов он, опять-таки не без участия того же Петра Андреевича, устроился разъездным бухгалтером-ревизором на северную железную дорогу.
Дальновидность Петра Андреевича со временем блестяще оправдалась.
Александр зажил отлично, получая заработную плату. Время от времени и Петр Андреевич «подбрасывал» ему кое-что под разными предлогами. Вначале Александр отказывался, но потом так привык к наличию свободных денег, что перестал отказываться и принимал деньги как должное. Дружеское участие и советы Петра Андреевича не порывать с транспортом сказались в полной мере позднее, когда немцы напали на Чехословакию, потом Польшу, наконец, на СССР, а работа на железной дороге позволила Александру избежать отправки на фронт, чего он больше всего боялся.
Петр Андреевич при встречах уже не скрывал своего мнения о неизбежном поражении СССР в войне против Германии. Он особенно настаивал, чтобы Александр крепко держался за свою должность на транспорте, зарекомендовал себя перед своим начальством хорошей работой и входил к нему в доверие.
Когда немцы были на подступах к Сталинграду, Петр Андреевич впервые предложил Александру собрать кое-какую информацию по транспорту, сославшись на то, что она необходима для союзников.
Александр больше из страха, чем из каких-либо иных соображений, помялся, но он слишком многим обязан Петру Андреевичу, чтобы отказаться, и потому стал выполнять поручения Петра Андреевича. К тому же за информацию он также получал вознаграждение, что было очень кстати, так как условия жизни стали много труднее.
Однажды, когда Александр готовился к поездке в Мурманск, Петр Андреевич дал ему поручение встретиться с одним человеком, сообщил адрес, приметы, пароль и проинструктировал, как и что надо сказать при встрече с этим человеком.
Так Александр познакомился с сотрудником американской разведывательной службы Хилгом. Это была решающая встреча. Теперь, как сказал Хилг, надобность в Петре Андреевиче миновала. Хилг, оказывается, знал и Сплита, и Эванса, а также и все прошлое Александра. Из разговора с Хилгом Александр понял, что Петр Андреевич был представителем Хилга и в курсе многих дел. От Хилга вновь пахнуло на Александра тем манящим к себе миром, именуемым заграницей, перед которым он с молодости преклонялся.
Обаяние могущества денег, исходившее от Хилга, и врученный им крупный аванс, бесповоротно решили дело. Александр получил кличку «Гарри», получил связи, явки. Хилг предупредил, что работа предстоит большая и долгая.
В сущности говоря, Александру было безразлично, на кого работать. Он не понимал этого всеохватывающего, определяющего собой все мысли и переживания советских людей чувства любви к родине, вдохновляющего их на героические подвиги. Он не знал и того, что люди вокруг него называли мировоззрением. Он не только не представлял себе, в чем оно состоит, но и не давал себе труда даже задумываться над этим.
Давно в нем прочно укоренилось лишь одно желание – попасть за границу и жить так, как жил Сплит, судя по его рассказам, как жил Эванс и им подобные люди.
Александр презирал Советскую страну. От Сплита, Эванса и от многих окружавших его в детстве и юности людей он постоянно слышал произносимое с каким-то исступленным вожделением слово «заграница». Там все было не так.
Там все было по-иному. Там была «настоящая» жизнь. И вот, ради достижения этого другого мира Александр без колебаний и раздумий связал свою дальнейшую судьбу с Хилгом. Он не чувствовал никаких угрызений совести. Он делал то, что надо было делать. Его это не смущало. Важно то, что он окончательно укрепил свое материальное благополучие. Он не сомневался, что был обязан этим своему умению жить, своему искусству носить личину советского человека, подлаживаться к нужным людям, находить с ними общий язык. Благодаря этому он стал нужным человеком для Хилга, за которым стояли большая власть и могущество.
Через два года после окончания войны Хилг передал на связь Александру Оросутцева, а затем Шараборина.
Хилг пояснил при этом, что Александр должен специализировать себя для работы в условиях Севера.
Александру это пришлось не по душе. Он стремился к широте, масштабам, а тут его поставили в определенные рамки.
Шли годы, и чем дальше, тем больше Александр понимал, что он всего лишь пешка в руках Хилга. Это сознание точило душу Александра.
И сейчас, шагая по продуваемой холодным ветром улице Владивостока, Александр думал: «Неужели этот кривозубый Хилг не поймет, что я создан для более высокой роли? Неужели он не видит, что я не хуже его могу разбираться в людях? Почему он не даст мне инициативу самому подбирать нужных людей? Что такое, например, Шараборин? Какая-то человеческая накипь. Разве можно с такими кадрами делать дела?»
Приходили и другие досадные мысли. В последнее время с Хилгом все чаще возникали разные недоразумения. Во-первых, Хилг стал неаккуратно выплачивать вознаграждение. Во-вторых, он категорически запретил Александру жениться, в то время как Александр считал, что женитьба на сестре начальника движения, которая не скрывала своего расположения к нему, пойдет только на пользу дела. А Хилг сказал: «Я подумаю и скажу, а пока запрещаю». И вот он думает уже четвертый месяц. Сколько же еще надо думать?
У Александра было уже много неплохих «дел», и ему ясно, что Хилг делает себе на этом карьеру. Но он вовсе не хочет играть роль трамплина для Хилга.
Наконец, Хилг стал груб, он не терпит не только возражений, но даже советов, он считает умным только самого себя.
В самом плохом настроении Александр подошел к вокзалу. От билетной кассы тянулся длинный, выходящий на улицу людской хвост. Александр осведомился, кто крайний, и занял свое место в очереди.
Большой Невер
Пришел март, но весной и не пахло: до нее в этих краях было еще далеко. Лежал прочный снежный покров, стойко держались сорокаградусные морозы, с севера дули лютые, обжигающие все живое ветры.
Во всех домах с утра до ночи топились печи, над поселком и над станцией Большой Невер вились многочисленные дымки. По узеньким улочкам поселка, сплошь заметенным сугробами, залегли капризные стежки, на которых с трудом можно было разминуться встречным. С наступлением темноты улицы безлюдели, и поселок, казалось, вымирал.
Но это лишь казалось. Веселые огоньки электролампочек, пробивавшиеся сквозь покрытые узорчатым слоем льда стекла окон, напоминали о том, что там, внутри этих рубленых домов и домиков, продолжается жизнь: люди работают, учатся, читают, справляют семейные праздники, посещают клубы, кино, слушают московские радиопередачи, словом, живут вместе со всей обширной страной разнообразной и полнокровной жизнью.
На базах Большого Невера экипировались партии геологов, разведчиков, топографов, отбывающих на север. В парках, гаражах, мастерских ремонтировались тракторы, самосвалы, тягачи, подъемные краны. Активно готовились к выходу на ранний весенний промысел охотники-таежники.
Ключом била жизнь и на станции Большой Невер, этом ближайшем к Якутии железнодорожном пункте. От Большого Невера до Якутска – столицы автономной республики – по прямой линии насчитывалось около тысячи километров. На платформах станции круглосуточно разгружались тяжеловесные составы из крытых вагонов, платформ, цистерн, ледников, копров.
Ни на час не прекращалось движение по Алдано-Якутской шоссейной магистрали, берущей свое начало в Большом Невере и оканчивающейся в городе Незаметном – центре Алданского золотопромышленного района. Беспрерывным потоком по магистрали, через тайгу и хребты, с продуктами, стройматериалами, оборудованием, горючим, взрывчаткой, промышленными товарами тянулись на Алдан и Якутск «Газы», «Зисы», «Язы», «Мазы».
Майор Шелестов и лейтенант Петренко жили в Большом Невере уже четвертые сутки, имея приказание полковника Грохотова задержать неизвестного, скрывающегося под кличкой «Гарри».
Шелестов волновался, хотя и не высказывал своих тревог и волнений.
Правда, от лейтенанта Петренко, уже привыкшего к майору, не могло укрыться его напряженное состояние: достаточно того, что майор необычно много курил, с неохотой, небрежно, будто насилуя себя, ел, мало спал и стал совсем неразговорчив.
И к этому были причины: в минувшие среду и четверг – первые в марте, ни в одном из прошедших с востока на запад пассажирских поездов не оказалось человека, схожего по приметам с тем, кого Белолюбский и Шараборин именовали «Гарри».
И после этого стоило призадуматься. Гарри уже по одному тому, что он руководил практической работой таких диверсантов, как Белолюбский и Шараборин, несомненно, представлял собой большую опасность. Те оба являлись просто исполнителями, а Гарри, как склонны были думать и Грохотов и Шелестов, очевидно, являлся промежуточным звеном между Белолюбским и Шарабориным, с одной стороны, и непосредственными представителями иностранной разведки – с другой. И нельзя было считать законченной затянувшуюся операцию, не выловив Гарри, лиц, связанных с ним и ему известных.
После того как в среду в спальных вагонах поездов, следуемых в Москву, не оказалось Гарри, Шелестов и Петренко решили подвергнуть самому добросовестному осмотру все пассажирские поезда, идущие как с востока на запад, так и с запада на восток. В этой работе прошел четверг, не принесший никаких результатов.
Шелестова и Петренко занимали самые тревожные мысли и опасения. Все можно думать в таких случаях: Гарри почуял расставленную для него ловушку и умышленно не появляется; перепутаны даты; встреча, возможно, должна была иметь место не на Большом Невере, а на какой-либо другой станции, а Белолюбский, чтобы отвести удар от Гарри, назвал Большой Невер; наконец, могло быть и так, что на ту сторону проникли слухи о захвате самолета, и иностранная разведка, в целях сохранения Гарри, решила не посылать его на встречу.
Белолюбский рассказал следствию, что на станции Большой Невер проживает еще один человек, известный только ему и Гарри. Этот человек, как сказал Белолюбский, является «запасным связником». Когда Шараборин отбывал наказание в лагерях, «запасной связник» приходил на рудник к Белолюбскому с поручением Гарри. Он хорошо в лицо знает Гарри и давно связан с ним по преступной работе.
Белолюбский назвал имя, отчество и фамилию «связника», рассказал, как и где его можно отыскать, сообщил пароль, по которому с ним надо установить контакт. Белолюбский высказал даже мысль, что при содействии этого человека нетрудно будет встретить Гарри. Грохотов склонен был, после задержания «связника», решить на месте вопрос о возможности использования его. Но «связник», как установили Шелестов и Петренко, за два месяца до этого заболел и умер.
Положить предел всем сомнениям и тревогам или же, наоборот, усилить их во много раз, суждено было сегодняшним суткам: кануну пятницы и самой пятнице.
До прихода первого пассажирского поезда Владивосток – Москва оставалось два с половиной часа. Уже наступила темнота, и в поселке зажглись огни.
Петренко сидел за столом в маленькой, хорошо натопленной комнате и, совмещая обед с ужином, ел. На столе урчал, поблескивая никелем, самовар, стояла деревянная миска с квашеной капустой, горка свежих беляшей, сливочное масло. Петренко неторопливо разрезал надвое горячие беляши, прикрывал каждую половинку тонким слоем ломкого промерзшего масла и, съедая с аппетитом, запивал сладким дымящимся чаем.
Лейтенант любил поесть и делал это всегда неторопливо, с непередаваемым наслаждением.
А майор Шелестов, заложив руки глубоко в карманы брюк, тут же медленно расхаживал взад и вперед из угла в угол по небольшой комнатушке. В его плотно сомкнутых губах торчала потухшая папироса, которую он изредка машинально посасывал.
«А что если Гарри и сегодня не появится? – думал он. – Каким же образом тогда его отыскать? Где его постоянная резиденция? Кто сможет назвать его фамилию? Ну хорошо, допустим, что Шараборину он известен только под кличкой, – а Белолюбскому? Неужели и Белолюбский ничего не знает? Не может быть. Не верится что-то. Уж не утаил ли Белолюбский от следствия свою осведомленность о Гарри? А может быть, мы уже прохлопали Гарри в среду? Может быть, он уже проезжал Большой Невер, но не владивостокским, а московским поездом? А мы его искали во владивостокском».
– Роман Лукич! – молящим голосом обратился Петренко.
Шелестов остановился, посмотрел на лейтенанта рассеянным взглядом. Он был занят своими мыслями.
– Садитесь, ради бога, за стол, – продолжал Петренко. – Одному и еда не лезет в горло. Честное слово.
Майор посмотрел на уменьшившуюся наполовину горку беляшей и усмехнулся. Нет, лейтенанту нельзя жаловаться на отсутствие аппетита.
– Не хочется что-то, – вяло ответил майор и провел рукой по жесткому ежику седеющих волос.
– А вы через силу.
– Это уже не впрок, – ответил Шелестов. – Кушать надо тогда, когда захочется. Пойду-ка я лучше пройдусь немного по воздуху. Может быть, аппетит нагуляю. А ты поспи. Обязательно поспи. Я зайду за тобой.
Петренко вздохнул:
– Вам бы тоже не мешало вздремнуть, Роман Лукич. Вы ведь, как и я, не спали ночь.
– Ничего, ничего. Молодым сон больше нужен.
Шелестов надел на себя длиннополую тяжелую доху из собачьего меха с большим, нависающим на лицо капюшоном, прихватил меховые рукавицы, закурил новую папиросу и вышел.
Он постоял немного на ступеньках, вглядываясь в темное звездное небо, и зашагал по узенькому переулочку, стиснутому заборами и заваленному снегом.
Колючий ветерок бродил по уснувшему поселку. Мела пороша. Вдоль улицы тянулась колонна автомашин. На скатах побрякивали тяжелые цепи. Шелестов уступил дорогу машинам и сошел на обочину.
Он долго бродил по главной улице из конца в конец, потом заглянул в гостиницу и отправился на станцию. Там у дежурного он навел справку, не опаздывает ли владивостокский поезд, и, получив ответ, что поезд идет точно по графику, вышел на перрон.
Старик, одетый в большую овчинную шубу, посыпал песком площадку около будки с горячей водой. В свете вокзальных фонарей переливалась и искрилась снежная пыль. Прогнувшись, свисали отяжеленные снегом провода. Снегом были засыпаны крыши вагонов, платформы и разбегающиеся лучами в стороны железнодорожные пути. На путях в ночной темноте вспыхивали и гасли желтые, красные и белые огоньки.
Шелестов стоял, прислушиваясь к разным звукам. Маленький маневровый паровоз «овечка», кряхтя и посапывая, бойко бегал по рельсам, волоча за собой цепочку вагонов. Когда паровоз скрылся, Шелестов подошел к багажному складу. Со склада вывозили на тележках изготовленные по стандарту аккуратные белые ящички, обтянутые проволокой.
Шелестов бродил по безлюдному перрону, уже ничего не замечая, углубившись в собственные думы.
Он вспоминал погибших инженера Кочнева, дедушку Быканырова, раненого колхозника Очурова и не хотел смириться с мыслью, что Гарри не явится на Большой Невер и минует руку правосудия.
Шелестов сказал самому себе:
«Чего я, собственно говоря, волнуюсь и переживаю? Из-за того, что Гарри не было в среду и в четверг? Но для встречи избраны три дня недели: среда, четверг и пятница. Почему надо обязательно думать, что он должен явиться сюда именно в первый или на второй день, а не на третий? Ерунда какая-то!»
Но и это не успокоило. А потом Шелестов опять стал обдумывать различные варианты, пытался, как всегда в таких случаях, отыскать в собственных действиях что-то неправильное, непродуманное, упущенное, непредусмотренное, что могло повести к срыву встречи.
Пытался, но не находил и сердился на самого себя за наивность и глупость. Мысль о том, что, не зная в лицо Гарри, не имея пароля для связи с ним, он лично идет на риск, сейчас совершенно не занимала его. Волновало одно, что задание может оказаться не выполненным и враг минует его руки.
«Ну… сегодняшние сутки решают все», – подумал Шелестов, посмотрел на часы и с тем же настроением, с каким и вышел, отправился домой.
Петренко спал сном праведника и даже не шелохнулся, когда вошел майор.
– Ничего не поделаешь, придется будить, время не ждет, – сказал Шелестов и громко позвал: – Грицько! Пора, брат…
Лейтенант поднялся не сразу. Вначале он раскрыл глаза, которые, кажется, ничего, кроме недоумения, не выражали, поморгал, осмотрелся и, увидя майора, стоявшего посередине комнаты, быстро сбросил с себя меховой пиджак и вскочил.
– Я и не раздевался, – сказал он, как бы оправдываясь.
– Ну и хорошо сделал, – одобрил Шелестов. – Надевай пиджак, скоро подойдет владивостокский.
Чтобы надеть пиджак, шапку, шарф и рукавицы, потребовалось две-три минуты.
– Оружие? – спросил Шелестов.
Петренко похлопал рукой по боку.
– На ремне, товарищ майор. Все в порядке.
Когда майор и лейтенант подошли к перрону, в радиорупоре объявили, что на второй путь прибывает поезд Владивосток – Москва.
– Пошли, пошли… – и Шелестов взял за руку Петренко.
Они уже изучили за минувшие двое суток станционные порядки и направились к тому месту перрона, где обычно, по их наблюдениям, останавливался спальный вагон прямого сообщения.
Послышался гудок паровоза. Звук повторился в разных концах и рассыпался. Друзья прибавили шагу.
– Будем действовать в прежнем порядке? – спросил Петренко.
– Да, да. Я войду в вагон, а вы сторожите в тамбуре.
Слепя глаза светом ярких фар, окутанный шипящим паром, сдерживая ход, могуче проплыл заиндевевший и залепленный снежными комьями паровоз. За ним потянулись вагоны.
Шелестов почувствовал, как зачастило сердце, и уже машинально ощупал карманы: в правом лежал пистолет с досланным в ствол патроном, в левом – металлические наручники.
Не ожидая, пока состав окончательно остановится, майор вскочил на подножку спального вагона и отрекомендовался проводнику.
– Где ваш напарник? – спросил он.
– Спит.
– Тогда идите сами в другой конец вагона, заприте дверь и стойте в тамбуре. Не выпускайте никого из вагона. Абсолютно никого. И без шума. Ясно?
– Так точно, – и проводник исчез.
Дождавшись, когда поезд остановился и рядом оказался лейтенант Петренко, Шелестов прошел через две двери в вагон и в коридоре сразу обратил внимание на мужчину такого же, примерно, как и он, роста, с редкой шевелюрой на голове. Он выделялся среди немногих пассажиров, стоявших у окон, своим унылым длинноносым лицом и синим джемпером, украшенным крупными белыми оленями. Он стоял у открытого купе и внимательно всматривался в Шелестова.
«Интересно, – подумал Шелестов, остановившись и откидывая капюшон. – Я его именно таким по описаниям и представлял себе. Это редко бывает. Брать его буду в купе… Здесь люди, неудобно. Нечего поднимать шум. Да, кстати, поинтересуюсь и его вещами».
Он подошел к Гарри так близко, что тот попятился, и заглянул в купе.
– Свободно? – спросил Шелестов.
– Да-а, – как-то неопределенно ответил Гарри.
– Отлично, – заметил Шелестов и полушепотом добавил: – Если вы Гарри, – заходите сюда. Я без билета. Принес вам кое-что от Оросутцева.
От стерегущего взгляда майора не укрылось, как у Гарри едва заметно дрогнули щеки и в настороженных глазах метнулся и мгновенно угас страх. А может быть, это был результат неожиданности.
– Входите, входите… – ответил Гарри, чуть замешкавшись. – Я вас что-то не понял. Я тоже сейчас войду.
«Чего он не понял? – прикидывал в уме Шелестов, войдя в купе и присаживаясь на диван. – Удрать думает, не выйдет…»
Вошел Гарри. Он закрыл за собой дверь, сел напротив и, откинувшись на спину, скрестил руки на груди. Настороженные глаза его обратились к Шелестову. С трудом сдерживая волнение, он спросил:
– Я не понял… что вы мне сказали?
«Кажется, обойдется дело без пистолета», – подумал майор Шелестов и полез в левый карман за наручниками.
Но тут произошло то, чего майор никак не ожидал. Гарри быстро наклонился вперед и нанес ему два молниеносные удара: левой рукой под солнечное сплетение, а правой – в висок. Удары были до того сильные и точные, что Шелестов, едва издав что-то похожее на стон или вздох, как мешок, повалился на пол.
* * *
Лейтенант Петренко, дежуривший в тамбуре, с трудом сдерживал свое нетерпение. Он видел отлично, как майор подошел к человеку в синем джемпере, затем вошел в купе, как за ним последовал тот, в ком можно было почти наверно предполагать «Гарри».
«Наконец-то попалась гадина, – торжествовал Петренко. – Напрасно мы волновались. И все правильно: пятница, владивостокский поезд, без пиджака, в джемпере. А чего же Роман Лукич тянет? Наверное, обыскивает купе. Что ж, это вполне правильно. Может быть, и мне пойти на подмогу? Хотя нет, не стоит. Майор не любит инициативу, идущую вопреки его приказаниям. Подожду…»
Паровоз дал гудок.
Петренко открыл первую дверь и посмотрел в коридор. Он был совершенно пуст. Пассажиры отправились на свои места. Из-за противоположных дверей выглядывало лицо проводника.
Состав плавно тронулся с места. Поплыли мимо станционные огни.
«Черт побери, поехали, – подумал с досадой Петренко. – Это уж совсем некстати. Придется на Сковородино сходить. Затянулось дело. Неужели майор принялся его допрашивать?»
Поезд начал ускорять ход.
«Нет, надо пойти. Помогу, – решил окончательно Петренко и взялся за дверную ручку. Он уже хотел открыть дверь, как тут увидел майора, идущего по коридору в своей длиннополой дохе, с капюшоном, опущенным на лицо, с опущенной головой. – Один? Почему один? – обожгла тревожная мысль. – Неужели это был не Гарри? Ошиблись? Куда же он, проклятый, провалился?»
Поезд уже громыхал на выходных стрелках.
«Будем прыгать на ходу», – решил Петренко.
Майор вошел в тамбур и, не дав лейтенанту возможности произнести хотя бы слово, резко ударил его в горло. Петренко отшатнулся, едва устояв на ногах, и увидел, как майор, открыв на себя дверь и подобрав одной рукой полы дохи, выпрыгнул на ходу поезда.
Оглушенный на мгновение ударом, Петренко с опозданием сообразил, наконец, что произошло. Сглотнув что-то, комом застрявшее в горле, он с разбегу, не воспользовавшись поручнями и подножкой, бросился из вагона.
Достигнув земли, Петренко не удержался на ногах, упал ничком, зарывшись руками и лицом в глубокий снег. Приподняв голову, он почувствовал, как по телу пробежала дрожь: перед его глазами торчал конец контрольного столба из куска рельсовой стали. Еще несколько сантиметров, и он угодил бы в него головой.
Поезд с грохотом пронесся мимо.
Вскочив на ноги и убедившись, что он цел, невредим и даже не ушибся, Петренко выбрался на железнодорожное полотно. Осмотрелся по сторонам и ничего не увидел. На фоне черного звездного неба и множества скупо высвечивающих огоньков станции и поселка он не обнаружил преступника.
Лейтенант опустился на корточки, всмотрелся пристально назад и лишь тогда нащупал глазами удаляющийся в сторону Большого Невера силуэт человека. Человек шел по путям.
Петренко сбросил с себя меховую куртку, вытащил из кобуры пистолет и бросился вдогонку.
Он бежал и думал:
«Что же случилось с Романом Лукичом? Если Гарри смог вырядиться в его доху, то значит… Не допустил ли я ошибки, оставив Романа Лукича? Возможно, ему нужна помощь? Но теперь уже поздно. Да, поздно. Теперь надо схватить этого…»
Гарри, заметивший погоню, подобрал полы дохи и прибавил ходу.
Когда расстояние сократилось метров до тридцати, Петренко дал выстрел из пистолета и крикнул:
– Стой! Стой!
Гарри побежал еще быстрее. Ему следовало сбросить с себя тяжелую, длиннополую доху майора, которая, конечно, его стесняла, но он, видимо, не догадался этого сделать, а может быть, рассчитывал на свои силы и, как бывает часто, переоценил их. Уйти от молодого, тренированного и бегущего почти раздетым лейтенанта было трудно.
Гарри, как понимал Петренко, пытался поскорее достигнуть станции, рассчитывая, видно, оторваться от преследования и затеряться среди железнодорожных составов на путях. А лейтенант хотел во что бы то ни стало лишить его этой возможности и, напрягаясь, все приближался к нему.
«Я бы на его месте остановился и послал мне навстречу одну-две пули, – подумал Петренко. – Неужели он без оружия?»
Но вот расстояние сократилось шагов до пяти. Гарри понял, что ему не уйти. Он уже давно так не бегал и сейчас, задыхаясь, пожалел, что не сбросил вовремя эту тяжелую доху, которая его теперь погубила. Видя безвыходность своего положения, Гарри решился на уловку и, не сдерживая бега, бросился на шпалы и растянулся. Он хотел, чтобы преследующий его споткнулся и упал, и тогда можно было бы еще померяться с ним силами.
Как Гарри рассчитывал, так и произошло. Петренко наткнулся на него с ходу и потерял почву под ногами. Но одного не мог предвидеть Гарри. Налетев на него, Петренко угодил со страшной силой носком торбаза в глаз Гарри. Тот, готовый уже вскочить, повалился на бок и потерял сознание.
С лейтенантом же ничего особенного не произошло. Зацепившись ногой, он перекувырнулся через голову, отлетев на добрый десяток метров, и тут же, вскочив на ноги, увидел неподвижно лежащего Гарри.
Достав из кармана фонарик и держа наготове пистолет, Петренко приблизился к лежащему.
«Куда же я его стукнул? – спросил он себя, посвечивая фонариком. – Не иначе, как в голову. А в общем, сейчас не время в этом разбираться».
Петренко достал наручники, и через секунду щелкнули браслеты.
* * *
Стоял яркий, солнечный воскресный день. Такие дни частыми гостями в этих краях бывают лишь с приближением весны. Снег отдавал такой ослепительной белизной, так ярко мерцал под косыми лучами солнца, что надо было или прищуривать глаза, смотря на него, или же надевать очки с предохранительными стеклами.
«Газик-вездеход» мчался по накатанной и расчищенной автомагистрали, побрякивая цепями на задних скатах, и сейчас легко, на второй скорости преодолевал крутизну хребта Холодникан.
Сдав пойманного диверсанта на руки специальному конвою, майор Шелестов и лейтенант Петренко возвращались в Якутск.
В «газике», обитом фанерой и обтянутом брезентом, было, конечно, теплее, чем снаружи.
За рулем сидел Шелестов.
– Вот как оно бывает в жизни, дорогой товарищ Грицько, – проговорил он, уже в который раз вспоминая все детали ночи с пятницы на субботу. – А ведь я, слава богу, не новичок, не первый год работаю и не первый раз встречаюсь с глазу на глаз с врагами. Правильно, оказывается, говорит пословица: «Век живи, век учись».
– Да… – протянул Петренко. – А я вот сейчас думаю, как бы поступил я на вашем месте. Я бы…
– Тут нечего и думать, – прервал его Шелестов. – Надо было, убедившись, что это Гарри (а я был убежден в этом), наставить ему в лоб пистолет прямо в коридоре, и делу конец. Без всяких церемоний.
– Пожалуй, верно, – согласился Петренко и добавил: – И идти нам надо было вдвоем. Тут бы он ничего не придумал и даже не попытался бы.
– Тоже правильно, – заметил Шелестов.
– Ваше счастье, – заговорил опять Петренко, – что он ограничился только этими двумя ударами. Хорошо, что он не воспользовался ножом. Ведь могло быть хуже.
– Хуже некуда, – крутнул головой Шелестов. – Я еще никогда за свою жизнь не попадал в такой просак. Подумать только, как можно опростоволоситься. Буду докладывать полковнику, так он еще, чего доброго, не поверит.
Петренко усмехнулся.
– А к чему такая щепетильная честность?
– Что, что? – спросил майор и покосил глазами на лейтенанта.
Тот продолжил свою мысль:
– По-моему, необязательно докладывать полковнику все детали. Важно что? Важно то, что приказ его выполнен и Гарри пойман. Я бы на вашем месте… – и Петренко умолк, почувствовав на себе твердый взгляд суровых глаз майора.
– Вы что это, серьезно? – холодно спросил Шелестов и даже сбавил ход машины, которая уже достигла перевала.
Петренко смутился и не сразу ответил. Он не видел ничего порочного в том, что сказал. Ему очень не хотелось, чтобы майор Шелестов, которого он полюбил, с которого брал пример, у которого учился, как стать настоящим разведчиком, получил из-за своей откровенности какую-нибудь неприятность.
Но врать было противно натуре лейтенанта, а потому он ответил:
– Конечно, серьезно, Роман Лукич. Что вы находите в этом плохого? Дело-то от этого уже не пострадает!
Шелестов выдержал паузу, о чем-то раздумывая, и сказал:
– Так вот что, товарищ лейтенант. Запомните: если мне будут предлагать вас в подчиненные, я откажусь. И знаете почему?
Петренко вспыхнул.
– Знаю, товарищ майор. Простите меня. Я ведь от чистого сердца. Я по-дружески предложил. Я никогда в жизни никого не обманывал. Верите?
– Хочется верить, – ответил Шелестов. – И не желал бы в вас разочаровываться. В любом деле, а в нашем особенно, ложь недопустима. Как мне ни неприятно, но я честно расскажу и полковнику Грохотову, и всем товарищам о своей ошибке. Моя ошибка послужит уроком для остальных. А кто таит и прячет от коллектива свои ошибки, тот рано или поздно не удержится и от прямого обмана. Поняли?
– Прекрасно понял.
– И еще запомните: прежде всего долг, а потом уже все… и дружба.
– Согласен, товарищ майор.
– На словах согласны, а в душе?
– Тоже, Роман Лукич.
– Хорошо, – одобрил майор, и глаза его потеплели. – Теперь я не откажусь от вас, товарищ Грицько. И мы вместе еще не одного врага выловим…
Преодолев перевал, «газик» на тормозах стал спускаться вниз по врезающейся в таежный массив автомагистрали.
Примечания
1
Улахан тойон – большой хозяин.
(обратно)2
Тогор – друг.
(обратно)3
Капсе – говори, рассказывай. Часто употребляется якутами вместо приветствия.
(обратно)4
Сох капсе – нечего рассказывать.
(обратно)5
Дорообо – здравствуй.
(обратно)6
Арыгы бар – Водка есть?
(обратно)7
Учугайда – хорошо.
(обратно)8
Атас – товарищ.
(обратно)9
Сеп – ладно.
(обратно)10
Ханяк – кушанье из молока.
(обратно)11
Тохто – стой.
(обратно)


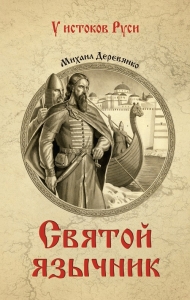


Комментарии к книге «Следы на снегу», Георгий Михайлович Брянцев
Всего 0 комментариев