Золотой выкуп
ПРОЛОГ
На много и много верст славен Дахбедский базар. Притомившиеся караваны, следующие из разных краев, зачастую завершают свой путь здесь, не достигнув Самаркандского рынка. Во времена правления Хакимбека базар был заметно приведен в порядок: вновь выстроены торговые ряды с навесами, укрывающими торговый люд от жгучего солнца и непогоды. В центре рынка располагались суконщики, гончары, медники, торговцы атласом. В конце базара шла торговля дровами. А еще дальше — разной живностью: коровами, овцами, козами, лошадьми.
К полудню базарная площадь, заполненная людьми, кипит, подобно сказочному казану-великану. Покупатель старается сбить цену, купить подешевле, продавец гнет свое, воздевая руки к небесам, призывая аллаха в свидетели. Кого-то пригнала сюда нужда, кто-то пришел потолкаться, поглазеть на диковинные товары…
— Да не айва это вовсе — само золото.
— А чего же ты золото продаешь-то, глупец?
— Берегись, испачкаю!
— Пап, а пап, купи вареного гороху!
— Вот продадим маш[1], мой жеребенок, тогда и купим.
— Скажи, братишка, а где торгуют веретенами?
— Где-то рядом, где детские игрушки.
— Вай, умереть мне, обронила где-то галошу и не заметила!
— Кому кайму для штанов, шелковая кайма!
— «Шелковая»! Да ведь это чистая бязь, иди своей бабушке продавай такой шелк!
— Эй, хурджин[2], освободи дорогу!
— Сам ты хурджин, дырявый бурдюк, ишак лопоухий!
— Все-все, иди, иди, только не лайся!
— Кому гармалы, чудо-травы для дома окуривания, от всяких бед и напастей спасения!
Старухи и молодухи в паранджах[3], старики, облаченные в толстые стеганые халаты, подпоясанные сразу четырьмя поясными платками, сидя прямо на земле, затоптанной, заплеванной, закаменевшей, слушают причитания обросшего, с грязными длинными космами, в лохмотьях маддаха — уличного рассказчика жития святых.
Как Машраб юродивый, не стану Замечать я горестей людских, Коли нет печали Намангану До обид и горестей моих[4].В восточные ворота базара рысью въехали пятеро всадников. Одеты они одинаково: на голове чалма из зеленого сукна, халаты плотно облегают тело, шелковые поясные платки туго затянуты; у всех пятерых за поясом — сабли, за плечами — винтовки. Посредине едет на белом коне юноша лет двадцати трех. У него узкий стан, широкие плечи. Руки длинные, предплечья толстые. И ростом джигит высок, над сотоварищами на полголовы возвышается. Желтоватое, слегка удлиненное лицо, высокий лоб; светлые, с рыжинкой брови нахмурены…
— Намазбай едет!..
— Намазбай-палван[5] едет!
— Так это и есть тот самый Намаз-блаженный?
Едва заслышав имя Намаза, нищие, калеки, попрошайки, слепцы, выстроившиеся длинным коридором по обе стороны ворот, заголосили громче, жалостливее, требовательнее. Старушка, накрывшаяся вместо паранджи латаным-перелатаным халатом и опустившая на лицо вместо чачвана кусок простого холста, запела, обнимая двух детишек и не отрывая взгляда от глиняной чаши с отбитым краем:
Наша жизнь как базар, где сидят у ворот, Словно горлинки, стаи голодных сирот. Кто им детство вернет? Кто им слезы утрет? Не спешите уйти — пожалейте сирот!Весть о том, что появился Намаз со своими джигитами, мигом облетела весь базар, кто-то спешил посмотреть своими глазами на прославленного мстителя, кто-то трясущимися руками прятал подальше кошелек.
Всадник, двигавшийся несколько впереди Намаза, кидая монеты в толпу нищих, привстал на стременах.
— Эй, мусульмане, слушайте меня! Намазбай-мститель на той неделе со своими славными джигитами отобрал у богатеев-толстобрюхов вашу долю и сегодня возвращает ее вам! Берите!
Джигит опустился в седло и продолжал осыпать базарный люд золотым дождем.
Намаз проследовал дальше, к мясной лавке, оставив двух джигитов сторожить главные ворота. В базарные дни мясник Салим готовил любимую Намазову шурпу[6] из бараньих потрохов.
У восточных ворот базара зазвучали литавры: под их звон обычно оглашались царские указы и указы уездного начальства.
Людские толпы, насторожившись, повернулись на звон литавр.
Аман-глашатай, низенького роста, толстошеий, с круглым животом и широким ртом человек, выкрикнул гнусаво:
Слушайте! Слушайте! Слушайте! Ко всем мастерам, Людям торговым Хаким[7] обращается С праведным словом. Внемлите же, слуги аллаха, Неверным — презренье и плаха!Аман-глашатай не вкладывал особых чувств в слова объявления, говорил-сыпал ими в такт и в рифму.
Нигде во владеньях не стало покоя От смуты, огня, грабежа и разбоя, Которые сеет, скрываясь от глаз, Разбойничий сын Пиримкула Намаз. Он спутался с дьяволом, грешник кровавый, Казиям[8] и баям грозит он расправой, И мудрый хаким за поимку врага Отдаст из казны десять тысяч таньга. И ровно три тысячи выдаст тому, Кто голову вора предъявит ему. Внемлите же, слуги аллаха, Неверным — презренье и плаха!Намаз сидел в лавчонке Салима-мясника, ел шурпу и внимательно слушал глашатая.
— Каким соловьем заливается этот пузатый Аман, а? — сказал он спокойно, не отрываясь от еды.
Мясник же перепугался всерьез. Он торопливо опустил полотняный навес перед лавкой, закрыл дверь.
— Уж не собрался ли ты, Салим, заработать десять тысяч таньга? — засмеялся Намаз.
Мясник не успел ответить, двустворчатая дверь распахнулась, и в проеме вырос один из джигитов Намаза.
— В чем дело? — нехотя отложил чашу предводитель.
— К восточным воротам базара подошли казаки. Кажется, пронюхали, что вы здесь…
— Много их?
— Много, Намазбай.
Тут подоспели и остальные джигиты, остававшиеся на часах. Они были обеспокоены. Доложили, что у западных ворот базара стягиваются нукеры волостного управителя, а за стенами мясной лавки, где сидел сейчас Намаз, на скотном ряду появились люди капитана Олейникова.
— Выходит дело, мы окружены? — оглядел предводитель сотоварищей.
— Да, бежать надо! — воскликнули джигиты в один голос.
— Бежать, бросив такую вкусную шурпу?
— Намазбай, послушайтесь доброго совета. Утром город был пуст. Даже городового на центральной площади не было. А теперь весь базар окружен. Они знали, что вы появитесь здесь!
— Не спешите, Эшбури-ака. Помните, не каждый, кто спешит, вовремя достигает цели. Однако же, Салим-мясник, отменную шурпу ты приготовил! Мне кажется, всевышний создал нас с тобой затем, чтобы ты готовил прекрасные супы, а я охаживал плетьми богатеев. Носишься по полям-пустыням, душа желчью наполняется. Что ж это за жизнь, думаешь. Не можешь посидеть спокойно, побеседовать с другом, своей тени должен остерегаться. И это называется светлый мир? Каков же, выходит, темный мир, коли светлый таков? Отвечай же, мясник, почему молчишь? Неужто теперь я вынужден буду появляться на улице только в темноте ночной, будто летучая мышь какая? Нет, не выйдет, я их самих в щели загоню! Я им такое устрою, что они тысячу таньга заплатят за любую мышиную нору!
Намаз казался чересчур спокойным и хладнокровным, и можно было подумать, что его нисколько не беспокоит собственная судьба и судьба соратников. Но это было не так. Он тотчас оценил опасность, нависшую над ними, и теперь про себя лихорадочно искал лучший выход из положения.
— Быстро! Складывайте ружья и сабли в мешок! — скомандовал Намаз джигитам. — Бросьте его в сток. Вот так. А теперь ныряйте в толпу, затеряйтесь среди людей. Я уведу преследователей за собой.
— Намазбай!
— Вечером встретимся на берегу Акдарьи, на известном вам месте. Салим-мясник, приведи сюда моего коня.
— Конь велик — двери низки, боюсь, он не влезет сюда.
— Лишь бы морда пролезла — об остальном не беспокойся. Поторапливайся, приятель.
В самом деле, конь Намаза, точно приученный, почти ползком, едва не касаясь брюхом порога, влез в узкую, низкую дверь мясной лавки.
— Запри дверь на засов. Топор есть?
— Как не быть, у мясника-то?!
— Стена лавки с каркасом?
— Нет, глинобитная.
— Прекрасно, давай сюда топор.
Салим-мясник глядел на Намаза и не верил своим глазам: перед ним был не давешний простоватый, добродушный джигит, который со смаком, шутками и прибаутками поглощал суп из потрохов, а сказочный див[9], полный неуемной силы и энергии. Проворными движениями Намаз начертил на задней стене квадрат, точными, резкими ударами топора провел по линиям глубокие борозды.
— Что слышно на базаре?
— Всех усаживают на землю, — ответил Салим-мясник, глядевший наружу в щель между створками двери.
— А полицейские?
— Людей проверяют.
— Хорошо. Веревка найдется у тебя, Салим-мясник?
— Найдется, конечно.
— Тащи: сюда. Я должен связать тебя. Иначе не знать тебе покоя. Скажут: кормил-поил грабителя, бежать помог. Чего доброго, в тюрьму упекут. Давай ложись.
Мясник не успел даже возразить — был повален на пол и связан по рукам и ногам. Бедному Салиму не оставалось ничего другого, как жалобно кряхтеть и стонать. А Намазбай разбежался и врезался плечом в стену, как раз в том месте, где обозначил топором.
Удар был таким мощным, что часть дувала[10] вылетела наружу метра на три-четыре, осыпавшись на лежавших у стены стреноженных овец и подняв тучу пыли. В ту же секунду, как образовалась брешь. Намаз вывел коня и взлетел на него. Взгляд его, подобный молнии, разом охватил все, что происходило вокруг. Джигиты не ошиблись: скотный ряд был оцеплен полицейскими. На стременах своего горячего коня привстал капитан Олейников, недоуменно вглядываясь туда, откуда вдруг взвихрилась пыль и возник всадник. Он, видно, не думал, что там может появиться сам Намаз.
«Не поймет, бедняга, что произошло, — усмехнулся Намаз, несясь во весь опор прямо на Олейникова. Нахлестывая и без того бешено рвавшегося вперед скакуна, он припал к его шее, почти слился с ним. — За мной может угнаться лишь один конь — конь Олейникова! Но его придется лишить возможности бегать…»
Поравнявшись с ошарашенным Олейниковым, Намаз неожиданно выпрямился.
— Вот он я, Намаз, господин капитан! — С этими словами палван выпустил из семизарядного револьвера две пули в лоб коню Олейникова. Капитан понял, что случилось, лишь грохнувшись на землю. Лежа, поскольку нога оказалась под конем, Олейников тщетно пытался вырвать из кобуры револьвер. Смятенная толпа, крики и поднявшаяся пыль помогли Намазу выбраться из-под выстрелов невредимым.
Оставив далеко позади и базар, и сам Дахбед, Намаз вынесся в открытую степь. Оглянулся и увидел вдали три группы всадников. Давайте, герои, погоняйте, горячите, коняшек. Догоните — многострадальная голова Намаза ваша! До реки еще далеко, но надо, чтобы кони ваши притомились. Усталый конь становится безрассудным, пугливым, от любого звука шарахается как безумный.
Намаз знал, что конь его не подведет. Скакуна этого он отобрал три месяца тому назад у даргамского богатея Арифбая. Резвый, выносливый — сказочный скакун, да и только. Постоянно тренируя, Намаз научил его не бояться выстрелов, преодолевать препятствия, рвы, с лету взбираться на крутые горные склоны.
Намаз направлял скакуна то влево, исчезая за холмами, то вправо, неожиданно выскакивая из камышовых зарослей, точно волк, увлекающий за собой свору гончих псов. «Ага, растерялся, бандит, — злорадствовал капитан Олейников, пришпоривая коня, взятого им у какого-то торговца. — Не знает уж, куда и податься. И конь его, кажется, выдохся. Вот теперь-то я и возьму его живым!»
«Ну, молодчики, степь здесь ровная как стол, рассыпьтесь пошире, рассыпьтесь, — усмехался Намаз. — Сейчас начнем купание».
Впереди простиралась река Кыпчакарык. Намаз хорошо знал берег и подъехал к тому месту, где он был обрывистый и высота его достигала не менее десяти метров.
Скакун под Намазом словно прочитал мысли седока, понял его намерение: приближаясь к обрыву, он все ускорял бег, а потом взмыл, подобно птице, высоко в воздух и легко перелетел на другой берег. Преследователи, должно быть, решили, что там, где так легко прошел конь Намаза, запросто проскочат и они, во всяком случае, они не замедлили бег, наоборот, отпустив поводья, вовсю нахлестывали коней. Вот один из них в последний раз огрел плеткой коня и полетел вниз. За ним второй, третий, четвертый…
Тридцать всадников рухнули в водяную пропасть. Барахтаясь в воде, ржали, испуганно всхрапывали кони. Люди кричали, ругались, оставшиеся на берегу беспорядочно палили из ружей. А Намаз, уже взобравшийся на песчаный холм и недосягаемый для пуль, хохотал, полуобернувшись к ним в седле…
Часть первая БУНТ МАСТЕРОВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПУТНИКИ
В полдень 18 октября 1904 года из самаркандских городских ворот вышли трое путников.
Один из них был Намазбай. На ногах — аккуратно сшитые постолы, халат новенький, из сатина в мелкий цветочек, на голове — чалма из зеленого сукна. Второго путника звали Хайитбаем, третьего — Тухташем. Это были мальчики лет тринадцати. Хайитбай — толстенький, плосколицый. Он весь, от головы до пят, покрыт гноящимися язвами. На нем громаднейшие сапоги, на них заплата на заплате. Старенький халат Хайитбая надет прямо на голое тело.
Тухташбай, наоборот, невообразимо тощ, до такой степени, что шея его подобна черенку яблока, готового вот-вот оторваться от ветки, лицо желтое-прежелтое, глаза провалились в глазницах. Обут Тухташбай в непарные кавуши[11]. Рубах надето на него несколько, они лоснятся от грязи, точно намазанные ваксой. Но на головах обоих ребят — новенькие тюбетейки.
— Ну, Тухташ-палван, не устал? — спросил, оборачиваясь, Намазбай.
Тухташ ответил не сразу. Он остановился, тяжело вздохнул и, глядя на Намаза, странно улыбнулся.
— Устал, — сказал он, тяжело дыша. — Такой я стал почему-то: чуть пройдусь пешком — весь в поту утопаю.
— Сил у тебя нет, вот что, — вмешался в разговор Хайитбай, шедший чуть впереди.
— Неправда! — возразил Тухташбай, в котором вдруг заговорила мальчишечья гордость. — Сил у меня предостаточно! Только вот потею, когда хожу пешком, и все тут. На днях, когда в Тошохур ходил, точно так было: иду и потею, иду и потею…
— А зачем ты ходил в Тошохур? — поинтересовался Намазбай.
— Люди тамошние щедры, — слабо улыбнулся Тухташбай, — нищим подают охотно.
Намаз забрал этих двух ребят из чайханы «Приют сирот», что возле лошадиного базара в Самарканде. В этой чайхане маленький Намаз когда-то находил приют. Здесь доставался ему кусок хлеба, когда желудок сводило от голода, здесь обогревался пиалой крутого кипятка, когда коченел от холода. Прошли годы, Намаз вырос, но до сих пор помнит хозяина «Приюта сирот» Дивану-бобо, часто навещает его…
Говорят, Дивана-бобо, которому сейчас за пятьдесят, очень рано лишился родителей, вырос, кормясь подаяниями добрых людей. Себе он брал только то, что подавали люди съедобного, а деньги собирал копейка к копейке, пока не набрал достаточной суммы, чтобы купить заброшенный домишко. Подлатал его, подремонтировал и открыл эту чайхану, которую вскоре стали называть «Приют сирот»…
Намаз в месяц, в два месяца раз наезжал в чайхану, угощал чем-нибудь вкусным ночевавших там сирот, катал их на фаэтоне — в общем, делал все, чтобы они хоть на время забыли свою горькую сиротскую долю.
Вчера Намазбаю снова довелось побывать в Самарканде. Сестра Улугой послала его в город продать шесть мешков пшеницы, полученной за год работы издольщиком, и купить в подарок одежду и обувь девушке, с которой они были помолвлены. Намаз не стал даже заходить на базар: продал пшеницу оптом у Сиябских ворот и вздохнул с облегчением. Это самое противное занятие для него — торговать: если продает, то обязательно продаст дешевле положенного, себе в убыток, а если покупает, то, конечно, заплатит втридорога и купит при этом не самое лучшее. Какую бы покупку ни сделал Намаз — сестра его всегда недовольна: какой-нибудь изъян обязательно обнаружится.
«Куплю необходимые вещи вместе с Диваной-бобо», — решил Намаз и отправился прямиком в «Приют сирот». Старик оказался на месте: перепоручив обслуживание маленьким помощникам, он сидел в кругу почтенных посетителей, попивая чаек и ведя неторопливую беседу.
— Э, сынок-палван! — обрадованно вышел он навстречу Намазу. Крепко обнял, обеими руками поглаживая его плечи. — Суф-суф-суф, не сглазить, сил налился на зависть, настоящим богатырем стал! Прошу, прошу, сынок, присаживайся. Ох, и обрадовал ты старика, сынок. Соскучился по братишкам своим?
— По вас тоже соскучился, отец.
— Дай бог тебе счастья, палван сынок!
Когда последние посетители покинули чайхану, Намазбай с Диваной-бобо удобно устроились на мягких подушках и предались душевной беседе. Намазбай поведал кишлачные новости, старик поделился городскими, причем новости его оказались диковинными. Извозчики Юдина потребовали у хозяина добавить к их жалованью еще по полтиннику, устроили беспорядки, не вышли на работу. Наутро к ним присоединились рабочие водочного завода Нордмана, чаеразвесочной фабрики Николаева. Не успели утихнуть эти волнения, как взбунтовались железнодорожники. Власти прислали двадцать казаков, чтобы наказать рабочих и заставить выйти на работу, но рабочие обезоружили их да поколотили от души.
— Э, палван сынок, кажется, конец света наступает, — вздохнул Дивана-бобо. — Хозяева ни капельки совести не имеют. Край опустошен. Баи заплыли жиром. Коли аллах не вмешается, не наведет порядок на земле, считай, не будет в этом мире места для бедняков.
— Однако, отец, русские пытаются навести порядок, — проговорил Намаз задумчиво.
— Как же они его наведут?
— Как — не знаю, знаю только, что они восстают против насилия.
— Да, сынок, вообще можно позавидовать этим людям: ненавидят несправедливость, стремятся к воле… Некоторые из них заходят ко мне побаловаться чайком. А один, говорит, специально пришел, чтобы поглядеть на меня, на человека, который помогает сироткам. «Хороший ты, бабай!» — похлопал меня по плечу, а уходя дал мне целковый — ребятам на гостинцы. Но ты, сынок, будь осторожен. Ловят всех, кто против царя говорит, в тюрьму сажают. Ты только-только на ноги встаешь, не хотелось бы, чтобы споткнулся и искровенил себе нос.
— Я это к тому говорю, отец: не лучше ли нос разбить в честной схватке, чем плов жрать да в унижении жить…
— Не надо, сынок-палван, так говорить. Не пристало мусульманину вести такие речи. — Старик протянул гостю пиалу с чаем. — На то на небе и существует аллах, чтобы наказывать тех, кто чинит зло и несправедливости. Ты лучше расскажи про свою жизнь. Когда же ты женишься, вот что мне интересно.
— Бог даст, после уразы[12] свадьба.
— Музыканты за мной! — обрадовался Дивана-бобо. — Я уже собираю деньги, чтобы нанять арбу.
Вечером в чайхану стали стекаться десяти-двенадцатилетние бродяжки, беспризорники-попрошайки, не имеющие ни крова, ни родных. Намаз специально для них прихватил с собой две лысухи, килограмма три рису. Собственноручно приготовил плов, а после нарезал большую сладкую дыню. Всем доволен остался Намаз-палван, только вид и состояние Тухташбая и Хайитбая сильно огорчили его. Он понял: если оставить ребят без поддержки, они недолго протянут. Когда Намазбай сказал, что возьмет их с собой и покажет русскому лекарю, ребята охотно согласились. Еще Намаз пообещал им, что когда они поправятся и наберутся силенок, смогут остаться у русского бая в услужении. Ребята и это предложение приняли с удовольствием.
— Намаз-ака, теперь вот расскажите, — сказал вдруг Тухташбай довольно бодро, хотя сам весь истекал потом.
— Что рассказать, братишка Тухташ?
— Вы говорили, что вы тоже сирота.
— Сирота, да еще какой несчастный сирота, братишка, ты и представить себе не можешь. Таков он, оказывается, этот мир. Расскажу, все вам расскажу. Но только — чур, с уговором: не смеяться, если я вдруг заплачу от жалости к самому себе.
— Разве может плакать такой богатырь, как вы? — всерьез удивился Хайитбай.
— Плачу, братишка, плачу порой вдосталь… Ведь и у богатырей есть сердце, у них тоже бывают горести и печали. Так вот, слушайте. Я сирота, и некогда был я бездомным, как вы. Говорят, невезучим я родился. Есть такой город, Каттакурган называется, слыхали когда-нибудь?
— Нет, не слыхали, — хором ответили мальчишки.
— Ну да ладно, как-нибудь свожу я вас туда, бог даст… Вблизи этого города находится кишлак, Утарчи называется. В нем я и родился, на рассвете, как раз перед намазом. Мать умерла, едва лишь я увидел свет. Весть об этом дошла до отца в тот час, когда он находился в мечети, на молитве. Он был человеком болезненным, сердце у него было больное, как услышал, что жена умерла, сам тут же упал замертво. Вот потому-то и назвали меня Намазом… — Помолчав некоторое время, он вздохнул: — Такие-то дела, братишки мои милые. Вырос я в конюшнях и хлевах богатеев. Были времена, когда ел жмых вместе с волами и был доволен жизнью. Дважды продавали меня как раба. Я убегал. Слава аллаху, повстречался вот мне Дивана-бобо, он и отвел меня к Ивану-баю. Тот выучил меня читать, писать, даже в Москву, в Петербург брал с собой путешествовать… А вы, палваны, откуда родом будете, какого племени?
— Мы с кокандской стороны, — опять разом ответили мальчишки.
Намаз присвистнул.
— Да-а, не из ближнего света вы, оказывается. А как очутились здесь?
— На огненной арбе доехали, тайком, конечно.
— А что, в Самарканде родичи у вас?
— Тухташ говорил, у него тут тетушка живет.
— Помолчи уж лучше, — вскричал Тухташбай. — Сам же мне все уши прожужжал, что, мол, в Самарканде сиротам бесплатную еду выдают! До самой огненной арбы ведь чуть ли не силком тащил, в спину подталкивал, разве неправда?!
— А родителей у вас нет?
— Говорят, я родился после смерти матери, — доверительно сообщил Тухташбай.
— Что ты говоришь? — засмеялся Намаз.
— Правда, а потом рос в клетке для перепелки…
— Ну а ты, Хайитбай, почему ты молчишь?
Хайитбай, молча вышагивавший чуть впереди, приостановился, спросил с улыбкой:
— А что мне говорить?
— Мать-отец живы?
Хайитбай пожал плечами, странно скривил лицо, покрытое язвами.
— Не знаю.
— Однажды суфия он за отца принял, — хихикнул Тухташбай.
— А сам, сам что? За каждой паранджой десять верст вышагиваешь, все надеешься, вдруг эта женщина твоя мать!
— Когда это было?
— Да каждый день…
— Ты мать мою не оскорбляй, знаешь!..
— Но матери-то у тебя нет?
— Есть, а то как же? Бог даст, я ее обязательно разыщу.
Мальчишки стояли друг против друга, напоминая молодых петухов, приготовившихся к битве. Тухташбай глядел на друга, глядел, вдруг зашатался и упал как подрубленный.
Намаз подбежал к нему.
— Что случилось, братишка?
— Так… ничего… — ответил Тухташбай, часто-часто дыша, — ноги вдруг подкосились… Вот потею, голова кружится, может, поэтому… Останусь я здесь, Намаз-ака, сил у меня что-то совсем нет, приду в себя немного, догоню вас…
— Взять тебя на руки?
— Нет, нет, что вы!
— Тогда давайте пойдем все же потихоньку. В Карши отдохнем, почаевничаем. Отменные там шашлыки готовят. А ты, Тухташ-палван, как смотришь на огненные душистые самсушки?
— От самсы я не откажусь, конечно, хотя не против и горячей чашки шурпы, — слабо улыбнулся Тухташбай, медленно поднимаясь на ноги.
ГЛАВА ВТОРАЯ. У ДОКТОРА СЕРГЕЯ
Дорога между Дахбедом и Лайишем проходит через камышовые заросли. В любое время года здесь грязно, а порой грязь становится непролазной. Преодолеть этот участок пути трудно не только пешему, но и всаднику. Тухташбаю стало так плохо, что Намаз взял его на руки.
— Потерпи, братишка, потерпи еще немного, — подбадривал он Тухташбая.
Намаз пытался посадить больного к кому-нибудь на арбу или коня, но все, едва глянув на Хайитбая, спешили прочь, ссылаясь на дальний путь и срочные дела.
Вот их опять догнала арба, разбрызгивая высокими колесами грязную жижу. Намаз остановился, опустил мальчика на землю.
— Эй, хороший человек, куда путь держишь?
Возница был примерно одного возраста с Намазом, худощавый паренек с быстрыми глазами.
— Домой вот спешу.
— Да поможет тебе аллах, добрый человек, благополучно добраться до дома. Подвези, пожалуйста, братишку. Я заплачу.
— Сколько заплатишь?
— Сколько запросишь.
— Щедрому всегда воздается сторицей. Давай клади своего братца на арбу, путник. Только сам пойдешь пешком. Коняга мой истомился сильно. Наместнику дрова возил. По дороге в грязи застрял. О, второй парнишка-то весь в болячках… Чу, коняга-бедняга!.. Куда сами-то путь держите?
— В Мужицкий кишлак.
— К русскому табибу?[13]
— К нему.
— Говорят, он здорово вылечивает всякие болячки. А откуда идете?
— Из Самарканда.
— Пешком? Бай-бай-бай![14] Однако, хоть вы и из Самарканда, но на городских-то не похожи. Городские постолов не носят.
— Я сказал: идем мы из Самарканда. А сам я из Джаркишлака.
— Вот из этого самого Джаркишлака? — показал возница рукояткой плети вправо, поспешно натягивая узду коня. — Погодите, вы случайно не Намаз-палван?
— Он самый.
Акрамкул — так звали погонщика арбы — соскочил с коня и от души пожал огромные ручищи Намаза, потом заставил его взобраться на арбу, успев тысячу раз извиниться. Когда снова тронулись, Акрамкул уселся в седле боком, чтобы видеть попутчиков, и заговорил. Казалось, что его теперь ничто и никто не в силах остановить. Сказал, что он и раньше много слышал о Намазе, но впервые увидел его на пышной свадьбе волостного управителя. Тогда он стал свидетелем, как Намаз один за другим повалил всех богатырей-курашчи[15], прибывших на свадьбу. Оставался последний соперник, и Акрамкул решил про себя, что если палван свалит и этого курашчи, он снимет с себя чекмень и подарит его Намазу. Но когда Намаз, положив и этого борца на обе лопатки, кинул зрителям все деньги, полученные в качестве приза, и покинул круг, Акрамкул растерялся. «Столько золота, серебра играючи бросил под ноги неизвестных людей, разве нужен ему мой рваный чекмень, — подумал тогда Акрамкул. — Разве что вместо попоны будет им осла своего накрывать?» Так и не решился тогда подойти к Намазу. Но все равно не покидала его мечта когда-нибудь познакомиться с чудо-богатырем. Оказывается, мечтал об этом и отец Акрамкула. Они давно собираются вместе с почтенными старцами селения прийти к палвану и расспросить его, узнать, откуда появился такой налог, который называется «дровяными деньгами». Ведь Намаз знаком с урусами[16] — сановниками, посещал некогда даже город, где находится дворец белого царя.
— Если вы не против, палван-ака, сейчас прямо и поехали бы в Каратери, — подытожил Акрамкул свою сумбурную речь. — Вы не представляете, как обрадуется мой отец!
— В другой раз поедем, — пообещал Намаз. — А сейчас надо ребят доктору показать.
«Мужицкий кишлак», как называли местные жители красивую и аккуратную деревеньку Первомайскую, возник более тридцати лет тому назад, а точнее, — 1 мая 1870 года. В тот памятный день сюда прибыли переселенцы из глубин России. Кругом простирались песчаные холмы, болота и заросшие камышом засоленные земли. Вначале все переселенцы жили в домишках, слепленных из камыша. Впоследствии появились прямые ровные дороги, в село стали ввозить на арбах, верблюдах гравий, заработала печь для обжига кирпича. Один за другим в центре села выросли крепкие, добротные дома, устремилась куполом в небо церковь. Сейчас здесь, кроме мужиков, занимающихся садоводством, выращиванием зерна и частично охотой, проживают семьи чиновников, занятых на разных государственных должностях.
Сергей Степанович Рябов по прозвищу Сергей-Табиб, к которому держал теперь путь Намаз, прибыл сюда в ссылку; работает учителем в здешней русской школе, врачует больных. Живет один-одинешенек, человек суровый, вспыльчивый. В летнюю пору Рябов уходит в горы, собирает лечебные травы, коренья. Посещая узбекские кишлаки, изучает привычки и обычаи местных жителей. Немного говорит по-узбекски. Они с Намазом познакомились, когда Сергей-Табиб лечил жену покойного ныне Ивана-бая, у которого Намаз прислуживал по хозяйству. С тех пор поддерживают дружеские отношения. Сергею Степановичу Намаз пришелся по душе своей честностью и искренностью, немалую роль в этом сыграло, видимо, и его хорошее знание русского языка. Намаз приносит лекарю подстреленных на охоте уток, лысух и диких кабанов, частенько остается у него ночевать. И почти каждый раз уходит с коробом дроби, которым оделяет его Сергей-Табиб.
Рябов сидел на сури[17], в небольшом дворике, огороженном камышовым заборчиком, и играл на скрипке. Заметив гостей, он отложил инструмент и встал.
— Намазбай, ты ли это? — спросил он по-узбекски.
— Вы не ошиблись — он самый, — ответил Намаз по-русски.
— Ей-богу, сидел тут и с тоскою думал, что опять буду шурпу в одиночестве хлебать, — заговорил на родном языке и Сергей-Табиб. — Ты очень вовремя приехал, Намаз.
— Я к вам больных привез.
— Племянники, что ли? — спросил Рябов, внимательно разглядывая мальчишек.
Намаз объяснил, откуда ребята.
— Дела неважнецкие, — произнес лекарь, осмотрев ребят.
— Ничем нельзя помочь? — опешил Намаз.
— Не знаю, не знаю… может, и удастся спасти мальцов. Лишь бы у этого, с болячками, кровь не оказалась зараженной.
— Никого-то у них, бедняжек, нет, — проговорил тусклым голосом Намаз.
— Что ты заладил! — прикрикнул на него Сергей-Табиб. — Будто я не вижу! Забодай их блоха… Вон до чего детей своих доводят, а сами, будто одной мало, по нескольку жен берут, по пятнадцати дней свадьбу гуляют, азартными играми увлекаются!.. А такие, как ты, бездельники, только и знают, что с ружьишком по чащобам лазят, охотятся!
Сергей-Табиб вынес из дома стеклянную баночку.
— Вот этой мазью будешь мазать язвы у своего Хайитбая, — сказал он. — Достаточно один раз в день, не то, боюсь, обожжет… А как зовут вот этого стебелька?
— Тухташбай.
— У Тухташбая сильная простуда, нечисто в легких. Голод окончательно подорвал его силы. Ты фазанов стреляешь по-прежнему?
— Стреляю.
— Дома сандал[18] есть?
— Можно поставить, нетрудно.
— Дрова из урючины найдешь?
— Если постараться, думаю, что…
— Нет, ничего не выйдет, — с сомнением покачал головой Сергей-Табиб. — Не справишься ты. Плодить детей вы умеете, а вырастить поручаете аллаху! Сколько за одну эту весну таких вот бедняжек погибло, если бы ты знал! Оставь их, обоих оставь: сам присмотрю за ними, сам на ноги поставлю. Только ты через день наведывайся. Договорились?
— Договорились.
— Еще бы не договорились, ты ведь затем и привел их сюда, что знал, Сергей-дурак оставит их у себя, как же иначе! И доставь мне сюда барсука! Барсучий жир им необходим.
Когда сели за шурпу, Сергей-Табиб шутил, смеялся, стараясь развеселить заметно приунывших ребят.
Вскоре Намаз, пообещав непременно раздобыть барсука, а также приносить дичь, которую удастся подстрелить на охоте, распрощался с Сергеем-Табибом. Выйдя на улицу, он обнаружил, что Акрамкул и не думал уезжать: он дремал, склонив голову, на нераспряженном коне и ждал его.
Вдвоем они отправились в Джаркишлак.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПАХСАКАШИ
Джаркишлак среди окружающих его селений считается самым красивым. Под боком протекает шумная река Кият. Кишлак расположен на возвышении, откуда Джиянбекские степи предстают перед глазами как на ладони. У самого кишлака проходит широкий тракт. Путники, следующие к своей цели на лошадях, ишаках, верблюдах и арбах, обычно останавливаются в чайхане, расположенной на берегу Кията, чтоб утолить жажду в знойную летнюю пору, дать животным отдохнуть. Уезжая, они возносят благодарственную молитву людям, освоившим эти пустынные земли. Года уже четыре и Намаз числится жителем этого кишлака. Вначале он жил у своего зятя пахсакаша[19] Халбека. Два года назад тот выделил ему из своего участка два танаба[20] земли. И Намаз при помощи того же сердобольного зятя выстроил себе дом о семи потолочных балках.
Акрамкул высадил Намаза на окраине Джаркишлака.
— Значит, на этой неделе обязательно приедете к нам, да, Намаз-ака? — спросил он опять.
— Обязательно, — в который раз пообещал Намаз. Он был очень благодарен этому сердечному говорливому парню, помогшему ему отвезти больных к лекарю.
— Мы на вас очень надеемся, Намаз-ака. Вы должны посоветовать, как нам быть с этим дровяным налогом.
— Придумаем что-нибудь.
— Прощайте, храни вас аллах. — Акрамкул ударил коня плетью. — Чу, лошадка моя резвая!..
Полкилометра пути до дома зятя Халбека Намаз прошел в хорошем настроении. Нет, что ни говори, много на свете добрых людей. Есть такие, как Дивана-бобо, посвятивший жизнь обездоленным сиротам, или как русский табиб, готовый бесплатно кормить и лечить от тяжелых болезней бедняков…
— Дядя, да идите же быстрее, дядя! — прервал его мысли плачущий детский голос. Намаз вздрогнул: перед ним стоял один из племянников, сын Халбека.
— Что случилось, Батырджан?
— Отца чуть не убили!
— Что?
— Отца избили… Он весь в крови был!.. Дядя, дядечка, поспешите же!..
Двор зятя битком набит людьми. Соседи, знакомые, дальние и близкие родичи — все были здесь. Детишки плакали в голос. Из дома выскочила сестра Намаза Улугой. Волосы растрепаны, в лице ни кровинки.
— Брат мой, богатырь мой! — бросилась она к Намазу, рыдая.
— Да в чем дело, говорите же!
— Заходи в дом, дорогой брат, зять твой кончается…
Халбек в окружении нескольких почтенных старцев в самом деле был похож на умирающего. Пахсакаша невозможно было узнать: все лицо в синяках и ссадинах, безобразно опухло; глаза завело вверх, дыхание тяжелое, из груди при каждом вдохе и выдохе вырываются судорожные хрипы. Намаз опустился на колени перед Халбеком, осторожно приоткрыл простыню, которой тот был укрыт, и содрогнулся: тело бедного пахсакаша было в худшем состоянии, чем лицо. Руки Намаза непроизвольно сжались в кулаки, он так стиснул зубы, что свело скулы.
— Так кто-нибудь объяснит мне, что случилось? — спросил он, едва сдерживая себя.
— Байские псы поколотили, — печально поднял голову один из старцев.
— Байские?
— Да, хамдамбайские псы.
Намаз какое-то время сидел, крепко зажмурив глаза, опустив голову. Потом медленно поднялся и направился на улицу… Страшен был его вид в этот миг: глаза сужены, ничего не видят, ноздри расширены, вены на шее вздуты. Окружавшие невольно подались от него в сторону.
— Где Аман? — коротко бросил Намаз.
— Заперли мы его, — пояснила Улугой. — За топор схватился, грозился зарубить Хамдамбая… Мы его и заперли в чулане, боялись, натворит что-нибудь сгоряча… Халбека привез твой друг Шернияз. А вот и он сам.
— Здравствуй, — подошел к Намазу Шернияз.
— Что тут произошло? — спросил Намаз вместо ответа.
— Я возил к волостному управителю дрова, на обратном пути вдруг услышал от людей, что на Маргилантепе настоящее побоище, работников бьют.
— Где твоя арба? — прервал его Намаз.
— На улице.
— Знаешь дом Сергея-Табиба в Мужицком кишлаке?
— Найду.
— С самим знаком?
— Так, видел несколько раз.
— Попросишь его от моего имени, пусть немедленно едет сюда.
Шернияз кивнул и попробовал продолжить свой рассказ:
— …Ну, я поскакал к Маргилантепе, а там…
— Трогайся в путь! — процедил Намаз сквозь зубы, не слушая Шернияза. Потом опять прошел в дом, опустился у изголовья страдающего зятя. Люди, прибежавшие узнать, в чем дело, помочь, начали один за другим расходиться. Улугой подошла к брату, опустилась рядом с ним на колени.
— Ты бы зашел, брат, проведал будущего тестя…
— А с ним что случилось?
— Так и его ведь, беднягу, на арбе полуживого привезли.
По обычаям найманских племен, после обручения с невестой жених обязан избегать встреч с будущим тестем и тещей. И только трагическое происшествие заставило Намаза нарушить обычай. Но один он идти не решился и попросил пойти с ним сестру.
— Чего боишься, у тебя же свадьба на днях! — прикрикнула на него Улугой.
К счастью, двор Джавланкула величиной с птичью клетушку оказался пустым: люди, набежавшие проведать пострадавшего, уже разошлись, перепоручив его жизнь аллаху.
— Есть дома кто-нибудь? — подал голос Намаз, стоя у крыльца.
Из низенькой, точно охотничий шалашик, кибитки высыпали дочери Джавланкула, — сколько ни мечтал иметь сына, у пахсакаша все рождались дочери. Но зато одна краше другой. Старшая, Насиба, обручена с Намазом.
— Ой, Намаз-ака! — испуганно отпрянула Насиба, выглянувшая на голос, но не убежала: закрыла лицо обеими руками и заплакала навзрыд. К ней присоединились и остальные девочки. Намаз, чего скрывать, порою и сам плакал, когда становилось невмоготу, но не мог видеть чужих слез.
— Не плачь, Насиба, — проговорил Намаз дрогнувшим голосом. — Слава аллаху, в этом мире можно и отомстить обидчикам, ты увидишь, мы еще расквитаемся с ними.
На голоса из кибитки вышла будущая теща Намаза, Бибикыз-хала[21], обняла юношу за плечи и заплакала.
— Такая напасть на нашу голову свалилась, сынок, единственную опору нашу подрубили… Заходите в дом, Намаз, отец ждет…
Джавланкул, широколицый, ширококостный, с окладистой бородой, которая закрывала почти всю грудь, лежал недвижно на полу.
— Э, палван-сынок, — обрадовался он, увидев Намаза. — Хорошо, хоть ты у нас есть… Иди, Подойди ко мне, поцелую тебя. Слава аллаху, теперь и у меня будет сын. Мать, Бибикыз, ты вот все плачешь, что мы беззащитные, а есть же у нас защитник, есть!
— Что случилось, дядюшка? — спросил Намаз, опускаясь у ног Джавланкула.
— Хамдамбай это, сынок, — ответил Джавланкул, застонав. — Поясницу мне сломали, подлецы. Считай, настоящими оглоблями били, а! Я слышал даже, как хрустнула кость…
— Ничего, дядюшка! — Намаз прошел к изголовью Джавланкула. — Ничего, они за это еще ответят!
— Хорошо, твой Шернияз подоспел: он как лев дрался со зверюгами.
Солнце закатилось, в комнате стало сумрачно. На двух нишах в стене зажгли «черные светильники» — ватные фитили, плавающие в масле в специальных глиняных сосудах. Девочки примостились поодаль, озабоченные, печальные. Бибикыз-хала расстелила на полу дастархан[22], разложила на нем сладости, изюм. Насиба принесла узкогорлый прокопченный кумган[23], стала разливать чай в глиняные пиалы. В доме царила кладбищенская тишина, лишь изредка слышались тяжкие вздохи девочек да сдержанные стоны Джавланкула.
— Нет! — вскочил вдруг Намаз с места. — Нет, этого я так не оставлю! Я рассчитаюсь с негодяем. Нужно будет — дом его предам огню!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПОДВОРЬЕ ХАМДАМБАЯ
Если в Самаркандском уезде были два настоящих бая, то одним из них, несомненно, считался дахбедский богатей Хамдамбай. Лет ему под пятьдесят, но он все еще был крепок и ловок, движения его точны и быстры, как у юноши. Хамдамбай — вспыльчивый, злопамятный человек. Везде и во всем любил настоять на своем. Перечить ему никто не осмеливался, даже знатные люди округи: Хамдамбай в год раз или два наведывался в Петербург, отвозил в казну его величества немало золота и серебра.
Родом Хамдамбай из Каттакургана. Отец его, Акрамбай, был одним из богатейших людей округи. Старшего своего сына, Хамдамбая, он отдал на службу в контору русского управителя. Хамдамбай был гораздо умнее, хитрее и дальновиднее многих сверстников из своего круга. Быстро обучился русскому языку и письму, снискав доверие и уважение губернатора. Сначала его назначили сборщиком податей, а впоследствии — начальником сборщиков. В те времена сборщики взимали налогов сколько могли: чем больше собирали, тем выгоднее было как для царского двора, так и для них, так как четвертая часть награбленного причиталась им за службу. Сборщики Хамдамбая бесчинствовали.
Среди дехкан, доведенных до крайности, начались волнения. Казию посыпались жалобы, и он был вынужден доложить губернатору о неприглядных делишках Хамдамбая. Казий издал указ провести расследование и наказать провинившихся. Хамдамбай три года не сдавал казне даже одной четвертой собранного с населения налога. Было ясно: всплыви злоупотребления наружу, не миновать неприятностей. Почувствовав это, Хамдамбай, по совету отца, как-то ночью исчез из Каттакургана; распространились слухи, что он отправился паломником в Мекку.
Это было в 1886 году. Хамдамбай с тех пор не появлялся в Каттакургане; обосновался в Дахбеде, купил небольшое имение. На выборах в волостное правление пробился на должность управителя. Стремясь завоевать доверие бедняков, верующих и служителей религии, оплатил восстановление дахбедской мечети, сооруженной в 1630 году Ялангтушбием Баходыром. На западе Дахбеда пойма реки Акдарьи представляла собой болотистые, засоленные земли. Хамдамбай освоил около тысячи танабов этой земли, провел дренажные канавы, поставил на Акдарье дамбу, сделав освоенные земли орошаемыми. Через два-три года, когда на этих землях вырос богатый урожай риса и бахчевых, он распродал каждый танаб, доставшийся ему почти задаром, по тысяче золотых. А со временем Хамдамбай разбогател настолько, что и сам не знал, сколько пасется у него табунов лошадей у отрогов Ургута, сколько отар на пастбищах Нураты, и сколько у него в услужении приказчиков, скупающих хлопок, сушеные фрукты и пшеницу у населения.
Для своего сына, Заманбека, посвятившего себя торговым делам, Хамдамбай стал строить дом вблизи кишлака Маргилантепе. Вначале он регулярно выплачивал работникам деньги, но затем пообещал заплатить все сполна по окончании строительства. Ему поверили. Люди работали даже по ночам, при свете факелов. Вот и здания возведены, одно краше другого, установлены резные двери и окна, двор обведен пахсадувалом, который не пробить и пушкой, но… день расчета со строителями и отделочниками все оттягивался.
Наконец группа мастеров решилась пойти на переговоры с баем. Среди них были и Халбек с Джавланкулом. По счастью, бай оказался дома. Собрав близких родичей и друзей-приятелей, он строил планы будущей свадьбы своего сынка. На совет были приглашены и казий, и тысячник, и управители окружающих волостей. Пиршество было в самом разгаре.
Хамдамбай, прослышав о приходе непрошеных гостей, вышел им навстречу, держа руки за спиной и степенно ступая.
— Добро пожаловать, мусульмане, — сказал он, склонив голову на тонкой шее.
— Пусть приумножаются ваши богатства, Байбува! — приветствовали его работники, приложив руки к груди.
— Чем могу служить? — с некоторой угрозой в голосе спросил Хамдамбай. Он, конечно, тотчас понял, с чем явились эти люди.
Жалобщики молчали, подталкивая друг друга локтями. Самым решительным оказался Джавланкул:
— Мы пришли за расчетом, Байбува, — сказал он, выступив вперед.
— За каким расчетом? — Одна из густых бровей богатея поползла вверх, другая опустилась вниз.
— Байбува, я для вас сто двадцать дней выкладывал пахсадувал.
— Выкладывал, положим. Ну и что из того?
— Нанимая на работу, вы обещали платить мне по три таньга в день. Выходит, теперь вы обязаны выдать мне триста шестьдесят таньга.
— Что-что?
— Я пришел за своими деньгами. Пусть аллах приумножит ваши богатства, которых и так не счесть. Я собираюсь выдать замуж дочку. Выплатили бы мою долю, Байбува…
— Что ты такое болтаешь, неблагодарный?! Совсем совесть потерял!
Хамдамбай вплотную подошел к Джавланкулу:
— Ты работал, а я ведь тебя поил-кормил, разве не так, неблагодарный?
— Верно, поили-кормили.
— В обед шурпу выдавал, на ужин — плов, так ведь?
— Верно, выдавали.
— Ежедневно десяток баранов резал, правда?
— Тоже правда, Байбува.
— Ты забыл, что я каждую субботу резал быка, а по воскресеньям — лошадь?
— Нет, все это я помню, Байбува.
— Так знай, что все это не давалось мне бесплатно, поганый ты человек! Мало я вас, бездельников, кормил круглое лето, так вы еще ко мне с требованиями пришли! Это вы мне должны, а не я вам. Мирза! — крикнул Хамдамбай, обернувшись назад.
— Я слушаю, бай-ата[24], — тут же вынырнул откуда-то Алим Мирза, управляющий делами Хамдамбая.
— Принеси-ка сюда долговую книгу!
— Вот она, у меня в руках, бай-ата.
— Зачитай ее этим неблагодарным тварям!
То ли Алим Мирза знал, чем дело кончится, и заранее приготовился, то ли все между ними уже было обговорено, но, во всяком случае, он раскрыл толстую тетрадь как раз на той странице, которая потребовалась в данную минуту. И начал читать записанное в ней, подражая гнусавому чтению Корана муллами:
— «Сим объявляется, что после произведенного подсчета в присутствии честных и достойных людей выяснилось, что на постройку домов и изгороди потрачено гораздо больше намеченного золота и серебра, меж тем как работ произведено гораздо меньше. Работавший спустя рукава, выполнявший работу из рук вон плохо мастер Джамал, сын Камала, объявляется должником хозяина на тысячу таньга… Джавланкул, сын Мавланкула, — на триста таньга, Халбек, сын Равшанбека, — на триста таньга… В целях возврата долга хозяин обратился к уважаемому казию и надеется на торжество справедливости…»
Алим Мирза, закончив чтение, перевернул страницу и собрался было начать другую, но его остановил крик Джавланкула, который до сих пор стоял как оглушенный:
— Стой ты! — и потянулся к тетради.
— Убери руку, дурень! — прикрикнул на него Алим Мирза.
— Байбува, это еще что за новости? — зашумели разом недовольные работники.
— А это значит, — заговорил медленно, выгнув брови, Хамдамбай, — что если должники в течение трех дней не выплатят долги, дома их пойдут с молотка.
На секунду установилась гробовая тишина, затем раздались возмущенные крики:
— Где справедливость?
— Да что это такое делается?
— Это же разбой среди бела дня!
— А теперь расходитесь по домам. — Хамдамбай резко повернулся и зашагал прочь.
— Стойте, Байбува! — Джавланкул схватил его за подол халата.
— Убери руку! — взревел Хамдамбай.
— Байбува!..
— Убери, говорят! — изо всей силы рванул бай подол чапака и, потеряв равновесие, упал. Белая шелковая чалма его отлетела далеко в сторону.
Конечно, Джавланкул не хотел повалить Хамдамбая. Он просто пытался остановить его, чтобы объясниться.
— Вой-дод![25] — завопил во все горло Алим Мирза. — Бай-ату убивают!
Услышав его крик, из дома выбежали сыновья и зятья Хамдамбая, баи и мирзы. Вид Хамдамбая, лежавшего на земле, возбудил в них дикую ярость и желание тут же расквитаться за него.
— Бей негодяев, бей! — яростно заорал Заманбек, старший сын Байбувы. — Дави босяков!
К месту происшествия поспешили и нукеры волостного управителя, разжиревшие на дармовых и обильных харчах. Им доставляла большое удовольствие возможность принять участие в драке, тем более с безоружными, изможденными работой людьми, они тоже кричали: «Бей!», «Дави!»
Пока прибыли из Мужицкого кишлака русские солдаты, чтобы прекратить побоище, мастеров избили до полусмерти и оставили их лежать у подножия пахсадувала, ими же самими выложенного.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЛУННАЯ НОЧЬ ДЖАРКИШЛАКА
Шернияз недолго пробыл в Мужицком кишлаке. Люди еще не собрались на вечернюю молитву, а он уже привез с собой Сергея-Табиба. Намаз нетерпеливо ожидал его у ворот.
— Что стряслось, палван? — спрыгнул с арбы Сергей-Табиб.
— Этой напасти только не хватало, — сказал Намаз, вводя гостя в дом.
— Очень даже не хватало, очень даже!
— Как это? — удивленно приостановился Намаз.
— Не хватало потому, — заговорил, как всегда, горячо Сергей-Табиб, — что люди наконец стали драться за свои права. Сегодня на кулачках бились, завтра в руки оружие возьмут. В России, в Закавказье… везде сейчас люди сжимают кулаки. До каких пор можно считать, что «все от бога?» Хватит! Пусть дерутся — закаляются! Ну, войдем мы в дом или нет? Бай-бай-бай, что это у тебя так темно, и свечки нет, что ли?
— Сейчас растоплю очаг, станет светло.
Едва Сергей-Табиб переступил порог, как у всех поднялось настроение, словно он принес с собой избавление от бед. Казалось, полуживой отец тотчас встанет на ноги, и лица детей повеселели. На губах появилась тихая улыбка. Оно и понятно. Слава этого невысокого старика с острой бородкой была велика. Люди знали, что он вылечил тысячи бедняцких детей от оспы и малярии, спас многих и многих от верной смерти. Поначалу больные мусульмане избегали лечиться у него, опасаясь, не будет ли грехом лечиться у иноверца. Но когда прошел слух, что сам каратеринский мулла привел к русскому лекарю трех сыновей, головы которых были сплошь покрыты язвами, и Сергей-Табиб вылечил их, опасения дехкан исчезли. «Сергей-Табиб и вовсе, оказывается, не гяур, — говорили они, — он даже пять раз на дню намазы совершает, только тайком, чтобы никто не видел».
— Ничего, мы его вылечим! — заговорил Сергей-Табиб по-узбекски, проходя к изголовью больного. — Мы его поставим на ноги. Ну-ка, больной, открой глаза, смелее, смелее, открывай, тебе говорят!
Намаз разжег очаг, поставил два кумгана воды греться. Халбек то приходил в себя, то терял сознание, постанывал, скрипел зубами.
Сергей-Табиб вытер мокрой тряпкой запекшуюся на лице и теле больного кровь, намазал раны мазью, наложил повязки.
— Помнишь, когда Иван-бай упал с коня, тоже целый день валялся без памяти?
— Но его вроде рвало кровью? — сказал Намаз.
— И у него тогда пострадала печень. Сколько лет твоему зятю?
— Сорок пять.
— Малярией болел когда-нибудь?
— Не знаю…
— Ну да ладно. Печень у него отбита. Но главное — мужик он крепкий. Надеюсь, победит болезнь. Как придет в себя, будете давать вот этой микстуры семь раз в день по одной ложке. Лекарство я сам изготовил, хорошо восстанавливает работу печени. Но вся надежда, конечно, на самого больного, выстоит — выживет. Полагаю, он победит. А теперь принеси мыло и таз. Однако хорошо они сделали, что взбунтовались. До каких пор ходить баран-баранами, терпеть издевательства?! Скажи детям, теперь могут заходить.
Перед уходом Сергей-Табиб объяснил, как ухаживать за больным, чем кормить, как менять повязки, сказал, что через недельку-другую Халбек встанет на ноги, чем безмерно обрадовал всех.
У Джавланкула поясница оказалась цела, сломаны же были два ребра с правой стороны. Сергей-Табиб и ему оказал помощь, дал лекарства. Насмешил девочек, жавшихся в углу тесной кучкой, пообещал через день проведывать обоих пострадавших и добавил на прощанье, нарочно коверкая узбекские слова: «Убей меня аллах, если не приеду». Девочки весело рассмеялись.
В тот же вечер Намаз и Шернияз отвезли лекаря домой.
Вернувшись, обнаружили, что двор опять полон людьми. Прибыли из Уклана зять, двое помощников побитого сегодня Уста Джамала, двое казахов — Эсергеп и Эшбури из Казах-аула (отец Эшбури таскал на стройке Хамдамбая камни) и еще несколько работников, которые избежали побоев лишь потому, что не смогли пойти к баю вместе со всеми. Они сидели молчаливые вокруг костра, разложенного прямо во дворе. Они ждали Намаза, возлагая на него все свои надежды. Намаз-палван — повидавший белый свет, честный, храбрый джигит. Дружит с русскими, знает законы. На Намаза можно смело положиться, не ошибешься, коли последуешь его совету, а то и поступку.
— Хош, Намазбай, что теперь будем делать? — спросил Эсергеп, когда поздоровались за руку и Намаз присел к огню. Эсергеп говорил на узбекском, по-казахски смягчая слова.
— Мы выколотим из него эти деньги до последней копейки, — заявил Намаз решительно, глотая большими глотками огненный чай.
— Нелегко это будет сделать, — произнес с сомнением один из парней.
— Коли не рассчитаемся — мы подожжем его дома, — решительно заявил джигит, до сих пор сидевший, молча опустив голову.
— Завтра после утренней молитвы отправимся в Дахбед, — сказал Намаз. — Поведаем все как есть верховному казию Шадыхану. А сейчас расходитесь по домам, поздно уже.
В этот вечер слова Намаза были коротки, тяжелы, как свинец, движения резки. Так бывало всякий раз, когда он приходил к какому-либо решению. Односельчане один за другим потянулись к воротам. Сам Намаз еще долго сидел у медленно догоравшего костра. Племянники не осмеливались к нему подойти. Сестра Улугой молча принесла и поставила перед ним чашу с пловом. Пока Намаз ел, она так же молча подала ему чай. После праздника уразы Улугой собиралась женить брата. Все надежды свои она связывала с теми деньгами, которые должен был получить муж у Хамдамбая: половину намеревались истратить на свадьбу, а другую — по хозяйству. Глядишь, все прорехи бы заделали и перезимовали благополучно. А что теперь? Вдруг еще Халбек не поправится, трудно даже представить, что станется с детьми…
— Шел бы ты спать, — проговорила Улугой голосом, полным нежной заботы.
— Не хочется, — коротко обронил Намаз.
Сестра ушла.
Слабо тлели угольки в костре. Намаз сидел, подобрав под себя ноги, погруженный в глубокое раздумье.
«Намаз-ака!» — донесся вдруг до слуха тихий, нежный голос. Сердце его дрогнуло. Этот голос он узнал бы из тысячи других…
— Подойди сюда, — сказал Намаз, поднимаясь.
— Нет, лучше вы идите сюда, — ответила Насиба и, точно серна, в несколько прыжков исчезла в глубине сада.
Там, в укромном углу сада, где начинается овраг, место их свиданий. После обручения, когда, по обычаю, им нельзя уже видеться на людях, Намаз и Насиба стали встречаться здесь по вечерам. Предаваясь сладким мечтам, они подолгу смотрели на высокие звезды, на полную луну, медленно плывущую по темному небу, и так, прижавшись друг к другу, могли часами сидеть без движения и слов…
Когда Насиба влюбилась в Намаза, ей было около двенадцати лет. Намаз служил тогда у Ивана-бая. Приезжая проведать сестру, Намаз вместе с племянниками частенько сажал в коляску и ее, Насибу, катал по кишлаку, угощал сладостями. Насиба вместе с кишлачными мальчишками провожала его коляску до самой окраины селения, утопая по щиколотку в грязи или поднимая целые тучи пыли, а, добежав до Девтепы, забиралась на возвышенность, махала рукой, пока Намаз не исчезал из виду, и потом всякий раз плакала. Намаз не подозревал, конечно, что происходит в душе этой босоногой девчушки с маленькими короткими косичками и вечно измазанными тугими щечками. Насиба специально для него вышивала платочки, поясные платки, но не решалась их дарить, а по вечерам, прежде чем уснуть, всегда молилась за него. Она и сама не подозревала, что за чувство родилось в ее душе и день ото дня возгоралось все сильнее. Может быть, она мечтала о таком вот сильном, добром и отзывчивом брате, как Намаз? Так или иначе, но, едва услышав, что приехал Намаз, она бросала казан, который мыла, или ступу, в которой рушила рис, и бежала на улицу.
Прошли годы, Намаз вернулся к своей сестре насовсем. Насиба уже не была прежней девочкой с мальчишескими замашками; она вытянулась, щеки стали румяны, как зернышки граната, придавали особую прелесть нежной белой коже лица; и на этой белой коже особенно ярко сияли большие черные глаза под густыми бровями. В Джаркишлаке, считали люди, не было ее краше. Сваты шли за сватами, но Джавланкул всем отказывал, то заявляя, что дочь еще очень молода, то будто у него денег нет на свадьбу.
Однажды отец девушки попросил Намаза помочь прополоть рис. Работали на нижнем течении Кията. На обед Насиба принесла лапшу с творогом. Девушка, подавая Намазу чашу супа, так глянула на него, что бедняга чуть не расплескал принятую из ее рук чашу. Намаз, взбудораженный этим взглядом, все глядел и глядел на Насибу. Но девушка была словно безразлична и, уходя, даже не оглянулась. Ни на другой день, ни на третий Намаз не смог забыть взгляд, что перевернул его душу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ВЕРХОВНЫЙ КАЗИЙ ШАДЫХАН-ТУРА
Во «Временном руководстве по управлению Туркестанским краем», изданном русской администрацией в 1867 году, подчеркивалась роль казиев в защите прав и интересов местного населения. На основании этого руководства, в зависимости от численности населения и величины территории, на две-три волости назначался один казий. К примеру, по причине многочисленности населения и обширности Самаркандского уезда здесь образовались тридцать три казийства. В Каттакурганском же действовало десять казийств. До присоединения Туркестанского края к России казии, как правило, назначались ханом или беками. Перед назначением будущие казии были обязаны сдавать экзамены по знанию шариата и истории Востока специальным комиссиям, создаваемым при дворе хана или бекствах. Снимать с должности казиев также входило в права хана или беков. Казии рассматривали дела, начиная от тяжбы между мужем и женою вплоть до крупных уголовных преступлений.
Новое «Руководство» несколько ограничило власть казиев, упрочив права бедняцких слоев. Согласно ему казии избирались населением на известный срок, обязывались отчитываться перед ним. Волостные казии имели право рассматривать тяжбы на сумму до тысячи таньга, совет казиев — до десяти тысяч. Имущественные споры, превышающие сумму десять тысяч таньга, а также убийства, похищение девушек и тому подобные преступления рассматривались русскими — мировыми судьями.
Жалобы, поступавшие на казиев, разбирались также мировыми судьями. Из каждых трех казиев территории один назначался верховным казием, — он председательствовал на совете казиев, когда решалось запутанное, сложное дело.
Шадыхан-тура[26] трижды избирался верховным казием. В свои сорок лет Шадыхан-тура разжирел сверх всякой меры, поэтому ездить верхом не мог, а постоянно разъезжал в коляске. Большая чалма, розовый чапан, напомаженная черная борода придавали ему внушительный вид. Тура имел кое-какое образование, свободно владел персидским и арабским языками, любил поэзию. Был Шадыхан-тура мнительным, крайне осторожным человеком. Не любил открыто выражать своих мыслей. Но… очень любил взятки. Драл и с истца, и с ответчика. Будучи трусливым от природы, остерегался прослыть в народе несправедливым. Хорошо понимая, что должность казия дает возможность жить припеваючи и копить богатства, он боялся не угодить кому-нибудь, равно босоногому дехканину, баю или сановнику. Живя в постоянном страхе, не разлучался с четками и беспрестанно шептал какую-либо суру[27] из Корана.
Казалось, под шкурой нашего туры спрятались целых три человека: один — жадюга и взяточник, невоздержанный в еде и в мирских утехах; второй — трус и хитрец; третий — угодливый, богобоязненный книгочей. Все чти трое, казалось, то уживались мирно, то соперничали, поочередно вырывая друг у друга первенство.
Когда истцы, возглавляемые Намазом, появились у порога казиханы[28], верховный сидел в почетном углу на мягких тюфяках, поджав под себя ноги, на коих покоился живот; на животе же возлежала голова — так мудрейший казий Шадыхан всегда предавался возвышающим душу размышлениям. Но сегодня он думал вовсе не о высоких материях, вчера ему стало известно о пренеприятнейшем и прискорбнейшем происшествии в подворье Хамдамбая, и теперь, после обильного обеда, он с завидным усердием слал страшные проклятья Хамдамбаю и всему его роду. Да и как не сочувствовать беднякам (хотя бы про себя!), когда верховный сам боялся Байбувы как мышь — кота, когда даже при случайной встрече его покидали силы, ноги слабели и подкашивались сами собой. Казий прекрасно понимал, что во вчерашнем скандале виноват Байбува и никто другой, но тем не менее сейчас пытался представить себе такой путь, следуя коим он смог бы и успокоить бая и как-то облегчить участь черни. Но он не успел прийти к какому-либо решению: ступая на носки, в комнату вошел помощник казия Мирзо Кабул и доложил, что явились истцы.
— Вот как, — с трудом приподнял голову верховный казий. — Откуда? Кто такие?
— Работники Хамдамбая.
— Зовите, пусть заходят.
Казихана представляла собой длинное помещение, разделенное посередине на две части. Задняя половина комнаты была на пол-аршина выше передней, устлана коврами, поверху разложены атласные мягкие тюфяки, пуховые подушки. Там при разборе дел восседал верховный казий. Передняя половина выложена жженым кирпичом, застлана соломой, на которую наброшены шолчи[29].
Истцы один за другим вошли в казихану, опустились на колени и, положа на них руки, замерли.
Верховный казий степенно поднял голову, обратился к Мирзе Кабулу:
— Внесли ли жалобщики в царскую казну положенную мзду?
— Нет, мой господин.
— Пусть внесут. — С этими словами верховный казий нашарил под тюфяком четки из носорожьей кости, каждая бусинка которой была величиной со средний грецкий орех, и принялся отрешенно перебирать их. «Проклятый бай, — начал он молиться на свой манер. — Чтоб сам аллах тебя покарал! Легко ли этим беднягам? Дети у них у всех, хозяйство, которое надобно поддерживать в порядке. Но и мне нелегко, еще бы, мне, быть может, труднее, чем им всем, вместе взятым… О, всемилостивейший, помоги мне подобру-поздорову выбраться из этой неприятной истории, укажи верный путь…»
Истцы не знали, что прежде чем начнется разбирательство дела, нужно внести довольно крупный взнос: многие из них пришли сюда без копейки в кармане. После долгой возни кое-как собрали сорок таньга. Пообещав завтра же доставить еще сорок, они вместо подписи приложили пальцы в приходной тетради.
— Скажите теперь, мусульмане, какая обида привела вас ко мне? — приступил к делу Шадыхан-тура с таким видом, будто знать не знал, что привело просителей к нему.
— У нас к вам две жалобы, — заявил Уста Камал из Уклана.
— Жалобы ваши будут внимательно выслушаны.
— От имени всех нас будет говорить Намазбай, — сказал Уста Камал. Намаз встал, приложил руку к груди и застыл в ожидании.
— Ваше имя, мой верблюжонок? — ласково поинтересовался верховный казий.
— Намазбай.
— Имя отца?
— Пиримкул.
— Какого кишлака житель?
— Джаркишлака.
— Сколько вам лет?
— Двадцать четыре.
— Владеете ли грамотой?
— Читаю по-русски, умею немного писать.
— А?! — приложил ладонь к уху Шадыхан-тура: такое заявление не часто приходилось ему слышать в этих стенах от босяка.
— Именно так, господин.
— Аллах даст, верблюжонок мой, будущее ваше светло. Мусульманин?
Намаз ответил так, как положено отвечать при таком вопросе:
— Алхамдулилло! — и опять приложил руку к сердцу.
— Выступали до этого чьим-нибудь доверенным лицом?
— Выступал, мой господин.
— Прошу, поведайте нам.
— Некоторое время служил толмачом мирового судьи второго участка города Самарканда господина Козловского.
— А?!
— Именно так, мой господин.
— Похвально, верблюжонок мой, похвально! Аллах даст, и сегодня в защите прав обиженных вы добьетесь несомненных успехов. Пусть все ваши требования окажутся справедливыми!
Намаз принялся излагать все по порядку. Говорил горячо, с убедительными примерами и доказательствами, то и дело перебиваемый возгласами одобрения, исходившими от самих жалобщиков. Мирзо Кабул записывал, скрипя пером. Верховный казий слушал, то и дело покачивая головой, выказывая сочувствие рассказу Намаза.
Когда Намаз умолк, Шадыхан-тура проговорил, потирая затекшие ноги.
— Великий Навои говорил: «Круша злодея род во имя чести, я души умащал бальзамом мести». Аллах даст, мы тоже просыплем яд мести, не так ли, Мирзо?
— Истинно так, господин, — поспешно ответствовал Мирзо Кабул.
— А теперь аллах призывает нас к обеденному намазу, — возгласил верховный казий. — Нить истины станем разматывать после благочестивых молитв, согласны?
Истцы, конечно, согласились.
Часа через два все вновь собрались в той же комнате, заняли свои места. Мирзо Кабул только было раскрыл свою тетрадь, как снаружи донесся неясный шум. Все невольно выглянули в широко раскрытые окна. С грохотом распахнулись ворота казиханы, и во двор влетела коляска, запряженная парой горячих коней. Двор мгновенно переполнился вооруженными всадниками. С коляски важно сошел Хамдамбай, следом за ним — управитель Дахбедской волости Мирза Хамид.
Первым вошел в казихану, пинком растворив дверь, Хамдамбай, за ним появился Мирза Хамид с нукерами. Все они, топча шелковые тюфяки, прошли на казиеву половину.
Хамдамбай, подбоченясь, оглядел истцов горящими от ненависти глазами.
— Есть среди вас некий Намаз, сын Пиримкула? — процедил он сквозь зубы.
— Это я, Байбува, — шагнул вперед Намаз-палван.
— Кулибек! — позвал бай.
— Я здесь, Байбува! — вбежал в дверь небольшого росточка, сухощавый человек с козлиной бородкой.
— Узнаешь, кто здесь тот самый конокрад?
— Узнаю, Байбува, вот он! — ткнул пальцем в сторону Намаза Кулибек.
— Скажи, сколько коней он увел?
— Четырех скакунов, Байбува.
— Когда он их увел?
— Он их увел в ночь с субботы на воскресенье.
— Шадыкул! — позвал опять бай, обернувшись к раскрытому окну.
В комнату вбежал щеголевато одетый молодой человек с едва пробивающимися усиками.
— Ты у кого покупал коней? Есть тот человек среди вот этих?
— Есть, Байбува.
— Покажи нам этого тор-гов-ца конями.
— Вот у этого парня я и покупал тех коней. — Шадыкул тоже указал на Намаза.
— Сколько ты заплатил за каждого коня?
— По три тысячи таньга, Байбува.
— Собака! — Хамдамбай шагнул к Намазу, который стоял, ничего не понимая в происходящем, и влепил ему пощечину. — Вор, подлец!
Намаз встрепенулся, как проснувшийся лев, ноздри его раздулись, казалось, он кинется на обидчика, но палван сдержался; он еще надеялся, что произошла какая-то ошибка и это сейчас выяснится.
— Ничего не пойму, Байбува, — сказал он с едва заметным волнением. — Что происходит? Объясните хоть толком, о каких конях идет речь?..
Волостной управитель Мирза Хамид сделал знак, и на Намаза накинулись человек шесть нукеров, скрутили назад руки.
— Что вы делаете? — взревел Намаз яростно — от его крика, казалось, колыхнулась крыша казиханы. — Это же чистейшей воды клевета, эй, вы, чего стоите, разве не видите, что они клевещут на меня?
Нукеры поволокли упирающегося Намаза на улицу. Бай повернулся к верховному казию, который все это время стоял, растеряв и те крохи самообладания, коими когда-либо располагал.
— О чем же вы совещались с конокрадами, мой господин?
— Аллах свидетель! — удрученно воскликнул казий. — Я… мы… вовсе…
Но бай не слушал бессмысленный лепет защитника законности по шариату, он вышел из казиханы с такой же стремительностью, с какой появился в ней.
В комнате остались казий со сбившейся набок чалмой и повесившие головы незадачливые истцы. Могильную тишину взорвал крик Шернияза:
— Но это же заведомая ложь, мой господин! Клевета!
— Сам аллах свидетель! — произнес верховный, опасливо поглядев на окна, за которыми наступила удивительная тишина.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ВЕРХОВНЫЙ КАЗИЙ ГОТОВ МСТИТЬ!
Когда верховный казий Шадыхан-тура готовился к полдневной молитве, его помощник Мирзо Кабул по-кошачьи выбрался из дома и понесся к дому Хамдамбая. Он спешил сообщить Байбуве или кому-то из его приближенных о том, что некие босяки затеяли против Хамдамбая тяжбу. Он хотел показать богатею, что верно ему служит, тогда как верховный казий, не предупредив уважаемого Хамдамбая, затевает за его спиной уголовное дело. Мирзо Кабул старательно делал вид, что почитает и любит Шадыхана-туру как никого другого, ничего так не желает, как быть ему полезным, а на самом деле постоянно норовил поставить ему подножку. Он ненавидел Шадыхана-туру, вот уже на третий срок получившего место верховного казия. Если бы мог, Мирзо Кабул зарезал бы своего кормильца самым тупым ножом на свете. Исподтишка роя верховному яму, он не оставлял мечты рано или поздно занять его место. Но при этом он не забывал с самым преданным видом лизать Шадыхану-туре пятки.
Хамдамбай предавался послеобеденному отдыху, попивая горячий, крепко заваренный чай. Служанка массировала ему ноги. Вошел мальчик и доложил, что явился Мирзо Кабул по важному делу.
— Пусть заходит, — кивнул Хамдамбай.
Мирзо Кабул робко вошел в покои Байбувы, остановился у порога, скрестив перед собой руки.
— Чего, Мирзо, запыхался, будто немой, за которым гнались бешеные собаки? — спросил Байбува, шевеля пальцами босых ног.
— Байбува, если простите меня за плохие вести… — начал Мирзо Кабул несмело.
— Уже простил. Говори, чего там?
— Верховный казий проявили неуважение, возбудив против вас уголовное дело.
Возлежавший на подушках бай сел, подобрал под себя ноги.
— Какое такое уголовное дело?
— По поводу драки, учиненной вчера у вас в подворье.
— Вот как?! — прищурился недобро Байбува.
— Кроме драки, вам предъявляют еще денежный иск.
— Собаки, сыновья собак!
— Жалобщики привели с собой в качестве защитника некоего Намаза. Он мне показался противным малым.
— Вот какие дела затеваются, значит?
— Я сказал уважаемому господину казию, что следовало бы предупредить Байбуву. Но он замахал на меня руками, отругал, дескать, бай своим путем, а закон, мол, своим.
— Вот какой, оказывается, он неблагодарный, твой тура! — Вены на шее бая вздулись, он шумно сглотнул слюну, сунул Мирзе Кабулу целковый золотом — в благодарность. Потом направился в канцелярию хакима, находившуюся в каких-то двухстах шагах от его дома.
Волостной управитель Мирза Хамид готовился к полуденному намазу.
— Потом будешь молиться, — сказал Хамдамбай, опускаясь на мягкие тюфяки. — Посоветоваться надо. Дело такое, что знать должны только ты и я. И решать нужно его безотлагательно…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. К БОЛЕЗНИ ЕЩЕ И ЧИРЕЙ
Заключение Намаза в тюрьму поразило джаркишлакцев. Будто мало было того, что бесплатно проработали все лето, получили в расплату побои, теперь вот, едва попытались защитить свои права, лишились единственной своей опоры — Намаза-палвана. Стар и млад Джаркишлака были чуть ли не в трауре.
— О, злая судьба наша! — плакала Улугой.
Глядя на мать, принимались плакать и дети. Халбек, несколько оправившийся благодаря лекарствам Сергея-Табиба, пытался их успокоить.
— Все от аллаха, — приговаривал он, — послал болезнь всевышний — даст и исцеление. Надо терпеть, не зря рекли мудрейшие: «Дно терпения — золото». Аллах даст, все образуется…
Состояние Джавланкула было еще тяжелое: раны его воспалились, правый бок, где были сломаны ребра, сильно опух. Услышав о несчастье, приключившемся с будущим зятем, Джавланкул вначале было рассердился, мол, зачем полез, будто нашей беды недоставало, но быстро взял себя в руки, понимая, что Намаз не для себя старался — ради таких, как он, Джавланкул.
— Мать, готовь корову, продавать будем, — сказал он жене, тяжело вздохнув, — без денег нам не вызволить парня.
— А если он и вправду угнал тех коней? — несмело подала голос Бибикыз-хала.
— Ты что болтаешь, старуха! — вспылил Джавланкул. — Мой будущий зять не из таких. Это еще один из фокусов Хамдамбая.
— Так-то оно так, отец, но коль продадим корову, девочки останутся без молока…
— К весне телка отелится, не пропадем.
— Тогда что ж, — согласилась Бибикыз-хала. — Трудно пришлось бедному сироте. Парню завтра жениться, а его в тюрьму упекли. И не боятся прогневить всевышнего…
Узнав о случившемся, друзья-товарищи Намаза вначале растерялись. Но довольно скоро рассудили так: палван попал в беду, заступившись за них. Раз так, значит, их обязанность спасти оклеветанного друга. А судиться с мироедом они еще успеют. Нужно будет — отправятся в Ташкент, к самому генерал-губернатору, у него-то они, конечно, добьются справедливости. Не успокоятся, пока не взыщут свою долю, это уж как пить дать. Но важнее всего сейчас, конечно, спасти Намаза.
Пять человек собрались у Шернияза в доме с почерневшими от копоти потолочными балками. Когда все было обговорено, Шернияз предложил:
— Ну-ка, встаньте все на колени. Будем клятву принимать.
Пятеро друзей опустились на колени, оборотясь лицом к кыбле[30].
— Пусть всякая еда наша, поднесенная ко рту, станет поганой, если не приложим все силы, чтобы освободить Намазбая, аминь! — молитвенно провели они ладонями по лицу.
И стали они с того дня ходить по домам, собирая деньги. Шернияз специально поехал к Сергею-Табибу. Тот, разумеется, уже знал о случившемся и был вне себя. Успокоившись, сказал, что и он ищет пути спасения Намаза. Как бы то ни было, полагал Сергей-Табиб, дело не должно попасть в руки мировых судей. Время сейчас неспокойное. Им ничего не стоит заслать парня в Сибирь. Лучше, если этим делом займутся казии, известные своим взяточничеством. Надо подкупить Шадыхана-туру, посоветовал он. Потом добавил:
— Ко мне ходите пореже. Вчера у меня произвели обыск. Будем поддерживать связь через приемных братьев Намаза.
Он имел в виду Тухташбая и Хайитбая, которые жили пока у него…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. СМЕРТЬ ВСЕГДА ОДНА
Дело Намаза не могло быть передано мировому судье, пока хотя бы для вида не рассмотрено казием. Таков порядок. Стоит Намазу признаться, что он увел чужих коней, остальное быстренько обделает волостной управитель. Потому-то Мирзо Кабул, который заменял прикинувшегося больным Шадыхана, и спешил ускорить рассмотрение дела. Он прекрасно понимал, что Хамдамбай не обойдет его своими щедротами, если ему удастся вытянуть из Намаза признание его мнимой вины.
— Таким образом, Намазбай, не назовете ли имена людей, которые участвовали вместе с вами в угоне коней? — в который раз уже спрашивает Мирзо Кабул.
Намаз сидит на коленях, по обычаю положив на них руки. Следы ударов плетью на его лице и лбу вспухли, воспалились. Рубцы причиняют Намазу невыносимую боль при каждом движении, мешают говорить…
Вчера его опять били. Утром приходила Улугой с сынишкой и, так и не получив разрешения на свидание, оставила принесенную для Намаза еду тюремщикам. «Бедная сестра, ночь, наверное, не спала, пекла лепешки, чтобы принести мне горяченькими, плов готовила…» — который раз вздохнул Намаз, как вдруг дверь со скрипом отворилась, и в камеру зашел тюремщик:
— Хош, Намазбай, хорошо ли выспались?
— Да, спалось прекрасно: покойно и сладко.
Этот тюремщик в отличие от других всегда охотно говорил с Намазом, не злорадствовал, не бил прикладом, ведя на допросы.
— Молитву читали, как я учил?
— Читал, как умел.
— Правильно сделали, брат. Кто тысячу раз повторит молитву «Калиман шаходат», душа того проясняется и становится прозрачной, как родниковая вода. Человек забывает о лишениях, разлуке. Говорят, пророк Юсуф, брошенный в зиндан[31], находил утешение, читая эту калиму…
На этот раз без наручников, Намаза повели в канцелярию хакима. «Странно, зачем меня ведут к хакиму?» — думал Намаз, шагая меж двух вооруженных нукеров.
В канцелярии управителя Намаза ждали Мирза Хамид, Хамдамбай и полицмейстер Михаил Грибнюк, Хамдамбай натянуто улыбался. «Может, сожалеет, что оклеветал меня? Ведь аллаху все известно не хуже, чем мне и ему, — подумалось Намазу. — А вдруг он пришел просить отпустить меня? Вдруг на него подействовала молитва «Калиман шаходат», что я всю ночь читал, и он одумался? Ах, если бы это было так, если бы тюремщик оказался прав…»
— Что стоишь как столб? — вдруг резко повернулся к нему Хамдамбай. — На колени, собачий выкормыш!
Последние слова Хамдамбая вонзились в сознание Намаза, подобно шилу, по всему телу пробежала судорога. «Как смеешь оскорблять меня, подлый клеветник?» — хотелось закричать Намазу, но он сдержал себя.
— Не стоит вам оскорблять меня, Байбува, — спокойно сказал он.
Михаил-тура с интересом разглядывал плотную, словно налитую свинцом фигуру Намаза, его широкие плечи, тугие мускулы. «В самом деле, этот парень настоящий богатырь! — думал он. — Если бы им хорошенько заняться, он бы мог потягаться с лучшими борцами мира. Жаль, что такой джигит стал преступником…»
Михаил-тура не знал, что Намаз разговаривает по-русски, поэтому допрос начал по-узбекски.
— В Каттакурганской тюрьме сидел? — показал он Намазу стопку бумаг.
«Признаваться или нет? — мелькнуло в голове Намаза. — Отпираться глупо, в бумагах, конечно, все написано. Но признаться — значит усугубить положение… Вот тебе и плоды ночных молений…»
— Да, сидел.
— За что?
— За драку.
— С кем дрался?
Намаз поначалу хотел рассказать все как было: подрался с сыновьями утарского бая, который отобрал пол-танаба чужой земли и построил на ней крупорушку. Но, оглядевшись, Намаз спохватился: ведь кто идет против бая, тот бунтовщик, а это даже хуже, чем вор или грабитель.
— С плохими людьми дрался, — коротко ответил он, не вдаваясь в подробности.
— Зачем дрался?
— Кулаки чесались.
— Ты всегда дерешься, когда у тебя кулаки чешутся?
— Да, дерусь.
— Потом из тюрьмы бежал?
— Да, бежал.
— Ты, выходит, скрываешься от закона?
— Выходит, да.
— Собачий сын! Вор! — взревел Хамдамбай. — Сам, оказывается, настоящий каторжник, бунтовщик, а еще полез защищать клеветников!
— Это вы клеветник, Байбува.
Хотя слова эти были обращены к Хамдамбаю, с места вскочил Мирза Хамид.
— Заткнись, ты!
— Это ты заткнись, шавка! Когда лают крупные собаки, шавки должны помалкивать.
— Так я для тебя шавкой стал?
— Ты хуже любой шавки.
— Тогда вот тебе, воришка, каторжник, вот! — Мирза Хамид выхватил из-за голенища плетку и стал хлестать ею Намаза куда попало. В прошлый раз он отстегал Намаза просто так, чтобы показать Хамдамбаю свое рвение. На этот раз он доказывал, что порода его гораздо выше, чем оценили.
— Вот тебе, вот!
Михаил-тура схватил его за руку:
— Довольно, прекратите!
— Не вмешивайтесь! — завопил Мирза Хамид, брызжа слюной.
— Подобные действия запрещены законом! — повысил голос Грибнюк. — Нельзя бить арестованного.
Мирза Хамид отбросил плетку в угол и нехотя сел на свое место. Но тут же снова вскочил, будто ожегшись на углях, забегал-зашагал по комнате.
— Предавали этого вора сазойи[32] или нет? — вдруг вспомнил Хамдамбай.
— Нет, — обмяк Мирза Хамид, виновато потупившись.
— Сейчас же гоните негодяя на базар. И ускорь суд. Таких, как он, надобно в Сибири сгноить.
То ли от жгучей ненависти, всколыхнувшей все существо, то ли от побоев, то ли от горького чувства беспомощности Намаз был словно оглушен и очнулся лишь тогда, когда шесть нукеров — три спереди и три сзади — привели его на знаменитый Дахбедский базар, а глашатай Аман, шагая впереди процессии, начал кричать во все горло:
Внемлите же, слуги аллаха, Неверным — презренье и плаха! Слушайте! Слушайте! Слушайте!«Неужто все это происходит наяву? О создатель, ты же хорошо знаешь, что я не вор. Зачем ты позволил им связать меня, отдал в их руки? Ты превратил меня в прах. Честь моя выброшена на помойку! Как я посмотрю теперь в глаза людям? Ведь черно мое лицо перед ними! О, Дивана-бобо! Вы говаривали, что если человек потерял деньги — он ничего не потерял; если он потерял здоровье — он много потерял, но еще не все, ну а коли потерял честь — считай, всего на свете лишился! Вот я теперь потерял все, все, что имел… Говорят, в месяце пятнадцать дней темные, пятнадцать — лунные. Лицо мое вымазали сажей, но я должен вернуть свое честное имя. Не стоит спешить на тот свет, с таким лицом не место и на том свете…»
У арестанта руки связаны, веревка тугим узлом затянута на животе. Конец веревки нукер, едущий впереди на коне, примотал к луке седла. Намаз шагает с опущенной головой, крепко зажмурив глаза. Куда тащит его веревка, туда он и идет, спотыкаясь и пошатываясь.
— Бай-бай-бай! Вы поглядите, какой здоровенный, а чем занимался, а, подлец!
— Вай, да это же Намаз-палван!
— Тоже мне, палвана нашел, конокрад он, вот кто твой «палван»!
— Коней, видать, любит малый!
— Камнями надо такого закидать, вот что!
— Бей вора!
— Ой, не надо, может, у бедняги дети, семья есть! — послышались возгласы, едва процессия сазойи вступила на рыночную площадь. Намаз идет, не смея поднять головы, открыть глаза, весь в поту от переживаемого позора и бессильной ярости. Аман-глашатай тянет свое:
Недавно из байских украл табунов Разбойник Намаз четырех скакунов…Вдруг из толпы выбежала женщина в парандже и с жалобным криком кинулась на шею арестанта.
— Вой-дод, мусульмане, да ведь это же мой брат! Не вор он, люди, поверьте мне, безбожник Хамдамбай оклеветал его! Эй, Аман, чего стоишь, хватай нож, режь веревку, режь проклятую! Спасай дядю!
Намаз вскинулся, глаза его сверкнули.
— Сестра!
— Эй, люди! — кричала Улугой.
Один из нукеров, следовавших позади, подстегнул коня и, подъехав к плачущей женщине, стал отталкивать ее:
— Прочь, женщина, прочь!
Аман, племянник Намаза, сбросил с плеча хурджин, вбежал в круг, образованный всадниками, обхватил мать за плечи и почти поволок прочь.
— Братик мой, богатырь мой! — продолжала кричать Улугой. — Изверги, чтоб вам кровью харкалось!..
Еще долго в ушах Намаза звенел голос Улугой. Невольно оглянувшись, он успел еще раз увидеть ее. Аман держал мать в объятиях, а Улугой пыталась вырваться и рыдала.
— Нет! — закричал Намаз и так рванулся, что веревка туго натянулась, а задние ноги коня, к которому он был привязан, подкосились. К Намазу кинулись все шестеро нукеров, но, сколько ни старались, не могли сдвинуть с места. Намаз стоял как вкопанный, обеими ногами упираясь в землю, чуть откинувшись назад.
— Бей коня! — крикнул начальник нукеров. — Пусть хоть сдохнет, гони коня!
Когда Намаза поволокли конь и шестеро нукеров, он был безмолвен и бесчувствен…
Вот уже битый час втолковывает что-то Намазу Мирзо Кабул.
— Вы что, уснули?
— Нет, не уснул, — пришел Намаз в себя.
— Тогда ответьте.
— Что ответить?
— Назовите имена людей, которые участвовали с вами в конокрадстве.
— Послушайте, Мирзо, — проговорил Намаз, теряя терпение, — с каких это пор вы стали казием? Лучше бы исполняли свою роль секретаря. А то за три-четыре дня вы совсем заморочили мне голову.
— Шадыхан-тура препоручил мне свои полномочия.
— Но народ-то не давал вам тех полномочий?
Мирзо подошел к окну, глянул внимательно во двор, затем, осторожно ступая, приблизился к Намазу:
— У меня единственное желание — помочь вам, — прошептал он, — вчера вечером у меня побывали ваши друзья.
— Какие друзья? — насторожился Намаз.
— Шернияз и Джуманбай.
— Думаю, не с пустыми руками они явились к вам?
— Аллах с вами, — странно улыбнулся Мирзо Кабул.
«Аллах-то со мной, — подумал Намаз, — да ты, подлец, наверняка выманил с несчастных взятку, да притом немалую. Вовек не рассчитаться им теперь с долгами! После тебя к делу приступит верховный казий. Тоже будет, тянуть с бедняг, тянуть, пока не отберет последний кусок. А тем временем Хамдамбай подмажет жирненько и все укроет глухою крышкой. Нет, я должен во что бы то ни стало выбраться отсюда! Иначе и друзей подведу, и с себя не вытравлю клейма вора. Выйду отсюда живым-здоровым — век буду мстить клеветникам и мироедам! И должен я отсюда выбраться сегодня же… или никогда!..»
Намаз скрипнул зубами, резко вскинув голову, беркутом огляделся по сторонам.
— Что я должен делать? — спросил он, словно заинтересованный намеками Кабула.
— Вы должны признаться в содеянном. Тогда Байбува перед народом как бы простит вас. Этому господину надобно, чтобы люди считали его «справедливым»!
— В ту ночь было очень темно… — начал Намаз и тут же прервал себя: — Можно говорить стоя?
— Конечно, конечно, — обрадовался Мирзо Кабул, сам не веря в свою удачу. — Встаньте, пожалуйста, как вам удобно, и говорите.
— Так вот, — продолжал Намаз, встав на ноги и расправив плечи, — ночь была очень темная, но я давно умею без малейшего шороха продвигаться в ночи. Перелез через высокую стену двора и направился прямо к конюшням Хамдамбая. И тут на меня накинулся один из конюхов! Ну, развернулся я да ка-ак двину его по голове…
Мирзо Кабул и не заметил, когда на его голову опустился тяжелый, как палица, кулак, и без единого звука свалился на бок.
Намаз в два прыжка оказался у двери и, чуть приоткрыв ее, простонал: «Помогите, о, помогите!» Стражник давно маялся в ожидании, когда же наконец кончится допрос. Освободившись, он собирался присоединиться к друзьям, готовящим в складчину плов.
Стражник стремглав бросился на крик и, едва ступив на порог, споткнулся о подставленную Намазом ногу и плашмя растянулся на полу. Кувалда кулака, обрушившаяся следом на голову, надолго лишила его сознания. Намаз, когда дрался, бил соперника только один раз. Покойный Иван-бай частенько заставлял Намаза выступать на кулачках с разными именитыми бойцами, и Намаз многому научился у них.
Сняв со стражника одежду, Намаз переоделся. Повесил патронташ на плечо, винтовку взял в руки. Если бы не следы ударов плетью, любой встречный принял бы его за одного из нукеров хакима.
Заперев казихану снаружи, Намаз спокойно, не спеша вышел во двор. В конюшне, находившейся у самых ворот, стоял на привязи конь Мирзы Кабула. Намаз вывел его на улицу, сел верхом:
— Чу, мой конь! Человек умирает только раз!
В Джаркишлак, понятно, ехать было нельзя: во-первых, на дорогах грязь непролазная, конь будет еле ползти. Во-вторых, искать, само собой, начнут там. В Лайиш ехать опасно: очень уж малолюдная дорога, одинокого всадника сразу заметят. Лучше всего отправиться в Самарканд. Коли проскочить Каршинский арык, начнется Акдарья, а там ищи-свищи: кругом тугаи, камышовые заросли…
Так размышлял Намаз, погоняя коня. Однако говорят же, если животное не похоже на хозяина, то поганым подохнет. Конь, как и Мирзо Кабул, был маленьким, слабосильным. Под тяжелым и громоздким Намазом он вскоре вспотел, стал задыхаться. Идет, старается, копыта далеко вперед выбрасывает, а сам еле-еле двигается.
«Понимаю тебя, бедняга, устал, — думал Намаз, с опаской следя за конем, — ну, потерпи, милый, еще немного, совсем немного осталось…»
А тем временем сзади уже показались вытянутые в стремительную цепь преследователи. Кони под ними не шли, а летели, вытянув морды вперед, как стая горных орлов.
Намаз резко повернул коня вправо и стал спускаться в почти высохший анхор[33]. Здесь можно, конечно, защищаться, даже как-то укрыться, но ненадолго. Анхор может стать и капканом. Нет, надо выбираться на холм.
Бросив коня в анхоре, Намаз стал карабкаться, придерживаясь за кусты верблюжьей колючки, на большой песчаный холм. До вершины он добрался в считанные минуты, а там, вздохнув свободнее, кинулся под прикрытие кустарников. Отсюда хорошо просматривалась дорога, по которой приближались преследователи. Намаз вгляделся: двое всадников, кажется, из полицейских — хвосты их коней обрезаны коротко, остальные — нукеры Мирзы Хамида. Чей-то конь оказался всех проворнее — шел впереди.
Намаз на всякий случай перезарядил винтовку, пересчитал патроны. Их было вполне достаточно, но Намаз все же решил: «Пройдут мимо — стрелять не стану».
Мчавшийся впереди джигит натянул поводья.
— Здесь он свернул, братцы!
Но не успел он закончить, как вместе с конем рухнул на землю. Затем свалился следовавший за ним нукер.
Намаз чувствовал себя недосягаемым: холм, на котором он находился, был неприступен, так как залезть на него можно было лишь с одной стороны, и это место хорошо простреливалось. Но самое главное — в душе Намаза не было ни капельки страха. Он чувствовал себя свободным, а это удесятеряло его силы.
Нукеры, несколько отступив, затеяли совет. Вскоре они привязали коней к длинной веревке на расстоянии метра-полутора друг от друга, а сами, успокоенные, что кони не разбредутся, начали спускаться, держась друг за другом, в анхор.
Пока преследователи, стреляя беспорядочно и бесприцельно, лезли на песчаный холм, Намаз успел перебраться на противоположную сторону его и ловко спуститься по почти отвесной стене. Намаз взлетел на переднего в связке коня и выстрелил наугад в сторону пологого склона. Лошадиный «поезд» во весь опор понесся прочь.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ТАЙНЫЙ СОВЕТ В СТЕПИ
Тугаи на правом берегу Кипчакарыка погружены в сон. Луна еще не взошла, и потому ночь кажется особенно темной, а звезды яркими и очень близкими.
Где-то в беспредельных чащах тугаев нет-нет раздается протяжное завывание волка, всхрапывает дикий кабан. С озерца вблизи, шумно хлопая крыльями, поднялась стая уток. Кони замирали, заслышав волчий вой, а потом снова с хрустом принимались жевать душистый клевер.
На небольшой поляне, окруженной низкорослыми кустами тамариска и саксаула, расположились шестеро джигитов. Сердца их полны горечи и обиды, и потому речи, которые они ведут, решительны и безрассудны.
— Намазбай! — говорит казах Эсергеп. — Ты знаешь, сколько бед перенесла моя одинокая головушка. Теперь всем ясно, что получить свою долю с баев можно только силой. Я уже не раз дрался с ними, защищая свои права, сидел в тюрьмах. И бог даст, сколько мне суждено прожить, столько же я буду с ними драться. Стань во главе, Намаз, веди нас! Нет мочи более терпеть. Кто же за нас постоит, если не мы сами?!
Намаз сидел, подобрав под себя ноги, низко опустив голову. Слушая речи друзей, он с горечью кивал головой, но молчал. В нем вновь — уже в который раз! — ожили воспоминания обо всех страданиях, пережитых с малых лет. Он готов мстить, да, он жаждет этого. Но не рановато ли поднимать знамя мести? И смогут ли они помочь страдающим людям?..
— Друзья мои, — медленно поднял голову Намаз. — За трудное дело мы беремся. Понимаете ли вы, осознаете ли, на какие испытания себя обрекаете?
— Не мужчина тот, кто не выдержит всех трудностей, — в один голос заявили джигиты.
— Учтите, будут жертвы… Кровь, смерть…
— Мы готовы сложить головы за справедливость.
— Тогда вставайте на колени! Повторяйте за мной. Предадим огню мир баев во имя голодных, раздетых и бездомных сирот, за слуг и батраков, задарма проливающих семь потов на байских полях и дворах, за все обиды, горе и беды!
— Клянемся! — в один голос вскричали пятеро джигитов.
— Клянемся предать огню мир кровавых хакимов, надевших на народ кандалы, кормящих его только палками и плетьми!
— Клянемся!
— Человек умирает только раз! — Намаз поднялся на ноги.
— Человек умирает только раз! — повторили джигиты, тоже вставая.
Шестеро крепких, здоровых парней, пропахших потом, землею, травой и солнцем. Всего шестеро. Но в них как бы воплотился голодный и обездоленный народ Зеравшанской долины, придавленный гнетом несправедливости, но не потерявший еще бунтарского духа. В жилах джигитов огнем горела кровь, призывая к мести. Руки их были крепко сжаты в кулаки.
— По коням! — скомандовал Намаз.
Самым молодым среди шестерых был Джуманбай. До того как стать самостоятельным пахсакашем, этот парень с малых лет работал в доме Хамдамбая, вначале мальчишкой на побегушках, затем слугой. Он хорошо знал все ходы-выходы и даже где Хамдамбай прячет деньги и золото.
Джуманбаю раньше мало приходилось ездить верхом. Сейчас, сидя на рысящем коне, он обеими руками вцепился в луку седла, боясь свалиться. Намаз ехал в окружении Шернияза и Эсергепа, сзади него следовали Уста Камал и Эшбури. Вооружен был только Намаз, остальные повесили за плечо, на манер винтовок, кизиловые толстые палки на шнурках.
— Погоняй же коня быстрее, пахсакаш! — торопил друга нетерпеливый Шернияз.
— Конь какой-то ленивый, я тут ни при чем, — оправдывался Джуман-палван, стараясь скрыть дрожь в голосе.
Друзья тихо смеются: они знают, почему пахсакаш отстает.
За полночь всадники преодолели кривые узенькие улочки Шахоба и въехали в Дахбед. Дом Хамдамбая находился на главной улице, где столпились под сенью вековечных чинар канцелярии верховного казия, хакима, выстроились в ряд бакалейные, мануфактурные лавки. Спешившись у ворот Хамдамбая, джигиты прислушались.
Намаз вытащил кинжал, просунул его в щель между створками — цепь запора упала с тихим звоном. Намаз с Джуманбаем тихо скользнули во двор. Дом-дворец Хамдамбая занимал около двух танабов земли. Все окна темны, кроме одного. В нем горел слабый огонек.
— Бай спит там, — прошептал Джуманбай. — Сокровища его тоже там.
Удача сопутствовала им: бай не запер дверь изнутри. Они тихо вошли в опочивальню Хамдамбая. Он спал, посапывая, рядом с ним спала его старшая жена Бегайым.
— Опусти шторы, — прошептал Намаз.
Джуманбай стал опускать шторы, и, хотя он не издал при этом ни малейшего звука, Бегайым вдруг проснулась.
— Ой, кто тут?
— Здравствуйте, — сказал Джуманбай и, услужливо выгнув спину, добавил: — Не помассировать ли вам ножки, госпожа?
— Что такое? — стала медленно подниматься хозяйка.
— Может, водички принести для омовения? — Было не понять, издевается Джуманбай над Бегайым или и себе и ей напоминает, что приходилось ему делать и произносить в этих стенах с малых детских лет.
— Заткни ей глотку кляпом! — приказал Намаз.
Бай уже давно проснулся и пытался незаметно сунуть руку под подушку.
— Убери руку! — приставил к его груди дуло винтовки Намаз. — Шевельнешься — стреляю. Не узнаешь меня?
— Намаз?! — невольно приподнял голову над подушкой бай.
— Я пришел за расчетом.
— Сынок…
— Замолчи, или я выпущу пулю тебе в рот!
Джуманбай заткнул рот Бегайым кляпом, завернул в одеяло, сверху накрыл сдернутым с пола громадным ковром.
— Вот теперь, тетушка, ваша вечно ноющая поясница поправится, — приговаривал он при этом. — Пропотеете хорошенько, и все пройдет.
— Где долговые тетради? — спросил Намаз.
«Вот чего они хотят, убивать не будут…» — обрадовался бай.
— Можно сесть? — попросил он.
— Садись.
— Где долговые тетради? — повторил Намаз нетерпеливо.
— В сундуке.
— Расписки бедняков с отпечатками их пальцев?
— Там же, в сундуке, сынок, там же.
— Давай сюда ключ.
— Сейчас, сейчас…
Получив от Хамдамбая ключ, они мигом заткнули рот бая кляпом, его же белой шелковой чалмой связали руки и ноги, и так же, как и жену его Бегайым, укрыли множеством одеял, а сверху — ковром. «Чтобы не замерз, бедняга!» — хихикнул Джуманбай.
Расписки и долговые тетради в самом деле находились в железном сундуке. Зато золота и серебра там не было. Но Джуманбай знал, где оно: под сундуком был ход, ведущий в подполье. Они с трудом отодвинули сундук, откинули крышку.
— Сможешь спуститься сам? — обернулся Намаз к Джуманбаю.
— Смогу, только держите свечку поближе, — попросил Джуманбай, но тут же передумал: — Лучше возьму ее с собой.
Немного спустя он вылез обратно, прижимая к животу небольшой, но очень тяжелый ларь. Прихватив с собой этот ларь, винтовку, восьмизарядный револьвер и патроны к ним, обнаруженные здесь же, они поспешно покинули опочивальню бая.
Во дворе по-прежнему царила тишина. Только кони в конюшне, видно, почуяв чужих коней, то и дело тихо ржали. В соседнем дворе закричал петух, шумно хлопая крыльями…
У Кипчакарыка Намаз натянул поводья. Они подождали сильно отставшего Джуманбая.
— Здесь нам надо расстаться, — сказал Намаз. — Ты, Эшбури, способный к счету. Пересчитай все деньги, сложи золотые к золотым, серебряные — к серебряным. Ты, Уста Джамал, пойдешь в Уклан, ты, Шернияз, — в Кушкурган, Джуман — в Джаркишлак, Эсергеп — в Маргилантепе. Понятно? Помните, кто сколько должен был получить с бая?
— Еще бы!
— Подходите, стучитесь в ворота, отдавайте деньги, говорите: это деньги за работу у бая. Надо успеть сделать это до утра. Завтра начнется охота за нами, надо быть поосторожнее.
— А что, если золотишко останется? — поинтересовался Эшбури.
— Рассыплем на Дахбедском базаре — это будет нашим подарком остальным беднякам. Покончив с делами, соберемся на Малом броде Акдарьи.
— Договорились.
— Эсергеп, разведи костер. Сожги все долговые тетради и расписки. Пепел развей по ветру. Ларь выбрось в реку.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ЖЕСТОКОСЕРДЫЙ ХАКИМ
Дня три-четыре уже, как небо над Дахбедом затянуто темными тучами — ни дождем не прольются, ни ветром не рассеются.
Вконец расстроенный событиями последних дней, такой же хмурый, как дахбедское небо, Мирза Хамид решил отрешиться от дел, предать душу и тело отдохновению в покойных стенах родного дома.
Достигший в жизни всего благодаря старанию и изворотливости, не без благосклонной помощи Хамдамбая, Мирза Хамид сильно отличался от своего благодетеля одним качеством — сластолюбив был сверх меры. Бай не больно жаловал легкомысленных людей, транжир, но на проделки Мирзы Хамида, про которого шутя говорили, что, пойди он даже на похороны, непременно окажется в кругу женщин, смотрел сквозь пальцы. Несмотря на свой молодой возраст — ему только исполнилось тридцать лет, — Мирза Хамид успел завести трех жен. Но, будто и этого мало, частенько устраивал с друзьями в домике старого рыбака на берегу Акдарьи настоящие оргии. Люди с опаской говорили про Мирзу: «Гляди за дочкой в оба, коли хаким прошел по твоей улице!» Мирза сам по себе довольно пригож: гладкое лицо, смуглая бархатистая кожа, глаза, брови, ресницы черны, как вороново крыло, такие же усы — краса и гордость хакима. Особый шик обретает он, когда, облачившись в форму волостного, важно восседает в коляске, — царевич да и только! Однако при всей его красоте женщины, глядя на него сквозь сетку чачвана, частенько бросают ему вслед: «Чтоб глаза твои выпученные вороны выклевали!»
Волостного встретила у ворот младшая жена — пятнадцатилетняя Афтоббиби. Аккуратный банорасовый халат, под которым безрукавка туго обтягивала ее высокую грудь, украшенную рядами жемчужных бус, позолоченная металлическая подвеска на лбу делали ее похожей на куклу.
— Обед готов? — спросил хаким, проходя в дом.
— Специально для вас плов приготовила. Сама, — добавила Афтоббиби горделиво.
— Чтоб больше к очагу не подходила, — важно приказал Мирза Хамид. — Заставляй работать служанок, понятно?
— Хорошо, мой хозяин.
— Скажи, чтоб принесли вина.
— Сейчас скажу, мой господин.
Мирза Хамид вошел в дом с широкими окнами, снял форму. Присел к пышущему жаром сандалу, подставил грудь теплу. Вошла Афтоббиби, неся в руке разрисованный веселыми узорами кувшин.
— Решила сама принести, мой господин.
— И хорошо сделала, иди садись ко мне. Сегодня ты очень красивая… — Взяв жену за руку, привлек ее к себе. — Работы, забот много… устал я…
— Вай, как может устать такой богатырь, как вы? Не верю! — Выгнула узкие черные брови Афтоббиби, глядя на мужа томными глазами.
— Богатырю тоже надобен отдых, дорогая!
В этот самый миг к воротам дома Мирзы подъехали верхом три городовых. Один из них остался на улице, держа под уздцы коней. Двое других быстро вошли во двор, спросили, в каком из домов находится хаким, и прямо направились к указанному. Мирза Хамид видел в окно стремительно приближавшихся гостей.
— Ты иди пока к себе, — отстранил он от себя Афтоббиби, — я тебя позову. Ко мне царские гонцы прибыли.
Выпроводив жену, хаким поспешно надел шитый золотом халат, белую шелковую чалму, украшенную крупной жемчужиной, и пошел навстречу городовым, один из которых остановился у двери. Второй шагнул в комнату и вдруг приказал:
— Руки вверх, собачий сын!
— Намазбек?! — вскричал хаким, ощущая, как противно дрожат руки. — Добро пожаловать… милости просим…
— Лицом к стене, руки на стену. Вот теперь давай померяемся силами, кто кого исхлестает плетью, а?
Еще минутой назад чувствовавший себя сказочной силы Алпамышем[34], Мирза Хамид не мог выговорить ни слова, а ноги так и подкашивались, проклятые. А когда Намаз вынул из-за пояса револьвер, по затылку его поползли холодные струйки пота.
— А теперь ответь-ка мне, — начал Намаз полным ненависти голосом.
— Намазбек, будьте моим дорогим гостем, — только и смог вымолвить Мирза Хамид.
— Скажи-ка мне, любопытно знать, за что ты тогда отстегал меня плетью? Ты видишь на моем лице раны? Зачем объявил меня конокрадом? Ты же знаешь, что вор — Хамдамбай, ведь ты сам вор не меньший, чем твой хозяин. Разве это не ты украл дочку мясника и опозорил в домике на берегу Акдарьи? Отвечай, подлец! Объясни, за что меня бил? Если уж ты такой силач, давай встанем сейчас и по-честному померимся силами. Ну-ка, ударь меня, ударь, говорю! Ах, боишься? Но ведь ты же чувствуешь себя богатырем, когда садишься в свою вонючую позолоченную коляску! Чего теперь-то дрожишь, как щенок, упавший в воду? Бей, тебе говорят!..
Намаз сильно толкнул в грудь хакима, казалось, совсем обеспамятевшего, тот отлетел, нелепо размахивая руками, и головой ударился о стену. Намаз слегка напрягся, ожидая, что, возможно, заговорит в человеке мужская гордость, ответит ударом на удар, но хаким даже не шелохнулся, стоял, бессильно опершись спиной о стену. «Низкая тварь без капельки чести!» — выругался Намаз про себя, вслух спросил:
— Где прячешь расписки, полученные от бедняков?
— Сейчас сам достану, хорошо?
— Только быстро!
— И тетрадь должников тоже?
— Все доставай!
— Оббо, Намазбай… Аллах свидетель, я мечтал подружиться с вами, вот даже доказательство: специально для вас собирал мешочек золота, возьмите, пожалуйста. Ей-богу, если бы вы не пришли, сам бы раздал бедным и нуждающимся.
Намаз бросил мешочек золота, стопку расписок и долговую тетрадь джигиту, стоявшему у двери.
— Хаким, ты помни про раны на моем лице, понятно?
— Все это Хамдамбай подстроил… Я, дурень, послушался его, и вот…
И Мирза Хамид принялся всячески поносить Хамдамбая. «Какой же ты все-таки подлец», — пронеслось в голове Намаза. И он не смог сдержать себя: хаким мог еще долго говорить, если б не удар невероятной силы, опустившийся на его голову. Долгонько валялся хаким на полу, медленно приходя в себя. А рядом с ним рыдала насмерть перепуганная прекрасная Афтоббиби.
Тем временем Намаз входил в двери казиханы. Подошел к людям, толпившимся в приемной, выхватил, револьверы:
— Живо! Лицом вниз!
Все попадали на пол. Намаз распахнул дверь в комнату, куда несколько дней назад он пришел в сопровождении жаждавших справедливости людей и где понял, что их всех околпачили как последних дураков. Верховный казий восседал, как обычно, на своем месте, Мирзо Кабул чуть позади его, — они оба, вытянув шеи, прислушивались к неясному шуму, доносившемуся из приемной. Завидя Намаза, крючкотворцы так и застыли с вытянутыми лицами.
— Ну как, шельма, продолжаешь грабить просителей? — приставил Намаз дуло револьвера к виску Мирзо Кабула.
— Я… у меня…
— Сколько содрал с людей сегодня?
— Вот всего-навсего… совсем мало… — Мирзо Кабул вытащил, порывшись в карманах, потрепанный кошелек.
Верховный казий, смекнувший, что Намаз явился сюда не за жизнью их драгоценной, а за кошельками, стал запихивать свой кошелек под тюфяк, на котором сидел, приговаривая при этом:
— А я, верблюжонок мой, ни гроша не заработал сегодня…
Глядя на его суетливые движения, Намаз усмехнулся, убрал один из револьверов в кобуру.
— Я к вам, господин мой, и сегодня с просьбой пришел.
— Я весь слух и внимание, верблюжонок мой, — приложил обе руки к груди верховный казий.
— Недавно вы мне прочитали один стих из Корана…
— Да, да, я слушаю…
— Начинался он словами: «Круша злодея род…»
— Да, верблюжонок мой, читал я такой стих. Но он не из Корана. Это творение нашего несравненного Навои. Он сказал: «Круша злодея род во имя чести, я души умащал бальзамом мести…» Вы об этом стихе спрашиваете? Зачем он вам понадобился?
— Я его дам выучить моим джигитам.
— Похвально, похвально, верблюжонок мой… Вы похожи на легендарного Гуроглы[35]… Но разве пристало за подобным делом являться с оружием в руках, верблюжонок мой, и лишать людей дара речи?
— Да разве по-доброму у вас что-нибудь выцарапаешь, мой господин?
— Все ж… однако… — только и развел руками верховный казий, не находя что ответить.
С уходом Намаза Шадыхан-тура и Мирзо Кабул с удивлением обнаружили, что кошельки остались на месте. Радости их не было конца.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. БЕСПОКОЙНЫЕ НОЧИ
Намаз с пятью своими джигитами покинул пределы Дахбедской волости и появился в соседних волостях. За пятнадцать дней они отобрали у шестерых самых богатых и жестоких баев их железные сундуки с хранившимися в них золотом и серебром, раздали беднякам, рассыпали по площадям и базарам. Казалось, в эти дни с неба льются не обычные, а золотые и серебряные дожди. В чайханах, в постоялых дворах, мечетях — везде, где собирается народ, шли толки один другого диковиннее, складывались легенды. Вся Зеравшанская долина находилась в превеликом волнении.
В доме Хамдамбая был траур. Бегайым, сильно перепуганная, слегла. У бая вспухла шея, видно, его не больно-то нежно заворачивали в ковер, и он целую неделю не мог выходить из дома. Обитатели байских хоромов, привыкшие с малых лет всегда и везде первенствовать, никак не могли примириться со случившимся. «Воры! — злился бай, скрежеща от бессилия зубами. — Босяки, которым я не разрешил бы есть даже из посуды моей собаки, так обошлись со мною! Погодите еще, я рассчитаюсь с вами! Всех раздавлю как мух…» В канцелярии волостного управителя прошло экстренное совещание. Договорились выставить против джигитов Намаза три вооруженных отряда. Мирза Хамид решил сам возглавить своих нукеров в количестве четырнадцати человек и патрулировать окрестности Дахбеда. Второй отряд, составленный из сыновей и близких родственников Хамдамбая и возглавляемый его старшим сыном Заманбеком, взял под присмотр близлежащие кишлаки. Третий отряд составили из полицейских.
— Мне нужно три дня сроку, — заявил полицмейстер Михаил Грибнюк на совещании, — и этот пес будет у меня в капкане!
Прошло пятнадцать дней, как три отряда рыскали по всей округе. Самое досадное для хакима то, что Намаз избил его в собственном доме, такое унижение никогда в жизни не забудется. «Погоди, Намаз, я тебе отомщу, — твердил он себе, — сниму твою шкуру и набью соломой! Иначе не называться мне Мирзой Хамидом!» Он послал нарочных к Грибнюку и Заманбеку с просьбой прибыть немедленно.
Первым появился Заманбек. Почти следом за ним, сотрясая землю, вошел Грибнюк.
— Так, я слушаю, Заманбек, — сказал Мирза Хамид, едва сдерживая гнев. — Какие новости вы приготовили для меня?
— Новости таковы, господин хаким: мы окончательно изгнали грабителей из всех кишлаков волости.
— Изгнали или они сами спокойненько ушли куда хотели?
— Изгнали. Четыре дня тому назад мы их окружили близ кишлака Хартанг.
— Так, я слушаю, Заманбек, — сказал Мирза Хамид, у которого вдруг с новой силой заныла скула, напоминая о полученном от Намаза ударе. — Я не верю в эту небылицу.
— Возможно, это были и не они, — пошел на попятную Заманбек, — во всяком случае, мы долго преследовали каких-то всадников.
— Так, Михаил-тура, что вы доложите? — повернулся хаким к начальнику полиции. — Вы вроде обещали за три дня изловить негодяя?
Тон Мирзы Хамида не понравился Грибнюку: он не подчиняется волостному управителю, у него свои хозяева. «Ты стоишь высоко, но я повыше тебя, — подумалось ему. — К тому же вы все получили то, что заслужили по праву. По мне, пусть Намаз с вас хоть шкуру сдерет…»
— Однако ж, — тихо кашлянул в кулак Михаил-тура, — сам господин управитель тоже давали клятву вроде моей?
— Но этот негодяй оказался гораздо хитрее и умнее, чем мы представляли, — заставил себя улыбнуться Мирза Хамид. — Как вы думаете, где может сейчас находиться этот проклятый Намаз?
— Мне кажется, он сейчас скрывается где-то в степях Эшимаксака.
— Почему вы так думаете?
— Потому что только позавчера они нагрянули в дом управителя волости и избили его до полусмерти. Произошло это ближе к рассвету. Если учесть, что днем их передвижение невозможно, то они скрылись в камышовых зарослях в окрестностях Деварыка.
— Логично, — одобрительно кивнул хаким, — что вы можете к этому добавить?
— Я арестовал шесть человек, близких к банде Намаза. Предпринял еще ряд мер. Какие — я вам доложу отдельно.
Вот уже года два-три, как маргилантепинский житель Кенджа Кара поставляет Михаилу-туре секретные сведения. Делает он это в надежде получить место в полицейском участке. Господин Грибнюк, конечно, поддержал в нем эту надежду, пообещал обязательно принять в полицию, если он выполнит несколько заданий. Вчера Михаил-тура бросил осведомителя в тюрьму. Приказал войти в доверие арестантов. Об этом он и намеревался с глазу на глаз доложить Мирзе Хамиду.
— Хотите допросить нескольких арестованных? — предложил полицмейстер с загоревшимися глазами.
— Если вы считаете необходимым — пожалуйста, — потер зачем-то руки Мирза Хамид.
— Некий Кабул оказался бежавшим из Сибири.
— Из Сибири?! — взметнулись густые брови хакима. — Вот его и давайте сюда.
Именно в этот миг в канцелярию вбежал без головного убора, в изодранной рубахе молоденький паренек и бросился в ноги Мирзе Хамиду с мольбой простить его за черные вести.
— В чем дело? — вскричал хаким, с отвращением отодвигаясь.
— Только что напали на дом вашего тестя!
— Как — «напали»? Кто напал?
— Грабители напали.
— Намаз?
— Он самый! — Паренек, плача, продолжал: — Человек двадцать окружили двор, Баззаза-бобо выволокли на улицу, привязали к дереву и лили на его голову ледяную воду.
— По коням! — вскричал вне себя хаким. — Вы, Заманбек, подъедете к дому через Шахобскую площадь, вы, Михаил-тура, через Айнакурганскую. Я же поеду через Мазагскую улицу — так мы перекроем им все пути к отступлению. Глядите, чтобы ни один негодяй не ушел! Подать коляску! — кричал Мирза Хамид, уже выбегая на улицу. — Джиянбек, бери парней, что стоят на карауле у тюрьмы, перекрой дорогу на Самарканд! Стреляй, руби, но ни одного не выпускай живым!..
За считанные минуты двор канцелярии управителя волости опустел. В путь тронулись все, заполнив шумною толпою улицы Дахбеда, надеясь окружить и уничтожить, а то и взять живьем Намаза с его «головорезами».
Не успела осесть пыль, поднятая ратью доблестного Мирзы-хакима, как из боковой улочки вылетели шестеро всадников. Они соскочили с коней у дверей тюрьмы, находящейся под самым боком канцелярии хакима, и стали сбивать замки.
— Выходите быстро! Подсаживайтесь к нам!
Намаз сам развязал, вынес на руках Кенджу Кара, со вчерашнего дня лежавшего на сыром полу, посадил на коня перед собой.
Шестеро всадников во весь опор умчали шестерых арестантов в сторону степей Кангли-Бугажил.
«Войско» хакима, несшееся словно на скачках, с четырех сторон подскакало к дому Шарифа-баззаза. Мирза Хамид, подоспевший почти одновременно со всеми, слезать с коляски не спешил: а вдруг придется отступать? Он несколько раз выстрелил из револьвера в воздух.
— Сдавайтесь по-хорошему! — заорал он, с опаской поглядывая на косо раскрытые ворота. — Иначе всех уничтожу!
Шариф-баззаз как раз совершал омовение перед вечерней молитвой. Он так перепугался неожиданного шума вокруг дома и выстрелов, что поспешно приник к земле, но потом, поняв, что валяться здесь не совсем безопасно, побежал к дому, придерживая штаны, тесемки которых было некогда завязывать. Влетев к себе, он сорвал со стены охотничью двустволку и стал с грохотом пускать в окно пулю за пулей.
После десяти минут беспорядочной стрельбы осмелевшие нукеры подкрались к самому дому Шарифа-баззаза. Улучив минуту затишья, хаким прокричал, держа руки у рта рупором:
— Намаз, прекрати сопротивление, ты окружен! Сдавайся!
На лице Шарифа-баззаза, узнавшего голос зятя, сквозь мертвенную бледность проступил румянец надежды. Он опустил ружье и стал завязывать шнурки штанов.
— Мирза Хамид, сынок, это я! — ответил он плаксивым голосом.
— А что, Намаз скрылся? — спросил хаким, все еще не решаясь высовываться из укрытия.
— Я не видел никакого Намаза. — Шариф-баззаз появился в воротах.
— Говорите правду, отец, даже если вам грозит смерть! Кто же нам тогда оказывал сопротивление, если не Намаз и его головорезы? Может, вы помогли им бежать?
— Это я стрелял, сынок, я!
— Но нам доложили, что на ваш дом напал Намаз со своими джигитами?
— Слава аллаху, сынок, кроме вас, никто на мой дом не нападал…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ
Появление в доме Хайитбая и Тухташбая скрасило одинокое, безрадостное существование Сергея-Табиба. Он вылечил одного от болячек, покрывавших все тело, другого от ревматизма. Потом, приодев, привел в школу, где сам же учил детишек грамоте.
Молчаливый, замкнутый Хайитбай оказался гораздо способнее своего веселого, неунывающего и чуть плутоватого друга Тухташбая. Он теперь легко читал «Первую книгу». Вдвоем они днем и ночью заучивали русские слова.
День клонился к концу. Хайитбай колол дрова во дворе, Тухташбай читал по слогам какую-то книгу. В калитке появился щеголевато одетый, с рыжими волосами высокий молодой человек.
— Это дом Сергея-Табиба?
— Задает корм уткам, — ответил Хайитбай, с любопытством разглядывая незнакомца.
— Нечего пялиться. Позови его быстренько!
Из-за сарая показался Сергей-Табиб. Он долго разглядывал гостя, не узнавая его, потом как-то странно хмыкнул, сказал: «Прошу!» — и ввел рыжеволосого в дом. Здесь он, не удержавшись, громко расхохотался.
— Ей-богу, не узнал тебя, палван! Ну, подойди, подойди поближе, обниму тебя! Ох, каков молодец, а, каков молодец!
— Этот парик мне доставил из Самарканда Кабул, — сказал, смеясь, Намаз, когда они обнялись и поцеловались.
— Это который Кабул?
— Которого я вытащил из тюрьмы.
— Все, все, понял. Это тот парень, бежавший из Сибири?
— Не совсем из Сибири, — поправил его Намаз. — Он бежал по пути.
— Может, и так. Хочу тебе сказать, будь поосторожней, не доверяйся каждому безоглядно. Научись проверять. Давай присядем. Выглядишь ты молодцом. Ну и задал ты жару паразитам, Намаз-палван. Сегодня разносится слух, что в Ургуте ограбил какого-то бая, а завтра, глядь, говорят, в Хатирчи привязал к дереву тысячника и отхлестал плетью. Но, послушай, я только что слышал еще одну новость, правда это?
— Скажете — посмотрим, правда или нет.
— Говорят, ты переворошил весь Дахбедский базар, пристрелил коня под полицмейстером, пятьдесят нукеров свалил в Акдарью…
— Я их не считал… — ухмыльнулся Намаз.
— Капитан сломал ногу. Только что был у него. Теперь держись, он жаждет поймать тебя и набить шкуру соломой. — Сергей-Табиб опять громко расхохотался. — Если поймает, конечно, такого батыра! Ну, молодец, палван, я радуюсь, не нарадуюсь на тебя!
— Э, дядя Сережа, гордиться пока нечем. Вы же знаете, что я бегаю от них, как мышь от кошки.
— Нет! — вскочил с места, легонько хлопнув в ладоши, Сергей-Табиб. — Не спорь со мной: задал ты им хорошенько! Главное, у бедняков теперь другое настроение. Они совсем было потеряли надежду на какое-либо облегчение, не знали, от кого ждать помощи. Ты теперь должен быть осторожнее, понимаешь, палван? Теперь ты принадлежишь не себе, а людям. И еще одно: ты же обещал больше не появляться у меня, что тебя опять привело? Или приехал похвастаться своими рыжими волосами? Если так, кому нужно твое копеечное геройство?
— Это последний раз… — виновато проговорил Намаз.
— «Последний раз»! — передразнил Сергей-Табиб. — Ты уже сто раз говорил, что это в последний раз. — В голосе хозяина появились сварливые нотки, будто он отчитывал родного сына за опрометчивый поступок. Поостыв, спросил мягче: — Как твои дела, что новенького?
— Дела плохи, — вздохнул Намаз. — Около двадцати джигитов у меня безоружных. Вожу их из степи в степь, укрываю, словно цыплят от беркута. Дальше не может так продолжаться. Мы должны вооружиться, иначе нас уничтожат.
— Насчет винтовок вопрос решен.
— Правда? — У Намаза загорелись глаза.
— Сейчас позову одного человека, — проговорил Сергей-Табиб, вставая. — Ты его можешь не остерегаться, проверенный человек.
Через полчаса в дом вошел чернобородый, среднего роста, плотный человек средних лет и, сняв шапку, слегка поклонился Намазу. Это был Бондаренко Николай Николаевич, которого Сергей-Табиб устроил старостой деревни Первого Мая. Он неторопливо опустился напротив Намаза и поинтересовался:
— Ну, как дела?
— Ничего, — кратко ответил Намаз.
— Я тебя сразу узнал, парень. Ты гонял коляску Ивана. Я часто видел тебя в те времена. Можешь быть со мной откровенным, прошу тебя. Говори все, что тебе нужно. Я не предатель. — Бондаренко слегка наклонился к Намазу, и хотя в комнате кроме них, никого не было, сказал, понизив голос: — Я тоже враг того самого господина императора, против кого ты желаешь бороться. Я ярый враг его! Нас сюда пригнали плетьми и под дулами ружей из-под самой Рязани, в арестантских кандалах. Мать и отец мои погибли здесь, среди болот, поедаемые комарьем, в малярийном бреду. И сестра скончалась здесь… И я хочу мстить за них, хочу расквитаться со всеми, кто купается в роскоши. У меня хранятся двадцать винтовок. Дали их нам на тот случай, если вдруг взбунтуется местное население, чтоб, значит, мы подавили. Вот это оружие я и хочу тебе отдать, понял?
— Понять-то понял… — замялся Намаз. — Да как-то неловко получается.
— Как неловко?
— Вам же после этого несдобровать.
— А, вот ты о чем. Не беспокойся, я все обдумал. Ты просто нападешь со своими парнями на мой дом, вот и все.
— Нападу? — удивился Намаз.
— Ну да. Налетишь в ту ночь, когда я тебя извещу, свяжешь как полагается меня и жену, заткнешь рты кляпами и спокойно вывезешь все оружие с боеприпасами. Не бойся, все будет в порядке.
— Спасибо, — обрадованно произнес Намаз, — вы очень хороший человек.
— Меня можешь не хвалить, — стал надевать шапку староста, считая разговор исчерпанным. — Если нужна какая помощь, говори, не стесняйся.
— Спасибо, вы и так очень помогли нам.
— Ладно, действуй.
С уходом Бондаренко в комнату вошел Сергей-Табиб, неся шурпу в закопченной кастрюле. Поставил ее на железный круг на столе и стал разливать суп в глиняные чаши.
— Ну как, понравился тебе наш староста?
— Это бесценный человек! — воскликнул Намаз, все еще не веривший, что дело решилось так удачно.
— Он тебе еще не раз пригодится. Давай подсаживайся поближе.
Они принялись за вкусно пахнущую шурпу.
— Теперь еще одно, — проговорил Сергей-Табиб, прерывая молчание. — Ты помнишь Назара Матвеевича?
— Печника-то? Как же, мы дружили с ним!
— А армянина Сурена Дадаяна?
— Я сам привел его из «Приюта сирот» к Ивану-баю.
— Эти двое хотят присоединиться к твоему отряду.
— Правда? — обрадовался Намаз.
— Они ждут тебя сейчас в крупорушке Шакира. Приехали почистить рис хозяина. Если ты согласен, то они сейчас и уедут с тобой. С арбами своими, конечно, лошадьми да и с рисом тоже.
— Тогда я пошел, дядя Сережа! — вскочил тотчас Намаз.
— Садись, — положил руку на плечо нетерпеливого джигита Сергей-Табиб, улыбаясь. — Что ж ты, зазнался или каменносердым стал — не поздоровался со своими братишками?
— Да у меня сердце обливается кровью, дядя Сережа. Просто я думал, что так будет лучше, если они не узнают о моем приходе.
— Ишь ты, «так будет лучше», оказывается. Да знаешь ли ты, что именно эти двое несчастных сирот связывают тебя с Самаркандом и Ургутом?
— Что вы говорите? — отставил поднесенную ко рту ложку Намаз.
— А ты думал, Сергей-Табиб держит для тебя специального гонца? Однако же, палван, хорошие доктора из них выйдут. Но вначале, конечно, их надо выучить. Жив буду, пошлю учиться в Петербург… Хайит, Тухташ! — крикнул он, обернувшись к окну. — Идите-ка сюда, дети мои!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. БЕСЕДА ТРЕХ МСТИТЕЛЕЙ
Отряд Намаза не имел определенного места стоянки. С того самого дня, как шестеро поклялись темной ночью мстить своим обидчикам и принялись осуществлять свою клятву, джигиты ночевали то в тугаях на поймах Акдарьи, то в камышовых зарослях. Они не возвращались сегодня туда, где провели вчера ночь: боялись, что гнавшиеся по пятам гончие хакима возьмут след. Для открытого боя с преследователями отряд еще не созрел. Правда, все джигиты теперь были вооружены, хватало боеприпасов, коней. Только не каждый из мстителей умел ездить верхом, многие стреляли из винтовок, крепко зажмурясь, благо, небо широко и в него всегда можно попасть. Хорошо еще, что к отряду присоединились Назарматвей, как называли узбеки Назара Матвеевича, и Сурен Дадаян. Они взялись обучать джигитов стрельбе из винтовок. Но все равно рано еще было желать открытой встречи с нукерами хакима. Как бы те ни были трусливы и мелки душою, все ж неплохо гарцевали на конях, владели оружием. Положим даже, располагая несколькими отличными стрелками, можно разогнать нукеров Мирзы Хамида. Но не так-то легко одолеть отличных вояк — казаков Степана Олейникова, Александра Буланова, Михаила Царькова! Они ведь тоже охотятся за джигитами Намаза! И как ни тяни, встреча с ними неизбежна. «Нет, — думал Намаз, мечтая об этой встрече и побаиваясь ее, — не принимая открытого боя, мы должны решительно готовиться к нему».
Сегодня Намаз прибыл в небольшой кишлак Талликурган в нижнем течении Акдарьи, близ Дахбеда. Пятидесятник села Уста Мумин с самого начала помогал Намазу, передал ему двух коней; когда бы он с отрядом ни появлялся в кишлаке, принимал у себя, резал барашка, выставлял угощение.
Оставив продрогших, усталых джигитов в большой гостиной, Намаз вместе с Шерниязом, Эсергепом, Назарматом и Суреном Дадаяном удалился в другую, поменьше, комнату. Когда съели по чаше горячей шурпы, Намаз завел речь о планах на будущее.
— Ну, Эсергеп, что ты скажешь? — обратился он к джигиту, который задумчиво счищал с большой кости куски мяса.
— Как ты сам и говорил, Намазбек: одной голове — одна смерть! — отложил кость на дастархан казах. — Что ты прикажешь, то и будем делать.
— Прошли времена, когда мы так говорили: «Одной голове — одна смерть!» — недовольно нахмурился Намаз. — Теперь оказалось, что наши с тобой головы нужны бедным и униженным. Мы должны беречь свои головы, вот что! А ты как думаешь, Шернияз?
Шернияз — веселый от природы, неунывающий парень. Не жалеет о прошедшем дне, да и о завтрашнем особо не задумывается.
— Я предлагаю штурмовать казацкие казармы, — как бы рубя саблей воздух, предложил он вдруг. — Нападем на них ночью, когда все спят, завладеем пушкой. Вот тогда посмотрим, кто за кем будет гоняться: нукеры Мирзы Хамида за нами или мы за ними?!
— Такое время придет, Шернияз, когда мы погоним нукеров, — сказал Намаз серьезно, хотя едва сдерживал смех. — Но, брат, нам пока рановато нападать на казармы. Из ружей-то стрелять толком не умеем, на что нам пушка? Ну а ты, печник, что замолк, притаился?
— Я думаю, — ответил Назарматвей.
— Скажи, о чем думаешь, чтоб и мы знали.
— В Самаркандском уезде проживает три тысячи мужицких семей. Это, считай, самое меньшее — три тысячи обиженных, недовольных. По-моему, нам надо объединиться с ними.
— Не получится, — вмешался в разговор много повидавший в жизни Эсергеп. — Они с нами не пойдут. У них в Самарканде, Ташкенте есть свои главари, они поступают так, как те велят.
— Я тоже считаю, что надо объединиться, — заговорил Сурен Дадаян. — Признаться, мы пришли в твой отряд, Намаз, в надежде на это. В одном нашем селе Михайловском могут подняться десять вооруженных мужиков. Только нужно, чтобы они знали, за что мы боремся. В деревнях полно тех, кто готов идти мстить своим обидчикам… До каких пор мы будем играть с нукерами Мирзы Хамида в прятки на берегах Акдарьи?! Сказать честно, надоело прятаться да убегать.
— Я предлагаю разделиться на три группы, — заявил Намаз, выслушав всех. — И действовать сразу в трех разных местах. Ты, Эсергеп, пойдешь со своей группой в Ургутские края. Ты, Сурен, в Нурату. Ты же, рассудительный друг мой Назарматвей, пройдешь через те кишлаки, где живут русские мужики. Я сам отправлюсь в Хатирчинскую, Зиявуддинскую, Каршинскую волости. Страждущие ждут нашей помощи. Мы не можем успокоиться, пока есть на свете хоть один несчастный. Мы не вложим в ножны свой меч, пока не отберем все золото и серебро у всех баев и сановников и не вернем их истинным хозяевам. Вот тогда народ поверит в нас!
— А разве сейчас к нам мало идет джигитов? — спросил Шернияз, глядя на предводителя непонимающими глазами. — Вон сколько нас!
Намаз покачал головой.
— Идут, да мало, и то с сомнением, те, кому уж деваться некуда. Объяви сейчас какой-нибудь ишан или мулла газават[36], под его зеленым знаменем соберутся тысячи и тысячи, но против своих богатеев не пойдут. Будут ждать, пока его, кровопийцу, накажет аллах.
— Верно, народ еще не осознал своих сил, — поддержал Намаза Дадаян. — Он не знает, что способен своротить горы.
— Мы обязаны это ему показать! — вскочил с места Намаз, крепко сжав кулаки. — Трудно простому народу, ох, как трудно…
Намаз широкими шагами вышел в соседнюю комнату, большую гостиную. Дрова, горевшие на середине, были, наверное, сырыми, дыму наплыло, ничего не видать.
— Бай-бой, ну и надымили вы тут, — сказал Намаз, потирая сразу заслезившиеся глаза.
— Дым очищает глаза, Намаз-ака, — сказал кто-то из джигитов, расположившихся в дальнем углу.
Человек двадцать джигитов, устроившись кто как мог, отдыхали после жирной и сытной шурпы. Едва заслышав голос Намаза, они было вскочили на ноги, но быстро сели на место, услышав Намазово: «Сидите, сидите!» Намаз сел на свободное место. Долго сидел молча, отстраняясь от все жарче разгорающегося огня.
— Ну, джигиты, будем продолжать борьбу? — проговорил он наконец.
— Конечно!
— Мы ведь только начали ее! — раздались голоса.
— Драки мы не боимся. Одной голове — одна смерть!
— Завтра мы тронемся в дальний путь, — проговорил Намаз задумчивым, печальным голосом. — Желающим разрешается съездить домой, попрощаться с родными. Эшбури, раздай каждому по сто таньга денег. Это, друзья мои, ваш заработок. Больше не могу дать.
— А больше нам и не нужно.
— Коня дали, винтовку, кормите-поите, нам и этого предостаточно, Намаз-ака!
— К утренней звезде я жду вас здесь.
Вскоре у огня остались лишь трое: Намаз, Назарматвей и Сурен Дадаян.
— Эх, как это здорово — навестить родных, — вздохнул Сурен. — Счастливчики! Я им завидую. У одного есть родители, у другого — жена, дети, у третьего — сестра или брат… Представляю, какое это счастье, когда тебя кто-то ждет!
— Чего же ты тогда до сих пор не женился? — поинтересовался Намаз. — Вот и было бы кому тебя ждать…
— Эх, приятель, сам-то едва концы с концами свожу, а с женою в петлю лезть? А ты почему не женат?
— У нас скоро должна была быть свадьба…
— Красивая невеста? — заинтересовался Назарматвей.
— Спрашиваешь! Раскрасавица! Это она мне подарила медный тазик, который я кладу на ночь под голову.
— То-то, я думаю, чего ты всегда таскаешь этот тазик в своем хурджине? По ночам под голову кладешь, будто пуховую подушку…
— От него исходит запах моей любимой, — отшутился Намаз, тяжело вздохнув.
…Весело потрескивал огонь в костре, посапывал кумган, выпуская струю пара из тонкого носика, друзья все говорили, говорили.
— Как там ваш нынешний хозяин, все такой же грубый, скор на расправу? — поинтересовался Намаз.
— Это ты про Шаповалова спрашиваешь? — Назарматвей сел, подобрав под себя ноги, — до этого он лежал на боку, облокотясь на подушки. — Это не человек, а зверь настоящий. Иван-бай, как ни крути, совесть имел. Школу открыл для детей мужиков, церковь поставил. Слугам и работникам хоть по таньга в день, да платил… А Шаповалов готов мать родную черту запродать. Это, можно сказать, машина, которая превращает слезы людские в звонкую монету… Однако ж и его следовало бы проучить хорошенько…
— Я видел как-то раз этого Шаповалова, вскоре после отъезда Ивана-бая, — сказал Намаз, вспомнив давно минувшие дни. — Приглашал на работу. По десять таньга обещал платить в месяц, да я не больно-то поверил.
— И хорошо сделал, — горячо одобрил Назарматвей. — Так бы ты и увидел те десять таньга… Самаркандскую ситцевую фабрику прикарманил. Сейчас воюет с твоим любимым Хамдамбаем: базары не поделили. Точно два быка уперлись рогами друг в друга: ни тот не уступит, ни этот. У кого окажутся рога острее, тот, конечно, и победит.
— Хамдамбай не из тех, кто так просто уступит.
— Но Шаповалов хитрее, бестия. Увидишь, не пройдет и года, как он выгонит Байбуву со всех рынков. Уже в этом году бай не смог закупить ни грамма хлопка. На тот год, попомни мои слова, он и пшеницы лишится, как миленький.
— Да пусть бы они друг другу глотки перегрызли, вам-то что? — удивился Сурен, который, слушая разговор двух друзей, попивал свежезаваренный чай. — Лучше бы уж завели речь о чем-нибудь приятном. Ты, Намаз, превратил нас в настоящих узбеков: надел чапаны, чалмы. Теперь должен женить на черноглазых, чернобровых узбекских красавицах. Не то ты в долгу перед нами, брат.
— Ты, Сурен, подожди, не перебивай, — обиделся на друга Назарматвей. — Когда всадники состязаются не на жизнь, а на смерть, больше всех достается лошадям. Мужику совсем невыносимо стало жить. Послушай, Намаз, почему ты не разрешаешь уничтожать этих мерзавцев на корню, вот что меня удивляет!
— Мы не убийцы, вот почему, дружище.
— Но ведь попадись мы сейчас им в руки, они же нас не пожалеют, верно говорю?
— Конечно. Но пока я жив, убийств я не позволю. В детстве я слышал одну сказку, — начал Намаз раздумчиво, глядя на огонь. — Один богатырь борется с дивом, пожирающим людей, борется, но никак не может победить. Потому что, оказывается, душа того дива находится в золотом сундуке. Див погибнет лишь тогда, когда богатырь найдет сундук и уничтожит его. Мы должны поступать так же. Ведь душа богатеев именно в содержимом их сундуков — золоте и серебре. Не станет у них сокровищ, — считай, и душа из тела вон… Мы их режем, убиваем, но без ножа…
— Но, Намаз, я никак не могу согласиться с тобой, — возразил Назарматвей.
— Давайте-ка, ребята, вздремнем, — предложил Сурен, желая прекратить бесполезный спор. — Довольно поздно уже.
Намазу спать не хотелось. Он вышел во двор. Его одолевала смутная тревога. Намаз не мог понять, откуда она взялась. И чувство это все росло…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. «СПАСИБО ТЕБЕ, ПРЕДАННЫЙ КЕНДЖАБАЙ!»
Кенджа полностью оправдывал свое прозвище Кара — Черный. Он и вправду был черен, как эфиоп. К тому же у него были выпяченные губы, большие уши, узкий, карнизиком, лоб, в общем, он был похож на чудище, какое может сниться по ночам в страшных снах.
Однако природа, обделив его в одном, дала преимущество в другом: Кендже Кара, можно сказать, не было равных в умении угодить окружающим, завоевать их расположение, вызвать к себе жалость. Обе руки постоянно прижаты к груди. Обращается к людям в высшей степени любезно, кажется скромным сверх меры, смирным, как ягненок.
Дахбедский полицмейстер впервые увидел Кенджу Кара в доме Атахана-бая. Кенджа бегом выбежал навстречу Михаилу-туре, подъехавшему к воротам, помог спешиться, поддерживая под локоть, обтер подолом халата обрызганные грязью сапоги гостя, проводил его в дом. Потом, когда вносил в гостиную чай ли, подносы с едою, постоянно держал руку прижатой к сердцу, уходил, пятясь и отбивая поклоны. С языка не сходили «приятного аппетита», «благодарствую», «рады услужить». Когда полицмейстер собрался уезжать, конь его оказался накормленным, вычищенным, грива и хвост аккуратно расчесанными.
— Как зовут? — обратился Михаил-тура к Кендже, державшему коня под уздцы.
— Кенджабай Кара, — ответствовал слуга, склоняясь в земном поклоне.
— Зайди в отделение, разговор есть.
— Слушаюсь, мой господин. Благодарствую. Приезжайте еще.
Михаил-тура считал, что люди, рожденные с каким-либо природным изъяном, завидуют другим, нормальным людям, ненавидят их лютой ненавистью, но ловко скрывают свои чувства под маской благожелательности, приветливости и покорности до той поры, пока не наступит подходящий момент. Тогда они начинают беспощадно терзать всякого, кто попадается на их пути. Господин Грибнюк с первого же взгляда определил, что Кенджа относится к числу таких людей. И не ошибся. Постепенно Кенджа Кара стал одним из самых преданных и ценных доносчиков полицейского участка.
…Среди джигитов Намаза, отправившихся попрощаться с родными, был и Кенджа Кара. Он был безмерно счастлив и мчался на коне во весь опор. Но ехал он не домой, как все остальные, а спешил к полицмейстеру Михаилу-туре с важным сообщением.
Господин Грибнюк имел все основания рассердиться, что его подняли с постели глубокой ночью, но он очень обрадовался, увидев Кенджабая.
Михаил-тура плохо говорил по-узбекски: с грехом пополам выучил несколько слов. Кенджабай тоже по-русски — ни бельмеса, и заученных им русских слов было не больше, чем у его хозяина — узбекских. Но когда они начинали изъясняться, они понимали друг друга очень даже хорошо.
Сейчас господин тура походил на счастливчика, неожиданно нашедшего клад. Наконец-то он напал на след Намаза-вора. Да, да, первым, где находится этот бандит, узнал он, полицмейстер Грибнюк! Волостной Мирза Хамид должен будет признать это. И понять: капитан Олейников с его вечно выпяченной грудью и Заманбек со своею гремящей саблей, что бесплодно гоняли коней, рыскали по степям, пугая честной народ, — и ноготка его, Грибнюка, не стоят. Вот как обернулось дело!
Кенджа Кара рассказал о джигитах Намаза все, что узнал за время своего пребывания в отряде. Пообещал какими угодно средствами задержать отряд до прибытия полицейских. На этот раз Михаил-тура показал себя щедрым хозяином. Раньше он отсыпал немного железных монет, сегодня же отвалил полную пригоршню серебра.
Однако в хитроумной голове Кенджи Кара, пока он выходил от Михаила-туры, бесконечно кланяясь благодетелю, уже зарождался новый план.
Попадется ли сегодня Намаз в лапы Грибнюка — известно одному аллаху. А ему, Кендже, еще мыкаться с ним. Раз так, не провернуть ли такое дело, которое пришлось бы Намазу по душе? Это было бы очень даже уместно. Сам Кенджабай в этот раз может и не повидаться с матушкой, эка невидаль. Лучше он двинет в Джаркишлак, навестит сестру Намаза Улугой, разузнает, что у них и как, — вот обрадуется-то Намаз! С этого он, Кенджа Кара, станет Намазу еще ближе, еще нужнее…
Намаз стоял у ворот и встречал джигитов, то и дело возникавших из мрака. Лицо его было бесстрастно, но тревога, охватившая душу, не рассеивалась. «Может, с кем из джигитов что случилось?» — думал он. Но вернувшиеся докладывали, что все обошлось как нельзя лучше.
— Я не опоздал? — спросил Кенджа Кара, спрыгивая с такого же черного, как он сам, коня. И, не дожидаясь ответа, сунул в руки Намаза небольшой узелок. — Сестра передала.
— Какая сестра? — удивился Намаз.
— Сестра Улугой, — приложил руку к груди Кенджа, словно провинился в чем-то, — простите меня за самовольство, но по дороге решил… свернуть немного в сторону, проведать ваших родных тоже…
— Но ведь ты…
— Не надо ничего говорить, Намаз-ака! Вы мой спаситель, я вас люблю и ценю больше родного брата! Потому вашу сестру считаю также своей сестрой!
— Вот сорвиголова, а! — искренне обрадовался Намаз. — Ну и как там мои?
— Слава богу, все живы-здоровы. Только очень соскучились. И зять ваш, и племяннички все прослезились, вспомнив вас.
— Сестра велела что передать мне?
— Вот этот узелок. И благословила, чтобы ваша голова была крепка как камень.
— Бедная моя сестра, бедные племянники! — тяжко вздохнул Намаз. — Мало было у них забот, я еще добавил горя… Ладно, ты иди в дом, отдыхай пока, дай коню корм… Спасибо тебе, брат, однако ты обрадовал меня крепко…
Но в голове Кенджи Кара уже шевелилась еще одна думка, осуществив которую он мог навеки привязать Намаза к себе, вызвать его безграничное доверие. «Я уже держу узду горячего скакуна, стоит сделать еще одно движение и сесть на него верхом…»
— Намаз-ака, не знаю, время ли сейчас отдыхать… — проговорил Кенджа Кара, отойдя на несколько шагов и останавливаясь. — Может, то, что я скажу, очень важно для нас…
— Что там? — резко повернулся к нему Намаз, у которого неожиданно застучало-заколотилось сердце. Вот она, та недобрая весть, которую предчувствовал он!
— Вблизи Мужицкого кишлака я заметил группу вооруженных всадников.
— Не разобрал, кто такие?
— Мне показалось, полицейские. Один был на большом белом коне. На таком всегда ездит сам Михаил-тура. И голос на его был похож…
— Что ж ты сразу не сказал?
Намаз в момент опасности быстро принимал решения. «Ночью, конечно, они не купкари[37] играть собрались, — подумал он. — Раз полицейские куда-то тронулись в такое время, то, значит, и нукеры Мирзы Хамида на ногах. Это яснее ясного. Этот пес не решится действовать один. Русское село совсем близко отсюда. Значит, они знают, что мы здесь. Ждут казаков Олейникова, чтобы окружить нас. Подойдут к кишлаку с трех сторон. С четвертой — река. А нам как раз только один путь — через реку».
— По коням! — скомандовал он коротко.
Едва ноги коней ступили в воду, в кишлаке загрохотали выстрелы. Но они уже были не страшны. «Спасибо тебе, преданный друг мой, брат Кенджабай!» — думал Намаз с благодарностью.
Часть вторая ПЛАМЯ МЕСТИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СУМАСШЕСТВИЕ ХАМДАМБАЯ
Число вооруженных джигитов Намаза перевалило за шестьдесят. Он разбил их на шесть групп, назначив командиров-десятников. Каждому пришедшему в отряд Намаз самолично вешал на шею амулет.
— Ты знаешь, что здесь написано? — спрашивал он.
— Слова незабвенного Навои.
— Повтори их.
— «Круша злодея род во имя чести, я души умащал бальзамом мести…»
— Знаешь, что будет, если изменишь этой клятве?
— Готов принять смерть.
В последнее время как снежный ком разрастались слухи, что, мол, Намаз решил отомстить за клевету и позор, нанесенные ему Хамдамбаем, что он решил извести весь его род, от мала до велика, ну и деньги, конечно, отобрать.
Байбува и сам чувствовал, что еще не раз схлестнутся их пути-дорожки с Намазом. Беспокойство Хамдамбая росло с каждым днем, постепенно превращаясь в ужас и панику. Он не знал, куда себя девать, страх раздирал его на части. Усилил охрану дома, но каждый из стоявших на карауле парней казался ему одним из мстителей Намаза.
Уложил золото в сундук, отвез в глухую степь, зарыл. Но все ему чудилось, что это Намазу отдал он сокровища.
Устроил большое жертвенное угощение, созвав всех бедняков округи, авось Намаз, заслышав о его добрых деяниях, смилостивится, но страх не покинул бая. Настало время, и Хамдамбай вовсе перестал появляться на улице. Стал часто просыпаться с истошным воплем: «Спасайся, Намаз идет!» А потом уже и спать не ложился. То прижимал к себе сундук, полный золота, то выбегал на улицу, то спускался в подвал, а то, забежав в хлев, выставлял руку, изображая ружье, и открывал яростную пальбу: «Пух! Пух! Пух!»
Было ясно, что Хамдамбай тронулся умом. Обеспокоенные домочадцы решили созвать известных мулл и имамов, снискавших себе славу умением изгонять из тела злых духов. Пригласили также всех, кто так или иначе был близок и чем-то обязан Байбуве.
Стояла самая жаркая пора лета — саратан. Не спасали гостей от жары ни тенистые кущи многочисленных деревьев, ни вода, журчащая рядом в арыке, ни клумбы диковинных пышных цветов: они задыхались, потели. Кто-то обмахивался платком, кто-то полотенцем, а наиболее изысканные — пахучей веточкой мяты. В гостиной, на двух приставленных друг к другу сури устроились десятка полтора мулл и имамов, все преклонного возраста. Они старались перекричать друг друга, читали молитвы, раскачиваясь, словно молодые саженцы на сильном ветру. Тут же рядом бессильно приник к пуховым подушкам Хамдамбай. Казалось, старания исцелителей не больно-то до него доходят, он лишь малость оживал, когда те дули в его сторону со словами «Куф-ф!», «Суф-ф!». Как-никак ветерок образовывался. Однако ветерок ветерком, но страх, беспокойство не покидали его. Все Намаз стоял перед глазами. «Нет, он убьет меня, обязательно убьет, — думал Хамдамбай, лежа с закрытыми глазами. — И не просто так убьет, а придумает какую-нибудь мучительную смерть. А там заберет сундук с золотом и — поминай как звали…»
— Где мой сундук? — неожиданно вскочил бай на ноги.
— Байбува, лежите себе спокойно, аллах милостив, все будет хорошо, — хором пропели муллы и имамы.
Бай с подозрением оглядел каждого из них, нехотя опустился на место, закрыл глаза. «И среди мулл у него есть свои люди, зна-аю я, меня не проведешь…» — пронеслось в его голове.
Во дворе, в тени деревьев, тоже две сури приставлены друг к другу. На них сидит весь дахбедский цвет, а также дальние и близкие родичи, друзья-приятели бая и его сыновей.
Молоденький худощавый мулла в белой чалме, в тайком же белом яктаке[38] читает вслух «Газету Туркестанского края». Все остальные внимательно слушают.
— «В целях ликвидации банд Намаза из волостного центра выступили хорошо вооруженные отряды дахбедского полицмейстера и волостного управителя Мирзы Хамида…»
— Тоже мне, выступили! — проворчал толстый человек средних лет, громадный живот которого поднимался и опускался от жары, как кузнечные мехи. — Небось не они за Намазом, а Намаз за ними гоняется!
— Просьба не мешать! — сурово выговорил другой толстяк, рыжий и без одного уха.
— «По сведениям, воры Намаз, Абдукадырхаджа, Эшбури вместе со своими единомышленниками безбоязненно разгуливают по Каттакурганскому уезду, — продолжал молодой мулла. — Их стоянки и тропы, по которым они идут на свои преступные дела, известны почти всем жителям окрестностей, но они не выдают головорезов Намаза, боясь их мести. Если так будет продолжаться, то поймать упомянутых бандитов будет просто невозможно…»
— Да уж, поймают, держи карман! — опять пробурчал толстяк.
— Эй, замолчите вы или нет? — заметно повысил голос безухий.
Молодой мулла отложил газету в сторону, взял другую.
— «На прошлой неделе Намаз появился вместе с сообщниками в Самарканде, ограбил одного из известнейших богачей города…»
— Так ведь он только что болтался в Каттакургане? — удивился один из байских сынков.
— Вот вся беда-то в этом! — вздохнул другой слушатель. — Сегодня он в Каттакургане, а завтра, глядишь — в Самарканде… Вполне возможно, что кто-нибудь из его негодяев лежит сейчас под нашими сури.
— Что за противные вещи вы говорите! — испуганно замахал руками густобородый гость. — От таких слов дрожь пробирает в такую жару!
— «…Появившись в деревне Хатирчи, Намаз отобрал у одного бая шесть тысяч таньга, затем в кишлаке Мыр негодяй присвоил семь тысяч таньга золотом. Еще в одном кишлаке грабитель, неожиданно появившись на свадебном торжестве бая, приказал всем присутствующим сложить в кучу свои кошельки… На этот раз его выручка составила около десяти тысяч…»
— Хватит, мулло! — горестно вскричал, потеряв всякое терпение, раздражительный толстяк. — Что вы заладили одно и то же: «Бай да бай»! Чем сидеть нам тут да лить из пустого в порожнее, лучше бы уж пришли к какому-нибудь решению. Да кто такой этот Намаз-босяк?! Жалко, что он не попадался мне. Я бы треснул его пару раз по уху, приволок на поле да запряг бы в плуг вместо волов! Уж попахал бы он у меня землицы, дай бог!
— Это Намаза-то? — едва слышно переспросил безухий, осторожно оглянувшись.
— Вот именно, Намаза! Да кто он такой, что вы все так перетрусили? Вон и Байбува, бедняга, заболел… Вот был бы этот негодяй сейчас здесь, я бы задал ему трепку!
Толстяк был храбрым на словах — его терзал такой же страх перед Намазом, как и остальных. И он старался хотя бы бахвальством подбодрить себя.
Разговор резко повернул в другое русло: сидящие принялись вовсю ругать начальство, которое-де вовсе не заботится о мире и спокойствии сограждан. Пришли к единодушному решению написать петицию генерал-губернатору от имени всех обиженных и обеспокоенных событиями знатных людей края, до каких пор, мол, мы будем сносить притеснения какого-то ничтожного босяка…
Предложение всем пришлось по душе. Решили завтра же отправить бумагу в Ташкент.
— Дорогие друзья, а манты-то совсем остыли, — первым вспомнил о еде безухий.
Все принялись за угощение, обильно выставленное на дастарханы.
— Бай-бай, это не манты — одно объеденье! — чавкал один из гостей.
— У Байбувы вообще всегда славились повара! — поддерживал его другой.
— Берите, берите, я — после вас.
— Нет, нет, ваш черед…
У всех появился аппетит, посыпались шутки, добрые, сожалеющие слова о Байбуве, когда вдруг калитка с шумом распахнулась и во двор стремительно вошли четверо вооруженных джигитов.
— Именем Намаза-мстителя, — резко проговорил один из них. — Кошельки на середину!
ГЛАВА ВТОРАЯ. СТОЯНКА МСТИТЕЛЕЙ
На слиянии рек Акдарьи и Карадарьи образовался остров площадью около трех тысяч танабов. Местами он покрыт камышами и кугой, большей частью земля болотистая, множество мелких озер. Небольшие солончаковые площадки покрыты тамариском, верблюжьей колючкой. Это излюбленное место уток и лысух.
Остров — одна из многочисленных стоянок Намазова отряда — обладает особыми достоинствами. Прежде всего он расположен на границе Бухарского эмиратства и Каттакурганского уезда, власти которых никогда не предпринимали согласованных действий. Это обстоятельство позволяло Намазу, если появлялась опасность в уезде, уходить в эмиратство или, наоборот, перебираться из эмиратства в уезд. Кроме того, поскольку островок со всех сторон окружен водой, неожиданное нападение на него исключалось. Единственный брод, ведущий к нему, известен только маркентскому лодочнику Худайберды-бобо, верному Намазу старику. Мстители собирались здесь примерно раз в месяц отдохнуть, обсудить планы предстоящих действий.
Вечерело. Немилосердное солнце стало нехотя клониться за отроги Алтынсайских гор. Над островком парил влажный, нагретый за день воздух. В камышовых зарослях квакали лягушки, словно соревнуясь между собой, птицы хлопали крыльями, укладываясь спать, таинственно шуршали камыши. То и дело задувающий с Карадарьи легкий ветерок доносил запахи болота.
Возле большого, просторного шалаша варилась шурпа, распространяя головокружительный запах. Кто-то возился у казана, кто-то подкладывал в огонь дрова. Чуть подальше паслись в высокой траве кони, привязанные к вбитым в землю колышкам. Они яростно отбивались хвостами от налетающего отовсюду комарья. На камышах, застланных сверху войлочным ковром, сидел Намаз. Насиба перевязывала рану на плече мужа.
— Больно? — с участием спрашивала Насиба.
— Перевязывай, потерплю, — процедил сквозь зубы Намаз.
Несколько дней назад без каких-либо особых торжеств состоялась их свадьба. В этом скромном обряде участвовали мулла, повенчавший молодых, сестра Намаза Улугой, мать девушки — Бибикыз-хала и человек десять близких друзей и соратников Намаза. С того дня Насиба не разлучалась с любимым. И в тот день, в первый день их совместной жизни, вблизи местечка Пайшанба, где они заночевали в урюковом саду, Насиба неожиданно растолкала мужа:
— Намаз-ака! Намаз-ака!
— В чем дело, милая?
— Кони беспокойно ржут.
Намаз, мгновенно оценив обстановку, приказал отряду уходить. Однако оказалось, что уже поздно. Урюковый сад был окружен, часовые убиты.
— Прорвемся, за мной! — крикнул Намаз, вскочив на коня.
В ту ночь они лишились трех соратников. Самого Намаза ранило в плечо. Но заметил он это, лишь когда достигли Лолавайских степей… С того дня за раной Намаза смотрит сама Насиба: обтирает рану, выжимает сукровицу, промывает теплой водой, мажет специальными мазями, изготовленными и доставленными Сергеем-Табибом, массажирует плечо. А по ночам, когда все засыпают, бесшумно молится, чтобы рана любимого зажила скорее и чтобы его никогда больше не брала никакая вражеская пуля…
— Ну-ка, попробуйте тихонечко поднять руку, — попросила Насиба.
— Вой-бо-ой, — протянул Намаз с деланным неудовольствием, — ты совсем замучила меня из-за пустяковой царапины.
Потом поднял левую руку, подержал некоторое время на весу.
— Да рука у вас совсем ожила! — обрадовалась Насиба.
— Но что-то частенько еще немеет, иногда кажется, что и рука-то не моя.
— Попробуйте собрать пальцы в кулак. Сергей-бобо говорил: как только вы покажете кулак, считать вас здоровым.
— Вот, пожалуйста.
— Чуть-чуть — и настоящий бы кулак получился. Значит, немного осталось до вашего излечения, Намаз-ака!
Насиба накинула на плечи мужа белый яктак, который постирала по дороге, на минутном привале, и высушила уже верхом на коне, повязала его голову своим цветным платком, прильнула к его груди и замерла… «Аллах, сохрани моего любимого. Поверь, всемогущий, ему очень-очень трудно сейчас. Днем и ночью верхом на коне. Ни поест по-человечески, ни отдохнет-поспит… На каждом шагу ждут его опасности. Подкупленные господами предатели поджидают его всюду, за каждым переулком, готовые выпустить в него заряд за зарядом. А жаждущим отрезать его голову, доставить властям за награду — несть числа. А он и не желает думать о грозящих ему опасностях, и времени у него на это нет. Он должен вооружить джигитов, примкнувших к нему, достать коней, накормить-напоить всех. К тому же эта рана… Она отняла у него столько сил, вон каким стал, кожа да кости…»
От природы мягкосердечный Намаз не противился, когда жена вот так, прильнув к груди, изливала свои чувства. Он ласкал ее, нежно гладя большими грубыми руками волосы, источавшие какой-то волшебный запах, и в такие минуты в его душе, уже ожесточившейся в стычках с неприятелем, перестрелках, где не обходилось без человеческой крови и жертв, просыпалось какое-то нежное чувство, и он только и делал, что тяжко вздыхал: Насибу жалел. Ведь и свадьбы-то путной у них не было. Ни комнату свою не смогла, как мечтала, разукрасить, ни побрякушек навешать на себя, как это делали все ее подружки на своих свадьбах, ни испытать в полную меру счастья медового месяца. Брачная ночь их началась со смертельной опасности, перестрелки, погони. С того дня не слезает с седла. Ночуют они то на кладбищах, то в тугаях, то в зарослях верблюжьей колючки. Засады, убитые, оголенные сабли да оскаленные пасти коней — вот все, что видела Насиба, связав свою жизнь с Намазом. Ведь как ни крути, не женское это дело — воевать. Ей бы домашний очаг создавать, детей растить… Трудно Насибе, ох как трудно…
Намаз вздохнул, покачал головой. Погладил здоровой рукой волосы жены.
— Вставай, родная, пойдем, позанимаемся немного. Ия, ты никак плачешь?
— Нет, это я просто так, — провела Насиба ладонями по щекам.
— Может, по маме соскучилась?
— Нет, сама не знаю, почему плачу. Просто как-то душа переполнилась.
— Не надо, дорогая, все будет хорошо.
— Я плачу, Намаз-ака, потому что вас жалею.
— Вот глупенькая, разве я такой уж несчастный, чтобы жалеть меня? Подо мной горячий скакун, подобный тулпару[39], в руке острая сабля, рядом — любимая жена! И я вольная птица. А раз так, значит, я самый счастливый человек в этой темнице, имя которой белый свет. Если уж тебе так хочется, давай поплачем о горькой доле тех тысяч и тысяч несчастных, втоптанных в грязь, стонущих и плачущих кровавыми слезами. Нет, родная, я хоть и немного, а вкусил хмель свободы и ни о чем теперь не жалею. Никогда не плачь по мне впредь, договорились?
— Хорошо, Намаз-ака.
Посидев еще какое-то время, прижавшись щекой к широкой и могучей груди мужа, Насиба тихо потянула Намаза за руку. Взяв два револьвера, лежавших на войлочном ковре, они узкой, едва заметной тропкой проследовали на другую, такую же белесую от выступившей соли полянку: с того дня, как Насиба появилась в отряде, Намаз при каждой возможности обучал ее стрельбе из винтовки и револьвера. Имея острое зрение, Насиба быстро научилась довольно метко стрелять. Она уже могла попадать в цель даже на полном скаку.
Намаз подкинул вверх туго завязанный тряпичный мяч, изрешеченный пулями, и скомандовал:
— Пли!
Насиба выпустила подряд три пули, пока мяч опускался на землю, но ни разу не попала.
— Уж очень вы неожиданно подкинули. Я опешила, — проговорила она смущенно.
— Для нас не должно быть неожиданностей, — ответил Намаз с деланным недовольством, хотя был доволен быстротой, с какой она приняла боевую стойку и открыла огонь. А что не попала в цель — не беда. — Никогда не теряйся, ни при каких обстоятельствах. Пропустишь миг — изрешетят. Главное — надо быть хладнокровным, быстрым и четким в движениях. Ты не думай, мне тоже это удалось не сразу. И я волновался, терялся не раз… Если живой остался, то лишь благодаря тому, что враги мои тоже плошали… Да еще зачастую оказывались трусами. Так, приготовились, огонь! Вот теперь молодец, попала…
До позднего вечера из-за камышовых зарослей доносились частые выстрелы и счастливый беззаботный смех молодого мужа и его молодой жены…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПАРЕНЬ, СБИТЫЙ С ПУТИ ШАЙТАНОМ
С наступлением темноты стали появляться десятники, которые, поздоровавшись, присаживались ужинать. После еды, оставив друзей за дастарханом, Намаз направился в небольшой, наспех поставленный шалаш. По заведенному порядку он принимал десятников по одному, планы и действия каждой десятки держались в строгой тайне от других.
— Пригласи Кабула, — приказал Намаз часовому.
Немного спустя в шалаш вошел среднего роста, с узкой талией, быстрый в движениях человек лет тридцати.
— Как ваша рана, Намазбай, заживает? — поинтересовался Кабул, присаживаясь на расстеленную на земле камышовую циновку.
— Понемногу, — нехотя ответил Намаз, который не любил говорить о своем здоровье. — Лучше, Кабул-ака, расскажите, в каких краях были, что делали.
— Рыскали вокруг Пайшанбы и Джумабазара, как сами вы и велели.
— Выкладывайте, какие новости, Кабул-ака.
— Тринадцать парней из Джумабазара готовы примкнуть к нам, если дадим оружие и коней.
— Оружие… коней… — повторил Намаз, вздохнув. — Ясное дело, не воевать же вилами… Дадим, конечно.
— Еще одно. В воскресенье нанял глашатая и сделал объявление от вашего имени.
— Объявление?
— Да, объявление, — подтвердил довольный Кабул. — Я велел ему огласить вот что: «Плюйте, люди добрые, в лица сановников и управителей, гордо поднимите головы перед богатеями и торгашами, не кланяйтесь им, — за вами стоит сила Намазовых джигитов!» Потом велел разбросать на базаре хурджин серебра, отнятый у Туры-бакалейщика. Когда уходили, произошла перестрелка с нукерами тысячника.
— Перестрелка?
— Да, крепко сцепились. У нас погибли парни по имени Равшан и Заман. Да вы их знали.
— Семья, дети у бедняг, — вздохнул Намаз.
— После похорон семье каждого из них послали по пригоршне золота.
— Правильно сделали. Скажите, Кабул-ака, кроме тех тринадцати парней, никто не изъявлял желание присоединиться к нам?
— Увы, нет, — с сожалением покачал головой десятник.
— Чем это объясняется, по-вашему? Потери у нас есть и в других десятках. Пополнение необходимо.
— Боюсь, сейчас к нам мало кто пойдет. Все мужчины на поле, заняты севом. А дехканина, сами знаете, в такое время от земли на цепях не оттащишь.
— Вы правы. Ну а осенью?
— Осенью, думаю, пойдут.
— Спасибо. Можете идти, отдыхайте.
Вошли Эсергеп с Шерниязом. Обросшие, в грязных одеждах, усталые. Хоть Намаз уже виделся с ними, опять обнял каждого, дружески похлопал по плечам. Он искренне был рад видеть их живыми-здоровыми. Они только что вернулись из дальней поездки в туркменский городок Мерв, где по поручению Намаза купили для отряда ахалтекинских скакунов.
— Ну, друг мой Эсергеп, рассказывай.
— Все сделали, как ты велел, — начал Эсергеп, довольный тем, что удачно выполнили задание, вернулись в родные края и опять находятся среди друзей, рядом с Намазом-батыром. — Узнавали у людей, у кого есть быстроногие кони, шли и покупали не торгуясь. Участвовали в скачках, покупали, тоже не торгуясь, тех коней, которые получали призы.
— Сколько всего привели коней? — поинтересовался Намаз.
— Двадцать голов.
— Двадцать два с теми, на которых ехали сами, — поправил друга Шернияз. — Но, Намаз-ака, скажу вам: это не кони, а настоящие соколы! Вот увидите, как они будут летать!
— Значит, зададим жару Мирзе Хамиду! — повеселел Намаз. — Молодцы, палваны, очень хорошее дело сделали. Ну а как живут тамошние люди?
— В Мерве произошла перестрелка между железнодорожниками и казаками, — ответил Эсергеп с готовностью, видно, знал, что Намаз обязательно спросит об этом. — Похоже, много крови пролилось. Потом к железнодорожникам присоединились ремесленники. Из Ташкента войска прибыли, много народа побили… Говорят, и в тех краях то и дело появляются джигиты, мстящие за свои обиды.
— Что ты говоришь?!
— Да, в караван-сараях только об этом и толкуют, — подтвердил Шернияз. — И слухи о нашей дружине туда дошли.
— Не может быть!
— Поклялся бы, да вы заругаете.
— Спасибо вам, друзья мои! — поблагодарил джигитов Намаз, чувствуя во всем теле небывалую легкость и прилив сил. — И за прекрасных коней, и за добрые вести спасибо. Тысячу раз вам спасибо! А теперь идите отдыхайте. У меня тоже есть много чего рассказать вам, потом наговоримся вдоволь…
Дошла очередь идти к Намазу и Назарматвея. Он был в узбекском чапане, повязан зеленой чалмой и больше походил на молодого муллу, чем на воина.
За Назарматвеем в отряде числилась самая трудная и ответственная работа: он доставал оружие и боеприпасы, обучал новичков ездить верхом, рубиться на саблях, стрелять из винтовки. Без него Намаз ничего не смог бы сделать. Назарматвей стал ближайшим помощником и опорой Намаза. Сейчас он был печален, грустен: смерть Сурена Дадаяна сильно подействовала на него.
— Знаю, слышал, — сказал Намаз, выходя навстречу другу. — Чудесный был парень…
— Он скончался у меня на руках, — проговорил Назарматвей, опускаясь на указанное Намазом место. — Сам едва дышит, а все просит меня, если когда-нибудь найду его мать, чтоб поцеловал ее. Помнишь, когда еще у Ивана-бая служили, какие он грустные песни пел на берегу реки?..
— Все отлично помню, — вздохнул Намаз.
— Помнишь, как мы поклялись тогда, на рыбалке? Что, пока живы, всегда будем вместе, а если кто умрет, то друзья его и похоронят…
— Не надо, дружище, не плачь… Лучше ты мне расскажи подробнее, как это случилось. Ведь Сурен не был растяпой, он зря себя не подставил бы под пули!
— Расскажу, все расскажу, — сказал Назарматвей, горестно покачивая головой. — Как ты и приказывал, вначале мы тщательно изучили обстановку в казацкой казарме. Выяснили, что там находятся тридцать казаков и два офицера-начальника. Оружие и боеприпасы хранились в амбаре, расположенном слева от казармы. Открыто атаковать казаков мы не могли: высокий забор, часовые снаружи и внутри. После долгих размышлений мы с Суреном решили сделать так: разбили отряд на три десятки. Первая десятка делает вид, что штурмует казарму, после «неудачной» попытки поворачивает назад. Взбешенные наглостью Намазовых джигитов, казаки, конечно, пускаются в преследование. Тут им в спину ударяет десятка, затаившаяся в засаде, перекрывая путь назад. В это время я молниеносно налетаю на казарму, где осталась небольшая охрана, обезоруживаю ее и быстренько очищаю амбар от его содержимого.
— Придумано неплохо, — одобрил Намаз.
— И осуществили неплохо, — продолжал Назарматвей. — Завладели двадцатью четырьмя винтовками, тремя тысячами патронов… но только вот лишились дорогого друга.
— Что ж поделать, Назармат, бой без жертв не обходится.
— Он был мне как младший брат. Осиротел я без него.
Вести, приносимые десятниками, то больно царапали сердце Намаза, то переполняли радостью. Но хуже всех было донесение, принесенное Кенджой Кара. Он сообщил, что десятник Арсланкул, действовавший в Зиявуддинской волости, деньги, отобранные у богатеев, не отдает беднякам, а прячет где-то в одному ему известном месте. Неужели Арсланкул осмелился, пользуясь именем Намаза, заниматься грабежом?! «Выгоню, — нервно расхаживал Намаз по шалашу, — выгоню из отряда сейчас же, нет, расстреляю собственной рукой, перед всеми джигитами расстреляю, чтоб другим неповадно было!»
Намаз стремительно вышел из шалаша. В гневе он становился страшным. Близкие к Намазу люди знали, что в такое состояние он приходит редко. Потому, увидев его, все дружно вскочили на ноги и застыли в ожидании.
Арсланкул — высокого роста, худощавый, безбородый, лет тридцати пяти, снискал расположение джигитов смелостью, меткостью в стрельбе. Раз, схваченный полицейскими, бежал, убив двух стражников.
Намаз молча прошел вдоль ряда джигитов, приблизился к стоявшему, отставив ногу и горделиво откинув голову, Арсланкулу. Подойдя, резким движением сорвал с его шеи амулет.
— Здесь что написано?
— Не знаю, — раздраженно ответил Арсланкул.
— Почему не знаешь?
— Неграмотный, читать не умею.
— Джигиты, — обратился Намаз к стоявшим вокруг товарищам, — напомните этому человеку, что написано на амулете.
— На нем написаны слова великого Навои, — в один голос ответили около тридцати джигитов. — «Круша злодея род во имя чести, я души умащал бальзамом мести»…
— Выходит, все знают, что написано на амулете, один ты не знаешь? — повернулся Намаз опять к Арсланкулу.
— Мне нет дела до других.
— Сколько человек ты ограбил?
Вместо Арсланкула ответил Кенджа Кара, подобострастно выступив вперед:
— Он обчистил семь домов.
— Сколько денег взял?
— Около ста тысяч таньга, — опять ответил вместо Арсланкула Кенджа.
— Где деньги?
— Не знаю, какие еще деньги! — рявкнул Арсланкул.
— Ты что, решил очернить моих джигитов перед народом? — процедил Намаз сквозь зубы. — Ты не видел, появляясь на лихом коне на базарах, детей, протянувших к прохожим худенькие ручонки? Ты не видел, мчась галопом через кишлаки, бедных дехкан, льющих ручьи слез, чтобы получить немного воды у мираба[40] и полить свою выжженную солнцем землю? Ты не слышал стенаний издольщиков, все лето трудившихся, не разгибая спины, на байском поле и осенью оставшихся без куска хлеба? Ты забрал деньги, заработанные этими страдальцами, отвез эти деньги в горы и закопал, ты нарушил клятву, данную тобою же самим, ты приговорил сам себя к смерти, собачье отродье! — Намаз с силой ударил кулаком в челюсть Арсланкула, тот зашатался и, сделав назад несколько неловких шагов, упал на спину. Упав, он не спешил подняться, глядел на Намаза, как раненый волк. В налитых кровью глазах его сверкало что-то угрожающее.
— Пристрелю собаку! — Намаз уже вытащил револьвер из кобуры, но его руку схватил Абдукадырхаджа, джигит преклонного возраста, пользовавшийся особым уважением в отряде.
— Успокойтесь, Намазбек, — проговорил он, не выпуская его руки. — Видно, шайтан попутал парня. Арсланкул, встань, попроси прощения у Намаз-бека, у друзей своих!
Арсланкул не спеша поднялся с места:
— Я могу попросить прощения только у аллаха и ни у кого больше!
— Подлый грабитель! — скрипнул зубами Намаз.
— Слово мое едино: ни у кого я не собираюсь просить прощения, — заявил Арсланкул, отчетливо выговаривая каждое слово. — Но спрятанное золото завтра же верну. Хочешь — можешь расстрелять меня, хочешь — выгони из отряда, не заплачу!
— Но признай же, братишка, — уговаривал его Абдукадырхаджа, — скажи, что тебя шайтан сбил с пути и впредь такое не случится.
Арсланкул молча поглядел на стоявших вокруг джигитов. В глазах их не было ни понимания, ни жалости. Все они осуждали Арсланкула.
— Я не привык ни перед кем извиняться, — опустил он голову. — Но больше такое не повторится, обещаю вам.
Намаз вложил револьвер обратно в кобуру, разрешил джигитам сесть. Над островом надолго воцарилась неприятная, гнетущая тишина…
Намаз нарочно сел рядом с Арсланкулом, которого все еще била дрожь.
— Шернияз, — обратился Намаз неестественно веселым и бодрым голосом к весельчаку и балагуру отряда: — Не развеешь ли парой песен мрак, наполнивший наши души?
— Пусть исполнит «Дальнюю степь»! — предложил кто-то.
— Сердца переполнились печалью, спой, не тяни, храбрый джигит! — поддержал его другой.
— Можно и сплясать маленько, поразмять руки-ноги!
Над островком, дремавшим в объятиях черной ночи, поплыли звуки печальной песни. Нет, Шернияз не просто пел, казалось, он выплакивал все, что таилось в душе. Он рассказывал не только о своих болях и печалях, он повествовал о горькой доле всех своих друзей, оторванных от родного дома, вынужденных скитаться по пустыням и степям…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕЧТА НАМАЗА
Намаз вернулся с победой из похода в Зиявуддинское бекство. Почти все сто двадцать кишлаков, составлявших бекство, находились под сильным влиянием намазовского движения. Отдельные селения, расположенные у подножий Карачинских гор, вообще перестали выплачивать налоги. Сборщики податей не раз были жестоко биты.
О том, что карательный отряд численностью в пятьсот человек уже движется по пути в Зиявуддин, первыми узнали жители кишлака Энгкичик. Намаз планировал в ту ночь перевалить через Алтынсайские горы и уйти в Нурату. Прибывший из Энгкичика гонец сообщил Намазу неприятные вести и просил помочь: каратели несли с собой разор и насилие. Намаз срочно созвал десятников на совет. Абдукадырхаджа громко огласил присланное из кишлака послание. Все слушали его молча, опустив головы.
— Ну, что скажете, джигиты? — спросил Намаз. — Будем уносить ноги или пойдем защищать дехкан?
— Худая же слава о нас останется в этих краях, коль мы сейчас покажем врагу спину, — произнес первым Арсланкул.
— Арсланкул-ака дело говорит, — поддержал его Шернияз. — Не мужское это дело — бежать от врага.
— Мы должны принимать бой и со значительными силами неприятеля, если хотим и дальше воевать, — высказался и Назарматвей. — Боец должен принимать бой, а не отлеживаться в тенечке. Рано или поздно наша встреча с крупными силами неприятеля неизбежна… По-моему, пришло время испытаний.
— И сабли уж совсем заржавели, — засмеялся Кабул. — Я же эту штуку, право, не морковь резать с собой таскаю!
После столь короткого обмена мнениями было решено дать бой карательному отряду эмира. Намаз уже не единожды убеждался в благоприятном исходе неожиданной атаки. Всегда нужно появляться там, где неприятель тебя не ждет, и тогда, когда твое появление кажется ему немыслимым.
Сошлись на том, что солдат эмира следует встретить на границе Бухарского и Зиявуддинского бекств. Отряд тотчас выступил в поход и за ночь перехода достиг ее. Здесь Намаз выбрал такое место, которое было для его джигитов удобным во всех отношениях: вьющаяся дорога из Бухары у подножий гор сильно сужалась, превращаясь в некое подобие желоба.
Джигиты Намаза пропустили войска эмира в этот каменный мешок и атаковали их, сонных и усталых после трудной дороги. Эмирские нукеры, рассчитывавшие на легкую победу «над неорганизованной бандой грабителей», оказались в безвыходном положении: задние напирали на передних, умножая число жертв, павших от прицельного огня из засады, передние поворачивали назад, создавая еще большую неразбериху. Бой был коротким, яростным и разрешился полной победой намазовского отряда. Добыв много оружия и коней, Намаз ушел в Туямуйинские степи. По пути раздал коней дехканам с условием, что заберет их, когда в том появится необходимость.
Отряд расположился в большом загоне, где чабаны зимой содержали овец. За толстыми глинобитными дувалами стояли приземистые, вытянутые в длину кошары с хлипкими крышами, состоявшими из веток и хвороста.
Время перевалило за полдень. Солнце накалило степь как печь для обжига кирпича. Вокруг загона глазу не на чем остановиться, одно марево, колышется. Усталые туркменские кони привязаны к колышкам, вбитым в землю вдоль забора. Джигиты отдыхают. Один, не обращая внимания на жарящее вовсю солнце, пристроился на раскаленном камне и занят починкой сбруи. Другой отыскал тенистый уголок в кошаре и растянулся, подложив под голову седло. Иные сидят группами, беседуют или слоняются просто так. У всех отменное настроение: удачный бой придал людям силу и бодрость, уверенность в себе.
Намаз устроился с женой в одной из кошар. Насиба то и дело обмахивает платком разгоряченное, усталое лицо мужа. Намаз остановился здесь потому, что было необходимо дать отдых лошадям, безмерно уставшим после длинных переходов. Еще у него здесь намечена встреча с Кенджой Кара, ушедшим в Каттакурган в разведку. Не зная обстановки, Намаз не мог уйти в Нурату.
— Устала? — взял Намаз хрупкую руку жены в свои ладони.
Насиба отрицательно покачала головой.
— Можно что-то спросить, Намаз-ака?
— Спрашивай сколько угодно, дорогая.
— До каких пор мы будем вот так гонять по степям?
— До тех пор, пока в нас горит огонь мести.
— А нельзя ли где-нибудь построить крепость и там жить?
— Едва мы положим последний камень крепости, придут войска генерал-губернатора и сровняют ее с землей. И нас погребут под развалинами.
— Но ведь все вас зовут беком…
— Пустое. Ты же знаешь, как я ненавижу беков. Кем-кем, но беком я бы не хотел быть.
— А кем бы вы хотели быть?
— Земледельцем. — Намаз сел, подобрав под себя ноги. — Я бы хотел быть земледельцем, свободным земледельцем, права, честь и достоинство которого никто бы не смел попрать. Чтоб я пахал, сеял, жал в бескрайнем поле, а когда собрал бы урожай, то чтоб никто не явился на ток с бездонным мешком… Вот о чем я мечтаю и клянусь аллахом: ничего-то мне больше не нужно. Мы деремся за свою волю, дорогая, которую рано или поздно обязательно отвоюем.
Насиба тяжело вздохнула.
— Ах, придут ли, право, светлые деньки? Скорее бы!.. Вы бы работали на поле, а я с сынишкой нашим приносила бы вам обеды… Неизвестно, суждено ли нам испытать такое счастье…
— Суждено, дорогая, конечно, суждено! — весело воскликнул Намаз, вдохновляясь нахлынувшими на него мыслями. — Нынешней осенью множество зеравшанских дехкан примкнут к нам. Я готов вооружить их, дать коней. В этом году, вот увидишь, я всех подниму на ноги. И мы сокрушим гнет, разгоним племя баев и торгашей.
— Куда же вы их прогоните, бедных? — тихо засмеялась Насиба.
— Всех пригоню на пустующие степи, заставлю растить хлеб. Управители будут мять глину, возводить пахсадувалы. Детей наших будем посылать в Петербург, где они получат знания…
— А потом?
— Что потом, честно сказать, я и сам не представляю.
— Край, значит, будет без управителя?
— Почему же без управителя, дорогая? — Намаз замолчал, не зная, что отвечать. Потом опять взял руку жены, погладил ее. — Если согласится, назначим хакимом Эшбури.
— Почему именно Эшбури? — заинтересовалась Насиба.
— Эшбури — честный парень. На всех смотрит одинаково добро. Очень жалостливый, отзывчивый. Но умеет быть и твердым, когда нужно. Только такие люди и могут быть управителями, понятно?
— Ну а Кабулу-ака какую должность дадите?
— Я бы для него в Дахбеде чайхану открыл: очень хлебосольный малый. Услужить кому-нибудь — одно удовольствие для него. Представь себе его в белом яктаке с наброшенным на плечо белым полотенцем, весело снующим среди посетителей… По-другому он и сам себя, наверное, не представляет.
— Шернияз-ака?
— Ему вполне достаточно дутара и дойры — весь мир заполнит песнями. Такого певца, который пел бы с таким чувством, наверное, земля еще не видывала.
— Всем сестрам — по серьгам. Одного Назарматвея-ака оставили без должности, — улыбнулась Насиба.
— Хватит, дорогая, смеяться надо мной. Лучше позволь положить голову тебе на колени. Очень спать хочется, ты не против? Спасибо, дорогая… Главное для нас теперь — сохранить джигитов до осени. Ты же знаешь, огненное кольцо вокруг нас делается все у́же и у́же. Вот я и думаю днями и ночами, как сохранить наш отряд. Он — маяк для людей. Я уверен, люди потекут к нам рекою: до каких пор они будут терпеть и молчать?! Положим, у одного сломили гордость, у второго, третьего, сумели превратить их в бесчувственные камни, но не могли же сломить, растоптать весь народ?!
— Все это мне трудно понять, Намаз-ака.
На пороге появился Эшбури: он нагнулся, чтобы не задеть головой притолоку, и, еще не войдя в помещение, оказался лицом к лицу с привставшим Намазом.
— Можно войти?
— Вы уже вошли наполовину, как теперь сказать: нельзя? — улыбнулся Намаз. — Заходите, прошу.
— Я вам не помешал? — спросил Эшбури виновато.
— Нет, ничего, — успокоил друга Намаз. — Я сам хотел вызвать вас. За водой отправили человека?
— Двоих отправил с шестью бурдюками.
— Кто стоит на карауле?
— Хатам и Аваз-кривой.
— Я тысячу раз просил вас не называть Аваза Кривым.
— Но и он зовет меня Столбом.
— Тогда ладно, значит, вы квиты.
— Намазбай, я зашел к вам посоветоваться. Сегодня четверг, как вы знаете, день поминовения усопших. Вон уже сколько времени там и сям мы оставляем могилы своих друзей, погибших за святое дело. Стоило бы помянуть их… Если вы согласны, я дал бы указание приготовиться.
— Надо с Абдукадырхаджой-ака поговорить…
— Он и просил меня пойти к вам. Мулла Булак, Рахим Кары, Мулла Ачилди и сам Абдукадырхаджа-ака вчетвером будут молиться.
— Я согласен. Велите зарезать двух барашков.
— Спасибо, Намазбай.
— Отправьте в ближайший кишлак хурджин серебра, пусть раздадут бедным, вдовам и сиротам, чтоб они поминали в своих молитвах добрым словом шахидов[41].
— Вот это здорово! — воскликнул довольный Эшбури и стал было пятиться к двери, но столкнулся с входящим Авазом.
— Вот Столб несчастный, куда ни пойду, всюду дорогу перегораживает! — засмеялся Аваз.
— Конечно, наткнешься, раз уж ты Кривой: куда идешь — не видишь, — тут же парировал Эшбури.
— Я слушаю, Аваз, — сказал Намаз.
— Кенджа Кара прибыл из Каттакургана, пропустить?
— Немедленно!
Немного спустя в дверь просунулось лоснящееся от пота черное лицо Кенджи Кара. Он с таким проворством кинулся под ноги Намаза, что Насиба испуганно вздрогнула, в первую секунду решив, что что-то тяжелое и черное упало с потолка.
— Бек-ака! — простонал Кенджа Кара, размазывая по лицу слезы.
— Что стряслось?
— Не казните — помилуйте!..
— Да говори же, в чем дело!
— Всю дорогу летел, плакал… извелся весь, что несу вам недобрую весть. Боюсь, заговорю — язык мой несчастный отвалится.
— Говори же, иначе я сам вырву твой язык! — взревел Намаз, выходя из себя.
То ли Кенджа Кара и вправду испугался, что Намаз приведет свою угрозу в исполнение, то ли решил, что поиграл достаточно, но у него слезы вмиг иссякли, голос стал сухим, деловым.
— Очень недобрые вести, бек-ака. Вот, читайте сами.
Кенджа Кара вытащил из-за пазухи сложенную треугольником бумагу, вручил Намазу и, отступя назад несколько шагов, застыл в полупоклоне. Намаз поспешно развернул письмо, принялся читать.
«Пусть станет известно защитнику униженных, неимущих, сирот и бедствующих вдов богатырю Намазбеку, что пишет сии недостойные строки настоятель джаркишлакской мечети мулла Садаф. Всевышний создатель надоумил раба своего поставить вас в известность о горе, постигшем жителей Джаркишлака. Ангелы дали его руке твердость, а глазам — свет во исполнение божьего промысла.
Да будет вам известно, что управитель волости Мирза Хамид совершил разбойный набег на кишлак и выкрал единственную в своей несравненной красоте сестру вашей жены.
В пору полуденного намаза, когда все благочестивые мусульмане селения находились в мечети, у ворот дома Джавланкула — ниспошли ему аллах терпения и мужества — спешились пятеро всадников и вошли во двор. Один из них, объявив себя волостным управителем Мирзой Хамидом, спросил, где отец. Получив у детей ответ, что он ушел в мечеть, пришелец со своими спутниками ворвался в дом и, связавши руки и ноги больной вашей теще — ниспошли ей аллах быстрейшего исцеления, — а также младшим девочкам, увез Одинабиби, завернув в чекмень.
Обесчещенный Джавланкул, едва выйдя из мечети и прознав о страшном злодеянии, в сопровождении нескольких правоверных отправился в канцелярию управителя, где последний клялся-божился, что преступление сие совершено не его руками.
Исполняется уже неделя, как о судьбе невинной девушки нет никаких сведений. Все мы в молитвах о том, чтобы негодяи, укравшие чужую дочь, горели в адском пламени, аминь. Молимся, чтоб в доме обесчещенного Джавланкула наступили наконец добрые, счастливые времена, аминь. Молимся, чтобы защитник несчастных и обездоленных Намазбай был вечно живой и здоровый, аблоху акбар, аминь.
Приложивший палец — мулла Садаф».Прочитав письмо, Намаз опять сложил его треугольником, опустил в карман и не спеша поднялся.
— Ты когда был в кишлаке? — спросил Кенджу Кара, все еще стоявшего, сложив перед собой руки и согнувшись в полупоклоне.
— Вчера вечером.
— О вести, которую ты принес, пока никто не должен знать, понял?
— Понял.
— А теперь иди отдыхай.
Насиба забеспокоилась, словно сердце учуяло недоброе. Может, с мамой плохо, ведь она в последнее время болела. Почему молчит Намаз-ака, о чем он сейчас думает? Спросить? Нет, в такой миг его лучше не трогать, отругает…
Но все ж не вытерпела, спросила мягко:
— Все ли в порядке?
Намаз заставил себя улыбнуться.
— Ничего особенного, дорогая.
— Я о маме беспокоюсь…
— Бог даст… все будет хорошо.
«Почему они сразу не сообщили? — думал Намаз. — И почему в это дело встрял мулла Садаф, когда письмо могла написать сама Бибикыз-хала? Может, горе подкосило ее последние силы? Как мог Мирза Хамид пойти на такую низость, хотя, возможно, его мог подговорить Байбува… Постой, но ведь известно, что Хамдамбай не одобряет сластолюбцев… Может быть, подстроили все, чтобы заманить меня в ловушку. Точно, так оно и есть. Решили, что услышу весть и сразу рванусь в Джаркишлак, а там и засада давным-давно готова. Нет, просчитались, миленькие… Бедная Одинабиби, несчастная девочка… Неужто из-за меня, Намаза, зятя вашего, они погубят тебя во цвете лет? Нет, я не могу допустить этого! Проклятые, ведь из-за вас я покинул Дахбед, четыре месяца уже никого из вас не беспокоил. Думал, ладно, погрызлись — хватит, вы успокоитесь, и я вас больше не трону, а сам шастал по степям как бешеный волк, как бездомная собака. В чем виновата безвинная девушка, хворые тесть и теща мои? Как они теперь будут жить среди людей, смотреть им в глаза?!»
ГЛАВА ПЯТАЯ. КТО УКРАЛ ОДИНАБИБИ?
Были минуты, когда Намаз хотел сказать жене, Кабулу и Назарматвею об участи, постигшей Одинабиби, спросить совета, но потом решил не делать этого. Нет, лучше, что Насиба об этом пока не знает. Будут слезы, чего доброго, еще захочет поехать в Джаркишлак, быть рядом с несчастными родителями. А там — и гадать не нужно! — на каждом шагу выставлены засады…
— Кабул-ака, — тихо позвал Намаз друга, — вы отправитесь сейчас с Насибой в кишлак Арабхану. Насибу я, брат, никому, кроме вас, не доверяю. Ведь вы ей вместо отца, разве не так? Знаете, у кого там остановиться?
— Знаю. Однако, Намаз, чует мое сердце, гложет тебя какая-то тревога. Не хочешь поделиться со мной…
— Пока не могу, Кабул-ака. Простите. Берегите Насибу.
— Сберечь-то я ее сберегу, да сам-то ты будь осторожен, Намаз. Нельзя в наше время доверяться каждому, когда твой же левый глаз готов обмануть правый, своя же нога ставит тебе подножку. Да, еще. У нас набрался целый хурджин жалоб и прошений. Хорошо бы тебе ознакомиться с ними.
— Отложим это пока, — вздохнул Намаз, потом повернулся к Насибе. — Прости, дорогая, что я опять оставляю тебя одну. У меня нет другого выхода. Так, давайте теперь прощаться. Значит, Кабул-ака, вы ждете моих приказаний в Арабхане.
— Я хотел у тебя еще спросить… — проговорил Кабул нерешительно.
— Я слушаю, — насторожился Намаз.
— Может, нам все же наведаться к тем, кто крайне нуждается в нашей помощи? Как-никак люди надеются на нас…
У Намаза было заведено, что каждый десятник, помимо главных своих обязанностей, выполнял еще какие-то. Кабул занимался сбором поступавших отовсюду устных и письменных жалоб и прошений. Люди передавали их через джигитов Намаза, постоянно пребывавших среди населения, то прося оказать какую-либо помощь, то жалуясь. Жалобы порою достигали такого количества, что Намазу приходилось неделями не сходить с коня, разъезжая и разбираясь, что к чему.
— Нет, джигитов своих никуда от себя не отпускайте, — ответил Намаз после некоторого размышления.
Намаз глядел двоим всадникам вслед, пока они не растворились во мгле. Потом тяжело вздохнул, качая головой. «Нелегко приходится тебе, моя дорогая. Нелегко!»
— Назар Матвеевич! — обратился он неожиданно звонким голосом. — Давай-ка, друг, садись на коня!
— Может, дадим скакунам малость отдохнуть? — нерешительно спросил Назарматвей.
— Поедем шагом, потолковать надо, — ответил Намаз по-русски.
— Давненько ты не говорил по-русски, — удивился Назарматвей.
— Необходимости не было, — заметил Намаз. — Но-о, скакун мой горячий!
— Говори, я весь внимание, Намаз.
Намаз рассказал другу о послании, полученном из Джаркишлака. Обратил его внимание на удивившее обстоятельство: послание написали не сами пострадавшие, родственники, а настоятель мечети.
Назарматвей все это выслушал молча. Потом еще долго хранил молчание, не спеша с ответом. Он был словно оглушен. На него, казалось, обрушились горы, придавив к земле: у него отняли лучшие надежды.
Назарматвей впервые увидел Одинабиби вскоре после свадьбы Намаза и полюбил. Она тоже была неравнодушна к нему. Назарматвей стал частенько наведываться в Джаркишлак под предлогом проведать родителей Насибы. Намаз, человек наблюдательный, сразу понял, в чем тут дело, и то шутливо, то всерьез начал поговаривать о предстоящей свадьбе. Назарматвей не мог не поверить в обещание Намаза и, чтобы как-то ускорить события, обратился за советом к старейшему воину отряда, к Абдукадырхадже, аксакалу, без чьего ведома не затевались никакие более или менее сложные дела. Он спросил, как ему быть, если такое случится, ведь у них с Одинабиби разные верования. Абдукадырхаджа встретил слова Назара серьезно. «Пожениться, конечно, вы можете, — ответил он, подумав, — только придется обратить тебя в нашу, мусульманскую веру». Назарматвей не стал откладывать дела в долгий ящик, в кишлаке Харгуш Назарматвей справил настоящий той, длившийся целый день и всю ночь. Намерение этого русского парня породниться с Намазом, пожертвовать для него, если понадобится, даже своею жизнью, было твердое…
Похищение Одинабиби заставило Назарматвея крепко задуматься. «Странно, зачем они это сделали? — размышлял он. — Может, прослышали, что на ней хочет жениться парень чужой веры, и украли девушку, чтобы воспрепятствовать этому? Но если так, знали-то об этом всего несколько человек, свои, близкие люди, откуда могли пронюхать об этом злоумышленники? Возможно, это западня, специально подстроенная, чтобы пленить Намаза? Вот что гораздо ближе к истине! Так и есть, похищение Одинабиби — западня для Намаз-бека!»
— Что ж ты молчишь, Назар Матвеевич? Уснул, что ли? — подал голос Намаз. Назарматвей, вздрогнув, поднял голову.
— Прости, задумался.
— О чем же ты задумался?
— Думаю, что розыск девушки ты должен поручить кому-нибудь из своих десятников. Ведь яснее ясного, что зерно это — приманка и ведет к западне! Что с нами станется, не приведи господь, если ты попадешься? Разве легко было вооружить двести пятьдесят джигитов, обеспечить конями? Сам знаешь, как тяжело. К осени восстание хотели поднять… Кстати, погоди-ка, вот что мне сейчас подумалось. Может, уездной полиции стало известно о твоей затее поднять восстание, и они специально подстроили это дело с Одинабиби, чтобы как-то отвлечь тебя?
— Ты думаешь, это дело рук полиции?
— Да.
— Верно предполагаешь, друг. Только как бы то ни было, назад уже пути нет. Видишь ли, здесь сейчас решается честь моей семьи, всех моих близких и родственников. Какой же я мужчина буду, если не вступлюсь за родную сестру своей жены?! Разве люди не скажут, гляди, мол, вот он какой, оказывается, трус: сам побоялся прийти, прислал выяснять свое семейное дело каких-то десятников? Нет, дорогой, я сам должен бороться за свою честь. Кроме того, вдруг десятник, которого я пошлю решать это дело, попадется, разве тогда не скажут джигиты, что я пожертвовал им ради своего личного, частного дела? Скажут, можешь не сомневаться. Как я людям в глаза смотреть буду? Ведь все сочтут меня последним трусом! А за трусом никто не пойдет, ты сам это знаешь.
— Уж больно ты горяч, Намаз.
— Я не горячусь.
— Трудно бывает тебя понять, мой друг. Порой ты такой сдержанный, рассудительный, а порой как малое дитя, не разбираешься, где огонь, где лед, — бросаешься очертя голову. А подумать иногда не мешает.
— Тут даже думать нечего! — твердо ответил Намаз, давая тем самым понять, что решение его принято. — Они бросили вызов лично мне. И я не намерен отступать.
Назарматвей покачал головой, улыбнулся.
— Знаешь, что говорят узбеки в таких случаях?
— Не знаю.
— Говорят, упрям как осел.
Намаз засмеялся.
— Но знаешь, у тех же узбеков есть и другая пословица.
— Какая же, интересно?
— Лучше умереть, чем жить с запятнанной честью. Вот так, друг Назарматвей. Сейчас мы поедем прямо в Дахбед.
Назарматвей поспешно натянул повод коня, обернулся к собеседнику:
— В Дахбед?
— Да, мы сейчас едем в Дахбед, мой дорогой. Прекрасно знаю, что и в Джаркишлаке, и в Дахбеде ждут нас в засаде. Но в Дахбед мы приедем на заре, в пору первой молитвы. У меня есть одна задумка…
Дахбедская мечеть находилась на скрещении многих дорог, и потому молиться туда съезжались верующие с разных концов края. Появление благообразных всадников в утреннюю пору не могло вызвать особых подозрений. Белая чалма да алый чапан — и ни у кого не возникло сомнения, что эти люди держат путь в мечеть для свершения утренней молитвы. Казаки капитана Олейникова в эту пору спали без задних ног, а нукеры Мирзы Хамида еще не явились на службу. Двое путников, одетых как настоятели мечети, стояли на улице, у ворот хакима, словно дожидаясь кого-то, с кем им идти на молитву. Едва Мирза Хамид раскрыл ворота, «правоверные» приставили к его груди револьверы и приказали молчать, если не хочет получить пулю в сердце.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. УПРАВИТЕЛЬ КЛЯНЕТСЯ
Михаил-тура явился утром к управителю волости и не застал Мирзы Хамида дома. По свидетельству соседей, спешивших на утреннюю молитву, Мирза Хамид уехал вместе с двумя молодыми ишанами в неизвестном направлении. «Возможно, на празднество дыни, ибо вчера как раз речь шла об этом», — добавили свидетели, еще больше запутав дело.
«Ну и чудеса! — недовольно думал полицмейстер, стоя посреди улицы. — Кто же в такую рань отправляется на празднество дыни? Хотя они не откажутся покутить ни ночью, ни днем, ни даже перед рассветом! Им дай только погулять-попировать, а ты ломай голову, как изловить этого негодяя Намаза!»
Пока господин Грибнюк предавался таким безрадостным размышлениям, Мирза Хамид был уже далеко от Дахбеда, сидя на коне позади Намаза. «До чего жестока судьба, — думал он с горечью. — Сколько уж предосторожностей я предпринимал, чтобы уберечься, и на вот, в руках у Намаза, как последний дурак. Куда же деваться от этого разбойника, кому на него пожаловаться? Сам губернатор со всей своею мощью ничего не может поделать с ним, а сколько нукеров да тысячников зайцем бегают от него, диву даешься! За какие грехи ниспослал нам аллах это наказание в виде Намаза?!»
Так думал Мирза Хамид, сидя на закорках Намазова коня, боясь пошевелиться, и обливался невидимыми слезами. «Почему я, дурень, не пристрелил его тогда, когда он был у меня в руках? Ведь все основания имел: вор он и есть вор! Главное, все бы одобрили мои действия: и казий, и полицейские, и могучий Хамдамбай! Ладно, тогда я упустил такую великолепную возможность, так почему утром не закричал, не призвал людей на помощь, а то и сам не бросился врукопашную с мерзавцами?! Но ведь тогда этот негодяй пристрелил бы меня на месте недрогнувшей рукой! Спаси аллах от преждевременной смерти. Обещаю принести щедрую жертву Баховаддину — святому, если и на этот раз обойдется. Навещу святую могилу Исмаила Бухари, барашка зарежу в жертвоприношение, лишь бы все обошлось…»
Намаз неожиданно натянул повод коня.
— Слазь! — приказал он, не оборачиваясь.
«Неужто пришел конец? — задрожал Мирза Хамид. — Могут ведь запросто шлепнуть здесь, а то изобьют до полусмерти и бросят в реку… а там…
— Намазбек! — позвал хаким слабым голосом.
— Не называй меня беком.
— Нет, нет, вы бек, Намаз, вы истинный бек. Бог даст, мы официально провозгласим вас беком, попомните мои слова!
— Меня — беком?
— Да, да, будьте уверены. Вы мудры и справедливы, Намазбек. Я готов всю жизнь служить вам верой и правдой. Готов конюхом вашим быть, дороги, по которым проедете, подметать стану, только не убивайте меня, Намазбек!
— Нечего валяться у меня в ногах. Я не убийца.
— Да, да, вы не убийца, Намазбек, вы справедливейший из справедливейших! Приказывайте, Намазбек, все исполню, что ни прикажете!
Бледный, дрожащий от страха Мирза Хамид встал с колен: у него забрезжила надежда остаться в живых.
— Где Одинабиби? — спросил Намаз.
— Так я и знал… — простонал вместо ответа хаким.
— Что «так и знал»? Людей ты ставишь не выше мухи или комара. Думал, что все тебе будет сходить с рук: хочешь — оклевещешь человека, бросишь за решетку, хочешь — выкрадешь чужую дочь и обесчестишь! — До сих пор Намаз усилием воли сдерживал себя, но ненависть жгучими волнами проходила по всему его существу. Лицо его покрылось пятнами, глаза налились кровью. Он взял Мирзу Хамида за грудки, встряхнул. — Отвечай!
— Не могу… не могу дышать… — прохрипел хаким жалобно.
— Говори, не то удушу, как мерзкую тварь.
— Бек!
— Опять ты за свое! Отвечай, где спрятал бедную девушку? Вот, отпустил тебя. Говори.
— Вы все равно не поверите мне, бек.
— А ты когда-нибудь говорил правду?
— Намазбай, позвольте немного отдышаться. — Мирза Хамид закрыл глаза и, широко открыв рот, задышал глубоко и часто. — И на солнце есть пятна, говорят. Что верно, то верно: я однажды оклеветал вас, обвинив, что вы украли коней, ударил пару раз плетью, предал на базаре сазойи… Не прав я был, затмение на меня нашло. Но сейчас, когда жизнь моя висит на волоске, именем всевышнего клянусь, к похищению девушки я не причастен. И нукеры мои не участвовали в этом темном деле. В прошлую среду, кажется, дай бог памяти, да, в среду, ваш тесть Джавланкул приходил ко мне вместе с тремя джигитами, спрашивал, не я ли украл безвинную девушку. Просил вернуть по-хорошему. Но я и тогда сказал, и теперь повторяю: нет, я не совершал этого злодеяния, нет. Клянусь всеми святыми: эту подлость совершил кто-то другой, но не я.
«Врет, спасения ищет, подлец! — подумал Намаз. — Трус и пакостник. Извивался перед Хамдамбаем, чтобы ему угодить, на безвинного человека руку поднял, а теперь соловьем заливается, чтобы оправдаться. Нет, не убийца я, но кто-то же должен очистить землю от этой нечисти! Хватит ему пакостить…»
— Хаким, — стал медленно вытаскивать Намаз револьвер из кобуры. — Ты мусульманин?
— Алхамдулилло!
— Становись на колени.
— Пожалуйста, бек, что прикажете, то и сделаю.
— Помолись, очисти душу перед смертью.
— Нет, нет! — завопил Мирза Хамид, вскакивая. Нелепо махая руками, словно отгоняя невидимых мух, он стал медленно отступать назад. — Бог свидетель, я не воровал девушку. Клянусь пятью своими детьми, старенькой матерью, бек! Не убивайте меня без вины!
— Значит, не ты?
— Не я, всевышний свидетель! — простер к небесам руки Мирза Хамид. Крик этот вырвался из его груди с такой силой, что на миг даже замолкли птицы, щебетавшие в камышовых зарослях. А Назарматвей, державший коней под уздцы, невольно вздрогнул. Кони встревоженно вскинули головы, навострив уши. «Кончал бы уж скорее, — подумал Назарматвей, теряя терпение. — Сколько ни пытай, все равно не признается, мерзавец. Не на того напали».
— Кто же ее украл?
— Бог свидетель, не знаю, — торопливо ответил Мирза Хамид. — Поверьте мне, с того дня, как был у меня ваш тесть, сам потерял покой, все ломаю голову, кто бы мог это сделать. Я чувствую, Намазбай, это специально подстроено для того, чтобы рассорить нас окончательно, сделать непримиримыми врагами.
— Хамдамбая рук дело?
— У меня нет оснований утверждать, что это он.
— Полицейские?
— Не знаю…
Вспышка ярости Намаза стала проходить, решимость сменилась сомнением. Тлевшая в уголке сознания мысль не допустить несправедливости возгоралась все сильнее, охватывая все его существо. «Возможно, и не он украл Одинабиби, — думалось Намазу. — Решись он на это, разве стал бы называться своим именем? Значит, кто-то спрятался за чужим именем. Кто бы это мог быть? Нет, надо все выяснить до конца, тогда и наказывать. Ведь я сам поклялся бороться против лжи и клеветы, нельзя мне поддаваться слепой ненависти и ярости, приумножая несправедливость…»
— Намаз! — вскричал нетерпеливо Назарматвей. — Да кончай ты с ним скорее! Так мы тут до вечера проторчим!
Намаз убрал револьвер в кобуру, подошел к Мирзе Хамиду, окаменевшему в ожидании.
— Чем докажешь, что не ты украл Одинабиби?
— Голову кладу под заклад! — поспешно ответил тот.
— Назар, принеси из моего хурджина бумагу и карандаш, — приказал Намаз. Потом повернулся к Мирзе Хамиду: — Пиши. «Я, дахбедский управитель Мирза Хамид, не участвовал в похищении Одинабиби, дочери жителя Джаркишлака Джавланкула. В случае доказательства моей вины готов понести заслуженную кару». Написал? Приложи палец.
— Готово, Намазбай.
— Сколько человек находится в тюрьме?
— Привлеченных по вашему делу восемь.
— Пиши. «Я, дахбедский управитель Мирза Хамид, клянусь, что сегодня же освобожу из тюрьмы, находящейся в моем ведении, всех арестованных. Если не исполню свое слово — готов нести наказание». Готово?
— Сейчас, последнее слово. Аллах свидетель, Намазбек, все будут сегодня же освобождены.
— Пиши дальше. «Я, дахбедский управитель Мирза Хамид, даю слово, что освобождаю на целый год от разных налогов все население, находящееся в моем подчинении. Если не выполню этого своего обещания, пусть голова моя будет снесена с плеч долой…»
— Уверяю вас, однако, бек, вам не придется снимать мою голову.
— Это мы посмотрим. Все? Приложи палец.
— Баракалло[42], Намазбек, баракалло. Я знал, верил в вашу справедливость и вот теперь убедился воочию. Даю вам слово, я примусь за похитителей девушки даже раньше вас самих, чтобы совесть моя была чиста перед вами. Только, Намазбек, у меня к вам просьба.
— Говори.
— Я бы просил вас, чтобы в эти дни вы не появлялись в Дахбеде и Джаркишлаке: кругом полным-полно солдат.
— Капитана Олейникова?
— Нет. Из Самарканда прислано много солдат. Теперь я могу считать себя свободным?
— Проваливай. И поскорее принимайся за исполнение твоих клятвенных обещаний.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СХВАТКА В КУШКУРГАНЕ
Страшно перепуганный Мирза Хамид в тот же день выполнил все обещания, данные Намазу. И был тут же наказан: снят с должности управителя Дахбедской волостью. А наместник Самаркандского уезда полковник Чертов обвинил его в укрывательстве преступника и целые сутки продержал в тюрьме.
Намаз, отпустивший джигитов на осеннюю уборку урожая, все свое время посвятил розыскам Одинабиби. Днем, конечно, он разъезжать не мог. Допросив ночью в спешке нескольких человек, никаких важных сведений он не получил. Перепуганная мать Одинабиби ничего путного не сообщила. Она только все повторяла: «Они были в одежде нукеров, нукеры то были, сынок, нукеры». «Нет, дело так не пойдет, — думал Намаз. — Я должен их достать хоть из-под земли! Иначе как я буду помогать другим, если не могу справиться со своим несчастьем? Не скажут разве, что я трус, потерявший гордость? На чужой роток не накинешь платок. Люди не любят тех, кто не умеет защитить свою честь и достоинство. Никто не пойдет тогда за мной. Нет, я не покину Дахбед, пока не разыщу Одинабиби. Привлекать же к этому делу чужих — недостойно мужчины. Сам должен докопаться до истины, только сам!..»
Однако в волостях Самаркандского уезда, казалось, не осталось уголка, где могли бы безбоязненно скрываться Намаз и его соратники. В каком бы кишлаке они ни появлялись, через час-другой начиналась перестрелка. С кем бы Намаз ни перемолвился словечком, тот на другой день оказывался за стенами тюрьмы…
В тот памятный день Намаз и его приближенные собрались в доме родственника Шернияза, чтобы справить свадьбу последнего. Многие джигиты не успели еще явиться на торжество, не вернулся и Кенджа Кара, который был отправлен оповестить о предстоящей свадьбе джигитов в Эшимаксайской и Челакской волостях.
Кенджа, наскоро сообщив в полицейское управление о сборе Намаза и его джигитов в Кушкургане, поскакал дальше, надеясь, однако, вернуться раньше солдат и успеть известить Намаза о предстоящей опасности.
— Какие-то всадники едут! — кубарем скатился с крыши Джуманбай, стоявший там в дозоре. — Видимо-невидимо!
— С какой стороны? — тотчас оказался на ногах Намаз.
— Со стороны Дахбеда, по большой дороге скачут!
— Выходит, дорога перекрыта. Пустим коней через овраг.
Но отступать было уже поздно. Джигиты не успели добежать даже до конюшни, как отовсюду загремели выстрелы. Намазовским джигитам не удавалось даже поднять головы.
«Надо сделать подкоп и перебраться в соседний дом Усты Гаффара, — решил Намаз. — Через три двора там протекает Кыпчакарык. В ней сейчас большая вода, вмиг унесет нас по течению!»
Велев половине джигитов заняться подкопом, он с остальными перешел к обороне.
— Намаз, сын Пиримкула, сдавайся! — прокричал кто-то из-за дувала. — Сдашься, сохранишь себе жизнь. Капитан Олейников берет тебя под свою защиту!
— Не нуждаемся в твоей защите! — закричал Джуманбай, лежавший на крыше дома. — Вот тебе подарок, собака управителя! — И он открыл огонь.
В тот же миг на дом и пристройки Хамракула, выстроенные в ряд, впритык друг к другу, стали падать, с грохотом взрываться гранаты. Все кругом занялось огнем. Часть крыши рухнула. Огонь, усиливаясь, перекинулся в конюшню, где находились кони.
— Копайте быстрее, быстрее! — торопил друзей Намаз. — Шернияз, подсоби им. Я помогу раненым. Аваз, не прекращай огня!
В дом Усты Гаффара едва перебрались восемь человек. Трое или погибли, или остались под развалинами — об этом никто не знал.
Опять посыпались гранаты, неся разрушение и смерть. К тому же со стороны Кыпчакарыка тоже загремели выстрелы. Выходит, неприятель успел закрыть и этот выход для джигитов Намаза. Все пути к спасению были отрезаны.
— Я останусь здесь! — решительно заявил Намаз. — А вы выходите, сдавайтесь.
— Не выйдем! Джигит умирает только раз! — запротестовали товарищи в один голос. — Примем на себя все, что ниспослано судьбой.
— Нет, сейчас вы выйдете и сдадитесь! — Голос Намаза задрожал. — Это мой приказ. Что они с вами сделают? Посадят года на три-четыре, и все! Зря погибают только дураки!
— Намаз-ака, вы можете меня расстрелять, — повернулся к нему Шернияз. — Но я не могу покинуть вас. К тому же вы сегодня мой гость.
— Хорошо, ты оставайся. Остальные немедленно должны сдаться.
— Намазбай!
— Выполняйте приказание.
— Разрешите, и я останусь?
— Я все сказал! — Намаз в ярости выстрелил в землю. — Выполняйте приказ!
Джигиты вынуждены были подчиниться. Аваз снял с себя рубаху, прицепил ее к дулу винтовки и высунул в окно.
— Не стреляйте, мы сдаемся!
Джигиты не знали, доведется ли им когда-нибудь свидеться: они попрощались с Намазом, крепко обнявшись, прижавшись лицом к его лицу.
— Намазбай, богатырь мой… — заплакал вдруг самый старший из джигитов, Шахамин. — Если останусь в живых, клянусь, я сведу с ними счеты. Сам не смогу — детям, внукам накажу!
Осаждавшие с нетерпением ожидали сдачи Намаза. Не обнаружив его среди джигитов, выходивших из разрушенного дома с поднятыми руками, Олейников пришел в ярость и приказал открыть шквальный огонь по дому Усты Гаффара.
— Надо рушить стену очага! — решил Намаз. — Стена там должна быть потоньше. Бей прикладом. Выберемся в соседний амбар.
— Боюсь, винтовка сломается, Намаз-ака!
— Бей, тебе говорят!
Шернияз, ударив прикладом по стене несколько раз, неожиданно неловко повалился на пол. Ранен, решил Намаз. Разбежавшись, он с такой силой пнул по стене, отделявшей дом от амбара, что в месте удара образовалась дыра. Подолбив прикладом еще немного, он расширил брешь в стене, затем, подхватив под мышки раненного в ногу Шернияза, перебрался в амбар. Там наскоро перевязал его рану.
Прошло какое-то время. Снаружи продолжалась стрельба, несколько раз грохнули взрывы. Шернияз открыл глаза, слабо улыбнулся.
— Дымом, видать, одурманился, — проговорил он виновато, — голова что-то кружится.
— Тебя ранили, лежи, — сказал Намаз, чувствуя, как у самого разрывается сердце от боли и досады.
Стрельба снаружи вдруг прекратилась. Со стороны хлева послышалось жалобное мычание раненого теленка, беспокойное ржание лошади. Где-то в голос рыдала женщина… Кто бы это мог быть? Солнце уже закатилось, в амбаре стало темно.
— Намаз-ака, кровь перестала идти? — спросил Шернияз, придя в себя на миг.
— Перестала, лежи спокойно, братишка. Уже стемнело, мы теперь что-нибудь придумаем.
— Намаз-ака, вы не знаете, как я вас любил, и вообще людей, всегда хотел сделать для них что-нибудь доброе, хорошее… Зачем мы пришли в этот мир, если не добро творить…
— Помолчи, я тебя прошу, — нагнулся над ним Намаз. — Тебе надо поберечь силы.
— Намаз-ака, если со мной что случится, ну, сами понимаете… Прошу вас, станьте отцом Анархан… Чтоб из-за меня не осталась она одна. Так и не удался наш той, какая жалость…
— Будет еще твоя свадьба, Шернияз, будет. Крепись, дорогой, крепись, мы выберемся отсюда.
— Намаз-ака, если…
— Не плачь, братишка, говорю же, силы зря расходуешь.
— Передадите Анархан вот это… кольцо, сам хотел в невестином углу ей на палец надеть… Бедняжка, одна-одинешенька теперь останется на всем белом свете, сирота она… Найдите ей достойного парня, будьте отцом… Так и не справили мы свадьбу…
Голова Шернияза бессильно повисла, кажется, он опять потерял сознание. Что же делать? Что предпринять, чтобы выбраться отсюда с раненым товарищем? Нет, он, Намаз, должен спастись, он не может погибнуть: что станется с товарищами, попавшими в плен, коли он погибнет?! Да, да, он должен спастись, любой ценой, как бы ни было трудно. Спастись, чтобы спасти товарищей!
Намаз почувствовал какую-то легкость в теле, прилив силы: он подполз к двери, заглянул в щель. Нет, он ошибался, темнота еще не наступила. Он различил чью-то фигуру, наискосок пересекавшую двор. Кажется, Закир-бобо, да, да, он самый! Несет охапку клевера, вроде на улицу направляется…
Мозг Намаза неожиданно озарила яркая мысль, от которой тело его захлестнули радость и надежда.
— Закир-бобо! — тихо окликнул он, припав к щели между створками двери сарая.
Старик, по-видимому, предчувствовал, куда мог перебраться Намаз: он резко свернул с пути, чтобы пройти мимо двери, за которой находился джигит.
— Ты живой, сынок?
— Войдите сюда, — попросил Намаз, а когда старик юркнул в дверь, поблагодарил: — Спасибо, отец. Куда несете клевер?
— Велели накормить своих коней, грабители!
— А сами что делают?
— Ужинать сели.
— Раздевайтесь быстренько, раздевайтесь!
Бобо сразу догадался, что замыслил Намаз: принялся поспешно скидывать свою одежду. Намаз надел чарыки старика, натянул его чапан в мелкий цветочек, напялил на голову, низко надвинув на глаза, лохматую заячью шапку. Поднял охапку клевера, стараясь держать ее повыше, ближе к лицу.
— Я могу оставить Шернияза у вас?
— Да поможет тебе аллах, палван. — На глаза старика навернулись слезы. — За друга своего можешь не беспокоиться.
Намаз выбрался наружу, по-старчески выгнув спину, держа охапку клевера возле самого лица, и шаркающими шагами направился к коням. Казаки и нукеры, рассевшись втроем, вчетвером на постланных прямо на земле паласах, были заняты едой и не обращали никакого внимания на старика, несущего корм коням. Подалее от всех, в кругу равных себе по положению, сидел Мирза Хамид. Рядышком стоял его конь, привязанный к старому тутовому дереву. Корма ему еще не задавали: перед ним было пусто.
— Хаким, сынок, не напоить ли вашего коня? — обратился к Мирзе Хамиду «старик» с полупоклоном.
Мирза Хамид поднял голову и тотчас узнал Намаза: то, что жевал, так и осталось у него во рту. Глаза его встретились с глазами Намаза. На миг Мирзе Хамиду даже показалось, что из-за охапки клевера на него уставились не человечьи глаза, а сдвоенное дуло ружья, несущее смерть… Почему он не кричит: «Ловите Намаза, вот он!»? Должен же был закричать, ведь как раз настала пора отомстить за страх и унижения?! Ведь из-за него, этого Намаза, он, Мирза Хамид, потерял положение, лишился должности! Ведь сколько ночей не спал, скрипя зубами, мечтал, как отомстит этому разбойнику, своими же руками удушит его! Что ж теперь? Почему он молчит?!
«Что мешает мне закричать?» — подумал опять бывший управитель с тоской и вместо того, чтобы позвать на помощь, сказал:
— Напоите, дедушка, напоите…
Мирза Хамид видел, как «старик» вел его коня, прикрывая лицо охапкой клевера, мимо нукеров, потом, осторожно загнав его в воду, сел верхом, а Мирза Хамид все молчал…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. «НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ КО МНЕ…»
Перебравшись на другой берег Кыпчакарыка, Намаз еще раз оглянулся. Погони не было. Странно, почему они все до сих пор не всполошились? Чудеса, да и только!..
Намаз мчался, нахлестывая коня, мимо полей, с которых уже был убран урожай, по одному ему известным тропкам. Он решил заехать в Маргилантепу, повидаться с женой, а если удастся, то и забрать ее. Насиба беременна, не сегодня завтра должна родить. Нужно увезти ее подальше, упрятать где-нибудь в более безопасном месте. Не то, если нападут на след, не посмотрят, что женщина, бросят за решетку. И Насиба небось сама не своя, коли прослышала о вчерашних событиях в Кушкургане.
Поздно вечером, оставив коня в поле, Намаз через дворы пробрался к дому Акрамкула. В окнах света не было, видно, легли уже спать. Навстречу с лаем бросилась собака. С крыши, из-за сложенных снопов клевера, раздался голос:
— Алапар, назад!
Акрамкул, видно, тотчас признал Намаза — бесшумно спустился с крыши с винтовкой в руках.
— Слава богу, выбрались! — Он крепко обнял Намаза, несказанно обрадованный.
— Вы уже знаете?
— Знаем, вся округа в трауре. Лучше бы ушам нашим оглохнуть, чем слышать такое…
— Где Насиба?
— В амбаре. Они там вместе с моей женой. Я их запер снаружи. Очень опасно стало. Надо бы Насибахон куда-нибудь в другое место перепрятать.
— Дай мне ключи.
— Вы идите, я на крыше покараулю.
Насиба стояла у двери, прильнув ухом к щели, и прислушивалась к неясному говору, доносившемуся со двора. Когда стали отпирать дверь, она испуганно отпрянула в глубину сарая: «Неужто прознали, что я здесь, и теперь пришли за мной?
— Насиба, не пугайся, это я, — раздался такой знакомый, родной голос.
Она кинулась на шею мужа, крепко прильнула к нему дрожащим телом.
— Намаз-ака, слава богу, что вам удалось вырваться!
Сколько раз уже она встречала мужа вот так, утонув в его могучих объятиях, то плача, то смеясь от радости, что снова видит его живым-невредимым после долгой разлуки. Последнее время им приходилось видеться все реже: раньше она постоянно сопровождала мужа, но когда забеременела, была вынуждена прятаться у кого-нибудь из верных людей и ждать Намаза, каждый раз неуверенная в том, что еще свидится с мужем.
Нежно обнимая жену, Намаз вдруг почувствовал, как что-то встрепенулось пониже ее груди. Его неожиданно захлестнуло какое-то непонятное, до сих пор не изведанное сладостное чувство.
— На коня можешь сесть? — спросил он ласково.
— Конечно, сяду, если скажете.
— Тогда собирайся быстренько.
Акрамкул не захотел отпускать молодых одних, проводил их до самого Каратери. Здесь Намаз хотел встретиться с Турсуном — арабасазом[43]. Он собирался обговорить с ним свои дальнейшие планы, обсудить пути спасения плененных джигитов, организовать достойные похороны погибших. Еще он хотел условиться с мастером о месте встречи джигитов, которые вскоре начнут собираться в отряд.
Беседа Намаза с арабасазом затянулась надолго. Акрамкул с двумя местными джигитами Хатамом и Каримом сторожили три дороги, перекрещивавшиеся у дома Турсуна. Вдруг Акрамкул неожиданно увидел, что к Хатаму, стоявшему невдалеке, кто-то подошел, постоял какое-то время и так же тенью скользнул прочь. Сильное беспокойство охватило Акрамкула. Он незаметно побежал в сарай, где сидели Намаз с арабасазом. Увидев его, Намаз сразу почуял неладное.
— Что-нибудь случилось?
— Только что к Хатаму подходил кто-то со стороны дома Лутфуллы-хакима, о чем-то говорил с ним.
— Понятно, — поднялся с места Намаз. — Надо уходить. Турсун, приготовь коня для Насибы.
Через несколько минут с винтовками за плечом муж с женой выбрались со двора Турсуна.
— Намазбай, о здешних наших делах можешь быть спокоен, — тихо проговорил арабасаз, шагая рядом с Намазом. — Я подниму весь кишлак, едва только ты дашь знать.
— Хорошо. Проверь этого Хатама.
— Проверю.
— Если продался — расстреляй.
— Хорошо, — прошептал Турсун. — Езжайте через Кумушкент. Если что, я задержу нукеров здесь. Главное, чтобы с тобой ничего не случилось.
Намаз, следуя совету друга, повел Насибу по Кумушкентской дороге. Держась края рисовых чеков, они перешли реку, опоясывавшую кишлак, углубились в тугаи. Намаз попал в эти места впервые и не знал незаметных, но всегда существующих в тугаях троп. Он решил, что если они будут держать прямо вверх от Кумушкента, выберутся в Джамские степи.
Время перевалило за полночь. Луна то исчезала за темными густыми облаками, погружая все кругом в черную мглу, то всплывала вновь, освещая землю ровным матовым светом, открывая взору путников бесконечную чащу тугаев. В душе Намаза было смутно. Радовался он, что и на этот раз провел врагов, выбрался живым-невредимым и вот теперь едет рядом с любимой женой. Погружался в глубокую печаль и горе, вспомнив погибших и попавших в плен соратников. Он вновь и вновь переживал недавние события, вздыхал, качал головой, до крови кусая губы, из груди его вырывался жалобный стон.
Насиба молчала всю дорогу от самой Каратери. Некая внутренняя дрожь, возникшая сразу при встрече с Намазом, никак не покидала ее. Эта дрожь, накатывавшая на женщину временами, как порывы лихорадки, стала переходить в невыносимую боль, острыми буравами вонзавшуюся во все тело. Ломило поясницу, не хватало воздуха. Порою тело сводило судорогой: тогда ноги подтягивались непроизвольно выше, к седлу, из рук выскальзывали поводья, через миг, придя в себя, Насиба поспешно ловила поводья, опускала ноги в стремена, удивляясь тому, как она еще не слетела с коня. Худо было женщине, худо, но она не издавала ни звука, чтобы не напугать Намаза. Единственной мыслью ее было: удержаться в седле. Но Насиба чувствовала, что последние силы покидают ее…
Что-то неожиданно подступило к самому горлу, перехватило дыхание.
— Намаз-ака! — вскричала Насиба испуганно.
Намаз поспешно натянул поводья коня, обернулся к жене:
— Что ты сказала? Тебе плохо, родная?
— Кажется, началось… — едва простонала Насиба.
— Началось?! — повторил Намаз со страхом и радостью, снял жену с седла, и какое-то время стоял молча, крепко прижимая ее к себе.
— Намаз-ака! — закричала вдруг Насиба и крепко вцепилась в его плечо.
— Успокойся, дорогая… — проговорил Намаз, не зная, что делать и что говорить. — Все будет хорошо, вот сейчас… увидишь…
Придя в себя после минутного замешательства, Намаз расстелил на земле свой халат, уложил на него жену, положил ее покрытую липким, холодным потом голову себе на колени…
— Мама, мамочка! — непроизвольно вскочила на ноги Насиба и в беспамятстве закружилась на месте.
— Насиба, родная, давай заедем в кишлак, а? — произнес Намаз умоляющим голосом.
— Нет, — покачала головой Насиба. — Они нас поймают. Не-е-ет!
— Я приведу повитуху!
— Они вас схватят! Не-е-ет!
— Не схватят! Я хорошо вооружен. До Кумушкента рукой подать. Я мигом, дорогая моя Насиба, потерпи, я быстро!
Насиба хорошо знала, что Намаза уже не остановить. Она лишь простонала в ответ, да и не было у нее сил отвечать. И необходимости в том не оставалось: Намаз уже вскочил на коня и с места тронул галопом…
Намаз соскочил с коня у небольшого дома, окруженного низеньким дувалом, на окраине Кумушкента. Постучал рукоятью плети по калитке, сплетенной из ивовых прутьев. Ему ответил лай собаки. Немного погодя послышался сонный голос:
— Кто там?
— Путник… — проговорил Намаз, сдерживая дрожь в голосе. — По дороге у жены начались схватки. Она осталась в степи, ей очень худо.
— Нужно помочь?
— Да, умоляю, помогите.
Хозяин несмело приблизился к калитке, приоткрыл ее. Это был небольшого роста, бородатый старичок.
— Вот. — Намаз всунул в руки опешившего старика кошелек с деньгами. — Разродится жена благополучно, я вам коня подарю, отец.
— Старуху, что ли, послать с вами?
— Да не забудет аллах вашу доброту, только прошу — поскорее!
Старик ушел в дом и долго не появлялся. Наконец вышел, ведя за руку такого же небольшого роста, как сам, завернутую в паранджу старуху. В свободной руке он нес большой кумган. Подсадив жену на коня за спину Намаза, он подал старухе кумган:
— Возьми, разожгете костер, согреете воду, — затем обратился к Намазу: — Однако, сынок, ты старуху привези обратно.
— Непременно, отец.
— Помоги аллах твоей жене благополучно разрешиться.
Уже рассветало, поэтому не составило особого труда вернуться по своему же следу. Конь Насибы отошел далеко в сторону, пощипывал верхушки верблюжьей колючки. Насиба лежала, уже не на чапане, а на голой земле, глядела бессмысленными глазами на медленно поднимающееся алое солнце.
— Как ты себя чувствуешь? — осторожно поднял ее голову Намаз.
— Это вы? — прошептала Насиба. — Вернулись?
— Я привез повитуху, родная, она тебе поможет.
— Уходите, Намаз-ака, немедленно уходите. Что-то недоброе чует мое сердце… уходите, прошу…
— Бог даст, вместе поедем дальше. И ничего с нами не случится. Все поедем вместе: сынок наш маленький, ты, я…
Старушка велела Намазу развести огонь, вскипятить воду в кумгане. Сама приготовила место Насибе, занялась ею. Намаз слышал, как она подбадривала женщину мягким, ласковым голосом: «Не надо бояться, все обойдется…»
Намаз не успел разжечь костер. Пасшийся рядом конь вдруг забил копытами землю, несколько раз коротко заржал. Обеспокоенный Намаз взобрался на песчаный холмик и вдруг почувствовал страшную усталость. По недавнему его росному следу ехали конники, и находились они близко, очень близко…
Намаз в несколько прыжков достиг оружия, валявшегося у потухшего костра, передернул затвор, но стрелять не стал. Начнись перестрелка, враги первым долгом возьмут на прицел Насибу. Погибнут и жена, и не родившийся еще сын, и старуха…
Намаз обессиленно опустил дуло винтовки к земле.
Обычно стая голодных волков, прежде чем накинуться на беззащитную отару овец, окружает своих жертв плотным кольцом. Неизвестно, кто у кого перенял этот способ атаки: люди у зверей или звери у людей, — во всяком случае, человек пятьдесят всадников наскоро окружили песчаный холмик, на котором одиноко стоял Намаз, и стали медленно и настороженно сжимать кольцо.
Многих преследователей Намаз узнал в лицо, с некоторыми из них он уже сталкивался не раз: это были солдаты капитана Голова, старого знакомца Намаза, и нукеры управителя Ходжаарыкской волости Лутфуллы-хакима. Лутфулла-хаким, который еще вчера, едва прослышав имя Намаза, не находил себе места, где спрятаться, теперь ехал, горделиво гарцуя на гнедой лошади.
Капитан Голов отделился от остальных всадников, крикнул, привстав на стременах:
— Намаз, сын Пиримкула, бросай оружие!
— Не приближайся! — дико закричал Намаз, направляя на капитана винтовку. — Жена рожает. Не приближайся! Убью!
Капитан нерешительно натянул поводья. Что-то подействовало на него, то ли русская речь Намаза, то ли его сообщение.
— Бросай винтовку! — крикнул он снова, поборов замешательство.
— Дай слово, что жену не тронешь!
— Даю слово! Даю слово русского офицера, что жену твою не тронем.
— На, бери винтовку, если она тебе нужна.
— Бросай кинжал тоже.
— Кинжал ты мне подарил сам, сам и снимешь его с меня.
…Это произошло в те давние годы, когда Намаз прислуживал у Ивана-бая. Тогда он часто водил гостей помещика на охоту на лысух и фазанов. Одним из этих охотников был тогдашний пристав Голов. Однажды во время охоты на него неожиданно напало стадо диких кабанов. Намаз поспешил на крик о помощи. Он знал: разъяренных кабанов не отогнать ни ружьем, ни палкой. Он зажег охапку сухой верблюжьей колючки, кинулся в самую гущу визжащих и похрюкивающих тварей… и спас капитана от неминуемой гибели. Тогда и подарил Намазу пристав Голов кинжал, о котором сейчас шла речь.
— Отдай кинжал жене! — приказал капитан. — А сам иди сюда. Ты — мой пленник. Вяжите ему руки! — приказал он солдатам, отворачиваясь. И почти тут же закричал со злостью: — Не бейте пленного, собачье отродье, не бейте пленного!
Часть третья УЗНИКИ „ПРИЮТА ПРОКАЖЕННЫХ“
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЕРГЕЙ-ТАБИБ РЕШАЕТ СПАСТИ НАМАЗА
С появлением в Самарканде Михаила Морозова заметно активизировалась агитация против самодержавия. Бесстрашный борец против зла и несправедливости, человек решительный и энергичный, Морозов очень скоро объединил местных революционеров в единый кружок, организовал выпуск газеты «Самарканд», на страницах которой стали появляться яркие, злободневные статьи. Основное ядро кружка составляли рабочие типографии Демурова.
«Все, убьют его теперь! — носился по дому Сергей-Табиб, до которого дошла весть об аресте Намаза. — Непременно убьют! Побоями и пытками его не сломить, организм у него крепче стали. Но они наверняка повесят его, без лишней канители. Эх, надо бы как-нибудь спасти Намаза! Нельзя опускать руки, нельзя! Безвыходных положений не бывает. Нужно немедленно ехать в Самарканд, а там уж видно будет, что предпринять!..»
— Хайитбай! — крикнул Сергей-Табиб. Мальчишка, устроившийся на козьей шкуре возле очага и занятый чтением какой-то книги, вздрогнул от резкого крика.
— Я здесь!
— Ты что, оглох? Зову-зову!
— Да ведь вы один раз только позвали, дядя Сережа!
— Чем ты занимаешься? — спросил Рябов, понимая, что несправедливо накинулся на мальчишку.
— Сами же велели следить, чтобы отвар не перекипел.
— Не загустел еще?
— Нет, совсем как водичка.
— А где Тухташ?
— Вы же велели ему выкопать корней чинары.
— Беги, разыщи его, плохи дела, сынок…
— А что случилось?
— Нам надо срочно ехать в Самарканд…
Оставив ребят в «Приюте сирот», Сергей-Табиб отправился налегке в город и к вечеру разыскал Михаила Морозова в типографии: он перечитывал завтрашний номер газеты.
— Я ждал тебя еще вчера! — воскликнул Морозов, радостно обнимая друга. — Как поживаешь, старина? Знаю, сейчас ты будешь говорить не о себе, а о Намазе, будешь просить помочь вызволить его из «Приюта прокаженных», так, кажется, называют местные здешнюю тюрьму, да? Даже пригрозишь, наверное, поджечь типографию, если не помогу, верно я угадал?
— Ты как в воду глядел, Михаил Васильевич.
— Дело у нас одно, помыслы тоже, значит, и беспокоят нас одни и те же проблемы, — сказал Михаил Морозов, усаживая гостя за стол, — ты посиди немного, старина, я должен вычитать эти полосы. Потом поговорим спокойно.
Закончив чтение, Михаил Морозов придвинул свой расшатанный, кривобокий стул ближе к Сергею-Табибу.
— Ну, Сергей Степанович, рассказывай, что новенького в кишлаках, как настроение дехкан?
— А что в кишлаках… везде о Намазе говорят. Легенды про него рассказывают.
— Мы должны поддерживать Намаза, хотя и не все одобряем, что он делает. О его аресте я услышал только вчера. Потому и ждал тебя, знал: тотчас примчишься. Не беспокойся, парня мы вызволим. Уже даже предприняли кое-какие шаги. В тюрьму послали своего человека, доктора. Говорят, среди арестованных очень много раненых… Главное — нельзя допустить, чтобы движение было разгромлено. Спасти Намаза можно, лишь устроив побег. Иначе его повесят. Я дам тебе парня по имени Атамурад. Да ты его видел, он участвует в работе нашего кружка. Умный, предприимчивый юноша. Здорово переживает арест Намаза… Где ты остановился?
— В чайхане «Приют сирот».
— Чайханщик человек надежный?
— Намазу он вместо отца родного.
— Ну давай прощаться. Приходи завтра вечером в библиотеку. Намечаются споры с эсерами и либералами. Расскажешь о настроениях среди дехканства… Атамурад вечером зайдет за тобой. Ну, бывай!
ГЛАВА ВТОРАЯ. НАДЗИРАТЕЛЬ ПОДСКАЗЫВАЕТ ПУТЬ
Чайхана «Приют сирот» одно время была только обиталищем бесприютных бродяг, бездомных нищих, да заглядывали сюда днем немощные старцы, живущие по соседству, попить пиалу-другую чая, повидать какую-никакую живую душу. После того как Намаз несколько раз посетил Дивану-бобо и оказал ему помощь, дела чайханы пошли на лад: наружная стена, готовая вот-вот развалиться, была возведена заново, починена прохудившаяся крыша, заменены расшатанные, покоробившиеся двери и окна, отремонтированы столетние сури, закуплены новенькие паласы, цветные чайники и пиалы.
Еще одно новшество появилось в чайхане, разумеется, опять-таки не без помощи Намаза: в «Приюте» по пятницам и воскресным дням готовилась бесплатная пища для всех, кто нуждался в еде, а также справлялись обновки тем, на ком своя одежка уже обветшала.
Сергей-Табиб остановился в «Приюте сирот», но появлялся здесь лишь глубокой ночью. Днем же пропадал вместе с наборщиком типографии Демурова Атамурадом Каргаром. И вот что им удалось выяснить: дознание по делу намазовских джигитов шло полным ходом, его вели следователи, специально прибывшие из Ташкентского окружного суда. Намаза еще не допрашивали ввиду его тяжелого состояния после жестоких побоев, которые учинили над ним при аресте. Самым неутешительным было известие о том, что следствие велось в самой тюрьме, так что о побеге по дороге на допрос не могло быть и речи. На осторожные расспросы адвокат Н. Болотин ответил весьма неопределенно: «Ничего утешительного пока доложить не могу…»
На третий день, однако, Атамураду Каргару повезло. Он смог связаться с надзирателем тюрьмы Петром Загладой. Этот человек и раньше оказывал кое-какие услуги группе Морозова: однажды даже предупредил участников маевки на берегу Сияба о готовящемся на них налете казаков. Жена Заглады покупала молоко, творог и сметану только у Каргара.
Сегодня утром, уходя на службу, Заглада сам остановился перед Каргаром, который как бы случайно оказался на его пути. «Что-то ты, Атамурад, — сказал он, — все крутишься вокруг меня, а не скажешь, что тебя мучает. Говори, не стесняйся, в чем нужда, помогу, коли смогу».
Атамурад предложил надзирателю встретиться вечером, сославшись на то, что, дескать, дело требует обстоятельного разговора. И сразу отправился к Михаилу Морозову доложить о Загладе. «Среди царских гончих он один и есть, более или менее сочувствующий нам, — ответил, подумав, Морозов. — Придется говорить с ним откровенно, но все ж будь осторожен, как бы не нарваться на провокацию».
И вот вечером они с Сергеем Степановичем ждали Загладу в чайхане.
— А что, если Заглада обманет нас? — в который раз спрашивал с сомнением Сергей-Табиб. — Вдруг это ловушка?
— Все может быть, — соглашался Каргар, — но ведь и мы не дураки, чтобы так просто даться им в руки.
— А вообще-то говоря, у нас нет другого пути, как идти на явный риск, — согласился Рябов.
К ним поспешно подошел, держа в руке чайник, Дивана-бобо. Он был явно обеспокоен. Опуская чайник перед гостями, проговорил едва слышно: «Там полицейский появился, что-то вынюхивает».
— Зовите его сюда, — попросил Каргар, приведя в полное замешательство старика.
Петр Заглада оказался высоким, крепко сложенным человеком с густыми черными усами. «Нет, такой не продаст», — подумал с удовлетворением Сергей-Табиб, разглядывая открытое лицо Заглады.
— Откуда вы родом? — спросил он, когда поздоровались и гость устроился на сури.
— Москвич я, — ответил Заглада, прихлебывая горячий чай. — Только скажу вам сразу, господа, не надо играть со мной в кошки-мышки. Не люблю, когда начинают расспрашивать, откуда родом, кто родители, то да се… где я служу — вы знаете, конечно. Потому-то, наверное, с тех пор, как арестован Намаз, уважаемый Атамурад частенько стал «случайно» попадаться мне на пути и у тюрьмы не раз появлялся, верно говорю?
— Верно, — честно признался Каргар.
— Если вы мне доверяете, я могу вам помочь. Иначе казнят его, ясное дело… Удивительного мужества и достоинства человек. По-русски говорит прекрасно… Я дважды перевязывал его раны. Большой души джигит… Я раньше много слышал о нем, но не представлял, каков он на самом деле. Такому можно только позавидовать. «Намаз, почему никто не проведает тебя? — спрашиваю я его как-то. — Почему никто и еды никакой не принесет?» — «А у меня никого, кроме тебя, нет», — отвечает. Пожалел я его очень. Стал подкармливать помаленьку, за ранами смотреть…
— Мы как раз те, кто беспокоится о судьбе Намаза, — сказал Сергей Степанович, глядя прямо в глаза надзирателя.
— Так уж всегда ведется: хорошего человека все жалеют. Говорите откровенно, чем я могу быть вам полезен?
— Намазу нужно помочь бежать.
Петр Заглада некоторое время молчал, то и дело поглаживая пышные, густые усы.
— Помочь можно, — проговорил он наконец, — только это дело надо обговорить с начальником тюрьмы господином Панковым. — И продолжал, заметив, как собеседники недоуменно переглянулись. — Не пугайтесь. Этот человек до того падок до денег, что вы не представляете! Если бы он мог, то наверняка вывел бы всех арестантов на Сиябский базар и распродал в одиночку и оптом. Сейчас он по уши в долгах. Проигрался в карты. Вот-вот дом и все имущество пойдут с молотка… Если ему сейчас предложить денег, он собственную мать продаст…
— За деньгами мы не постоим. Заплатим всем, кто готов помочь…
— Деньги, они, конечно, всем нужны, — не сразу ответил Петр Заглада, словно обдумывая слова собеседника. — Но если, говоря так, вы имеете в виду и меня, то зря обижаете. Я не торгую людьми, прошу не забывать. В общем, господа, я предлагаю привлечь к этому делу господина Панкова. Другого пути освобождения Намаза нет. Предупредите его джигитов, что остались на свободе, пусть и не помышляют взять тюрьму штурмом. Ничего не выйдет: рядышком расположен военный гарнизон, готовый к любым случайностям. Всех перестреляют. Нельзя перелезть и через стены: на них установлены немецкими специалистами особые сигнальные устройства. От малейшего прикосновения они такой шум поднимают, хоть уши затыкай. Если же не удастся договориться с Панковым, уйти можно через подкоп, сделанный под стенами тюрьмы.
— Нелегкое это дело, думается, сделать подкоп? — выразил сомнение Рябов.
— Вы не можете не понимать, что любой легкий путь может привести к неудаче. Хотя… все это пока лишь прикидка. Что делать, мы будем знать, когда господин Панков пересчитает собственноручно денежки, которые вы ему вручите. Еще вот что. Нынче есть возможность устроить своего человека на работу в тюрьме.
— Это было бы здорово! — обрадовался Каргар.
— Администрация тюрьмы хочет обзавестись дворником, который выносил бы мусор из тюремного двора на улицу, таскал дрова, воду.
— На себе? — спросил, думая о чем-то своем, Сергей-Табиб.
— Нет, на ишак-арбе, потому как и мусора, и дров-воды немало приходится возить.
— В таком случае, подросток подойдет?
— Если я порекомендую, возьмут.
— У меня есть ребята, считай, родные сыновья.
— Узбеки? А то ведь русских на черную работу не возьмут.
— Один узбек, другой таджик. Но оба хорошо знают русский.
— Отлично! — обрадовался Петр Заглада. — Только пусть они не подают виду, что знают язык.
— Я их предупрежу. — Сергею Степановичу стало необыкновенно легко и хорошо от того, что найден путь к спасению Намаза. — Так, теперь, пусть не покажется бестактным, сколько же, интересно, готовить денег для господина Панкова?
— Деньги лучше давать частями, — сказал Петр Заглада, не задумываясь, — горький пьяница он. Денежки пустит по ветру, а там и отвернуться может, что с ним сделаешь? А если давать по частям — его можно крепко держать в руках… Но вы, господин, что-то не представились, похожи на чиновника из канцелярии самого господина губернатора, одеты с иголочки, изысканно-вежливы…
— Зовут меня Сергеем Степановичем Рябовым.
— А кто по профессии?
— Доктор.
— Ну и допрос ты затеял! — засмеялся Атамурад Каргар.
— Так вы доктор? — обрадовался Петр Заглада. — Что ж вы молчали до сих пор? Я вас очень прошу, посмотрите мою жену. Болезненная она у меня, бедняжка. Никак не может родить. Доносит до трех месяцев и — выкидыш. Я завтра утром приеду за вами, у меня и позавтракаем. Украинские пироги ели когда-нибудь?
— Выходит, вы украинку умыкнули в эти края? — засмеялся Сергей-Табиб.
— Так я и сам хохол, Сергей Степанович. А если сказать правду, то не я умыкнул ее в эти края, а она — меня. Решила, что в Москве вечно пасмурно, сыро, все мечтала о Туркестане, где всегда тепло и сухо. Вот мы и поехали…
— Кашель есть у нее?
— Больше зимой кашляет. Ладно, мне пора. Скоро на дежурство. Значит, договорились. А за вами, доктор, утром приеду.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. АРБЫ ИДУТ НА САМАРКАНД
Назарматвей, выполняя поручение Намаза, готовил к восстанию русское население Ургутской стороны. Еще он должен был запасти достаточное количество оружия и боеприпасов. Там, в Ургуте, и дошла до него черная весть о пленении Намаза. Назарматвей всю ночь гнал коня и перед рассветом был уже в камышовых зарослях вблизи Джаркишлака. В условленном месте разыскал вооруженных Джавланкула и Амана.
После долгих размышлений они пришли к выводу, что Намаза можно спасти, атаковав тюрьму. Началась подготовка к скрытному переходу в Самарканд. В это самое время на стоянку прибыл Тухташбай, гонец Сергея-Табиба. Рябов послал его к Джавланкулу за деньгами для господина Панкова.
— Их путь, по-моему, гораздо вернее! — обрадовался Джавланкул, узнав, как собираются спасать Намаза самаркандские друзья. — Только вот зря не сказал твой русский дядя, сколько им денег потребуется…
— Чем больше будет, тем лучше, — тут же вывернулся хитроумный Тухташбай. — Таких простых вещей не знаете, что ли?!
— Кому велено доставить деньги? — Джавланкул пропустил мимо ушей дерзость мальчишки.
— Диване-бобо. Вай-бой, до чего лохматая у вас борода, нельзя, что ли, малость подстричь?
— Дивана-бобо — это тот чайханщик, которого Намазбай заместо отца считает? — продолжал допытываться Джавланкул.
— Не заместо отца — настоящим! — вспылил Тухташбай. — Надо поторапливаться, там Намаз-ака небось измучился в тюрьме, а вы только и знаете, что задавать вопросы! Хурджин денег нужно, понятно, целый хурджин!
На рассвете следующего дня в Самарканд отправились две арбы. Выехали специально в воскресенье, потому что в базарные дни дорога на Самарканд оживала сразу после полуночи. Арбы, всадники, пешие… Одни везут пшеницу, другие — рис, женщины в паранджах несут на головах свертки, люди помоложе — мешки за спиной, постарше навьючены хурджинами, чабаны гонят отары овец, на верблюдах везут вязанки дров, — всего и не счесть. Все спешат на Сиябский базар, не забывая по дороге и про цены узнать и молитву сотворить, чтобы купля-продажа прошла успешно и выгодно.
Ночью высыпал легкий снежок. Воздух был студеный, мела поземка. На упряжи передней арбы восседал Тухташбай, на арбе, прислонясь к мешкам с соломой, примостились Улугой и Насиба. В одном из безвинных с виду мешков спрятано пять винтовок, в другом — мешочек золотых монет. Женщины закутаны в паранджи, ноги укрыты чапаном. Они сидят, тесно прижавшись друг к дружке. Словоохотливый Тухташбай болтает, не умолкая ни на минуту. Он уже успел рассказать всю свою жизнь, и в первую очередь о том, как Намаз-ака чуть не силком привел ребят к Сергею-Табибу, как тот поставил их на ноги. Поведал он и о том, какие порядки в доме доктора, в какие игры играют дети в Мужицком кишлаке, в общем, вовсю старался отвлечь спутниц от невеселых дум.
— А на днях я видел Намаза-ака, — сообщил он вдруг шепотом, неожиданно меняя тему разговора.
— Вай, мед твоим устам, братишка, неужто ты видел его? — подалась вперед Улугой, слегка приподняв чачван паранджи. — Почему же ты молчал об этом до сих пор?! Давай-давай рассказывай, когда ты его видел, как?..
— В среду я его видел, тетушка, — зачастил Тухташбай, очень довольный тем, что догадался самый интересный разговор оставить на потом. — Ей-богу, я его видел собственными глазами, как вот вас сейчас. Оделись мы в лохмотья, как ходили раньше, — это нам дядя Сергей посоветовал — и пошли к «Приюту прокаженных». Там знаете сколько нищих? — видимо-невидимо! — и старенькие, и маленькие, есть даже женщины с грудными детишками… Помню, год или два тому назад там одна тетенька умерла. Она упала мертвая, лежит, а малое дитя грудь сосет, ей-богу, своими глазами видел.
— Ты давай, братишка, дальше рассказывай… — сказала Улугой упавшим голосом. — Ты же хотел про Намаза…
— Ах да!.. Стоим мы у тюрьмы, попрошайничаем, смотрим, подъехала арба такая — фаэтон называется — с крытым верхом, арестантов привезла. Подбегаю я к арбе, а из нее вылезает Намаз-ака. Как увидел я его, не удержался, заплакал как маленький, а Намаз-ака кивнул мне и отвернулся, но я все равно увидел, что и у него на глазах слезы выступили…
— Что ты говоришь, это у Намаза-то слезы? — искренне удивилась Улугой. — Да я у него в жизни не видела ни слезинки!..
— Но глаза его все равно были мокрые, — не сдавался Тухташбай.
— Ну а что было потом?
— Потом я побежал на горку за углом — с нее можно видеть, что за стенами тюрьмы делается. Крикнул оттуда, нет ли у него какой нужды. Намаз-ака только махнул рукой и сказал: «Передай привет Насибе-апа и тетушке Улугой!» — Тухташбай приумолк на некоторое время.
— Так и сказал? — спросила молчавшая всю дорогу Насиба.
— Может, так сказал, а может, чуть иначе, но мне показалось, что именно так сказал… — начал изворачиваться Тухташбай.
Три дня назад они с Хайитом и правда пошли к тюрьме в надежде что-нибудь узнать о Намазе-ака (об их вылазке, кстати, Сергей-Табиб ничего не знал). Намаза они, конечно, не увидели и ничего о нем не слышали.
— Хотите, я вам спою? — оживился Тухташбай.
— Спой, если хочешь, — согласилась Улугой без особой охоты. Душа ее, полная печали и страха за судьбу Намаза, ничего не принимала сейчас. «Хоть бы разрешили свидеться, домашней еды малость передать, — думала женщина. — А не разрешат, так к самому хакиму пойду, у порога его лягу, просить буду, плакать, умолять, требовать, но добьюсь, чтобы разрешили свидание, чтобы могла я прижать его к груди, погладить его горемычную голову…»
Насиба тоже была погружена в свои мысли. Девочка ее, появившаяся на свет раньше срока, прожила лишь полдня. Благослови аллах Пакану-бобо, подоспевшего им на помощь, он сам все обряды совершил над умершей, сам похоронил. Потом раздобыл арбу, отвез Насибу в Джаркишлак. С того дня Насиба стала сама не своя. Ни с кем не разговаривала, на вопросы не отвечала. Перед ее невидящим взором постоянно стоял ее любимый Намаз, окровавленный, со связанными руками, и ее девочка, исходившая в крике… Ничего другого она не видела и не слышала; эти две картины застили перед ней весь белый свет. В ушах ее вновь и вновь звучал последний крик Намаза: «Насиба!»
«Я приеду к ним, — думала Насиба, — скажу, бросьте меня тоже в темницу, потому что и я участвовала в налетах Намаза, я тоже стреляла в ваших людей. Лишь бы поместили нас вместе с Намазом-ака. Остальное не страшно. Это он из-за меня попал в их лапы, а то бы дался им Намаз, как же! Буду я с ним рядом, буду, хотят — пусть вместе вешают, хотят — пусть вместе расстреляют…»
— Тетя, хотите расскажу анекдот про Ходжу Насреддина? — не унимался Тухташбай. — Я их уйму знаю!
— Ну и болтун ты, братишка, — мягко укоряла его Улугой. — Мама, видать, рожала тебя, болтая… Рассказывай, коли хочешь.
Второй арбой правил Баротали. С ним ехали Эшбури, Назарматвей, Джавланкул и Халбек. Они все были укрыты паранджами и большей частью молчали, но если уж говорили, то только о спасении Намаза.
— Тянуть не будем, — говорил Джавланкул, ни к кому не обращаясь. — С подкупом не удастся — присмотримся к обстановке да и нападем на проклятую тюрьму!
— Ничего это не даст, сами погибнем и тем беднягам хуже сделаем, — не соглашался миролюбивый Эшбури. — Может, лучше пойти и поклониться в ноги уездному начальнику, простите, мол, Намаза. Его же вынудили взять в руки оружие, да и никого он зря не обижал, лишь помогал обиженным. Разве справедливо держать такого человека в темнице?
— Брось ты, Эшбури, — возражал Халбек, — лучше уж заплатить, чем кланяться этим псам. Сколько запросят, столько и заплатить. В крайнем случае, себя в залог предложим. Скажем, хочешь — сажай нас всех, а Намаза освободи.
— Да предложи им таких, как мы с тобой, хоть четыре сотни, они все равно предпочтут Намаза, — остудил его Эшбури.
— Почему же? — удивился Халбек. — Все-таки четыреста голов — это четыреста голов! Не шутка!
— Как ты не поймешь? Ведь чего хочет белый царь: чтоб ему непременно голову самого Намаза принесли, а не твою. Иначе он и спать спокойно не может.
— Это уж точно. Они не успокоятся, пока не казнят Намаза.
— А мы будем сидеть сложа руки, смотреть, как он гибнет из-за нас!
— Тише, пожалуйста! — попросил Джавланкул. — Не забывайте, что в парандже сидите.
— Дня три-четыре выждать придется, — вмешался в разговор молчавший до сих пор Назарматвей, — изучим обстановку, свяжемся с друзьями в городе. А если позволит обстановка — соберемся и, как предложил Джавланкул-ака, атакуем тюрьму. Коли окажется, что нельзя взять ее штурмом, устроим Намазу побег. Как вы считаете, Джавланкул-ака?
— Это все-таки лучше, чем ничего не делать.
— А если мы не сможем устроить ему побег? — спросил с сомнением Эшбури.
— Тогда сдадимся и разделим с Намазом его участь.
— Ну а вдруг всех казнят? — не сдавался Эшбури.
— Что ж, казнят так казнят. Тогда, во всяком случае, не будет совесть мучить… Одной голове — одна смерть.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «НЕТ, Я НЕ ДОЛЖЕН ПОГИБНУТЬ!»
Тюрьма находилась у подножия высокого холма. Рядом протекала небольшая речка. С востока протянулась улица Прокаженных, на западе расположился военный гарнизон. Тюрьма была старая, даже старожилы не могли припомнить, какому падишаху вначале она служила. Устроена была она в виде зинданов — темниц, вырытых в земле и расположенных вокруг площадки с крытым верхом. Камеры-клетушки темные, узкие, сырые.
Намаз лежал на жестком, соломенном тюфяке, подложив руки под голову. Из небольшого отверстия под самым потолком, забранного решеткой, едва проникают лучи недавно взошедшего яркого солнца. В помещении еще царит мрак: стены с выступившей на них от сырости солью почти неразличимы. На ногах Намаза тяжелые ржавые кандалы. На правой щеке, на лбу его багровые, с затвердевшей коркой раны от ударов плетью. Поэтому Намаз может лежать только на левом боку. Глаза его еле открываются: так опухло лицо. Нестерпимо болят плечи, руки, все тело — били его зверски. Намаз не помнит, сколько дней он провел здесь: когда его привезли в тюрьму, он был без сознания.
Кто-то негромко позвал его по имени. Намаз открыл глаза.
— Следуйте за мной, — приказал тот же голос.
Намаз поднимался по ступенькам лестницы, ведущей наверх, едва волоча ноги. На залитой светом площадке он почувствовал страшную слабость, казалось, вот-вот потеряет сознание. Его ввели в одну из камер, расположенных тоже по кругу над зинданами. Его встретил среднего роста, худощавый, хорошо одетый господин с бородкой клинышком. Здесь находился еще здоровенный надзиратель с пышными, густыми черными усами.
— Вы Намаз, сын Пиримкула? — спросил бородатый. — Я — доктор, мне велено осмотреть ваши раны и оказать вам помощь.
— Благодарствую, — кивнул Намаз, — вы позволите мне присесть?
Ему подставили деревянную табуретку.
— Разденьтесь, я вас осмотрю, — сказал доктор, но видно, тут же понял свою оплошность: Намаз не то что раздеться, но и рук поднять не мог.
— Ничего, ничего, я вам помогу, не спешите, осторожно. Да на вас здорового места нет!
— Бить у нас умеют, — усмехнулся Намаз криво.
— Слава богу, кости целы. Принесите теплой воды, — обернулся доктор к усатому.
Надзиратель принес воды, помог Намазу умыться, осторожно протер раны. Перевязывая раны, смазывая их какими-то мазями, доктор покачивал головой, прищелкивал языком.
— Организм у вас крепкий, все скоро заживет, — пообещал он, помогая Намазу одеться.
Обратно в зиндан его вел надзиратель с пышными усами, который помогал доктору. Входя в темницу, он вдруг тихо спросил:
— Вы поймете, если буду говорить по-русски?
— Пойму, — обернулся к нему Намаз, но не мог встретить его взгляд.
— Друзья ваши тоже здесь, — сообщил усатый, вытаскивая из кармана клочок бумаги. — Зачитать имена?
— Не нужно, — сказал Намаз, — он не мог понять, куда клонит надзиратель. И потому все пытался поймать его взгляд.
— Слушайте, — продолжал тот, не обращая внимания на ответ Намаза. — Шернияз, сын Худайназара…
Надзиратель называл одно за другим имена самых близких к Намазу джигитов. Зачем он это делал? Хотел ли установить, вправду ли то были его товарищи, или хотел дать знать, кто именно находится в тюрьме? Но с чего это вдруг полицейский стал таким добреньким?
Эсергеп, Халбай, Каршибай, Аваз… да-а, немало джигитов оказалось в тюрьме… А вот Джуманбая он не назвал. Может, ему удалось скрыться? Или погиб, бедняга, под развалинами дома?! И Насибу не упомянул… Ах, Насиба, что с ней сталось? Все ли у нее благополучно? Каких только бед он, Намаз, не навлек на ее голову! Лишь бы они не тронули Насибу… Ведь эти собаки могли и ее избить, изувечить, с них станется! И на старуху, помогавшую Насибе, у них могла подняться рука. А ведь он, Намаз, обещал привезти ее обратно, обманул, выходит, доброго старика, мужа старухи…
День этот Намаз провел в страшных мучениях. Физическую боль, пусть не такую, как теперь, он привык переносить. Еще в те времена, когда служил у Ивана-бая, частенько в схватках с известными силачами, получив травму, он все равно доводил борьбу до конца. Его выносливости удивлялись даже противники, признавая, что в этом он превосходит их.
Намаза терзали и душевные муки. Его пожирал огонь бессильной ярости, ему вспоминались все пережитые унижения.
Когда его схватили, руки ему завели назад и связали. На поясе затянули веревку, конец которой был привязан к луке седла Лутфуллы. Он так гордо и важно восседал на коне, точно один на один сразился со львом и вышел победителем. А ведь не будь солдат капитана Голова, он приблизиться бы к Намазу не посмел. Капитан, хмурый и мрачный, велел хакиму доставить пленного куда следует, а сам повернул отряд в другую сторону: ему, видно, вовсе не улыбалась роль жандарма.
Лутфулла же хаким был вне себя от радости: выходило, честь поимки неуловимого Намаза полностью доставалась ему. Он приказал вести Намаза по самым многолюдным улицам кишлаков, через площади, мимо мечетей: пусть каждый голодранец видит, в какое положение попал их любимец! Всех их ждет такая же участь, коли вздумают последовать примеру бандита!
На случай нападения на конвой джигитов Намаза или кишлачных жителей Лутфулла-хаким увеличил количество сопровождающих: впереди ехали двадцать нукеров, позади следовали полукольцом еще тридцать вооруженных людей. Они настороженно и внимательно приглядывались, что происходит на дороге и вокруг, готовые при малейшей опасности открыть огонь.
Посоветовавшись с приближенными, Лутфулла-хаким решил остановиться у Хамдамбая. Этим он как бы убивал сразу двух зайцев: во-первых, даст отдых своим уставшим доблестным воинам, а во-вторых, сдерет с бая суюнчи — подарок за поимку старого врага Байбувы, вора и грабителя Намаза.
И вправду, появление «победителей» в доме Хамдамбая стало настоящим праздником для его обитателей и, конечно же, для самого хозяина, уже несколько оправившегося после недавней душевной болезни. Он тотчас велел зарезать несколько барашков, пригласить специальных поваров и хлебопеков.
Пленного привязали к чинаре, росшей посреди двора. Намаз стоял, опустив голову, чтобы не видеть торжествующих злобных взглядов своих врагов. Если кто приближался, он отворачивал лицо в сторону.
Байбува, конечно, не удержался, подошел к ненавистному Намазу. Поднял его голову концом рукоятки плети.
— Ба, кого я вижу, Намаза-палвана! — хохотнул он издевательски. — Неужто такой богатырь сдался в плен, вместо того чтобы сложить голову в честном бою?!
Намаз только глянул на бая хмуро, промолчал.
— И жрать, наверное, хочется богатырю? — продолжал бай, нарочно потянув в себя воздух, насыщенный ароматами кухни. На лице Намаза не дрогнул ни один мускул. — Принесите сюда посуду, из которой едят мои собаки! — рявкнул Хамдамбай, отступая на несколько шагов. — Да наполните ее до краев помоями!
Алим Мирзо тут же подбежал с большой глиняной чашей, наполненной помоями.
— Поднеси ему! — приказал бай. — Пусть лакает, собачий сын!
Намаз так встрепенулся, что дрогнула верхушка древней чинары.
— Пригуби по доброй воле из этой чаши — и я отпущу тебя на все четыре стороны, — вдруг мягко попросил Хамдамбай.
— Зачем же ты мне свою еду уступаешь, господин сукин сын?! — ответил Намаз, топнув ногой от бессилия.
— Влить ему мое угощение силой! — приказал бай.
Однако байские лизоблюды не смогли запрокинуть голову джигита. И тогда Заманбек, сын Хамдамбая, вылил содержимое чаши на голову Намаза. Но тут отец оттолкнул сына в сторону.
— Отойди, Заманбек, вначале я сам должен с ним расквитаться. Ведь именно из-за этого ублюдка я чуть не лишился состояния! Слушай ты, свинья, ты украл покой и сон моих близких и друзей, из-за тебя заболел я позорной и страшной болезнью, так получай же теперь заслуженное, вот тебе, вот!
Заманбеку, любящему сыну, не хотелось, чтобы отец, перенесший тяжкую болезнь, перетрудил себя. Он выхватил у Хамдамбая плеть и сам принялся за работу. Намаз стоял молча, широко расставив ноги, глядя прямо в глаза своему истязателю. Палван, казалось, и не чувствовал ударов плети, они были для него сродни укусам комара, тогда как его, намазовский, взгляд полосовал байского сына острее любого клинка.
Взъяренный своим полным бессилием перед Намазом, Заманбек отбросил в сторону плеть и приказал принести палку.
Намаз не помнил, когда он потерял сознание: истязание длилось очень долго. Придя в себя, увидел, что лежит на земле, а над ним склонился Заманбек. Тот, ступив сапогом на челюсть, пытался раскрыть ему рот. Помои, которые лил сверху Алим Мирзо, струей лились на лицо Намаза.
— Не-ет! — взревел Намаз, собрав все силы и пытаясь подняться на ноги, но опять потерял сознание и больше в себя не приходил…
Намаз лежал на боку, глядя на слабую игру лучей солнца на стене темницы. Он не мог отрешиться от печальных мыслей, они бесконечной вереницей чередовались в сознании.
Вечером того дня, как его водили к доктору, Намаз услышал песню Шернияза. В тот миг он был погружен в полубредовый сон: мнилось ему, будто они с Насибой живут в шалаше при бахче. Светит ущербный месяц. Насиба, качая детскую люльку, ласковым голосом поет колыбельную. Вдруг за шалашом загромыхали конские копыта. Намаз знал, что они несут опасность сыну, жене, ему самому… Схватив винтовку, бросился наружу… и тут проснулся, медленно возвращаясь к действительности. Лежал он не в шалаше, а в темнице, и месяца не было видно — в зиндане царил мрак. Но песня… такая же печальная, протяжная, какую только что пела Насиба, продолжала литься… Прислушавшись, Намаз узнал голос Шернияза. Добравшись на ощупь до стены, на верху которой находилось отверстие, Намаз прислонился к ней, закрыл глаза… И песня тотчас унесла его на своих крыльях в широкие степи, где щебетали птицы, шелестели травы, со звоном неслась по арыкам прозрачная вода…
Бедный Шернияз разлучился с любимой в день, когда должен был соединиться с ней навсегда… Не в невестиной комнате, разукрашенной разноцветными шелками, лежит он, а в сыром зиндане с простреленной ногой… Не довелось бедняге любить-ласкать свою жену, задать пир друзьям и родственникам и сказать самому себе с гордостью: «Вот и я теперь стал человеком семейным, и у меня теперь есть дом, хозяйство…» Разбились мечты в пух и прах, развеялись по ветру… И горя теперь в душе Шернияза вдвое больше, чем у любого самого несчастного на свете… И оно, горе это, изливалось теперь в песне, летевшей в ночном мраке…
Я плачу, как влюбленный соловей, Твердя стихи любви по тайной книге. Сниму ль обид и горести вериги, Достигну ль я возлюбленной моей? Горит, горит в груди огонь разлуки, И душу точит горькая слеза. Прозрел Машраб — открыла боль глаза, Но встречу ль я любимую, о други?..«Шернияз! Братишка, спасибо за песню! Спасибо, что подал голос, который я уже не чаял услышать! — хотелось закричать Намазу. — Живой, значит, и на том спасибо. А беды и горе мы как-нибудь переживем, привычные…»
Он еще долго стоял, прислонясь к стене, словно надеялся, что Шернияз споет еще. Но кругом царила тишина.
«Они, наверное, обижены на меня, — с горечью подумал Намаз. — И поделом мне. Они верили, надеялись на меня, а я не уберег их. Что я могу теперь сделать? Как могу освободить их? Как спасти их от тюрьмы, а может, и от смерти? Нет, я должен бежать, как угодно — бежать! Иначе мне не вызволить джигитов из темницы! Ногтями буду рыть землю, коли понадобится, ребро свое выну, чтобы сделать подкоп, но все равно убегу! Выберусь — всех освобожу за одну ночь!.. Странно, почему усатый надзиратель так ведет себя? Из жалости? Еду приносит, раны перевязывает… Может, попытаться поговорить с ним: вдруг поможет связаться с джигитами? А что, если взять да попросить напильник? Даст — так даст, нет — хуже ведь не будет… Нас может спасти только риск, смелый риск! Не зря же говорят: «Кто рискует — того аллах не забудет…»
В один из последующих дней произошло событие, которое воспламенило его надеждой на скорый побег. Его вели в уборную, когда, пересекая тюремный двор, Намаз вдруг увидел парнишку, грузившего мусор на ишак-арбу. Вернее, он только делал вид, что грузит, а сам во все глаза глядел на Намаза. Это был Хайитбай. После того как взгляды их скрестились, мальчишка деланно-равнодушно отвернулся и продолжал работать, мурлыча про себя какую-то песенку. Весь его вид как бы говорил Намазу: «Увидел меня, понял, зачем я здесь, ну и ладно! Это-то нам и нужно было». — «Понял, братишка, все понял! — ликовал Намаз. — Значит, не забыли нас товарищи на воле, беспокоятся, предпринимают какие-то шаги к нашему спасению. Великодушное поведение усатого полицейского тоже, видать, результат стараний друзей. Надо сегодня же попытаться вызвать его на откровенность».
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПОЕДИНОК
Все тюрьмы края были переполнены джигитами намазовского отряда и людьми, подозреваемыми в поддержке намазовского движения. В сорока шести волостных и уездных казиевских судах шло разбирательство их дел. Особо опасные «преступники» содержались в тюрьме «Приют прокаженных», и их дела должны были рассматриваться русским окружным судом. Предчувствуя, что своими силами не справиться, господин Гескет обратился к генерал-губернатору Туркестанского края с просьбой о помощи: Николай Гродетов, сам заинтересованный в скорейшем окончании «Намазовских беспорядков», прикомандировал в Самарканд отряд судейских чиновников Ташкентского окружного суда.
Допрос Намаза поручили следователю по особо важным делам Владимирову, имевшему большой опыт работы с политическими заключенными.
Хотя истекала неделя, как Владимиров принял дело Намаза, он не спешил начинать допросы. В первую очередь следователь досконально изучил кипы жалоб на «деяния» Намаза и его соратников, поступившие в генерал-губернаторство в разное время, донесения администраторов, полицейских чиновников и пришел к заключению, что Намаза, сына Пиримкула, можно обвинить по статьям о грабительстве, вымогательстве, воровстве, убийстве, о неподчинении местным властям, о вооруженном выступлении против существующего строя. Уж не по одной — нескольким статьям можно было казнить Намаза не задумываясь. Удовлетворенный, господин Владимиров наметил план предстоящего допроса и велел конвоирам доставить заключенного.
И вот перед ним предстал Намаз, совсем еще молодой человек богатырского сложения. Руки связаны за спиной, на ногах кандалы. Увидев это, следователь уткнулся в бумаги, испытывая нечто вроде смущения. По закону тюремная администрация не имела права заковывать арестованного в кандалы прежде, чем виновность его будет доказана.
— Развязать узника, снять кандалы, — сердито приказал Владимиров конвоирам. Намаз усмехнулся: он хорошо знал законы, но знал также и то, что они постоянно будут нарушаться.
— Администрации тюрьмы будет заявлен протест, — сказал следователь, когда Намаз был освобожден от пут. — Садитесь. Мне говорили, что вы свободно владеете русским языком, это правда?
— Ну, не совсем свободно, но разговаривать могу.
— Выходит, толмач нам не понадобится. Тем лучше. Как вы себя чувствуете?
Намаз молча повел плечом.
— Не нужно ли вам чего-нибудь? Говорите, не стесняйтесь.
— Вчера кормили очень соленой баландой, — улыбнулся Намаз, — а воды дать забыли.
— Принести воды, — приказал Владимиров одному из конвоиров. — Скажите, Намаз, вы женаты?
— Да.
— Дети есть?
— Детей… — произнес Намаз и осекся. — Детей нет.
Следователь кивнул: Намаз, сам не зная о том, сказал правду. Но Владимиров не собирался сообщать заключенному о смерти его дочери. Это могло окончательно выбить Намаза из колеи, и так слабого после жестоких побоев. Тогда о работе с ним не могло быть и речи.
— Скажите, вы давно связаны с самаркандскими социал-демократами?
— А что это такое?
— Вы человек достаточно просвещенный, чтобы не знать, кто такие социал-демократы.
— Но я и вправду никакого представления о них не имею! — воскликнул Намаз.
— Хорошо. Выходит, вы стали на преступный путь разбойника самостоятельно?
— Прошу вас, господин следователь, больше не называйте меня разбойником. Я никогда не разбойничал и никого не грабил. Я всегда был и оставался истцом, требующим положенного ему по закону и совести.
— И потому вы присвоили пятьсот тысяч таньга у Хамдамбая, сына Акрамбая?
— Во-первых, «не присвоил», господин следователь. Все эти деньги я раздал тем несчастным, которые гнули хребет на Хамдамбая и которым он отказался заплатить. Во-вторых, я отнял у него не пятьсот тысяч таньга, а сто. Как видно, Хамдамбай и здесь решил погреть руки.
— Во всяком случае, вы не отрицаете — как бы мы ни называли ваши поступки, — что изымали у людей деньги силой?
— Но вы же прекрасно понимаете, хотя бы про себя, — открыто признавать вы никогда не станете! — они же не отдают по совести того, что люди заработали своим честным трудом!
— Хорошо, положим, вы отобрали деньги, якобы причитающиеся людям, их заработавшим. Но вам-то какая забота? Кто вас уполномочил совершать такие деяния?
— Прежде всего моя совесть, жажда справедливости. А потом и люди, те самые, обманутые, втоптанные в грязь. Начиналось все официально: пострадавшие сами просили меня защитить их права, выступить на казиевском суде.
— Вы можете представить какие-либо доказательства о том, что эти люди просили вас выступить на казиевском суде защитником их интересов? У вас сохранилось их письменное прошение?
— Нет. Все это происходило изустно.
— Мне очень, очень хочется помочь вам, но сделать это вряд ли смогу: у вас нет никаких доказательств в оправдание своих поступков.
— На суде, если вы сведете меня с истинными грабителями, все будет доказано.
— Но ведь существовал верный и законный путь справедливого решения вашего дела. А вы надумали разрешить его под покровом ночи, с оружием в руках…
— Как я мог воспользоваться «законным путем», когда вся дахбедская администрация погрязла во лжи и своеволии?
— Ладно, оставим пока этот разговор. Вы мне скажите, в тот вечер, когда вы… посетили дом Хамдамбая, я полагаю, вы были не одни?
— Разумеется, — улыбнулся Намаз.
— Назовите их имена.
— Увы, этого я сделать не могу.
— Почему?
— А просто потому, что я не предатель.
— Ну что ж… — Следователь помолчал минуту, потом произнес с сожалением: — Как ни крути, вашу деятельность начиная с той ночи мы не можем классифицировать иначе, как откровенный разбой. И вам, к сожалению, никак не удастся доказать обратное.
— А я буду доказывать, — качнул головой Намаз, чувствуя, что его опять охватывает слабость. — Я буду доказывать, что между разбоем и присвоением силой того, что тебе же причитается, — разница как между небом и землей. Разбойником у нас называют человека, который отобрал чью-то собственность, личную вещь. Хамдамбай располагает миллионами. Откуда появились у него эти богатства, коли он ни кетменем не машет, ни серпом не жнет и на поливе не проводит бессонных ночей? Все его богатства заработаны бедняками, а Хамдамбай присвоил их себе. Выходит, грабитель вовсе не я, а он, Хамдамбай, которого вы защищаете. Я прошу дать мне с ним очную ставку.
— Не горячитесь. Всему свое время. Не хотите еще воды?
— Нет, спасибо.
— Пойдем дальше, — Владимиров открыл другую папку, лежавшую перед ним на столе. — Наряду со многими другими, Намазбай, вы обвиняетесь также в убийстве.
— Ложь. Я не убийца.
— Если бы вы смогли доказать это, я был бы только рад. Вот по этому донесению, подписанному управителем Пайшанбинской волости, начальником полиции, вы, Намаз, сын Пиримкула, обвиняетесь в убийстве пайшанбинского жителя Хидирбая, сына Мурадбая.
— Это неправда, — сказал Намаз сдавленно. — Я все расскажу по порядку. Этот негодяй Хидирбай считался самым богатым человеком в Пайшанбе. Как-то остановился я переночевать у одного тамошнего знакомого… Уже вечерело, когда в дом, где я остановился, прибежала с плачем женщина. Она рассказала, что Хидирбай запряг ее мужа и двух сыновей вместо волов в маслобойку. Вначале я даже не поверил этому. Джигиты мои тоже не поверили. Да вы и сами, наверное, не поверили бы, разве не так, господин следователь?
— Продолжайте, — сказал следователь, не отвечая на вопрос.
— Но соседи подтвердили, что Хидирбай всегда заставляет своих должников расплачиваться таким образом. Я пошел к баю, взяв с собой четверых джигитов. Маслобойка находилась за конюшней, старая такая, рассохшаяся, скрипучая. В нее были впряжены двое ребятишек и старик — одни кости да кожа… На шеи надето, как у волов, ярмо, крутят себе жернова, крутят… Пот с них градом, глаза заливает. На мои расспросы ответили, что уже три дня, как их заставляют крутить маслобойку… Я думал, у меня сердце остановится — так было больно и обидно за несчастных. Пошел и выволок из дома лежавшего на атласных тюфяках Хидирбая и двух его сынков, впряг в ту самую маслобойку, которую крутили старик с сыновьями. «Посмотрите, испытайте на своей шкуре, каково работать вместо скотины!» Бай, однако, оказался упрямее любого вола, никогда не видавшего маслобойки. Уперся, и все, ни с места. Была у него там айвовая палка, которой погоняют обычно волов, ну я ею и отделал подлеца хорошенько…
— Кто дал вам право учинять подобную расправу?
— А кто ему дал право превращать людей в скотов?
— Но ведь есть должностные лица, обязанные бороться против несправедливости! А вы присвоили себе их полномочия.
— О ком вы говорите, господин следователь? О собутыльниках того богатея?
— В ту ночь Хидирбай умер.
— Он умер своей смертью.
— Если бы вы не впрягали его в жернова, он бы не умер.
— Если бы он не мучил бедняков, задолжавших ему какие-то гроши, я бы не впряг его в жернова. У этого Хидирбая был целый хурджин расписок, полученных им с должников. Те тоже должны были крутить маслобойку вместо волов. Когда я сжигал эти бумаги, сердце бая не выдержало — он упал замертво.
— Вы явились причиной его смерти, суд признает вас убийцей.
— Я не убийца, я — мститель.
— Бай имел право принимать какие-то меры против злостных неплательщиков долгов.
— Но не превращать человека в скотину. Такого права ему никто не давал.
— Но и вы не имели права убивать человека, чтобы доказать свою правоту.
— Он получил по заслугам!
— Намазбай, я бы просил вас не горячиться. Вы прекрасно знаете, что материалы следствия служат основой решения суда. В ваших интересах считать меня своим защитником, обязанным понять вас, мотивированно объяснить многие ваши поступки. Если честно, я мог бы отвести от вас ряд обвинений, как несостоятельных. Спокойное, деловое выяснение всех обстоятельств дела позарез необходимо как вам, так и мне. В таком случае облегчится тяжесть обвинений, павших на вас, да и у меня будет совесть чиста, а уверенность, что не допустил несправедливости, станет мне наградой.
— Почему, в таком случае, вы не поинтересовались тем, почему и кому я начал мстить? Ведь что-то заставило меня применить силу против силы?
— Вот это-то я и пытаюсь выяснить, — мягко сказал следователь. — В этой бумаге отмечено, что вы избили до полусмерти тысячника Арсланбека Джамской волости, а контору его подожгли.
— Верно, — кивнул Намаз, глядя прямо в глаза следователя.
— Расскажите поподробнее. И зачем вы это сделали?
— Написать об этом, конечно, в той бумажке забыли?
— Забыли, — вздохнул следователь.
— Что ж, слушайте, — продолжал Намаз. — Верно, я привязал негодяя Арсланбека вверх ногами к чинаре на многолюдной площади Джама и крепко отхлестал плетью. А сделал я это за то, что он изнасиловал девятилетнюю дочь своей служанки. Будто мало было ему четырех жен, да еще тех, на которых он женится на месяц-другой… Девочка не вынесла позора — бросилась в Бурхауз… Труп выловили на следующий день. Мать сошла с ума.
— Отец?
— Отца у девочки не было, вернее — им был сам Арсланбек.
— Неужто он изнасиловал собственную дочь?!
— Как видите! — усмехнулся Намаз. — Потому и сошла с ума бедная женщина. Приезжаю, вижу: близкие, родственники бедняжки почернели от горя… Что бы вы сделали на моем месте, господин следователь?
— Продолжайте, — ушел от ответа Владимиров.
— А что продолжать? Привязал негодяя к чинаре вверх ногами на площади и отхлестал плетью. Потом предал огню его контору. Тут мне донесли, что к Джаму приближаются солдаты. Я увел своих джигитов в горы, чтобы избежать кровопролития.
— Хорошо, — начал подниматься с места следователь, давая понять, что разговор окончен. — Я предупрежу тюремную администрацию, чтобы вас нормально кормили. Конвой, увести заключенного.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ
Протест следователя ни в тот день, ни в последующие не был принят во внимание. Все, начиная от полицмейстера и кончая генерал-губернатором Туркестана, хорошо знали, что Намаз, сын Пиримкула, дважды совершал дерзкие побеги из тюрьмы, а в бытность на свободе многократно выходил живым-невредимым, уводя и свою банду, из самых немыслимых, отчаянных положений.
Правда, хотя кандалов не сняли, в те дни случилось несколько событий, которые заметно улучшили настроение Намаза. Намазу довелось повидаться со всеми соратниками, взятыми под стражу: следователь устроил им очную ставку в надежде раскрыть их взаимоотношения с Намазом, что должно было сыграть определенную роль в деле. Однако, к досаде господина Владимирова, многие джигиты заявили, что человека, представленного им неким Намазом, сыном Пиримкула, видят впервые в жизни и никаких общих дел с ним не имели. «У каждого из нас свои обиды, мстить за которые мы поднялись без чьего-либо наущения», — убеждали они, всячески стремясь отвести от Намаза хотя бы часть страшных обвинений.
В один из дней, когда борьба на следствии разгоралась все сильнее, с Намазом опять заговорил надзиратель, сопровождавший его в зиндан.
— Намазбай, тебе привет от жены, — проговорил он без всякого выражения в голосе.
Намаз, хоть сам и собирался поговорить с Усачом при первой же возможности, которая, впрочем, до сих пор не выдавалась, поначалу так опешил, что ничего не смог ответить.
— Сестра твоя Улугой тоже в Самарканде, — продолжал Усач спокойно.
— Серьезно? — На этот раз Намазу удалось заглянуть в глаза надзирателя.
— Зять твой, тесть и еще русский парень, который всегда ходит в узбекской одежде, Назар Матвеевич, кажется, его зовут, — все находятся в городе. Ищут возможность спасти тебя.
— Кого еще ты видел, хороший человек?
— Мало ли кого, — уклонился от прямого ответа Усач. — Ты от меня узнал то, что тебе следует знать.
— Понятно. И на том спасибо, — кивнул Намаз. — А как тебя зовут, хороший человек?
— Для тебя это не имеет никакого значения, — опять ответствовал надзиратель. — А имеет значение вот что. Ты должен растянуть следствие как можно дольше. Делай все, что можешь. Изобрази даже, что сошел с ума, лишь бы следствие не завершили и дело не передали в суд. Нам необходимо выиграть время.
— Ты, конечно, не скажешь, чья это воля?
— Выберешься отсюда — сам узнаешь. Начинай действовать, не откладывая. Только смотри не вызови подозрений.
Навстречу им показались стражники.
— Все остальное потом, в камере, — успел шепнуть Усач.
Глаза Намаза уже привыкли к полумгле темницы, ему казалось даже, что здесь он видит лучше, чем при солнечном свете.
Едва захлопнулась дверь, Намаз быстрым взором окинул клетушку, где каждая трещинка на стене, каждый бугорок на глиняном полу, — все-все было ему уже знакомо до отвращения. Взгляд узника не мог остановиться ни на чем. Пусто было и под соломенным тюфяком. Неужто Усач так жестоко подшутил над ним, намекнув, что в камере его что-то ждет? Не может того быть, ведь надзиратель сообщил ему, что происходит на воле, передал привет от жены и родных. Скажем, к ним он как-то еще мог втереться в доверие, но провести хитроумного Назарматвея не такое уж легкое дело. Тут быстренько обожжешься! Назарматвей не стал бы показываться провокатору, тем более представляться своим именем-отчеством, но Усач ведь так и сказал: «…Русский парень, который всегда ходит в узбекской одежде», и имя назвал! Постой-постой, еще что-то важное сказал полицейский, а он, Намаз, упустил в радостном волнении. Что же это было? Одно слово, одно-единственное, но главное… Какое же? «Потом»! Усатый полицейский сказал: «…Потом, в камере»!
Значит, Усач придет в камеру. Что-то принесет или еще что-то скажет. Какое счастье, Насиба жива, находится на воле! Как она, интересно, управляется с ребенком? Тяжело, наверное, одной, в чужих краях, с бедою горькой в душе… Хорошо хоть, Улугой рядом… Сестра… Бросила на произвол судьбы детей своих малых, поехала в дальнюю даль, чтобы узнать, жив ли брат Намаз, каково ему в неволе!
И верный друг Назар Матвеевич тоже здесь. Назарматвей не мог приехать один, с ним наверняка верные джигиты, готовые пойти ради друзей в огонь и воду. Выходит, на воле не сидят сложа руки, действуют вовсю, чтобы вызволить своих друзей из темниц. Выходит, существуют еще на свете верность, доброта, дружба, любовь…
Дверь темницы с грохотом открылась, Намаз, задумчиво шагавший из угла в угол, поспешно оглянулся. Он надеялся увидеть усатого полицейского. Но вместо него в камеру просунулся стражник-узбек.
— Принимай ужин, Намаз! — крикнул он громко.
Ужин был обернут в клетчатый платок.
— Вначале достаньте штуку из-за моей пазухи, — быстрым шепотом произнес стражник. Намаз вынул «штуку», завернутую в рогожу, сразу почувствовав ее железную тяжесть. Стражник положил еду на пол и поспешно удалился.
Намаз лихорадочно развернул рогожу: сверкнуло лезвие остро наточенной теши[44] примерно в две ладони! Не держи Намаз в собственных руках это орудие, он наверняка ущипнул бы себя, чтобы проверить, не сон ли он видит. Но вот она, теша, острая, с гладко отполированной ручкой. А что можно делать ею? Копать, рубить, а обратной стороной лезвия, обухом, пользоваться как молотком. Задача ясна: друзья на воле пришли к заключению, что он должен делать подкоп. Но какой, в какую сторону, ведь он, Намаз, даже предположительно не знает, в каком месте находится его зиндан. Это во-первых. Во-вторых, куда он будет девать землю, которую вынет? Друзья ничего ему об этом не сообщили. И почему тешу принес не сам Усач, а этот грубоватый с виду парень-стражник?
Намаз подошел к обитой железом двери и громко постучался.
— В чем дело? — раздался голос стражника, приносившего ужин.
— Что-то живот скрутило! — крикнул Намаз.
Медленно шагая по тюремному двору, Намаз зорким взглядом оглядывал, запоминая, общее строение тюрьмы, здания, примыкавшие к нему. Его зиндан находился в той стороне, где стояли строеньица кухни и дровяного сарая. От стены тюрьмы до крепкого глинобитного забора, опоясывавшего «Приют прокаженных», было около пятидесяти шагов, не меньше. Поскольку зиндан Намаза находился на полметра ниже основания тюремной стены, если вести подкоп прямо, можно будет, минуя снизу кухню и дровяной склад, выйти к подножию холма, уже за тюремным забором.
— Заключенный, выходите! — постучались в дверь.
И вот он опять в своем зиндане. Намаз, обычно принимавший быстрые, единственно верные решения, сейчас был растерян, не зная, что предпринять. Долгая, тяжкая работа тешой его не пугала: за свою жизнь он перепахал кетменем, наверное, не одну тысячу танабов земли. Хотя, конечно, работать тешой, да еще скрытно, — не кетменем махать в поле. Тут нужна особая осторожность: небольшой шум уже хорошо слышен в других, соседних темницах. А кто там: друг, враг? Каким образом землю выносить, друзья, наверное, продумали, да и все остальные детали не сегодня завтра сообщат. Но разве может сидеть Намаз сложа руки, когда впереди забрезжил луч надежды?!
Намаз одним махом съел холодный жидкий пшенный суп и, взяв тешу в руку, принялся обследовать стены камеры пядь за пядью, все более убеждаясь, что пробить брешь в них — дело невозможное: они были выложены из жженого кирпича, скрепленного ганчом — особым видом раствора алебастра. Бессмысленно копать яму в полу: в каком уголке темницы ни начнешь — сразу заметят. Разве что под тюфяком, но и тюфяк велят каждую неделю перетаскивать на другое место.
Намаз обессиленно опустился на пол, прислонился к холодной стене, глубоко вздохнул, стремясь подавить подступающее отчаяние.
Только что казалось: скоро солнце засияет над головой, придет желанная свобода, — где теперь свет надежды?! Намаз поглядел на приятно оттягивающую руку своей тяжестью тешу, вздохнул и опять принялся осматривать клетушку, в которую был заключен, внимательным, изучающим взглядом. Неужто ничего нельзя придумать? Но ведь сказал же кто-то из мудрецов, что безвыходных положений не бывает. Может, друзья, переправляя ему тешу, и сами не представляли, какой подкоп он начнет рыть, надеялись только на его ум и смекалку? Так неужели он, Намаз, не найдет тот единственный путь, который должен существовать?
Взгляд Намаза остановился на лестнице в четыре ступеньки, ведущей к двери темницы наверху. У основания лестница была сложена из больших каменных глыб…
Весь напрягшись, Намаз медленно поднялся и так же медленно, не отрывая взгляда от этих глыб, словно завораживая их, направился к лестнице. Если только суметь вынуть один из камней, лежащих в самом низу, все пойдет хорошо… Только работы поприбавится, копать придется шагов десять-пятнадцать лишних…
Каменные глыбы тоже были скреплены между собой ганчом. Бить тешой по ним нельзя — такой звон поднимется, что только уши затыкай.
Намаз выбрал нижний камень ближе к стене, в углу, провел тешой по застывшему камнем раствору. Едва он провел по нему лезвием, раздался сухой скрип, какой издают мельничные жернова, когда в желобах уменьшается напор воды. Намазу показалось, что звук этот поднял на ноги всю тюрьму. Прислушался затаив дыхание. В «Приюте прокаженных» царила прежняя тишина. «Значит, мне показалось, что очень громко, — решил Намаз. — Ведь в моей темнице царит такая тишина, что уши отвыкают от звуков, и малейший шорох кажется грохотом. Но все равно рисковать нельзя. Надо дождаться, когда стражники в нарушение всяких уставов, как всегда, прикорнут. Тогда ведь оживают молчавшие весь день узники. И джигиты мои начинают петь, чтобы излить свою тоску по воле…»
Намаз опустился на землю, вытянув ноги, прислонился к стене и закрыл глаза… Сказать кому на воле — поверит ли кто, что люди в тюрьме поют? Поют люди, которые знают, что не сегодня завтра непременно могут быть приговорены к смертной казни? Говорят, женщины освобождают душу от горя и печали плачем, а мужчины, видать, песней… И не мудрено, если песня еще и поможет им свободу отвоевать…
«Кичкина, мой малышок, вместе с шапкою — вершок», — вдруг отчетливо зазвучал в ушах голос Шернияза, затянувшего шутливую песенку:
Меньше малого орешка, кичкина, мой малышок! —хором подхватили многие голоса. Намаз вскочил на ноги, словно в него влили живую воду, подступил к облюбованному камню.
Кичкина, мой малышок, вместе с шапкою — вершок!..Удар по проклятому ганчу! Удар, еще удар!
Меньше малого орешка, кичкина, мой малышок!..
Сейчас, наверное, Шахамин, человек немолодой, но любитель пошутить и посмеяться, вышел в середину круга, изображая жеманную женщину, принялся плясать, не обращая внимания на рвущие кожу кандалы, на звон цепей… Поплясав, Шахамин начнет превращаться в арбуз: втянет голову в плечи, ноги согнет в коленях, руки сложит перед собой, выгнет спину, глядишь, перед тобой то ли человек, то ли в самом деле арбуз, и не маленький, конечно… Намаз улыбнулся. Ему вспомнилось, как часто его джигиты во время привалов в тугаях или безбрежной степи, несмотря на усталость, собирались в круг и тотчас затягивали свою любимую «Кичкинаджан», а Шахамин выходил плясать первым и приглашал других не оставаться в стороне.
Меньше братца Эсергепа, с кем делился крошкой хлеба, Меньше деда своего — Шахамина самого!Намаз работал с удесятеренной силой, точно поющие помогали ему. Подкопанная снизу, крупинка за крупинкой лишавшаяся удерживавшего ее ганча, глыба едва заметно качнулась, как зуб, подточенный долгой болезнью!
Меньше малого Халбая, Ачилды и Каршибая, Но зато он всем дружок, Кичкина, мой малышок, Кичкина, мой малышок, вместе с шапкою — вершок! —все неслось откуда-то, было не понять, сверху ли, с боковых, расположенных рядом с клетушкой Намаза темниц.
«Да они никак песней сообщают, кто здесь находится!» — улыбнулся Намаз, вставляя тешу в едва заметную расщелину, образовавшуюся между каменными глыбами. Та, «намазовская», снизу, неуклюже шевельнулась, потом покорно опустилась одним краем в вырытую под нею яму. Обрадованный Намаз, однако, не спешил свалить ее окончательно. Наоборот, подперев глыбу рукоятью теши, руками отскреб всю вытащенную землю обратно в яму, тщательно утоптал, а затем, поднатужившись, приподнял и уложил камень на место почти так, как он лежал раньше. Что эта глыба вынималась, можно было обнаружить только при очень внимательном осмотре. Намаз подмел полой халата вокруг камня. Никаких следов от его ночных трудов не осталось.
Теперь нужно было придумать, куда спрятать тешу. Оказалось, некуда, кроме как в тюфяк. «Ладно, ночь мы с нею как-нибудь переночуем, — подумал Намаз. — А завтра что-нибудь придумаем. Когда тайный ход удлинится, там много чего можно будет спрятать. А пока придется рисковать».
Время, знать, давно перевалило за полночь. Исполнители «Кичкинаджана» давно угомонились. «Молодцы, мои дорогие! — улыбнулся Намаз. — Пойте, пойте побольше, это вам и душу облегчит, а может, и освобождению нашему поможет!»
Едва Намаз растянулся на своем жестком ложе, как почувствовал, что по ногам потянуло холодом. Видать, кто-то бесшумно отворил дверь и теперь прислушивался. Намаз по старой привычке напрягся и чутко ждал, что произойдет дальше.
— Намаз, не спишь? — донесся в темноте знакомый голос усатого надзирателя.
— Не сплю, — ответил он с облегчением.
Усач на ощупь добрался до него, опустился на тюфяк.
— Орудие тебе передали?
— Передали.
— Тогда слушай, что я скажу, — продолжал еле слышным шепотом надзиратель. — Во-первых, перестань ты так дичиться меня, я свой, понял, ну не в том смысле, правда, что я борец за какую-нибудь там идею, нет, свой в том смысле, что и у полицейского может найтись для таких, как ты, сострадание и желание помочь. Так вот, вначале мы думали подкупить начальника тюрьмы, старого пьянчужку. Не вышло. Как раз когда он нам понадобился, он упал с коня и вот уже несколько дней лежит без памяти, в себя не приходит. А и придет — вернется ли на свое место, нет, неизвестно. Пока же сюда назначен новый начальник. Зверь, а не человек. Ты должен быть очень осторожным, понимаешь?
— Понимаю.
— На твое счастье, отряд стражников, которые подчиняются мне, на время перевели сюда в ночное дежурство. Среди них у меня есть несколько верных людей. Одного ты уже видел. Дежурить мы будем дней десять, не больше. На это время я обещаю помогать во всем, в чем будет нужда.
— Хорошо. Но что я буду делать с этой штукой, которую передал мне ваш человек?
— Рыть подкоп. Как ты его будешь рыть, мы должны с тобой сейчас решить. Но я сперва хочу объяснить тебе, в какую сторону примерно должен идти тайный ход.
— Если по прямой, то от того правого угла, напротив двери, — сказал Намаз, — пройду под кухней и дровяным сараем, под тюремным забором и выйду наружу, к основанию холма.
— Видишь, ваши ребята не ошиблись в тебе, когда говорили, что ты быстро сообразишь, что к чему, — обрадовался Усач.
— Рыть-то я могу, — горько усмехнулся Намаз. — А куда я буду девать ту уйму земли, которая будет выходить из рва?
— Я принес тебе мешок. Возьми, пока спрячь в подушке. Землю будут выносить мои люди. Мы это продумали. Работать ты должен только ночью. И еще одно: никому ни слова о готовящемся побеге. Среди ваших есть предатель, но кто — сказать не могу. Сам не знаю. Понял?
— Понял, — сказал Намаз, разом представив себе всех тех джигитов, которые сегодня помогали ему своей веселой, разудалой песней. — Только вы им не мешайте петь по ночам, хороший человек, ладно?
— Ясненько, — тихо засмеялся надзиратель. — Пусть поют. А то у ночи, говорят, уши длинные! Но мы с тобой не решили главного — откуда копать так, чтобы никому ничего, даже при тщательном осмотре, не было заметно… Вот главное, что нас мучает. Я сам уж думал-думал, чуть голову не сломал, но так ничего и не придумал…
— Ну, это дело уже решенное, — теперь засмеялся Намаз. И рассказал, что он успел сегодня продумать и проделать. Усач пришел в полный восторг.
— Не зря, выходит, твои твердили, что ты уж обязательно что-нибудь придумаешь, — хлопнул он по крепкой, как камень, спине узника. — Да, привет тебе от Сергея-Табиба, как вы называете Сергея Степановича.
— Он тоже в городе? — обрадовался Намаз.
— Бывает частенько. Он нынче лечит мою жену. Прекрасный человек. Вот это ключ от твоих кандалов, я сделал дубликат. Ночью, когда будешь работать, будешь снимать кандалы. Но к утру не забывай их надеть, понял?
— Этого уж я не забуду, — горько усмехнулся Намаз.
— Да, еще. Над приятелями твоими уже начался суд.
— Когда?
— Вчера. Ты должен оттягивать окончание следствия всеми силами. Иначе прорыть подкоп не успеешь.
— Постараюсь. Вы мне доставьте сюда, пожалуйста, свечей. В подземном ходе будет темно, можно и не то направление взять.
— Свечи у тебя будут. Об этом не беспокойся. Не забывай об осторожности и о том гнусном человеке, который затесался среди вас.
— Спасибо, хороший человек, не забуду.
— Ладно, пойду я. Сейчас сюда спустится еще один человек, только не шумите, пожалуйста. Он и будет таскать отсюда землю, вынутую тобой.
Слова усатого надзирателя вначале даже бросив Намаза в пот, потому что он подумал, уж не хотят ли пропустить к нему Насибу, но когда Усач сказал, что «он будет таскать землю, вынутую тобой», понял, что речь идет не о жене. Но все равно он весь подобрался в ожидании.
Послышались осторожные шаги, тихое недовольное бормотанье: «Да уж тут сам черт ногу сломит!..» Голос был знакомый, но Намаз никак не мог его сразу вспомнить. Ломкий какой-то, почти мальчишеский.
— Намаз-ака! — раздался свистящий шепот. — Намаз-ака, я это, ваш приемный брат Тухташ…
— Тухташбай! — Намаз порывисто подбежал к лестнице, нащупал руками Тухташа, боязливо спускавшегося по ступенькам, крепко прижал к груди. Мальчишка тоже обхватил его могучую шею руками, прильнул к нему своим небольшим тонким тельцем. Плечи его вздрагивали.
— Не плачь, братишка. Прошу тебя. Хоть в темноте да свиделись, живыми-здоровыми. Ты лучше расскажи, как очутился здесь. Ведь, клянусь аллахом, кого угодно ждал встретить, только не тебя.
— Так ведь я в полиции служу!
— Да что ты говоришь?!
— Ей-богу, если не верите, вот, пощупайте, стоячий воротник, на груди целый ряд железных пуговиц!.. — с некоторой даже гордостью стал рассказывать Тухташбай. — Они мне и жалованье платить обещали. Тридцать таньга в месяц. Но работа больно уж грязная… Всякий сор-мусор, конечно, ладно, но они и уборные чистить, а потом нечистоты вывозить заставляют… И еще… приходится носить эти самые… не помню, как называются по-ихнему… за больными, которые сами не могут сходить по нужде, все приходится выносить… Такие есть узники, ака, вы не представляете! Одни высохли как щепки, а другие распухли как бочки… Я им помогаю подойти к этой самой штуке… да вспомнил! — параша называется, справлять нужду. Ну ладно, тут интересного мало. Поговорим о деле. Ту землю, что вы нароете в подземном ходу, буду выносить я. Кстати, Хайитбай тоже здесь, — с мальчишеской непосредственностью перескочил Тухташбай с «дела», о котором принялся говорить, на другое. — Только его надо немного приструнить. Со стражниками взял привычку в карты играть. Я ему говорю: «Зачем ты это делаешь?» — а он: «Не твое дело, — говорит. — Нам нужны деньги, много денег, чтобы помочь Намазу-ака». Он на ишак-арбе ездит. Землю, которую я буду выносить от вас, он повезет на своей арбе из тюрьмы. Не бойтесь, ни у кого это не вызовет подозрения. Дядя Петр велел во дворе новую уборную копать, хотя еще и старая вполне годилась. Это он специально сделал, чтобы было, какую землю вывозить.
— Какие новости на воле? — успел вставить Намаз в безумолчную трескотню мальчишки.
— Э, и не спрашивайте, ака. На воле все так и ходит ходуном. На днях из Каттакургана на нескольких арбах люди приезжали. Остановились у полицейского управления и давай шуметь. Покажи нам Намаза, говорят, не покажешь, значит, вы убили его без суда и следствия. Уж к ним и начальник выходил, объяснял, что чушь все это, велел всем расходиться, а они ни в какую, уперлись, что твой осел, и все требуют вас показать. Тогда начальник велел жандармам стрелять, те выстрелили, правда, в воздух, но люди, конечно, испугались, начали разбегаться. Нескольких из них схватили, теперь и они здесь, в «Приюте прокаженных» находятся.
— Кого схватили, не знаешь?
— Нет, — вздохнул с сожалением Тухташбай. — У меня ведь никаких знакомых в Каттакургане… Если нужно, я постараюсь узнать, — после небольшой паузы Тухташбай продолжал: — Что я хочу вам сказать, Намаз-ака, Насиба-апа после смерти ребеночка какая-то такая стала, знаете… Не смеется, не разговаривает, все смотрит в одну точку, все смотрит… Мы боимся, как бы…
— Разве ребенок умер? — прервал Намаз мальчишку задрожавшим голосом.
— А вы разве не знали? Всего полдня-то и жила ваша дочка… Насиба-апа и не видела почти… а вот переживает. Дивана-бобо вызывал самых лучших знахарей, изгоняющих духов, муллы молитвы читали… А она все такая же. Сергей-ака велел нам незаметно добавлять в ее пищу и чай какие-то пилюли, теперь она вроде чуток повеселела. Да, чуть не забыл: Улугой-апа специально для вас испекла лепешки с луком и шкварками, просила передать вам, если удастся. Сегодня я так спешил, когда узнал, что смогу вас увидеть, забыл их взять с собой. В следующий раз обязательно принесу. Ведь такие лепешки не черствеют! Хорошо, Намаз-ака?
Тухташбай вдруг почувствовал, что Намаз его и не слушает вовсе, что он словно находится где-то далеко-далеко, за тысячи верст отсюда.
— Пойду я, — заторопился мальчик, — дядя Петя просил не задерживаться, ругаться начнет…
Тухташбай на ощупь добрался до лестницы, поднялся по ступенькам, открыл дверь. В темнице царила могильная тишина, точно там и не было живого человека. Мальчику стало страшно. Он тихо затворил за собой дверь, повернул ключ в замке.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Обе стороны, борющиеся за голову Намаза, спешили одинаково. Одни торопились снести эту голову с плеч, чтобы поскорее избавиться от ненавистного человека, сеявшего смуту. Их противники всеми силами стремились сохранить золотую голову простого дехканского парня, поднявшегося против богатеев, защищая честь и права бедных и обездоленных.
Растянуть следствие не удалось. Вернее, даже самому господину Владимирову, считавшему себя принципиальным и справедливым человеком, никогда не выносившим поспешного обвинительного заключения, не дали довести следствие до конца. Дело спешно передали суду.
Судебные заседания проходили с такой невероятной, лихорадочной быстротой, что Намаз, готовившийся к худшему, в первые дни даже растерялся. Стало ясно, что администрация инспирировала судебный процесс с явным намерением ввести в заблуждение общественное мнение, заткнуть глотку крикунам. По существу, приговор над обвиняемым был вынесен еще задолго до того, как его схватили. Намаз это хорошо знал. Но, странное дело, даже зная об этом, он питал в душе какую-то надежду. Намаз надеялся высказать на суде открыто хотя бы то, что не стало выяснять дознание. «Должны же они понимать, что не бывает причины без следствия, — размышлял он, — мы же не просто так, от нечего делать, взбунтовались. Ведь нас к тому вынудили! Неужто и правительственные судьи, обязанные строго придерживаться буквы закона, уподобятся казиям, которые, как известно, с готовностью держат сторону обладателя толстой мошны?! Неужто все они мазаны одним миром?!»
В эти дни Намаз сильно сдал. Он похудел, почернел весь. На лице, казалось, остались одни глаза, горящие жарким, лихорадочным пламенем, да острые скулы, окрашенные нездоровым румянцем. Ночами Намаз не спал ни минуты, копал подземный ход. Потом целыми днями стоял на ногах, отвечая на бесчисленные вопросы судьи и обвинителя. Удавалось вздремнуть немного лишь по пути к зданию суда, куда возили его в крытом фаэтоне. Намаз хорошо понимал, что спать по ночам он не имеет права, в противном случае все его старания и старания друзей пойдут насмарку.
Все происходящее на суде окончательно убедило Намаза, который прежде задавался вопросом, правильный ли он путь избрал, добиваясь справедливости, в собственной правоте.
— Суд идет! — провозгласил громоподобным голосом полицейский, стоявший на часах у двери.
В зал вплыл, источая важность и благообразие, судья, человек крупного телосложения, с окладистой, аккуратно подстриженной бородой на плоском багровом лице. Спину он держал неестественно прямо.
Все заняли положенные места.
Судья, нацепив на нос очки в серебряной оправе, открыл перед собой папку.
— Обвиняемый Намаз, сын Пиримкула, вы готовы отвечать суду?
Намаз неторопливо поднялся.
— Да, господин судья, готов.
— Хамдамбай, сын Акрамбая, вы готовы участвовать в судебном заседании?
Вот так дела! Ведь еще не доказаны обвинения каттакурганских истцов, большинство которых Намаз отверг начисто. Не разбирались сколь-нибудь серьезно также в иске пайшанбинских и джумабазарских господ. Выходит дело, высокий «справедливый» суд принимает на веру без всякого сомнения любые обвинения, предъявленные заключенному? Потому и настала теперь, значит, очередь дахбедских «обиженных»! Уж как вы спешите, господин судья, как спешите!
Намаз готовился стойко переносить произвол, с которым столкнется на суде, но душа никак не могла смириться с творившимся беззаконием! Открытая поддержка судьей стороны истцов, его нежелание выслушать обвиняемого пробудили у Намаза чувство, похожее на обиду ребенка, несправедливо наказываемого родителями.
Хамдамбай в шапке из лисьего меха, с бархатным верхом и широкой оторочкой, в черной шубе не спеша поднялся с места, окинул орлиным взором сидящих в зале вельмож, перевел его на судью:
— Готов, господин судья!
Взгляды Намаза и Хамдамбая скрестились. Нет, это была не случайная встреча двух пар ненавидящих глаз. И Намаз, и Хамдамбай давно ждали этого мига, готовились к нему. Взгляд Намаза как бы говорил: «Нет, Байбува, не радуйся раньше времени, я не сдался, я еще поборюсь с тобой!»
Глаза Хамдамбая, выпученные и круглые, как пиалы, горели жаждой крови, точно у дикого зверя, который наконец-то настиг свою жертву и готов растерзать ее. Ах, если бы позволили эти чистоплюи ему самому расправиться с ненавистным босяком, уж он-то нашел бы столько ужасных, мучительных казней, что самим чертям стало бы тошно!..
— Обвиняемый Намаз, сын Пиримкула, — обратился к нему бесстрастным голосом судья, — вы признаетесь в том, что десятого числа октября месяца прошлого года вы забрались ночью в дом Хамдамбая, сына Акрамбая?
— Признаюсь, — подтвердил Намаз, все еще не в силах оторвать взгляд от Байбувы, — однако, наверное, справедливому суду интересно узнать, зачем я это сделал?
— Это собачье отродье отобрало у меня в ту ночь пятьсот тысяч таньга!
— Неправда! — возмущенно вскричал Намаз.
— Еще он увел у меня двадцать отборных скакунов.
— Ложь!
— По наущению этого негодяя мои слуги и работники перестали выходить на работу, чем нанесли мне большой убыток.
— Господин судья… — начал было Намаз, но, увидев холодные глаза, бесстрастное лицо вершителя своей судьбы, умолк.
А судья спросил прежним сухим, официальным голосом:
— Связывали вы в ту ночь руки-ноги своей жертве?
— Связывал.
— Затыкали рот кляпом?
— Затыкал.
— У вас были сообщники? Или вы все это проделали один?
— Хамдамбай, господин судья, был нашим должником, — заговорил Намаз поспешно, боясь опять быть прерванным, — он не отдавал деньги пахсакашам, заработанные ими на строительстве его дома…
— Ваши действия в ту ночь, Намаз, сын Пиримкула, квалифицируются как откровенный грабеж, — заявил судья решительно, точно уже объявлял приговор. — Истец Мирза Хамид, сын Мирзы Усмана, вы готовы участвовать в судебном заседании? — перевернул защитник законности еще одну страничку дела.
Бывший управитель Дахбеда Мирза Хамид нехотя поднялся, кашлянул в длинный рукав шубы:
— Готов.
— Какие претензии вы имеете к подсудимому Намазу, сыну Пиримкула?
— Никаких.
Судья, сняв с носа очки, вначале внимательно поглядел на ноги Мирзы Хамида, потом перевел взгляд на его заметное брюшко, укрытое просторной шубой, и, лишь удовлетворившись этим обзором, посмотрел ему в лицо.
— Вы, господин Мирза Хамид, в жалобе, написанной в свое время, предъявляли к подсудимому Намазу, сыну Пиримкула, ряд обвинений. Вы отказываетесь от них?
— Недоразумение между нами было потом улажено.
— И вы теперь ничего не имеете сказать суду?
— Пока что нет.
— Вы отказываетесь от своих показаний, данных на следствии?
— Меня на следствие не вызывали.
— А вы знаете, что несете уголовную ответственность за ложные сведения, данные полиции?
— Что ж, — пожал плечами равнодушно Мирза Хамид, — чему быть — того не миновать.
— Садитесь! — сердито отвернулся от него судья.
«Вот новость так новость! — удивлялся Намаз, глядя на бывшего управителя, грозу волости, и не узнавая его. — Тот ли это Мирза Хамид или его подменили? Ведь он был моим ярым врагом, не уставал гнаться за мной с того самого дня, как я оседлал коня? Может, он боится мести моих джигитов, оставшихся на свободе? Или заговорила совесть, находившаяся до сих пор в глубокой спячке? Ведь не кто другой, а именно Мирза Хамид участвовал в лицедействе, когда обвинили меня в конокрадстве, сам стегал плетью, вызвав во мне жажду мести!.. Или он просто-напросто пожалел меня? Но я не нуждаюсь в его жалости. Я не из тех, кто отбирает у собаки кость, чтобы самому ее грызть…»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. «БЕЗ ДРУЗЕЙ НЕТ МНЕ ЖИЗНИ»
Судебные заседания были неожиданно прерваны. Три дня уже Намаза не выводили из темницы, и ему было совершенно неизвестно, что происходит за стенами «Приюта прокаженных». А между тем окружной суд в спешке вынес смертный приговор семнадцати бунтовщикам и Намазу в том числе, пятнадцать приговорил к пожизненной каторге в Сибири. Решение суда было отправлено на утверждение генерал-губернатору Туркестанского края Николаю Гродетову. О том, что их участь решена, не знали лишь сами приговоренные.
С наступлением вечера, как только в тюрьме устанавливалась тишина, Намаз приступал к рытью подземного хода. Он вконец обессилел. Теша едва держалась в руке. К тому же в сапе не хватало воздуха, чуть поработав, Намаз чувствовал сильное головокружение, тело покрывалось потом. Несколько раз терял сознание. Чем дальше вел подземный ход от зиндана, тем труднее становилось входить и выходить. Вперед приходилось вползать, а назад — отползать, таща за собой тяжелый мешок с землей. Доставалось это с неимоверными усилиями, но остановиться Намаз не мог, пока в силах был держать тешу. Он должен, обязан выбраться отсюда, выбраться и спасти друзей! Там, на воле, его ждет Насиба. Сестра Улугой, племянники. Ждут не дождутся. Когда он с друзьями выйдет отсюда, они уйдут куда-нибудь в дальние дали, в горы синие, где зеленеют пахучие ели, ласково звенят ручьи, мягко овевает лицо пряный горный ветерок. Они станут под сенью дерев вести приятные, услаждающие душу беседы. Начнется удивительная, похожая на сказочную жизнь, беззаботная, тихая, умиротворенная…
Намаз изо всей силы боролся со слабостью. Голова его клонилась, ноги слабели, не слушались. Но сказочный мир, только что стоявший перед глазами, вдруг исчез. Горы налезли друг на друга, небо накренилось, бег ручьев прервался, как перегнившие тесемки, вечнозеленые ели слились в один уродливый ком. И ничего не стало. Пустота кругом. И он, Намаз, ничего не видит, не слышит. Весь мир состоит из бесконечной пустоты и мрака.
Откуда-то из пустоты стало возникать что-то страшное, знакомое. Оно росло и росло, пока не превратилось в Хамдамбая, громадного, как сказочный див. В одной руке у него сверкала сабля, в другой он держал чашу с помоями.
«Ты вылакаешь это, и тогда я освобожу тебя!»
— Нет! Сгинь! — закричал Намаз. И пришел в себя от звука своего же голоса. Поспешно поднял голову. Свеча, воткнутая в землю, почти догорела. Значит, долгонько валялся…
Он выпил несколько глотков воды из глиняного кувшинчика, который всегда брал с собой в подкоп, смочил лицо. Сознание, будто окутанное туманом, вроде бы немного прояснилось. Еще немного полежав, Намаз взял тешу в руку, стал копать дальше.
«Нет, я не могу, не имею права терять сознание, — подумалось ему. — Я обязан держаться до последнего. О аллах, я тебя еще и еще раз прошу, дай мне терпения и сил! Нас тут держат не каменные стены, не земля бесконечная, в которой я должен прорыть кротовью нору, а мир богатеев, злобных угнетателей, мучающих нас, отнявших наши права, растоптавших наши честь и достоинство! По ним я бью тешой, сил у меня сколько угодно, терпение бесконечно, и я их всех одолею, вырвусь на светлую волю!..»
Его опять стала одолевать слабость. Тело покрылось холодным потом. Теша выпала из рук. Закружилась голова… Изо всех сил вцепившись в наполненный землей мешок, он пополз назад. Надо выбраться ненадолго в зиндан, надышаться свежим воздухом — ах, какой легкий, освежающий воздух в его сырой темнице, если бы кто знал!
Он оставил мешок у лаза, с трудом вставил на место камень, ползком добрался до своего тюфяка, растянулся на нем. Головокружение медленно отступало. Стал одолевать сон, но какой-то неприятный, навевающий непонятную тревогу…
В зиндан спускался Тухташбай, чтобы забрать мешок с землей. В темноте он чуть не свалился с неровной, отполированной множеством подошв ступеньки и начал недовольно ворчать: «И это называется государственным учреждением! Не могут даже починить ступеньки зиндана!»
Намаз слышал голос мальчишки, хотел даже окликнуть его, но не мог.
— Намаз-ака, вы спите? — тихо спросил Тухташбай.
Намаз порывался ответить, но язык не слушался. «Неужто я сплю? — удивился он; — Почему же я тогда так явственно слышу, ощущаю присутствие Тухташа? А рук и ног у меня нет… И голоса нет — нет ничего… И отовсюду ползут какие-то мохнатые, отвратительные твари, целые полчища… Сверху спускаются, по-змеиному извиваясь, синие облака… Наверное, так опускается сон, покой… Сон, покой…»
Не дождавшись ответа, Тухташбай поспешно приподнял Намаза за плечи: голова беспомощно повисла. Тухташбай испуганно ощупал уши Намаза, погладил лицо, на котором раны уже зарубцевались.
— Намаз-ака, откройте глаза! — требовательно прошептал мальчишка.
— Тухташ? — раздался едва слышный голос.
— Я это, я — Тухташ, он самый! — чуть не плакал испуганный Тухташбай. — Только откройте глаза!
— Воды… облей… весь горю, — попросил Намаз невнятно.
— Сейчас, вот… Хорошо, что принес полный кувшин. Как вам теперь, лучше?
— Помни малость ноги, руки…
— Что с вами?
— Какие руки у тебя слабые… Становись ногами. Так, дави сильнее, еще… устал я, да, устал…
— Не уставайте, не то сейчас время, чтоб уставать. Не больно? А я вам тыквенные самсы принес. Насиба-апа сама пекла, хотите? Ей гораздо лучше… У Сергея-аты руки золотые, сердце тоже… Насиба-апа веселая стала, серу жует иногда и смеется, когда захочет…
— Ох, и болтун ты, братишка, — улыбнулся Намаз слабо.
— Я же говорил вам, что вырос в тыквенной клетке, вместе с перепелками. Ни минутки не могу молчать, хоть убейте. Как, топтать еще или хватит?
— Давай, давай, покрепче только.
— Намаз-ака, я вам подарок принес. Ух, какой подарок! Я его в мешковину завернул, никто не видел. Нате.
— Никак кинжал? — удивился Намаз, нащупав в темноте поданный Тухташбаем предмет.
— Какой-то кузнец, ваш приятель из Ургута, изготовил его. На рукоятке написано: «Круша злодея род во имя чести, я души умащал бальзамом мести…» Завтра сами посмотрите. Назар-ака и дядюшка Джавланкул ездили в те края, это они привезли кинжал. И дело, по которому ездили, в порядке.
— Что за дело?
— За конями ездили. Десять скакунов привели. Не кони, а крылатые птицы! Давайте-ка, ложитесь на живот, потопчу уж вам спину. Дивана-бобо всегда говорит, что душа человека находится в его спине: помни ее хорошенько, помассажируй — больной и оживет.
— Насибе-апа привет передашь, хорошо?
— Конечно, передам.
— И пусть еще самсы пришлет.
— Ладно, а теперь я пойду. Мне еще в другие темницы надо. Через дверь от вас один такой есть: оглянуться не успеешь — у него уже ведро полное, будто целыми днями только и знает, что арбуз жрет! Где мешок, там же? — послышалось кряхтенье, сопенье, а потом удивленный возглас: — Ия, что такое, мешок-то почти пуст?
— Теперь он будет полный.
— Намаз-ака, послушайте-ка меня. Вам нечего валяться как человеку, через которого переехала ишак-арба. Надо работать, крепко работать.
— Хорошо, теперь поработаю покрепче, братишка.
Поев вкусных, мягких, слипшихся лепешек (видно, завернули их еще горячими), Намаз попил из кувшина, принесенного Тухташбаем, воды. Он попытался вспомнить, кто мог передать ему кинжал, но голова была пуста. В тело медленно возвращались силы, слабость отступала. «Да, не время теперь валяться, как говорит мудрый Тухташбай», — улыбнулся он, медленно вставая. Взяв оставленный мальчишкой пустой мешок, пополз к лазу. Рыть-то осталось всего ничего. Тюремную стену уже миновал. Несколько дней тому назад. Немного осталось теперь, всего несколько аршинов… И почва мягкая, податливая, сразу видно, что сверху ничто не давит. Лишь бы не обвалилась земля, когда уж столько сделано…
Теша в руке Намаза вдруг чересчур мягко вошла в землю, и в тот же миг в лицо его ударила свежая струя воздуха. Неужто это дыхание свободы, неужто подземный ход, который он, Намаз, рыл два месяца, отвоевывая у бесстрастной земли пядь за пядью, подошел к концу?!
Намаз затаив дыхание прислушался. Где-то совсем рядом звенел живой голосок ручья. Со стороны махалли Прокаженных послышался крик раннего петуха.
Намаз уткнулся лицом в сырую землю, плечи его вздрагивали, по телу пробегала дрожь.
Вылив остатки воды в кувшине, Намаз намесил глины и замазал на всякий случай выход лаза. Потом, медленно пятясь, вернулся в темницу.
По темным ступенькам кто-то осторожно спускался, Намаз узнал шаги Петра Заглады, его осторожное, затаенное дыхание: наверное, пришел унести мешок.
— Подойди, дружище, дай обниму тебя! — сказал Намаз, едва сдерживая рвущийся наружу крик.
— Что случилось?
— Я закончил подкоп. Путь к свободе открыт!
— Точно? Дыра-то незаметна?
— Там была только небольшая щель. Но я ее замазал глиной. Иди, дружище, обними меня. Поздравь. Сам не могу подняться… Ноги не слушаются…
Два друга крепко обнялись, замерли на минутку.
— Клянусь богом, я боялся, что не выдержишь, — проговорил наконец Петр Заглада.
Намаз нипочем не хотел один бежать из тюрьмы. Он желал спасти также своих соратников, верных джигитов. Но как это сделать? И вот теперь, вместе с радостью, пришла главная забота: что делать дальше?
— А что, если прорыть ходы и к другим темницам? — подумал вслух Намаз.
— Не успеть, — покачал головой Заглада.
— Почему?
— Потому что вам уже вынесен приговор.
— Как?! Суд-то ведь еще не кончился?
— Приговор вынесен, — повторил бесцветным голосом Заглада. — И отправлен в Ташкент на утверждение.
Опять помолчали, каждый занятый своими мыслями.
— У меня есть план, — вдруг оживился Намаз.
— Ну?
— Сколько дней осталось до праздника курбан?[45]
— Не знаю, — пожал плечами Петр Заглада.
— По моим подсчетам, остается три дня, — заговорил Намаз, заметно волнуясь. — Значит, по обычаю, в воскресенье будет день молитвы правоверных перед праздником. Мы все, узники, с завтрашнего дня начнем шуметь, требовать, чтобы нас допустили помолиться перед казнью в мечети Мадрасаи Ханым. Естественно, администрация на это не пойдет. Тогда кто-то предложит помолиться хотя бы в самой тюрьме, ну, скажем, на площадке перед зинданами. Против этого, по-моему, начальство особо возражать не станет. Во всяком случае, если настаивать, можно добиться согласия. Молитву начнем позже положенного времени. Сейчас рано темнеет, так что все может сойти благополучно…
— Ну, а если начальник тюрьмы сам захочет присутствовать при вашей молитве?
— Он будет молчать: связанный, с кляпом во рту.
— А если я останусь с вами?
— Ты… ты уйдешь с нами.
— Это невозможно.
— В таком случае мы тебя тоже свяжем. Всю вину будешь сваливать на тех, кто разрешил общую молитву в тюрьме. Годится?
— Вроде ничего.
— На воле все готово, чтобы нас встретить?
— Об этом не беспокойся. А теперь я пойду. Надо обмозговать все как следует.
— Посиди еще немного, дружище. Что-то я неважно себя чувствую.
— Нельзя. Скоро смена караула. Надо идти. Ты лежи, отдыхай. И будь крайне осторожен, помни, что среди ваших есть предатель. Он может расстроить все наши планы…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. НЕПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ ГОСПОДИНА ПРОКУРОРА
Намаз лежал, глядя в темный потолок. Мысли одолевали его. Конечно, хорошо бы ему повидаться с джигитами, подготовить их к побегу. Но предатель… В последний миг может все сорваться. Да, но не могли же они и своего человека приговорить к смерти! В таком случае предатель должен находиться не среди смертников, а среди приговоренных к каторге, чтобы впоследствии он мог без опасений появиться среди людей. Значит, если шум поднимут смертники, а к ним присоединятся остальные, наушник ничего не сможет поделать. Но даже из смертников никто не должен знать, что требование помолиться перед казнью исходит от него, Намаза. Ну а что будет, если власти в ответ на их требование заткнут уши да еще крепче запрут темницы, усилят охрану, ограничат доступ к узникам? Ведь до сих пор даже Тухташбай, не говоря о Петре, приходил в тюрьму как домой. Ведь благодаря только этому ему, Намазу, удалось проделать такой адский труд, как рытье подкопа длиной в несколько сот аршин! Остается надеяться лишь на случай. Однако Намаз не из тех, кто складывает покорно руки, не попытав счастья до конца!
Но кто же все-таки предатель? Ведь он, Намаз, всегда был уверен, что среди его храбрецов джигитов, голов отчаянных, нет подлецов. Он в них верил, как в самого себя!
Взять хотя бы того же Арсланкула. Жадный до денег, своевольный. Грозился расквитаться с ним, с Намазом. Но мог он совершить предательство? Нет. У Арсланкула руки загребущие, крутой, непокорный нрав, но он обладает открытой, беззлобной душой. А стал бы он попусту грозиться, коли служит полиции? Нет, конечно. На предательство такой никогда не пойдет.
Кабул? Трусоват. Такой из-за одного страха, что раскроется его двуличие, не может решиться стать вражеским лазутчиком.
Хатам Коротышка? Постой, постой, как же он забыл про этого парня? Ведь еще в ту ночь, когда их окружили в доме мастера Турсуна, Акрамкул докладывал, что к Хатаму, стоявшему на часах, кто-то подходил со стороны дома Лутфуллы-хакима! И он, Намаз, еще тогда приказал проверить его. Почему же теперь, попав в лапы врагов, он ни разу не вспомнил об этом? Все себя винил, что не уберег людей, доверивших ему свою судьбу, да еще решил, что капитану Голову случайно повезло, что он напал на его, Намазов, след. Как, оказывается, просто: не умение, не доблесть помогли преследователям схватить Намаза и его соратников, — им помогла простая, веками преуспевающая «добродетель»: обыкновенное предательство! И его совершил Хатам Коротышка. Хотя… все же нельзя выносить ему окончательного приговора, пока все не подтвердится. Мало ли что… Но остерегаться, конечно, надо…
Мысли Намаза начали путаться, обрываться. Незаметно для себя он погрузился в глубокий, обморочный сон…
На заре 20 февраля 1906 года в Самарканд поступило сообщение, что генерал-губернатор Туркестана утвердил приговор окружного суда над Намазом и его соратниками. В сообщении говорилось, что губернатор потребовал судить всех остальных бунтовщиков, чтобы даже подозреваемые в связи с движением Намаза не избежали сурового наказания.
Утром, когда черная весть облетела тюрьму «Приют прокаженных», Намаз еще спал. Среди арестантов начался ропот, одни плакали, другие колотили в двери, взывая к милосердию, третьи молча, отрешенно творили молитвы…
Начальник тюрьмы господин Панков, три месяца провалявшийся в постели после того, как пьяный упал с лошади, как раз с сегодняшнего дня приступил к исполнению своих обязанностей. А тут такой случай — полное расстройство. Стараясь не обращать внимания на шум и крики, доносившиеся из камер, он принялся наводить порядок в тюремном дворе, не жалея при этом ни зуботычин, ни отборной ругани, на что был большой мастак. Полицейские, тюремщики, стоявшие на постах, оделись поаккуратнее, подтянулись. Ожидалась инспекция высоких чинов.
Часов около десяти, когда волнение в камерах заметно улеглось, большие тюремные ворота распахнулись, и во двор въехала коляска, запряженная парой горячих белых коней. В ней сидели прокурор уезда, человек большой, дородный, красивый, чем-то напоминающий уволенного дахбедского управителя Мирзу Хамида, плосколицый, густобородый городской полицмейстер полковник Гусаков и слегка прихрамывающий на правую ногу адвокат Болотин.
Начальник тюрьмы Панков засуетился вокруг важных господ, показывая им свое хозяйство. Он то забегал вперед, то вытягивался в струнку, то отставал, скромно потупясь, когда гости обменивались впечатлениями.
Удовлетворенные состоянием вспомогательных служб, прокурор и его спутники вошли в тюрьму. Их интересовали зинданы, в которых содержались преступники. Однако, едва ступив на круглую площадку под сводчатым потолком, на которую выходили двери камер, они остановились: в нос ударил нестерпимый тошнотворный запах. Прокурор брезгливо сморщил свой красивый прямой нос:
— Что это тут так… пахнет? — И неожиданно для самого себя громко икнул. — Простите, господа, — смущенно извинился он. — Как учую дурной запах, так икота одолевает, ик!..
Главной целью посещения прокурором тюрьмы было посмотреть место предстоящей казни, за «благополучный» исход которой он нес личную ответственность. В порыве неожиданного человеколюбия, вдруг нахлынувшего на него сегодня утром, он намеревался еще посмотреть и приговоренных, выслушать их «последнее желание», если таковое будет. Но теперь, еще даже не заходя в темницы, он почувствовал головокружение от мерзкого запаха и тотчас отказался от своего необдуманного решения.
— Где это место, ик!.. И не будут ли слышны оттуда выстрелы? Ик!..
— Никак нет, господин прокурор! — вытянулся Панков. — Прошу следовать сюда… только глубоковато находится эта камера, грунтовые воды, так сказать, к тому же крысы…
Они подошли к красной от ржавчины двери, на которой висел замок величиной с голову трехмесячного жеребенка.
— Ик!.. — Прокурор сделал рукой неопределенный жест, который исполнительный начальник тюрьмы принял за приказ открывать. Он выбежал на тюремный двор и через несколько минут вернулся с фонарем. Засветив его, с заметной натугой повернул ключ в замке и растворил громко, казалось, на всю тюрьму заскрипевшую дверь.
— Прошу, господа.
Ступив по нескольким каменным скользким ступенькам, круто сбегавшим вниз, в могильную черноту, прокурор невольно зажал рот и нос ладонью, поспешно повернул назад.
— Господин Гусаков… ик!.. прошу вас… ик!.. спуститесь, посмотрите, как там… ик!..
Густобородый полковник, услышав приказание, не выразил особого восторга, однако не подчиниться не посмел.
Гусаков не так скоро вышел из темницы, как следовало ожидать. То ли он чересчур тщательно обследовал стены, пол и потолок зиндана, то ли заблудился в его недрах: прокурор даже начал терять терпение. Наконец полковник появился в дверях. Он шел, низко пригнув голову, прижав руки к животу, и его покачивало, как изрядно подвыпившего гуляку. Не вдаваясь в излишние описания, он показал прокурору оттопыренный большой палец, мол, преотличное место, и бегом пустился к двери, ведущей на улицу.
— Сегодня же привести приговор в исполнение… ик!.. — последовал за ним с не меньшей скоростью и прокурор. Адвокат Болотин бросился к нему.
— Господин прокурор, с вашего позволения…
— Ну, что там еще? — недовольно обернулся к нему прокурор, благополучно выбравшийся на свежий воздух.
— Будучи знаком с вашей великой справедливостью, достойной подражания, а также добросердечным отношением к преступившим закон несчастным, я решаюсь обратиться к вам с небольшой просьбой…
Слова «великая справедливость» и «сердечное отношение» явно пришлись по душе прокурору. Лицо его даже порозовело от удовольствия.
— Выкладывайте свою просьбу.
— Хотя мои полномочия по защите обвиняемых истекли, — быстро заговорил Болотин, — я счел бы себя вправе просить об отсрочке казни, исходя единственно из интересов государственных. Дело в том, что завтра большой праздник мусульманского мира. Сегодня, в канун праздника, в Туркестане, в Закавказье, везде, где проживают люди, исповедующие мусульманскую веру, все в белых одеяниях выйдут на улицы гулять. Вы сами прекрасно знаете, что мусульмане всей Зеравшанской долины с нетерпением ждут решения участи своих земляков, к коим питают, по темноте и невежеству своему, определенную симпатию. Кроме того, по исламу, большим знатоком которого вы сами являетесь, запрещено производить смертные казни в канун праздника. Боюсь, как бы весть о произведенном сегодня расстреле не взбудоражила местное население и не вызвала новые волнения.
Как всякий смертный, прокурор был беззащитен против стрел лести. Когда в довершение ко всему его представили еще и большим знатоком ислама, прокурор растаял, как кусок сливочного масла. К тому же он обладал способностью издали чуять возможную угрозу его безоблачной жизни.
— Вы правы, — доверительно положил он руку на плечо адвоката, которого недолюбливал и немного побаивался: ох, уж эти либералы! Затем повернулся к полковнику Гусакову, стоявшему поодаль: — Казнь перенести на послепраздничный день. Да, кстати, господин Панков, покажите-ка мне того главного разбойника, может, у него есть какая просьба перед смертью.
И победоносно глянул на адвоката, мол, знай наших.
Когда Панков и сопровождавшие его два полицейских, громко топоча сапожищами, спустились в зиндан, Намаз все еще спал. Полицейские без лишних слов подхватили его под мышки и поволокли наверх. Намаз не мог понять спросонья, что происходит. Остатки сна покинули его уже тогда, когда он предстал пред высоким начальством.
Прокурор оглядел узника с ног до головы и обратился к Гусакову:
— Морально он уже не существует. — Затем повернулся к Панкову: — Что вы, милейший, не могли побрить-постричь это чучело?
— Никак нет, господин прокурор: сам не пожелал! — не сморгнув, соврал начальник тюрьмы.
Прокурор осуждающе покачал головой.
— Скажи, падишах грабителей, у тебя есть какое-нибудь желание перед смертью?
«Перед смертью»!.. — мелькнуло в голове Намаза. — Значит, приговор утвержден. Все пропало, мы опоздали! А что, если попросить помолиться перед праздником? Ведь спрашивают, нет ли у меня какого желания! Нет, эта просьба не должна исходить от меня. Сразу что-то заподозрят…»
Намаз медленно поднял голову.
— Что молчишь, отвечай! — повторил прокурор, заметно теряя терпение.
— У меня нет никаких желаний.
— Был упрямым, упрямым и подохнешь! — Прокурор резко повернулся и зашагал прочь. Остановился у ворот, возле ожидавшей их коляски, обернулся к Панкову, обрадованному благополучным окончанием инспекции. — Будут какие желания — исполнять беспрекословно.
— Слушаюсь, ваше превосходительство!
— Желающим попрощаться с родными, близкими создайте подобающие условия. Пусть эти дикари воочию убедятся, насколько великодушны и человеколюбивы законы Великой Российской империи! Но усильте охрану, вдвое усильте охрану!
Намаз, которого забыли впопыхах увести, слышал приказы сиятельного господина, сыпавшиеся как из рога изобилия. Они звенели в ушах, когда его ввели обратно в камеру. «Значит, казнь скоро. Но зачем тогда он разрешил свидание с родными? — думал палван, обняв ноги и положив голову на колени. — Возможно, прощание продлится день или два, а вполне может статься, сегодня же постараются все кончить. Боже, неужто они осмелятся произвести казнь завтра?»
Весь день снедали Намаза беспокойные мысли. И чем больше он думал, тем больше овладевало им волнение, тем больше путались, тускнели мысли. Потом он незаметно для себя уснул: сказалось напряжение последних дней.
Ужин принес сам Заглада. Тихо окликнул Намаза, и когда тот не отозвался, присел у изголовья, осторожно притронулся к его лицу. Намаз медленно проснулся, но и, проснувшись, не сразу поднял голову.
— Как ты тут? — спросил шепотом Заглада.
— Боюсь, — горячо выдохнул Намаз.
— Слышал, что говорил прокурор? Не расстраивайся, казнь отложена на три дня. Все успеешь.
— Ты правду говоришь?
— Время ли шутить?!
— Сегодня ночью я должен повидаться со смертниками.
— Это я могу устроить. Ключ у меня заготовлен. Ночью Тухташ принесет его. Но меня смущает…
— Знаю. Но у меня нет другого выхода. К тому же я не думаю, чтобы предатель был среди смертников.
— Ну, смотри, тебе видней.
Наступил вечер. Намаз с нетерпением ждал Тухташбая, а он все не шел и не шел. Только ближе к полуночи послышался его веселый неунывающий голос:
Не найти мне Хайитбая Ни в раю, ни в аду, Хоть помру я от досады И на небо попаду!Тихо открыв дверь, скатился вниз по ступенькам.
— Как дела, Намаз-ака? Не спите? Насиба-апа вам плов передала. Собственными руками готовила, специально для вас. Приказала, чтоб при мне съели, сил набрались. Дайте сюда ухо, Намаз-ака: я ключ от зиндана смертников принес, понятно?
— Иди, я тебя поцелую!
— Нет, вначале съешьте плов. Тогда жирными губами и поцелуете. Давайте, приступайте… Такой плов надо есть, чтоб за ушами трещало… А теперь, пожалуй, хватит, переедать тоже вредно… Вставайте, пошли.
— Подожди, сейчас сниму кандалы.
— Когда я открою обе двери, вы через площадку перебегайте быстро, ладно? Как бы кто не заметил, хотя здесь стража не стоит. Мало ли что. Обоймите меня за шею. Голова не кружится? Ничего, сейчас дойдем. А теперь стойте здесь, ждите. Как я запою, так бегите, третья дверь слева.
Через некоторое время под сводами раздался негромкий голос Тухташбая:
Осел Хайитбая В упряжке брыкался, Поскольку ослихой Осел оказался!Намаз распахнул дверь своей темницы…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. УЗНИКИ ХОТЯТ ПОМОЛИТЬСЯ
Двадцать первого февраля 1906 года, рано утром, едва коснулись земли солнечные лучи, окрестности «Приюта прокаженных» огласил душераздирающий крик:
— Вой-дод, нас хотят расстрелять!
Его тут же поддержали сотни голосов, сопровождаемые звоном и грохотом разных предметов. В утренней тиши шум этот разносился далеко по городу.
— Вой-до-од!
— У меня жалоба к губернатору!
— У меня последнее желание!
— Хотим помолиться перед смертью!
У мусульман принято в последний предпраздничный день приносить небольшие подарки узникам. В этот час люди как раз стекались к воротам «Приюта прокаженных». Со всего города и прилегающих кишлаков и городишек шли сюда в надежде поживиться чем-нибудь съестным наравне с узниками нищие, калеки, дервиши. Подъезжали родные и близкие арестантов, везя соседей, детишек в надежде свидеться с дорогим человеком. Крики, плач, стенания, неожиданно обрушившиеся на людей, ошеломили всех, заставили содрогнуться.
— Вой-до-од, папочку моего хотят расстрелять! — заплакал какой-то малыш. Весь остальной люд, словно только этого и дожидался, в голос заплакал, запричитывал, беспомощно колотя кулаками по каменным стенам, железным воротам тюрьмы.
Назревал настоящий мятеж: на головы царя, губернатора, управителей сыпались проклятия, угрозы. К орущим и плачущим присоединились бесноватые маддахи, нищие, калеки.
— О, создатель, помоги нам, защити! — доносится из-за стен тюрьмы.
— Папочка мой родной! Как же я буду без тебя! — взвиваются в небеса тонкие детские голоса.
Вчера на радостях Панков явно перебрал и утром чувствовал себя неважно. А тут вдруг такой беспорядок! Слыханное ли дело? Полуодетый вбежал он к заключенным, заорал, топая ногами:
— Замолчать! Я приказываю!
Однако ему никто не подчинился. Казалось, узники и находящиеся на воле слились в едином мощном скорбном крике. Шум стоял такой, что мог оглушить человека. Господин Панков выбежал во двор, зажимая уши руками.
Вскоре вернулся с толмачом.
— Спроси их, чего разорались?
— Говорят, у них жалоба к губернатору, — сказал толмач, даже не обращаясь к заключенным: он уже знал, чего они требуют.
— А ты спроси, дурень, что за жалоба! И спроси вон тех, которые орут громче всех!
Толмач подошел к большой темнице, где находились приговоренные к казни арестанты, крикнул:
— Помолчите, господин начальник хочет поговорить с вами!
— Чтобы поговорить, вначале дверь открой! — ответили изнутри.
— Пусть не валяют дурака! — взвился господин Панков.
— Они требуют провести праздничную молитву в мечети Мадрасаи Ханым.
— Узников не велено выпускать за пределы тюремных стен. Переведи этим ослам.
— Они говорят, в таком случае вы должны разрешить им помолиться перед смертью хотя бы здесь. Это их последнее желание, которое вы обязаны выполнять по закону и еще по особому распоряжению прокурора!
— Дурак! — схватил вне себя от ярости Панков за ворот толмача, словно тот объявил о своем требовании, а не переводил лишь то, что выкрикивали ему из-за двери узники. — Да кто позволит открывать им дверь зиндана, снимать кандалы!.. Переведи быстренько, не то я тебя задушу….
Крики доносились теперь со всех концов города на протяжении нескольких улиц. Где-то били в колокола, гремели ведрами, медными тазами. «Уж не бунт ли начался?» — съежился в страхе Панков, направляясь к себе. Одевшись, он выбежал на улицу, потом вбежал обратно: он явно не знал, что делать, что предпринять. Наконец, придя к решению, скомандовал зычным голосом:
— Кара-у-ул, слушай меня! В воздух! Пли!
Ружейные залпы, загремевшие в тюремном дворе, больше напугали городского полицмейстера Гусакова, нежели арестантов и шумевших вокруг тюрьмы людей. Он отложил в сторону большую чашу творога, который собирался выпить, вскочил на коляску и помчался к тюрьме.
— Что случилось? — влетел он во двор «Приюта прокаженных».
Шум и крики, казалось, сотрясали сами небеса. Панков, вконец растерянный, вытянулся перед полковником, но ни слова не мог вымолвить. Вместо него ответил толмач, на свой страх и риск объяснив причину недовольства узников. Выслушав его, полковник не разозлился, не затопал ногами, как того ожидал полицейский-толмач, а засмеялся облегченно:
— Ха-ха-ха, и всего-то делов?
— Так точно, господин полковник, — подтвердил начальник тюрьмы, приходя в себя.
— Но ведь сам господин прокурор приказал исполнять любое пожелание приговоренных!
— Однако…
— Я все сказал. Разрешить всем арестантам, кроме Намаза, совершить праздничную молитву.
Толмач, приложив руку ко рту, зычно закричал:
— Эй, мусульмане, слушайте меня! Господин полицмейстер разрешил вам совершить праздничную молитву, очистить свои души от грехов!
Вопли, исходившие из недр тюрьмы, стали медленно затихать, а потом и совсем стихли. Замолчала и толпа, сгрудившаяся у тюремных ворот…
Намаз с утра стоял, прильнув ухом к дверной щели, слушал, волнуясь, что происходит снаружи. Сейчас, услышав объявление толмача, он почувствовал, как невыразимая радость наполняет его. «Все прекрасно, все складывается, как надо! — думал он, бессильно прижав горящую щеку к двери. — Главное — никто ни о чем не догадался. Надо полагать, предатель теперь насторожится. Однако больше его я должен быть начеку. О побеге, о существовании подземного хода никто не должен знать до самого последнего мига»…
Началась подготовка к предстоящей праздничной молитве: подметались полы, стелились паласы, циновки. Панков был вне себя от радости, что все обошлось благополучно, да и ответственность за разрешение помолиться легла вроде не на его плечи, а на плечи полицмейстера. С него и спрос будет в случае чего. Потому он частенько забегал в свой кабинет и прикладывался к бутылке, становясь все более чувствительным и слезливым: он то и дело хватал полицейского-толмача, татарина по происхождению, узбеков-стражников, целовал их, говорил проникновенно, со слезами на глазах:
— По существу, все мы братья, потому как бог — един… Только веры разные, и молимся по-разному… Разрази меня гром, люблю верующих, уважаю… Я для них все сделаю, пусть молятся…
Ко времени третьей молитвы, перед заходом солнца, когда приготовления были закончены, двери всех темниц распахнулись, узники вышли на приготовленную для молитвы площадку. Обросшие, бледные, облаченные в жалкие лохмотья арестанты обнимались, плакали, смеялись от радости свидания. Двери, ведущие во двор тюрьмы, заперли, выставив снаружи охрану. Прислушивавшийся у двери Намаз ощутил наступившую тишину. Он тихо потянул на себя дверь. Она легко поддалась.
Соратники Намаза, не видя предводителя, решили было, что его не выпустят, что ему не разрешили помолиться перед казнью. Теперь, увидев его, неожиданно появившегося в дверях, без кандалов, подтянутого, с решительными движениями, дружно поднялись на ноги.
Палван какое-то время стоял перед джигитами, широко расставив ноги, привыкшие к кандалам, потом произнес негромко:
— Здравствуйте, друзья мои! Поздравляю вас с праздником!
— Здравствуйте, — дружно ответили соратники, — и вас, Намазбай, с праздником.
— Спасибо. Присаживайтесь, братцы.
Но никто и не подумал садиться — все ждали, как в былые времена, на воле, чтоб первым сел Намаз, предводитель. Значит, считать его таковым для себя они не перестали.
Каждая группа узников стояла напротив двери своей темницы. Намаз обошел площадку кругом, здороваясь со всеми за руку. Приговоренные к смерти и приговоренные к каторге стояли отдельно. У всех поникшие головы, печальные глаза.
— Я рад видеть вас живыми-здоровыми, — приговаривал Намаз, пожимая руку каждому джигиту.
— Спасибо. На все воля аллаха.
— Крепитесь. Нельзя терять надежду на лучшее.
— Такова уж, видать, наша доля.
— Говорю же, выше голову!
— Неужто так и дадим им себя убить как баранов, Намазбай?!
Вернувшись к двери своего зиндана, Намаз опустился на циновку. Вслед за ним сели и остальные узники. Намаз попросил Абдукадырхаджу начинать молитву, но сам же не усидел на месте, вскочил.
— Друзья, молиться будем вслух. — Голос его был решительным, твердым, как в былые времена. — Кто не знает слов молитвы, пусть произносит имена святых, Кораном это не возбраняется. Молитесь, просите у создателя сокровенное, не жалейте сил. И да сбудутся ваши пожелания, мои дорогие. Начинайте.
То ли джигиты соскучились по голосу предводителя, то ли они поверили, что в такой день не может не исполниться самая заветная, дерзкая просьба, обращенная к всевышнему, во всяком случае, все дружно опустились на колени и затянули молитву, кто как мог. Звонко, торжественно звучал голос Абдукадырхаджи, казалось, он не молится, а поет последнюю в своей жизни песню.
Намаз обходил круг молящихся, просил, трогая друзей за плечо: «Громче, пожалуйста, громче». Возле каратеринского десятника мастера Турсуна он остановился, присел на корточки, молитвенно подняв руки.
— Отвечайте быстро, коротко, — отрывисто произнес Намаз. — Среди нас есть предатель?
Мастер Турсун испуганно оглянулся.
— Почему вы об этом спрашиваете меня, бек?
— Я вам поручал проверить Хатама Коротышку, помните?
— Помню, бек.
— Проверили?
— Проверил.
— Ну и?…
— Это он навел солдат на ваш след, Намазбай.
— Вы не ошибаетесь?
— Я молюсь перед смертью, бек. Нам никак не дойти до Сибири, вы это хорошо знаете.
— Но ведь и он приговорен к каторге?
— Вы просили отвечать коротко, бек. Я и отвечаю. Сейчас я не могу подробно все рассказать, как я выпытал правду. Но увидите, если доживем, ему сегодня же помогут бежать или вообще отпустят восвояси.
— Хорошо. Продолжайте молиться. Не жалейте голоса.
По углам висели фонари. Проходя мимо, Намаз снял с гвоздя один из них, потом немного замешкался возле группы смертников: от нее отделились двое, Шернияз и Курбанбай, последовали за предводителем. Через минуту все трое исчезли за дверью Намазовой темницы. Вскоре дверь отворилась. Но на площадку вышел… один Намаз.
Узники по-прежнему истово молились, отчасти исполняя просьбу Намаза, отчасти искренне взывая к всевышнему. Однако молясь, они не могли не видеть странного поведения Намаза, почувствовали, что здесь происходит что-то необычное.
Хатам Коротышка, человек с круглой, как арбуз, головой, длинным туловищем и короткими руками, почуял неладное еще тогда, когда Намаз неожиданно вынырнул из своей темницы. А когда тот присел на минутку возле мастера Турсуна, его охватила обжигающая тревога. Собрав остатки мужества, он решил разузнать, что тут затевается, а потом неприметно выскользнуть наружу, где его ждали свобода и туго набитый золотом кошелек.
И Хатам Коротышка продолжал молиться громче прежнего.
«Намаз вышел из темницы один, и фонаря в руках нет, — продолжал он наблюдать, — значит, в зиндане что-то происходит. Вон еще двое исчезли в Намазовой темнице. Сел на место, что-то шепнул друзьям. Те сразу оживились, задвигались. Что, интересно, затевается? А Намаз, тот вообще не похож на узника. Прежний главарь головорезов, да и только! И без кандалов… Без кандалов?! Почему я сразу не обратил внимания на это? Кто мог их снять? Никак тут заговор зреет, да еще какой!..»
— Хатам, — прошептал парень, сидевший рядом с Коротышкой, подтверждая его худшие опасения, — передай соседу, сейчас бежим из тюрьмы. По подземному ходу. Для нас на воле приготовлены кони, оружие.
— Что? — вздрогнул Хатам, точно кто хлестнул его плетью, и начал подниматься. Но тут поймал на себе взгляд Намаза, внимательно наблюдавшего за ним, опустился на место, чувствуя, что ноги не слушаются его.
Что делать? Бежать, бежать скорее, спасаться! Спастись, доложить о том, что здесь затевается, и еще раз заслужить благодарность властей!
Хатам Коротышка, медленно пятясь, спрятался за спины молящихся и проворно пополз, почти касаясь носом пола, к наружной двери. Вот до нее осталось три шага, два, один…
Вскочив на ноги, Хатам грохнул кулаком по тяжелой, обитой железом двери. В мощном шуме молитвы звук этого удара был подобен писку комара в бурю. В следующую секунду кто-то схватил Коротышку за плечи железными клещами, приподнял над полом. Намаз!
— Отпусти, мне нужно. Живот… — скрючился Хатам, отчаянно суча ногами.
— Облегчайся здесь.
— Я буду кричать.
— Тогда я тебя задушу.
Люди молились с прежним рвением. Гул стоял мощный, хотя число молящихся убывало с каждой минутой.
— Отпусти меня, Намаз! — взмолился Хатам с выпученными от страха глазами. — За добро я отплачу добром. Открою тебе, кто украл сестру твоей жены.
— Опять продашь кого-то?
— Ее украл старший сын Хамдамбая Заманбек. Ему помогали нукеры Лутфуллы-хакима. Заманбек каждому из них заплатил по сто таньга. Отпусти же меня теперь.
— Где держат Одинабиби?
— Этого я не знаю.
— Ты выдал меня солдатам.
— Нет!
— Признавайся честно, если не хочешь сдохнуть собачьей смертью.
— Я помог солдатам поймать этого проклятого Турсуна, чтоб глаза его зеленые засыпало землей! Я его ненавижу, он бил, истязал моего брата и дядю. Отпусти же, говорю!
— Джигитов Турсуна тоже ты выдал солдатам?
— Да, я, я! Хватит тебе? А теперь отпусти. И учти — меня нельзя трогать.
— Подлец, никто теперь не спасет тебя.
Моление продолжалось.
— Смерть предателю! Аминь! — крикнул кто-то из молящихся джигитов.
— Намаз, дай я сам его прикончу, — сказал другой.
Намаз, крепко сжимая обеими руками горло Хатама, медленно повалил его наземь. Предатель, едва коснувшись головой пола, слабо дернулся и замер. Лицо его исказила гримаса, похожая на изумленную улыбку. Голоса молящихся стихли. Под сводами площадки воцарилась тишина.
Намаз последним покидал «Приют прокаженных». Он прикрыл труп Хатама потрепанным халатом, брошенным впопыхах кем-то из арестантов, и проговорил без тени сожаления:
— Несчастный, никто-то не прочитает над тобой даже заупокойную…
Часть четвертая ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА МСТИТЕЛЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗ РУЧЕЙКОВ ОБРАЗУЮТСЯ РЕКИ
К лету 1906 года Намаз вполне оправился сам и восстановил дружину. Хотя он тщательно скрывал свое местопребывание, друзья через верных людей находили его и вливались в отряд.
— Веди нас, Намазбай: око за око, кровь за кровь.
— Богатей совсем одолел, бек. Накажи Каримбая, на коленях просит весь кишлак.
Назарматвей опять возглавил десятку, добывающую оружие и снаряжение. Кабул — джигитов-разведчиков, собирающих сведения о передвижении воинских частей и полицейских, жалобы и челобитные простого люда. Эшбури ведал казною. Арсланкул отправился намазовским представителем в бекства Хатирчи и Зиявуддин. Тухташа и Хайитбая Намаз назначил связниками между десятками.
Дело Намаз поставил теперь несколько иначе, чем было раньше. Общался он только с доверенными людьми — десятниками, которых назначал из верных, испытанных соратников. Эти, в свою очередь, держали тесную связь с десятками, находящимися на местах. Намаз отдает приказ десятнику, тот через гонца передает его дальше, в свою десятку. Гонец возвращается обратно со сведениями о положении в округе, о совершенных налетах и их результатах. Таким образом Намаз установил даже с самыми дальними, захудалыми селениями крепкую, постоянную и надежную связь.
Не хватало коней. Намаз решил, что конями его теперь обеспечит Хамдамбай, с пеною у рта доказывавший на суде, что он, Намаз, — вор, украл у него двадцать скакунов. Из табуна ненавистного лгуна и клеветника, откармливавшегося у отрогов Нуратинских гор, Намаз увел пятьдесят голов отборнейших скакунов.
Все шло своим чередом, порою казалось, что даже лучше, чем Намаз мог предполагать. Однако две вещи не давали ему покоя, постоянно тревожа душу: он до сих пор не смог разыскать Одинабиби, сестру жены. Не удалось даже выяснить, жива она или мертва. Достать Заманбека, на которого указывал Хатам Коротышка, пока никак не удавалось, хотя Намаз предпринимал несколько попыток. Берегся подлец, крепко берегся, явно чувствуя охоту за собой. Но куда, однако, он денется?
Второе, что лишало Намаза покоя, человека щепетильного и никогда не забывающего добро, было то, что он до сих пор не отблагодарил Михаила Морозова, столько сделавшего для его спасения. Сергей-Табиб отсутствовал: его мобилизовали на работу в военном лазарете Кокандского гарнизона. Атамурад Каргар поехал в Ташкент на какое-то тайное совещание социал-демократов и обратно не вернулся: власти давно не спускали с него глаз, воспользовались, видно, первым же удобным предлогом упрятать за решетку. На воле оставался один Михаил Морозов, пред которым Намаз, не испытывая унижения, был готов преклонить колени. Наконец выдался случай…
В тот день Намаз остановился со своими людьми в местечке между Ургутской волостью и Китабским бекством. Стоянка эта была с одной стороны окружена неприступными отвесными скалами, чуть ниже ее огибала бурная горная река. Видимо, некогда здесь обитали люди: там и сям виднелись развалины каменных домов, наполовину ушедшие в землю дувалы, очаги, тандыры[46]. Посреди заброшенных садов виднелись орешины, почти высохшие без присмотра и от безводья.
У реки возятся, перекликаясь, джигиты.
Тухташбай, голый по пояс, купает коня, распевая веселую песенку о своем друге-приятеле Хайите:
Хайитбай, давай молиться, Чтоб скорей тебе жениться: Засиделся в женихах. Помоги тебе аллах! Жаль, на дырки от карманов Не купить тебе баранов, Да к тому же босяком Лучше быть холостяком.Дахбедцы Авазшер и Шернияз, пустив стреноженных коней на лужайке, затеяли борьбу, благо под ногами мягкий золотистый песок. Они иногда схватывались даже в темнице «Приюта прокаженных» и, по-видимому, до сих пор не выяснили, кто кого сильнее.
Насиба бродит по берегу реки. Она набрала целый подол разноцветных красивых камушков.
— Хой, Аваз-ака, перестаньте ребячиться, вы же намяли бедному Шерниязу бока! — кричит она с деланно озабоченным лицом.
— Пусть споет что-нибудь веселенькое — отпущу!
— Сейчас я тебя развеселю! — не поддается Шернияз.
Чуть выше, под вековыми орешинами, тоже царит благодушие. Шахамин-ака нанизал на палочки кусочки жирной баранины, жарит шашлыки в очаге, сложенном из камней. Жир и сок с шипением стекают на угли, распространяя далеко вокруг аппетитный запах. Невдалеке от очага, повернувшись ко всем остальным спиной, расположился казначей Эшбури. Он вывалил прямо на землю перед собой мешок монет: золотые кружочки складывает в одну кучу, серебряные — в другую. При этом он ворчливо разговаривает сам с собою, иногда, отчего-то развеселясь, заходится мелким смешком.
Намаз сидит в кругу друзей. Их беседа то и дело прерывается взрывами хохота, сдабривается восторженными возгласами: «Ну, молодчина парень, у тебя не язык, а бритва!»
Со стороны реки неожиданно возник Хайитбай, босой, усталый, бледный, остановился поодаль, не осмелившись приблизиться к беседующим.
— Какой же ты все-таки невежда, парень! — воскликнул Абдукадырхаджа, заметив парнишку. — Почему не поздороваешься с братьями?
Намаз обернулся к Хайиту и увидел, что из глаз его катятся слезы.
— Что стряслось, Хайитбай? — встревожился он.
— Коня у меня украли, — всхлипнул мальчишка. — Вчера вечером зашел в чайхану перекусить, а выхожу — коня нет.
— Украли, — так, значит, украли, не переживай. Я тебе подарю скакуна. Еще лучше.
— Но с конем у меня украли и хурджин!
Намаз улыбнулся, махнул рукой:
— Уж чего-чего, а хурджинов в Ургуте предостаточно. Я дам тебе денег, купишь новый.
— В хурджине был мой револьвер. И еще… Намаз-ака, в нем было письмо для вас…
— Письмо?
— Дядя Петр для вас передавал.
— Фу ты, черт! Ты его не читал?
— Я его наизусть выучил, будто предчувствовал, что украдут.
Намаз отвел мальчишку за толстую орешину. Здесь Хайитбай, вытирая ладонями слезы, продолжавшие выбегать из глаз, прочитал по памяти письмо.
— «Дорогой Н. Домулла[47] согласен с тобой встретиться. Вернее, он даже больше желает встречи с тобой, чем ты — с ним. Жди его в пятницу перед вечерней молитвой у галантерейной лавки братьев Шамсуддиновых. Он сам подойдет к тебе. Твой друг».
— Еще одно беспокоит меня, Намаз-ака, — опять всхлипнул Хайитбай после минутного молчания.
— Ну, что еще? — спросил Намаз, заметно теряя терпение. Не мальчишка — сундук, полный сюрпризов.
— Мне показалось, что из самого Самарканда за мной по пятам следовал какой-то всадник. Я остановлюсь, и он останавливается; еду дальше — и он трогается. Невдалеке от чайханы отстал. Потому я и сел спокойненько поужинать…
— Эх, ты-ы!.. — Намаз хотел крепко выругаться, но сдержался. Что с малого возьмешь? Если по-честному — только в пояс ему поклониться: все время в дороге, с коня не слезает, сложные поручения выполняет, а ведь ребенок еще, совсем ребенок! Съежился, ждет своей участи, готов понести наказание, коль уж такую оплошность допустил. Но разве у Намаза поднимется на него рука?
— И ты из Ургута пришел пешком?
— Всю ночь шел, ни капельки не спал…
По всему, за Хайитом явно кто-то следил. И если в руки соглядатая попала записка Заглады, считай, в условленном месте устроят засаду. Михаила Морозова могут схватить. Надо опередить полицейских, иначе случится непоправимое!
— Шахамин-ака, накормите гонца как следует, — попросил Намаз, возвращаясь к отдыхающим товарищам. — Эсергеп, седлай моего коня. Назарматвей, ты тоже собирайся, поедешь со мной. Эшбури-ака, отсыпьте мне мешочек золотых монет. Кабул-ака, вы тоже с нами. Дядюшка Абдукадырхаджа, вы остаетесь здесь за меня. Немедленно менять стоянку. Перебирайтесь скрытно в пещеры Чилмахрама. Все ясно?
— Ясно, Намазбай.
— Ждите меня там.
— Хорошо.
— Пожелайте нам доброго пути.
Абдукадырхаджа-ака прочитал короткую молитву, провел ладонями по лицу.
— Аминь! — повторили за ним остальные джигиты и дружно вскочили на ноги, чтобы проводить Намаза в неожиданный поход. Лишних вопросов никто не задавал.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГОСПОДИН ГЕСКЕТ ГНЕВАЕТСЯ
Карательный отряд полковника Сусанина, отправившийся в глубь края с заданием обнаружить и уничтожить «бандитов», лишь в одной из многочисленных стычек с намазовцами потерял одиннадцать человек.
«Черт-те что происходит! — метался по широкому, просторному кабинету Гескет. — Не успеваешь усмирить беспорядки в городе, глядишь, кишлаки взрываются порохом; только утихомиришь кишлаки — опять город взбаламучен… Нет, пришла пора, видно, оголять шашку и рубить, рубить всех без пощады. Иначе, верно, будет поздно».
Бесшумно растворились тяжелые резные двери, и на пороге возник молоденький офицер.
— Разрешите, ваше превосходительство…
— Говорите.
— Приглашенные на совещание все в сборе.
— Представители Каттакурганского уезда прибыли?
— Так точно, ваше превосходительство.
— Толмачи на месте?
— Так точно, ваше превосходительство, вот список желающих выступить, не соизволите ли…
— Говорить буду только я сам. Хватит, мололи тут языками… Порвите и выбросьте этот список в мусорный ящик! На словах они все великие тактики и стратеги, на деле же — бегут, высунув языки, от какого-то Намаза, вооруженного вилами. Чего вытаращились, идите!
На совещание, где должны быть разработаны решительные меры по ликвидации намазовских «банд», приглашены представители всех краев Самаркандского уезда: волостные управители, тысячники, казии, шейхи и муллы, известные богатеи, фабриканты-миллионщики. В уездном зале заседаний, где обычно проводятся торжества, даются балы, не всем хватило места, — многие стоят в проходах, тесно прижатые друг к другу.
Гескет вошел в зал, сопровождаемый двумя полковниками и толмачами, и направился к огромному дубовому столу, специально приготовленному для его превосходительства. Немного не дойдя до него, губернатор внезапно остановился и внимательно оглядел присутствующих.
— Переводите, — приказал он толмачу, — от имени Его Императорского величества я желаю им всем хорошего настроения, доброго здоровья, успехов в делах.
Едва толмач перевел слова губернатора, гости мусульманского вероисповедания, облаченные в шелковые чапаны, повязанные громадными белыми чалмами, дружно подняли руки:
— Илоё аминь! — и провели ими по лицу. — Да пусть вечно процветают трон и государство Его Величества Белого Царя. Оллоху акбар!
— Так, господа, начнем, пожалуй, наши очередные упражнения по красноречию? — нетерпеливо начал господин Гескет, не дождавшись установления тишины. — Как мне стало известно, многие из вас изъявили желание выступить сегодня. Интересно было бы знать, о чем вы собираетесь говорить. Хотите всенародно — в который раз! — заявить, что вас ограбили, что Намаз-вор повесил вас вверх ногами на чинаре и влил в рот помои? Или похвастаетесь, как вы окружили бандитов и хотели их уничтожить, и вам непонятно, каким это образом они ускользнули? Надоело. Мне от вас, господа, дела требуются. Какой-то босяк, кишлачный темный парень перевернул вверх дном весь уезд. Ну-ка, скажет кто-нибудь, где и сколько у Намаза законспирированных отрядов? Молчите. Потому что не знаете. Половина оружия, розданного русскому населению края для самозащиты, стала собственностью намазовских грабителей. Об этом тоже, конечно, вам неведомо. Из казарм, с боевых постов исчезают целые ящики боеприпасов, бомб, ну откуда вам это знать, верно я говорю? Что ж тогда вы знаете, господа хорошие? Болтать, предаваться азартным играм, запускать руку друг другу в карман — на это вы мастаки. Только одно и на уме: как хапнуть кусок пожирнее. Хватит, достаточно. С сегодняшнего дня по всему уезду вводится военное положение. Пока не усмирены мятежи, не казнен разбойник Намаз, каждый из вас должен считать себя оголенной саблей его императорского величества. Каждый должен быть вооружен винтовкой и револьвером. Волостным управителям и тысячникам разрешается содержать столько нукеров, сколько это возможно: задача — помочь нам уничтожить бунтовщиков. Исходя из нужд, диктуемых военным положением, приказываю между тремя-четырьмя волостями установить контрольные посты, в которых будут нести бессменную службу русские солдаты и нукеры туземного происхождения. У каждого поста соорудить виселицу, дабы вселять страх в души бунтовщиков. Хочу предупредить управителей и тысячников: на чьей территории Намаз и его сообщники совершат грабежи, подвергнут физическому насилию чиновников, государственных служащих, — тот без проволочек будет освобожден от занимаемой должности. Тот же из вас, кто проявит личное мужество и храбрость, сумеет поймать и доставить властям известного негодяя Намаза, сына Пиримкула, помимо обещанного ранее денежного вознаграждения, получит лично из моих рук самый почетный орден.
На это чрезвычайное совещание, разумеется, пожаловали и дахбедские именитые граждане. Среди них находились также Хамдамбай с Мирзо Кабулом. После того как Мирза Хамид, обвиненный в сочувствии и помощи Намазу, был снят с должности, волостным управителем стал Мирзо Кабул, бывший помощник верховного казия. Не без помощи Хамдамбая вознесся он на новую высокую должность. С того дня и следует за Байбувой, как верная собачонка: тот сядет — и этот садится, тот кашлянет — и у этого вдруг в горле запершит…
Конечно же, и сегодня они держались вместе. Забавно было глядеть на них: казалось, мальчишка, байский сынок, впервые в жизни выбравшийся в город, неотступно следует за отцом: Хамдамбай был высок, довольно еще крепок, а Мирзо Кабул и ростом не вышел, и силою не отличался — хорошо хоть, что голубая чалма да шитый золотом халат указывали на высокую должность. А то ведь мог и конфуз случиться, вздумай, скажем, кто-то из распорядителей совещания схватить его за локоток да выпроводить за дверь, поди, мол, поиграй на улице, мальчик, пока отец совещается.
«Слава тебе, господи, настали-таки времена, скоро придет конец этому негодяю Намазу! — шептал про себя Мирзо Кабул. — Избавить нас от него взялся сам господин Гескет!»
А Хамдамбай в эти минуты радовался, наверное, больше всех, он даже прослезился на радостях. «Наконец-то свершилось! Наконец-то найдется управа на этих!..» — думал он, торжествуя.
На обратном пути все размышлял, как же уничтожить Намаза. Он сидел, прикрыв глаза, словно предавшись сну. Потом вдруг глаза его открылись, он повернулся к Мирзе Кабулу, взлетавшему на упругом сиденье фаэтона, подобно ребенку на качелях.
— Хаким, ты не спишь?
— Нет, Байбува, — засуетился Мирзо Кабул, пытаясь встать. Хамдамбай по-отечески положил руку ему на плечо.
— Сиди, сиди.
— Однако, скажу я вам, Байбува, невиданное было совещание, верно? Намаза теперь можно считать мертвым.
— Нет, сынок, мой хаким, ты ошибаешься. Намаз не из тех, кого так легко уничтожить. Однако у меня возник один план, который, думается, ускорит его конец.
— Что бы вы ни надумали, Байбува, это всегда верх совершенства!
— Молодец, сынок мой хаким, далеко смотришь. А план у меня таков. Ты арестуешь всех родичей Намаза и будешь держать их под замком как заложников.
— Не вызовет ли это недовольства черни, мой господин? — несколько опешил от смелого плана хозяина Мирзо Кабул.
— Слушай дальше, — продолжал Хамдамбай, не обращая внимания на испуганное восклицание собеседника. — Будешь держать их под замком и объявишь через глашатаев, что если вор и грабитель Намаз добровольно не сдастся на милость властей, все они согласно указу будут казнены без суда и следствия…
…Вот уже два года, как старший сын Хамдамбая Заманбек, временно отстранясь от торговых дел, по совету отца стал десятником нукеров при волостном управителе — хакиме, чтобы охранять отцовские богатства.
Два года жаждет Заманбек крови Намаза и никакие утолит свою жажду. Весть о том, что против Намаза брошена вся военная мощь уезда, несказанно обрадовала Заманбека, придала ему силы и храбрости, точно то доблестное воинство поступало под его личное командование. И потому, услышав приказ волостного взять под стражу родичей Намаза, он изъявил желание тут же тронуться в путь.
— Хорошее дело нельзя оставлять на потом, — наставительно изрек Мирзо Кабул. — Однако, брат, не поднимайте лишнего шума, чтоб не вызвать недовольства черни.
Через полчаса Заманбек мчался в сопровождении четырнадцати нукеров в Джаркишлак. Стояла летняя пора, почти весь кишлачный люд, от мала до велика, находился на полях. Одни жнут, другие пропалывают рис, третьи заняты на бахче. В селении остаются только непригодные к полевым работам старцы да бесштанная детвора, проводящая целые дни на тенистом бережку арыка.
В доме Халбека никого не было, кроме самой младшей девочки — Амины.
— Где отец? — спросил Заманбек у девочки, выглядывавшей из-за полурастворенных створок калитки. Амина приняла вооруженных всадников за намазовских джигитов, частенько наведывавшихся к ним и привозивших гостинцы, а потому отвечала на расспросы довольно охотно.
— Папа на поле.
— А мать?
— Она тоже на поле. Папе помогает.
— Дома есть кто?
— Я одна… еще — кошка. — Амина пошире раскрыла калитку. — А вы не от дяди Намаза приехали?
— А где твой дядя Намаз?
— Не знаю, — покачала головой девочка.
— Отец где работает?
— На полях Таникула-бобо.
Заманбек хлестнул плетью беспокойно гарцевавшего под ним коня.
На арендованных у Таникула-бая землях Халбек засеял пшеницу. Богатей в этом году легко согласился получить лишь половину урожая с земли, за аренду которой обычно требовал две трети: все в округе знали о родстве Халбека. Ко всему он еще предоставил издольщику свои семена и коней.
Пшеница уродилась на славу, верно, весна добрая подсобила, ведь Халбек из года в год не вылезал из долгов. А это было очень кстати: осенью Халбек собирался женить старшего сына, Амана. Всю надежду семьи питали эти тяжелые золотистые колосья — плоды бессонных ночей и изнурительных трудов Халбека. Который день они махали серпами, а поле все стояло как нетронутое. Но это вызывало у жнецов не уныние, а радость. Улугой помогала мужчинам, как могла. Связывала снопы, копнила, готовила еду.
Первой заметила всадников, мчавшихся к ним прямо по пшеничному полю, не разбирая дороги, Улугой. Она хлопотала у очага, спеша приготовить к обеду лапшу и обрадовать усталых работников. «Глядите, кто к нам пожаловал: Намаз!» — хотела крикнуть Улугой, но тут же прикусила язык, вспомнив, что брат ненавидел людей, топтавших хлебное поле. «Боже мой!» — прошептала женщина, предчувствуя беду, да так и застыла с деревянным половником и с кумганом, из носика которого бежала на землю тонкая струйка воды.
Усталые, насквозь мокрые от пота жнецы заметили всадников лишь тогда, когда те резко осадили коней поблизости. Заметили и так же, как Улугой, замерли, не зная, что сказать и что делать.
— Где Намаз? — рявкнул Заманбек, сдерживая рвавшегося вперед коня.
Халбек, сразу узнавший байского сынка, понял, что не с добром пожаловал он сюда. Горестно вздохнув, Халбек покачал головой:
— Где Намаз, известно лишь одному аллаху, мой бек.
— Где жена?
— Вон она, возле очага, бек.
— Который твой старший сын?
— Поздоровайся с дядей, сынок, — повернулся Халбек к Аману, который еще не понял, какая угроза нависла над ними. — Поприветствуй же бека, говорят тебе!
— Связать всех! — приказал Заманбек нукерам. — Вон ту ведьму тоже взять. Это и есть сестра разбойника Намаза.
— Не трогайте маму, она больна! — закричал Аман, наконец поняв, что происходит. — Тронешь — зарублю! — Взял на изготовку сверкающий, как меч, серп.
И трое сыновей, выкрикивая что-то нечленораздельное, кинулись защищать мать. Но что могли поделать неокрепшие безусые подростки против здоровенных, откормленных на дармовых харчах нукеров? Их отхлестали плетьми, попинали сапожищами, связали. Халбек, бедняга, вообще никаких хлопот не доставил: обессиленный хворью, истощенный тяжким трудом, он потерял сознание при первом же ударе по голове нагайкой. Его так и взвалили на передок седла, бесчувственного.
Взять же Джавланкула, возводившего в тот день дувал своему укланскому другу-пахсакашу, оказалось не таким уж легким делом. Он и его друг бились с нукерами, как львы, готовые лечь замертво, но не даться в руки байских прихвостней. Изрядно досталось славным воинам Заманбека от лопаток пахсакашей с длинными ручками. Но нукеры все же взяли верх. Они свалили мастеров в глиняную яму, заломили назад руки, связали.
— Бек, ты за это ответишь, — прохрипел Джавланкул, сплевывая кровавую слюну. Лицо его стало неузнаваемым от побоев. — Попомни, Намаз еще жив!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «ВСТРЕЧАЙТЕ НЕВЕСТУШЕК!..»
Посреди камышовых зарослей, раскинувшихся на пойме реки, возвышается небольшая солончаковая площадка. На ней стоит, облаченная в мужскую одежду, Насиба. Брюки заправлены в сапожки на высоких каблуках, с ремня свисает кобура с револьвером. На ней короткая белая рубаха с закатанными рукавами. Свитые тугими жгутами волосы уложены на затылке. Загораживаясь рукой от солнца, женщина то и дело нетерпеливо вглядывается в даль.
У ног Насибы сидит Намаз, сосредоточенно вырезает кинжалом небольшую ивовую палочку. Он то заостряет концы палочки, то срезает их, наносит на зеленый ствол замысловатые узоры, потом, словно недовольный своей работой, соскребает. Видно, что мыслями он витает где-то далеко.
От реки изредка набегает прохладный ветерок, освежая истомленные жарой тела, и уносится дальше, с шелестом гладя золотистые султаны камышей. Потом опять воцаряется испепеляющий зной.
— О аллах всемогущий! — вырвалось вдруг у Насибы.
— Не надо волноваться, — сказал Намаз, не поднимая головы.
— Вы только посмотрите на него: «Не надо волноваться!» — взорвалась Насиба, словно обрадованная возможностью выплеснуть на кого-то свой гнев и тем самым хоть ненадолго отвлечься от тягостных дум и страха, сковывавшего сердце. — Да, да, я знаю теперь, у вас не сердце, а камень! Иначе отпустили бы меня, когда я хотела ехать. Женщина я, оказывается! Тогда почему вы, если я женщина, таскаете меня за собой по тропам, где и дикие-то звери остерегаются появляться?!
— Ты любишь меня, потому и следуешь за мной всюду.
— Так знайте же, никогда не любила я вас, никогда!
— Не плачь, прошу тебя!
— Неужели вы не понимаете, не могу я не плакать, не могу! Сестренку мою украли, и никто не знает, где она теперь. Родных моих в тюрьму посадили. Не могу сидеть спокойно, палочку-погонялочку для осла вырезать! Я должна их спасти и спасу, и помощи просить не буду!
Подхватив винтовку, она проворно сбежала вниз, где паслись кони. Намаз отбросил в сторону палочку и в несколько прыжков догнал жену, обхватил ее за плечи и стал покрывать ее мокрое лицо поцелуями. «Отпустите!» — вырывалась Насиба, колотя маленькими кулачками по широкой груди мужа.
— Пойми, дорогая, не камень мое сердце, я ведь тоже всего-навсего человек! — Таившиеся глубоко в сердце боль, обида, беспомощность прорвались наружу, и Намаз в ярости рванул ворот рубахи. — Да ведь я сам извелся вконец, неужели не видишь, не понимаешь?!
Три дня уже Насиба плакала и обвиняла Намаза во всех несчастьях, что случились с ее семьей. Три дня уже они ссорились. Намаз и без того ходил как в воду опущенный. После встречи с Морозовым он пал духом, испытывая раздвоенность и чувство вины перед соратниками. «Я повел людей, слепо доверившихся мне, по неправильному пути, — корил он себя. — Сломал им жизнь, и за это нет мне оправдания». Морозов призывает объединяться. Намаз понимал, что это необходимо сделать. Но как? Говорить-то легко, а вот поди попробуй! Пока они станут объединяться, их всех по одному перебьют. Морозов вот предлагает с партией его связь установить. Скажем, послушает Намаз совета, установит связь. А как это воспримут соратники? Не отшатнутся ли от него: ты, мол, сам неверным стал, а теперь и нас хочешь неверными сделать?
Голова Намаза шла кругом. А тут еще стали поступать сообщения, одно мрачнее другого, о решительных мерах, предпринимаемых Гескетом. Три отряда карателей, вооруженных до зубов, вскоре начнут прочесывать кишлак за кишлаком. Понатыканные там и сям виселицы станут наводить ужас даже на самых храбрых, готовых взять в руки оружие… Волостные управители, тысячники, конечно, воспользуются предоставленным им правом, удвоят, утроят количество нукеров, которые за-ради сытого желудка да байских подачек готовы на любую подлость и злодеяние… Невозможно станет перемещаться из округи в округу, сообщаться с селениями, а значит, обеспечивать отряд фуражом, продовольствием…
У Намаза сейчас двести вооруженных джигитов, рассеянных по кишлакам. Вот если бы собрать их вместе да двинуть против отрядов господина Сусанина! Заманчиво, конечно, но бессмысленно: обученные солдаты, располагающие к тому же пушками, раздавят их как муравьев. Оставшиеся в живых потеряют всякую веру в свои силы. Легче всего, разумеется, затаиться, переждать самое тяжелое время, прекратить борьбу. Но пристало ли ему, Намазу, прятаться по пустынным степям и жить только по ночам, подобно летучей мыши? Сколько это может продолжаться?
А что, если распустить всех по домам, живите, мол, как хотите, а самому податься куда-нибудь в чужие края? Но тогда он предаст тысячи и тысячи людей, что ждут от него помощи и защиты. Сам нарушит клятву, им же самим возведенную в закон, и не будет ему прощения ни на этом, ни на том свете…
Известие о судьбе родных усугубило мрачное состояние духа Намаза. Насибу же эта весть чуть не свела с ума. Она беспрестанно плакала, упрекала мужа в бессердечности, в равнодушии к ее родным, все порывалась пойти им на выручку одна, коли он не хочет или не может этого сделать сам. А Намаз, сколько ни ломал голову, ничего путного не мог придумать. Беспомощность угнетала его, приводила в отчаяние. В один из моментов он не выдержал, вскочил на ноги, крикнул:
— Хорошо, собирайся, поехали.
— Нет, ты не сделаешь этого! — загородили ему дорогу все двадцать джигитов, находившихся при нем в Чилмахрамских пещерах. Они знали, что заложников силой не освободить. Остается единственный путь — сдаться Намазу. Но кто мог согласиться с этим? Насиба, потерявшая разум от горя? Соратники, которые благодаря ему, Намазу, в кои-то веки почувствовали себя людьми?! Нет, решили джигиты: ни Намаз, ни Насиба не должны вмешиваться в это дело. В отряде, слава богу, есть головастые парни. Они уже разведали и знают, что на каждом шагу вокруг тюрьмы, хоромов Хамдамбая и Мирзы Кабула стоят тщательно укрытые от посторонних глаз казачьи отряды в полной боевой готовности. Потому яснее ясного: попытка силой освободить заложников обречена на провал. Однако это не значит, что нет никакого выхода из положения. Надо найти выход, оборотив смелость против подлости, хитрость против хитрости. Другого пути спасения заложников нет.
Выслушав друзей, Намаз и Насиба несколько успокоились. Отряд в ту же ночь с большими предосторожностями перебрался в камышовые заросли поблизости Дахбеда. Шернияз с пятью джигитами проследовал, не останавливаясь, дальше. С ними увязался и Тухташбай. «Пусть идет, — разрешил Намаз, — парень он смышленый, может пригодиться».
Плана определенного у Шернияза не было, он рассчитывал, что план появится на месте.
Вчера прождали весь день. Шернияз с отрядом не вернулся. Вечером по их следу отправился Кабул с несколькими джигитами, переодетыми дервишами. Тоже как в воду канули.
Сегодня утром Назарматвей тронулся в путь. Его ребята оделись под русских крестьян, ищущих поденную работу. И от них пока ни слуху ни духу.
«О боже, неужели все попались или погибли в неравной схватке?! — думает Намаз, приходя в отчаяние от собственного бессилия. — А что тут невероятного? Ведь наши враги везде имеют глаза и уши. Малейшая оплошность — глядишь, влип…»
Солнце, медленно тускнея, покатилось за горизонт. Над камышовыми зарослями навис легкий туман от прогретого солнцем болота. Ветерок, днем изредка тянувший от реки, словно тоже прикорнул: все кругом притихло, замерло, затаилось, точно в ожидании какого-то важного решающего события.
— Намаз-ака! — донесся приглушенный голос Авазшера-дозорного, спрятавшегося в густой кроне тала на берегу реки. — Всадник!
Намаз с Насибой проворно вскочили и стали вглядываться. Да, по степи к реке во весь опор мчался конник. Он то появлялся, то исчезал в складках степи, густо заросшей травой, как арбуз, плывущий по волнам бурной реки. Кто бы это мог быть, какую весть несет?.. Вроде похож на Тухташбая… Да, это он и есть.
— Едут, едут! — звонко закричал Тухташ, приближаясь к Шуртепе, где стояли Намаз с Насибой.
— Кто едет? — сбежал вниз Намаз, навстречу Тухташу.
— Сейчас объясню, сойду вот, — ответил запыхавшийся мальчишка. — Невестушки едут!
— Какие еще невестушки?
— Насиба-апа, и вы здесь? Как хорошо все складывается! Надо встретить невестушек как полагается. Разложите быстренько костерок. А бубна у вас случайно не найдется, нет? Ия, вы что, плакали? Нет? Тогда, может, вас оса ужалила, вон ведь как веки опухли…
— Какие невестки, тебе говорят? — заорал Намаз, теряя терпение. — Что за чушь ты несешь?
— Сказал же сейчас, значит, сейчас! — Тухташбай расстегнул ворот рубахи, стал обмахивать разгоряченную грудь. — Водички попить у вас тут не найдется? Нет? Ну и сторожей вы по дороге понаставили — я уж устал останавливаться на каждом шагу. А насчет невестушек я верно вам сказал. Едут они, миленькие, едут. Это жена Хамдамбая, старая карга-бекша, две невестки Байбувы, и маленькая такая, с бусинку, женушка хакима Мирзы Кабула, — все едут прямехонько сюда. Целая арба невесток. И двое детишек еще им в придачу! Ха-ха-ха!..
— Сделай одолжение, объясни по-человечески, — хмуро буркнул Намаз.
— Шернияз-ака, как в ту ночь добрались до верных людей, сразу начал выяснять положение. Оказалось, к заложникам никак не подступиться, ну хоть убей! Столько солдат их караулит, точно самого белого царя. И тут кто-то шепнул Шерниязу-ака, что жена Байбувы с невестками каждое воскресенье ездят мыться в самаркандскую женскую баню «Ученая тетушка». Обрадовались мы нежданной удаче, стали ждать. И вот, едва крытая зеленым бархатом арба выкатила из кишлака, увязались за ней. Однако до самого Самарканда, как нарочно, дорога была полна народу. Думаем, ладно, подождем, пока они попарятся, грязь с себя смоют. Куда там! Эти ханум вместо бани прямиком подались в ювелирную мастерскую еврейского бая. Вошли в лавку, чачваны откинули с лиц, что старая, что молодые, выпучились бесстыжими глазами на товар (я тут все рядом вертелся): «А почем это кольцо?», «А почем эти серьги?» Просто терпения никакого не стало, так долго они принюхивались и приценивались ко всему, хотя купили всего-то две позолоченные побрякушки. Наконец, слава богу, выбрались. К счастью, в бане недолго пробыли, гораздо меньше, чем у ювелира: то ли слишком жарко показалось, то ли не больно любят мыться, как наш Хайитбай, — во всяком случае, глядим, скоро вылезли, красные, как помидорины, заспешили домой. Поехали. Когда пересекли реку через мост, глядим, кругом ни души. Джигиты остались прикрывать, а мы с дядей Шерниязом пустили коней вскачь, подобрались к погонщику вплотную да сказали тихо так, внушительно: «Именем мстителя Намаза приказываем: слазь с коня!» Тот заартачился было, но, как увидел наставленные на него револьверы, присмирел, взмолился: «Слезу, братцы, слезу! Только свяжите меня да бросьте на дороге, а то бай сживет меня со свету!» Я перепрыгнул на извозчичье место, покатил дальше, а Шернияз-ака поволок кучера в арык, связывать. Еду я, еду себе и вдруг слышу, как из-под бархатного полога скрипучий голос раздается: «Хей, Бер-ди-и-ику-ул, что-то твоя арба не той дорогой едет, а?». Что правда, то правда, мы давно уже свернули с тракта и мчались по голой степи. «Что вы, тетушка, — отвечаю я бекше в тон, — дорога как раз та, правильно моя арба едет!» А старуха опять за свое: «Что-то и голос у тебя не тот, Бер-ди-ку-ул!» — «И вовсе я не Бер-ди-и-ку-ул, Тухташбай меня зовут! — разозлился я. — И сидите там, не высовывайтесь. Я везу вас прогуляться!» Боже, что тут началось! Я думал, оглохну: крики, плач, проклятия!.. Ну да, слава богу, вскоре Шернияз-ака с ребятами нас догнали. Оставил им невестушек, сам вперед помчался. Насиба-апа, приготовьте бубен, они скоро подъедут. А свадебную песню я сам спою. Значит, нет у вас воды? Пойду к реке, напьюсь наконец. А то у меня внутри так горит, что вот-вот дым из ушей повалит!
Тухташбай вприпрыжку направился к реке, распевая во все горло:
Девица, не плачь, Ёр-ёр, не надо! Или ты своей судьбе Не рада? Твою свадьбу За рекой справят, В камышах навеки Жить оставят. Девица, не плачь, Ёр-ёр, не надо!Начинало темнеть, когда из камышовых зарослей стали появляться группки солдат в форме. Это были джигиты Кабула и Назарматвея, которые за прошедшее время успели еще раз поменять обличье. Вскоре подкатила арба, забрызганная болотной жижей, покрытая пылью и песком. Правил упряжью Шернияз. Подъехав к Намазу, он спрыгнул с облучка, сложил руки на груди.
— Молодец, брат, здорово сработал! — похвалил его Намаз.
Он приподнял край бархатного полога и произнес ласково:
— Добро пожаловать, дорогие госпожи!
Женщины сидели, тесно прижавшись друг к дружке, молчали.
— Сколько вас тут, что-то никак не могу сосчитать?
Никакого ответа. Намаз зачем-то сильно пнул ногой колесо арбы, взял Насибу за руку — ее колотило как в лихорадке.
— Дядюшка Абдукадырхаджа, принесите карандаш и бумагу.
Свет луны оказался слишком слабым, чтобы можно было писать. Пришлось спуститься в низину, разжечь небольшой костер. Изрядно помучившись, Намаз составил письмо.
«Старый безбожник Хамдамбай!
Слушай меня внимательно, старый лис, привыкший творить подлости чужими руками. Хотя моих родственников заключили под стражу нукеры волостного управителя и ими командовал твой подлый сын Заманбек, всем ясно, что этот коварный план замыслил ты. Потому твоя жена, двое невесток, двое внуков, а также супруга нового волостного пса Мирзы Кабула находятся у меня. Чтобы получить их в целости, сохранности, ты должен к утру завтрашнего дня развести моих родственников по домам со всем подобающим почетом и уважением, а также поклясться никогда больше не совершать подобную низость. В противном случае я отдам всех трех молодух по законам шариата в жены своим джигитам, а жену твою сделаю своей рабыней, которая будет стирать мне белье. Я все сказал. Ты знаешь, что слово мое твердо.
Мститель Намаз».Решили, что письмо отвезет в Дахбед Шернияз, поскольку он знал, как можно пробраться к доверенным людям. Переодевшись с помощью Назарматвея в благообразного «старца», Шернияз исчез во мраке ночи.
На лагерь опустилась напряженная тишина. Но вскоре ее нарушили заложницы. Поначалу они хранили горделивое молчание, потом, видимо, поняли, что дело серьезно: заголосили, запричитали, призывая в помощь аллаха. А старуха — жена Хамдамбая — посылала страшные проклятия на голову Намаза и его джигитов.
В эту ночь могло случиться всякое. Поэтому Намаз выставил за рекой две трети джигитов в засаде, сам остался на Шуртепе со считанным числом людей. «В случае чего арбу в реку — и делу конец, — решил он про себя. — Они сами вынуждают меня к насилию. Они сами делают из меня убийцу!»
Шернияз появился в лагере на следующий день, когда солнце висело уже высоко над головой. Еще издали он показал Намазу скрещенные над головой руки, сообщая, что все в порядке. Подскакав, он осадил коня и протянул Намазу свернутую в трубку бумагу. Вот что было в ней написано:
«Уважаемый Намазбек!
Господин бай нижайше заявили, что имевшее место неприятное происшествие никак не исходило от его личности, а выполнено в соответствии с приказами господина Гескета и волостного управителя Мирзы Кабула. Господин Байбува утверждает, что свидетелем его невиновности является сам всевышний. Однако господин бай всегда желали примирения с вами, мечтали жить в дружбе и взаимном уважении. Посему они приняли на себя благополучное разрешение случившегося неприятного происшествия, а также обещают позаботиться о дальнейшем спокойном жительстве Ваших любимых родственников. Нижайшая просьба господина бая, в ответ на его великодушные поступки такова: возвратить оных страдалиц безущербно, а также сохранить в тайне случай их пребывания в Вашем лагере, дабы пресечь людскую молву и кривотолки.
С уважением и почтением к Вам
секретарь господина Хамдамбая Алим Мирзо».— Так, так, — усмехнулся Намаз, комкая в руке письмо. — Сын, значит, берет людей, бросает в тюрьму, а почтенному отцу о том совершенно невдомек! М-да! Почему так долго задержались, Шернияз?
— Я проследил, как они выполнят свое обещание, бек. Все узники в целости-сохранности доставлены по домам.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. НЕГОДЯЙ ПЫТАЕТСЯ СПАСТИСЬ
— Знай, Намаз, дни твои сочтены!
— Нет, я не умру, пока не расквитаюсь с тобой.
— Вор, грабитель!
— Попридержи язык.
— Разбойник!
— Развяжите его, — приказал Намаз.
Шернияз и Назарматвей неохотно развязали стянутые веревкой назад руки Заманбека. Сын был точной копией отца: такой же рослый, жилистый, сухощавый. Такое же вытянутое лошадиное лицо. Большой нос. Вздутые на висках вены. Проницательный взгляд. Глядя на Заманбека, можно было подумать, что перед тобой сам Хамдамбай, только помолодевший на несколько десятков лет. Еще и часа нет, как Назарматвею посчастливилось взять Заманбека и доставить в «Одинокую чайхану», где с вечера собрались джигиты посовещаться. Это была идея Намаза: рассказать соратникам все, что осталось в памяти от беседы с Морозовым, узнать их мнение о предложении Морозова держать связь с социал-демократической партией.
Когда Намаз кончил говорить, Арсланкул, который, казалось, дремал до сих пор, вдруг вскинул голову и махнул рукой:
— Да бросьте вы, Намазбай, в самом деле. Я их хорошо знаю, этих говорунов: все они, как один, трусливы и себе на уме. Сами небось боятся в огонь лезть, вот нас и науськивают. Вот скажите сами, раз вы их так зауважали: есть ли у них какое-нибудь оружие или нет? Разве одной болтовней свалишь врага? Смешно ведь даже подумать!
— У них, говорит домулла Морозов, другого рода оружие, — не совсем уверенно ответил Намаз.
— Какое же это оружие? — не унимался Арсланкул, оглядев собравшихся, словно призывая их в свидетели, как ловко он загоняет в угол зазнавшегося предводителя.
— Их оружием является что-то такое… революционной идеей называется.
— Но что это за оружие? — пристал Арсланкул. — Пушка ли это, бомба ли, что?
— Сказать честно, Арсланкул-ака, я и сам не очень-то хорошо понял, что это такое, — признался Намаз.
После долгих препирательств все же порешили заключить союз с людьми Морозова. Для этого социал-демократы должны прислать своего человека, желательно мусульманина, если таковой у них найдется. Коли договорятся, помогут раздобыть оружие, тогда намазовцы не пожалеют помощи.
Дверь чайханы вдруг с треском распахнулась, и на пороге возник Тухташбай, вымокший под дождем до нитки. Часовой у двери не хотел его пропускать и все еще крепко держал мальчишку за шиворот.
— Тухташбай, ты? — удивился Намаз.
— Ну да, я, кто же еще?! Вы только посмотрите на этого лопоухого, — указал на часового Тухташ, выбивая зубами дробь. — Не хотел меня пропускать, а? Лучше бы ты побрился, а то оброс, как ведьмина бабушка. Намаз-ака, я вам срочное письмо доставил. И еще — вот этот сверток.
Намаз принялся читать.
«Намазбай!
С помощью создателя, а также своих верных людей, я, кажется, теперь смогу доказать, что совесть моя чиста перед Вами. Господь бог, видно, предназначил именно мне разыскать насильника, укравшего дочь дядюшки Джавланкула, Одинабиби. Бедную девушку выкрал Ваш и мой враг Заманбек, сын известного Вам Хамдамбая. В том злодеянии участвовали с ведома Лутфуллы-хакима четверо нукеров. Один из этих джигитов, клянясь на Коране, засвидетельствовал, что по дороге в Джаркишлак и в самом Джаркишлаке Заманбек заставлял нукеров выкрикивать: «Прочь с дороги, волостной управитель Мирза Хамид с нукерами едет!» Когда означенную девицу доставили в степь, Заманбек имел желание снасильничать над нею. Девушка оказала сопротивление, вырвалась из рук негодяя и побежала в сторону кишлака Чумичли, надеясь на защиту и спасение. Однако Заманбек догнал Одинабиби, после чего опять произошла яростная борьба, во время которой Заманбек, не рассчитав сил, удушил свою жертву. Поняв, что девушка мертва, он несколько раз сожалел вслух: «Нехорошо вышло, нехорошо, видит бог, я не хотел ее убивать». Затем Заманбек велел нукерам тут же закопать труп, а чтобы джигиты молчали, раздал им по кошельку с золотом.
С помощью вышеназванного нукера, беспредельно мучимого угрызениями совести, мне удалось под покровом ночи разыскать могилу бедной девушки. Высылаю Вам куски ситцевого платья, в которое Одинабиби была одета в тот день. К ним также прилагаю кошелек с деньгами, из коих совестливый человек не тронул ни гроша, — улику сию полагаю немаловажной.
К сему Мирза Хамид».Намаз несколько раз перечитал письмо, каждый раз содрогаясь. Джигиты все притихли, чувствуя, что произошло неладное. Наконец Намаз овладел собой — лицо окаменело, глаза заметно сузились. Позвав Назарматвея, он вышел в узенький коридор чайханы. Дал другу прочитать письмо…
— Я сейчас же поеду, убью его на месте.
— Погоди, не надо пороть горячку. Вначале надо решить, как действовать.
— И решать нечего. Казаки из Дахбеда ушли. Хамдамбай и его выродок чувствуют себя сейчас в полной безопасности. Так что не беспокойся. Ты только отпусти меня.
— Привези его живым. Я сам буду его судить. А ты расстреляешь. Ты имеешь на это право. Возьми с собой несколько человек.
Темной дождливой ночью четверо всадников помчались в Дахбед и к утру, когда намазовские джигиты собирались завтракать, вернулись обратно. Привезли Заманбека, завернутого в чекмень, взвалив поперек седла. Назарматвей с товарищами взяли его ночью, когда он вышел во двор по малой нужде в одном исподнем, накинув на плечи старенький чекмень. В него же и завернули Заманбека мстители. Видно, судьба так распорядилась: девушку Заманбек вывез из Джаркишлака, завернув в чекмень, и сам покинул навсегда родной дом, завернутый в чекмень.
Вот он стоит перед Намазом, пытаясь унять дрожь, сотрясающую все его большое тело. Он не намерен признать своим страшное злодеяние.
— Признаёшь, что это ты выкрал Одинабиби? — повторил свой вопрос Намаз. — Учти, у меня есть неопровержимые доказательства.
Заманбек встрепенулся: в нем будто что-то сдвинулось, оборвалось. Заглянул Намазу в глаза, пытаясь понять, правду ли он говорит или нет.
— Никого я не крал. Не возводи напраслину.
— Значит, не признаешься? — Намаз развернул сверток, доставленный вчера Тухташем, бросил перед Заманбеком. — Может, теперь вспомнишь, на ком было это платье, от которого остались эти лохмотья? А кому ты дарил вот этот кошелек, забыл?
Все, его тайна раскрыта. Кто-то из нукеров продал Заманбека. Но он все равно не признается. Признание — смерть! А он не желает умирать. Нет!
— Клевета это все, клевета! — с силой ударил Заманбек кулаком в грудь.
В этот самый миг в комнату заглянул взволнованный дозорный.
— Намаз-ака, сюда едут какие-то всадники.
— Всадники? — Намаз выбежал вслед за дозорным. Заманбек, словно не веря в чудо, которое неожиданно отсрочило его казнь, несмело подкрался к двери, тихо приоткрыл ее. У наружной двери коридорчика стоял, высунувшись на улицу, Назарматвей. Он глядел вслед Намазу.
Заманбек, недолго думая, кинулся на Назарматвея, обеими руками, словно тисками, сжал ему горло. Несколько часов тому назад Заманбек стал жертвой собственной беспечности и неосторожности. Теперь в таком же положении оказался Назар. Заманбек, состоявший из одних костей и жил, был очень силен, хватка его — мертвой. Но теперь одна рука его была вывихнута, и перенесенный страх сделал свое дело: силы его были явно не те. Назарматвей, настигнутый в самой неудобной для сопротивления позе, не мог ни взять противника как следует, ни даже крикнуть, позвать на помощь. Но опасность подсказала ему единственный правильный ход: он притворился удушенным и стал хрипеть…
Заманбек отпустил обмякшее, враз отяжелевшее тело, мысленно отметив: «Готов!», со звериной ловкостью выбросил свое большое тело в окошко, выходившее на двор чайханы.
Назарматвей, однако, не терял сознания — он притворился умирающим, поскольку понял, что не переборет врага. Он знал: Заманбеку некогда добивать его. Расчет оказался верным.
Назармат метнулся к окошку, на ходу вытаскивая револьвер и взводя курок.
— Надеялся уйти, негодяй?
Заманбек невольно оглянулся на голос — грянувший одновременно выстрел угодил ему прямо в лоб.
ГЛАВА ПЯТАЯ. В ОКРУЖЕНИИ
Сколько ни вглядывался в даль, куда указал дозорный, Намаз ничего не увидел из-за завесы частого мелкого дождя и тумана, стелившегося низко над землей. «Шли конники, шли, своими глазами видел! — твердил между тем дозорный. — Еще даже красные их фуражки различил!»
Намаз проворно вскарабкался на крышу чайханы, надеясь, что сверху будет лучше видно. Однако именно в этот момент раздались выстрелы Назарматвея, а следом за ним грохнул дружный ружейный залп. По-осиному зло прожужжали пули. Одна из них угодила в гнедого, которого как раз выводил из низенького строения конюшни Хайитбай. Конь громко заржал, вздыбился и тут же рухнул наземь.
— Не выводить коней! — крикнул Намаз, приникнув к изрядно набухшей под дождем глиняной крыше чайханы. «Ну и место выбрал для стоянки», — выругал он самого себя. Чайхана, мельница и крупорушка. Отличные цели посреди ровной, гладкой степи. К тому же с одной стороны река — попробуй переберись на другой берег под прицелом!
Залп раздался не с той стороны, где дозорный видел конников, а с противоположной. Выходит, те, что на дороге, не желают выдавать своего присутствия, — хотят загнать их в мешок.
— Назармат! — крикнул Намаз другу, подползая к раю крыши. — Кажется, мы окружены. Возьми пятерых ребят, заберись на крышу мельницы и займи оборону. А вы, Арсланкул-ака, пройдите со своими джигитами к крупорушке. Не стреляйте, пока не подойдут близко. Шернияз и Курбанбай, разведайте, что делается вокруг. Похоже, наших дозорных им удалось бесшумно снять. Надо выяснить, кто в красных фуражках: солдаты или полицейские. Если солдаты — плохи наши дела. У них пушки. Остальные давайте ко мне, на крышу.
Будем драться.
И словно в ответ ему неожиданно справа от чайханы ударил пушечный выстрел. Снаряд взорвался далеко позади мельницы: раздались крики раненых, ржание лошадей. Намаз был поражен: солдаты открыли огонь не по его джигитам, а по каким-то неизвестным. Может, кто пришел ему, Намазу, на помощь?
Он горько улыбнулся, покачав головой. Маловероятно. Видно, произошло недоразумение. Может, воспользоваться моментом?
Намаз приказал выводить коней. Но не успели его люди добежать до конюшни, как и здесь стали рваться снаряды. Джигиты были вынуждены повернуть обратно.
Намаз не знал, что, допустив ошибку, так надолго задержавшись в чайхане вопреки своим правилам, он продолжал совершать ошибки одну за другой: затеяв допрос Заманбека, упустил драгоценное время. Обнаружив слева и справа неприятеля, не стал прорываться вверх по дороге, боясь попасть в западню. Между тем, когда начался артобстрел конюшни, дорога в обе стороны была еще свободна и Намаз мог, пустив коней вскачь, уйти восвояси.
Карательный отряд капитана Петра Широкова, располагавший двумя полевыми пушками, шел быстрым маршем из Джумабазара в Янгикурган. Высланные вперед дозорные сообщили, что вблизи «Одинокой чайханы» замечено передвижение конников. Петр Широков, не сомневаясь, что это намазовский отряд, сошел с дороги и занял позицию вниз по течению реки. А потом разрядил пушки по нукерам дахбедского волостного, которые потеряли пятерых человек, а сам Мирзо Кабул вылетел из седла, отделавшись, правда, легким испугом.
Путаница длилась недолго. Капитан быстро определил, что это не намазовский отряд, и перенес огонь пушек и винтовок на чайхану и крупорушку.
Теперь Намазу было трудно куда-нибудь прорываться под непрекращающимся огнем неприятеля. Не видя сопротивления, нукеры и солдаты продвинулись вперед. Пушки молчали. Верно, капитан Широков боялся опять попасть в своих.
Мстители ждали, не открывая огня. Каждый из них хорошо понимал, насколько серьезно создавшееся положение, и каждый по-своему воспринимал это.
«Самонадеянный осел! — скрипел зубами Арсланкул. — Нужно было задерживаться так долго в этой вонючей чайхане?! И для чего? Чтобы справить свои делишки!.. Еще совещание затеял, проповедь гяура-уруса начал читать! Ишь, чего захотел: связать нам руки-ноги! У-у, ненавижу! Так и снял бы его голову с плеч, рука бы не дрогнула!»
«Кто знает, если бы не этот бесконечный дождь, мы бы сюда и не сунулись, а обретались, как всегда, в безопасных тугаях, — размышлял дядюшка Абдукадырхаджа. — А вообще, на все воля аллаха… Угодно было создателю, чтоб мы попали в окружение, вот и попали…»
«Чего это он вздумал занимать оборону? — кипятился Шернияз. — Надо было клинки наголо и рвануть вперед, глядишь, и прорвались бы! Не люблю вот так лежать да ждать, что дальше случится…»
— Шахамин-ака! — окликнул он соседа.
— Что скажешь, лев-джигит?
— Надо бы атаковать их, а? Как вы думаете?
— Я полагаю, Намазбай ведь, наверное, замыслил что-нибудь. Он не даст нам погибнуть зазря. Потерпеть надобно, Шер.
Хайитбай лежал, крепко уперев приклад винтовки в плечо, дышал часто-часто, стараясь унять волнение.
— Хайит! — позвал друга неугомонный Тухташбай.
— Чего тебе?
— Ты куда обычно целишься: в живот или голову?
— Помолчи лучше.
— Скучно мне что-то. Слушай, если меня убьют, похороните вместе с винтовкой, ладно?
— Дурак!
Вдруг раздались крики, свист, гиканье, топот копыт — конники пошли в атаку, веером охватывая защищаемые намазовцами строения. Вот они все ближе, ближе.
— Огонь! — скомандовал Намаз. Грохнул дружный залп. Четверо солдат вылетели из седла. На них наскочили следовавшие сзади кони, образовалась куча мала.
— Огонь!
Атаковавшие повернули назад. Вслед им продолжали греметь выстрелы.
Наступила грозная тишина. Затем ее нарушил грохот вновь заговоривших пушек. Один снаряд угодил в крышу чайханы, разрушив ее наполовину. Со свистом разлетались осколки. Выхода не было. Вернее, был один-единственный…
Намаз приказал всем спускаться в крупорушку. Крыша ее была покрыта поверх поперечных балок вязанками камыша, так что проделать дыру оказалось делом нетрудным. Пока спускали в нее убитых и недавно появившегося в отряде парнишку с оторванной ногой, Намаз выдрал с крыши несколько снопов камыша, сбросил в крупорушку. Потом спрыгнул вниз сам. Снаряды продолжали с грохотом взрываться вокруг. И за это Намаз теперь был благодарен капитану Широкову: пока шла стрельба из пушек, солдаты и нукеры не пойдут в атаку, а Намаз должен использовать это время для осуществления своего внезапно возникшего плана.
Намаз с группой здоровых джигитов разобрал пол крупорушки, под которым с угрожающим шумом неслась черная вода. Люди работали быстро и молча, лица их посветлели. Между тем были готовы и камышовые трубки. Снаружи продолжали разрываться снаряды.
— По одному прыгайте в воду! — приказал Намаз. — Дышите через камышинку. Наверх не всплывать!
Через четверть часа, когда солдаты и нукеры, пользуясь покровом сгустившегося тумана, подползли ближе к строениям и с громкими воплями бросились вперед, им никто не ответил. Ворвавшись в крупорушку, они обнаружили четыре трупа, уложенных у стены и аккуратно прикрытых чапанами. Под проломленным полом билась, шумела черная вода. Подоспевший тут капитан Петр Широков долго глядел на эту черную дыру, потом покачал головой, криво усмехаясь:
— Да-а, изворотливый шакал этот Намаз, ничего не скажешь!
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ДАХБЕД В ТРАУРЕ
Кишлак Дахбед мигом облетела весть о том, что Заманбека, сына Хамдамбая, вышедшего во двор по нужде, увезли какие-то люди, что Мирзо Кабул со своими нукерами, рыскавший вблизи Джайидиваны, обнаружил похитителей, намазовских джигитов в «Одинокой чайхане», где произошла стычка и Мирзо Кабул потерял восемь человек убитыми, а Намазу удалось скрыться.
На отдельной арбе Мирзо Кабул привез останки Заманбека.
Большинство нукеров Мирзо Кабула были сынками баев и состоятельных людей Дахбеда, так или иначе связанных с Хамдамбаем. Садясь на коня, каждый из них надеялся добыть голову Намаза-вора и получить за нее обещанную властями награду — столько золота, сколько весит эта голова.
Три дня сотрясали Дахбед плач и стенания, раздававшиеся в домах погибших.
Хамдамбай проводил сына в последний путь из своего дома в Маргилантепе, со строительства которого и началась история намазовского бунта.
На третий день в Каттакургане прошли первые поминки. Вой и плач, как велит шариат, враз прекратились. Хамдамбай удалился во внутренние покои, влез с ногами в сандал и предался своему горю. Все вокруг ходили на цыпочках, боясь нарушить печальное одиночество бая-бобо, говорили шепотом, казалось, весь дом вымер и нигде не осталось живой души.
Хамдамбай не мог остановить течения печальных мыслей. «О мой создатель, — думал он, покачивая головой, — что я такого натворил, что ты оделил меня такими черными днями?! Лишил любимого дитя… Сделал несчастнейшим человеком. Ты сам создал своих рабов богатыми и бедными, властительными и никчемными, так почему теперь сеешь между нами ненависть? Разве не ты дал моей душе неуемную жажду богатства, власти, наградил силой, энергией, твердостью руки, дабы я мог употребить их себе во благо? Почему же ты, вложивший в мои руки несметные сокровища, теперь мешаешь сохранить их в целости? Почему ты натравил на меня босяков и подлую чернь? Ведь я всю жизнь держу уразу, совершаю все пять молитв на дню, положенных истому мусульманину, охотно отдаю очистительную милостыню в пользу бедных, выплачиваю подати, ходил в Мекку, чтобы поклониться святым мощам пророка Мухаммеда, — так почему ты опять и опять подвергаешь меня жестоким испытаниям?! Почему не оборотишь наказующий меч свой против настоящего преступника — Намаза-вора? Ведь это именно он отступился от праведного пути, растоптал все святыни ислама, позорно избивает твоих верных слуг — ишанов и мулл, так почему не накажешь этого проклятого гяура?!. А, знаю, ты хотел, чтобы я сам его наказал, и теперь караешь меня за то, что я медлил… Я должен был давно казнить гяура, который превратил мечети в конюшни, а обители святых — в пристанище своих разбойников. А ведь сказано в Коране, что месть для правоверного долг, святая обязанность. Выходит, о всевышний владыка, ты сам зажигаешь огонь мести в моей груди. О, я отниму жизнь, кровь пролью за кровь. За сына моего, любимого Заманбека, за кровь его, оросившую землю, я вырежу весь намазовский род! Заманбек мой, продолжение дел моих, советчик мой мудрый, спи спокойно. Я отомщу, сын мой. Ты стал шахидом, защищая веру, меня, но жена твоя осталась вдовою, сладкие, словно мед, детишки твои — сиротами… Мужественным ты был, смелым, львом среди львов, и ты покинул светлый мир! Сам аллах велел отомстить за тебя, и я — клянусь! — сторицею воздам твоим убийцам…»
Хамдамбай встрепенулся, будто очнулся от глубокого сна, оглянулся, словно ожидал увидеть кого-то за спиной. Потом схватил с сандала серебряный колокольчик, остервенело потряс им. Дверь тотчас распахнулась, и на пороге появился слуга с подобострастно приложенными к груди руками, низко опущенной головой.
— Кликни сюда Мирзо.
Через минуту появился Алим Мирзо: глаза красные, веки опухшие. Кланяясь, он встал у порога.
— Когда вернулся? — спросил бай, не глядя на помощника. Он посылал Алима к свату Лутфулле-хакиму, желая узнать, что тот собирается предпринять после печальных событий. Сват, пользуясь своим положением, вел охоту за головой Намаза.
— Ночь провел верхом, — ответствовал Мирзо.
— Что слышно в Каттакургане?
Алим Мирзо махнул рукой, как бы говоря: «И не спрашивайте, мой господин!»
— Только и разговоров, что об этом негодяе Намазе. Вчера ночью к Джавланкулу, тестю Намаза, кто-то приезжал верхом. Может, сам Намаз.
— Так. Мы его, голубчика, и возьмем тепленьким. Со сватом нашим виделся?
— Он в неизбывном горе, Байбува, — вздохнул Алим Мирзо, сцепив руки на животе. — Заманбек был вашим сыном, а ему приходился зятем. Мудрецы говорят, что иной зять лучше родного сына. Заманбек был именно таковым. Теперь ваш сват подобен птице, лишившейся птенца…
— Да, но он ничего не просил передать мне? — нетерпеливо перебил помощника Хамдамбай.
Алим Мирзо выглянул в коридор и, убедившись, что там никого нет, прикрыл дверь и сказал, понизив голос:
— Говорят, Арсланкул, правая рука Намаза, затаил на главаря зло…
— И что? — Глаза бая ожили, мертвенно-бледное лицо обрело цвет.
— Он согласился принести голову Намаза, если только…
Хамдамбай проворно вскочил с места, азартно потер руки.
— Что — «если только»? — крикнул он.
— Да, если только половину золота, обещанного за голову Намаза, ему выдадут наперед.
— Он получит ее. Вот золото, в мешочке, давно ждет хозяина. Сейчас же трогайся в путь, Алим Мирзо. Ты всю жизнь был мне другом-наперсником, будь ты им и теперь, в этом тонком деле. Отправляйся сию же минуту, счастливого тебе пути… И позови сюда Мирзо Кабула.
Хаким Мирзо Кабул все эти дни пребывал в доме Хамдамбая, боясь куда-нибудь отлучиться. В другие дома, также погруженные в траур, он заглянул лишь мимоходом, чтоб наскоро прочитать заупокойную молитву. Он был очень напуган, опасался, и не без оснований, что родня и близкие погибших могут во гневе забросать его камнями, дескать, это ты сунул наших соколов прямо в пасть дракона. Могло влететь Мирзе Кабулу по первое число, конечно, и от самого Хамдамбая, который был вправе считать, что это Мирзо Кабул не уберег его сына, которого Хамдамбай отдал ему в услужение. Богатей пока не трогал хакима, но это вовсе не означало, что завтра он не вцепится ему в глотку. Мирзо Кабул был в положении овцы, привязанной в двух шагах от голодного волка.
— Здравствуйте, Байбува, — остановился управитель в коридоре, не осмеливаясь шагнуть в покои, низко, до самого пола, кланяясь.
— Сколько ты можешь сейчас выставить вооруженных джигитов?
— Байбува… но ведь кишлак в трауре…
— Ты должен быть здесь с десятью вооруженными джигитами, и чем скорее, тем лучше, — отрезал Хамдамбай.
— Байбува…
— Иди.
Хамдамбай спешно снарядил в дорогу восемь человек: двух своих сыновей, двух зятьев и сыновей дальних родственников.
Хамдамбай вскочил на коня и рысью повел восемнадцать нукеров в сторону Джаркишлака, на который в последнее время обрушивались одна беда за другой.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. «ОТЦА УБИЛИ!..»
В неказистой джаркишлакской мечети молитва шла к концу, когда подскакала группа вооруженных всадников. Хамдамбай, мчавшийся впереди отряда, натянул узду взмыленного коня, взмахнул рукой.
— Окружить мечеть! Никого не выпускать! А вы, хаким, — обратился он к гарцевавшему рядом Мирзе Кабулу, — покажите мне жилище убийцы.
Дома издольщика Халбека и пахсакаша Джавланкула стояли стена к стене, дворы разделял невысокий глинобитный забор. В него была вставлена калитка, плетенная из тутовых прутьев. Через нее и забегали соседи друг к другу, не утруждая себя ходьбой по улице. С тех пор, как в краю стало неспокойно, соседи, которые и так жили душа в душу, еще больше сблизились. И несчастье почти одновременно посетило их дома. У Халбека отнялись ноги. А Бибикыз-хала, жена Джавланкула, уже три года как страдала неизлечимым недугом — чахоткой. Тихая, мягкая, безобидная, как горлинка, женщина таяла прямо на глазах. Не по плечу оказалась эта болезнь и Сергею-Табибу, который уж перепробовал все свои знаменитые снадобья.
Бибикыз-хала очень тосковала по Насибе, мыкавшейся по белу свету. Однако встреча с дочерью, которая приехала, прослышав о ее тяжелом состоянии, не облегчила страданий больной, наоборот, ускорила конец. Словно порвалась последняя ниточка, связывавшая ее с жизнью. Повидав напоследок любимую дочь, она решилась умереть. С вечера вырывался из горла лишь страшный хрип. Потом начали леденеть ноги. Утром закатились глаза, сознание не возвращалось. Стар и млад столпились у одра умирающей. Ждали, надеялись, может, придет в себя, может, успеют они сказать ей последнее прости…
И вот в этот миг в ворота громко постучали. Выглянувшая во двор Насиба испуганно вбежала обратно.
— Отец, там какие-то люди! Вооруженные!
Джавланкул торопливо подбежал к воротам, глянул в щель… О аллах, о создатель, что это за напасть такая?! Мало у него горя и забот…
У ворот с оголенной саблей гарцевал Мирзо Кабул. Рядом с ним Хамдамбай с револьвером в руке. Не к добру, видать, пожаловали гости, не к добру…
Кто-то из джигитов бая пальнул из винтовки в воздух.
— Открывай, гад, не то взломаем ворота!
Джавланкул метнулся к дому.
— Дети, быстро на крышу хлева, — указал он кивком головы на длинный ряд строений напротив дома. — Там оружие. Под стогом клевера спрятано. Слева. Будьте начеку.
Джигиты Мирзы Кабула ударами прикладов и пинками свалили старенькие, хлипкие ворота и ворвались во двор.
— Вяжи главаря разбойников! — крикнул Хамдамбай, указывая на Джавланкула.
Человек шесть здоровенных нукеров набросились на пахсакаша, заломили ему руки за спину, подвели, осыпая ударами, к старой груше, росшей посреди двора, накрепко привязали к ней.
— Где Намаз-вор? — поднял Хамдамбай дулом револьвера голову Джавланкула, заставляя глянуть себе в глаза.
Из соседнего дома джигиты приволокли Халбека, бросили перед Хамдамбаем.
— Весь в сандал залез, хитрец, думал, не найдем! — хохотнул один из джигитов, желая угодить баю. Но тот на Халбека даже не глянул.
— Где Намаз, говорю? — повторил, все еще упирая дуло револьвера в подбородок Джавланкула.
— Байбува, да что это такое происходит? — взмолился пахсакаш. — Объяснили бы хоть!
— Обыскать оба дома! — приказал богатей. — Коль скоро вор и убийца Намаз не отыщется, я тебе, предводителю воров, в лоб пулю всажу. Кто вчера к тебе приезжал, кто?
Как раз в этот миг в комнате, где лежала больная Бибикыз, раздались вопли.
— Не входите в дом! — взревел разъяренным львом Джавланкул. — Жена умирает… Совесть есть у вас или нет?!
— Я сам выну ее душу, — скрежетнул зубами Хамдамбай, — считай, к тебе сам Азраиль явился. Да-да, Азраиль, ангел смерти, который отнимет жизнь у всего твоего племени!
— Байбува, сжальтесь, моя-то вина в чем? Не время сейчас сводить счеты…
— Ах, ты не понимаешь, в чем твоя вина? Не твоя ли дочь скачет рядом с Намазом, который с шайкой таких же воров, как он сам, грабит уважаемых людей, оскорбляет их честь и достоинство, поднял руку даже на воинов белого царя?! И ты после этого спрашиваешь, в чем твоя вина, укрыватель вора и грабителя!
— Ты сам вор и убийца! — яростно выкрикнул Джавланкул, рванувшись. — Если Намаз-палван на кого и поднял руку, то на таких, как ты, грязных тварей, которые сосут нашу кровь и грызут наши кости, как шакалы! Не твой ли сын, змеиное отродье Заманбек, выкрал, чтобы обесчестить, нашу светлоликую Одинабиби?! Не он ли пытался заманить Намазбека в западню и заполучить за его голову золото?!
— Заткни глотку, подлец, не то пристрелю как собаку!
— Я тебе человеческим языком говорю, изверг: там жена моя умирает, а ты тут суд чинишь…
— Ты раньше нее умрешь, собака! Получай!
Хамдамбай, трясясь от злобы, поднял револьвер и, почти не целясь, выстрелил.
В последнее время бай всегда носил с собой оружие, но редко стрелял, а если и стрелял, то плохо попадал в цель. На этот раз, однако, пуля его не прошла мимо. Джавланкул резко дернулся, голова его упала набок.
— Отца уби-или! — прорезал воздух тонкий детский голосок.
Одновременно с этим криком грохнул выстрел со стороны хлева. Один из нукеров Мирзы Кабула подпрыгнул в седле, кулем свалился на землю. Другая пуля достигла второго джигита, который вместе с остальными товарищами погнал было коня в сторону ворот.
— Берегись, это Намаз!
Нукеры хакима, едва услышав грозное имя, в ужасе заметались, потом бросились врассыпную.
— Стой, трусы, назад! — взревел Хамдамбай, размахивая револьвером. — Назад! Никакого Намаза здесь нет! А если и есть, то очень хорошо! Не за ним ли мы сюда пришли?
Его спокойствие придало джигитам храбрости. Они повернули назад.
— Ты, Мирзо Кабул, проберись в сад, поддай оттуда, — командовал Хамдамбай, держась под прикрытием дувала, отделявшего двор от улицы. — Мы не уйдем отсюда, пока не уничтожим их всех. Даврбек, отомсти за брата, сынок, подожги дом.
Даврбек с готовностью кивнул отцу, но лезть под пули не спешил: едва кто высовывался, пули, срывавшиеся с крыши хлева, загоняли смельчаков обратно в укрытие.
Когда бай убил отца, Насиба и укрывшиеся с нею на крыше хлева сыновья Халбека Аман и Баротали разом выпалили в нукеров. Выстрелы слились в единый грохот. Баротали, который едва вступил в пору юности, еще винтовки в руках не держал. И, конечно, пуля его ушла зря. Насиба была прекрасным стрелком, прошла выучку у Намаза, но, когда увидела, как застрелили отца, была не в себе. И потому Хамдамбай, которого она держала на мушке, остался живым — ее пуля скосила кого-то другого.
Беспорядочные, но частые выстрелы нукеров, укрывшихся за дувалом, заставили Насибу приникнуть к крыше. Несколько пуль пролетели у самого уха, с шипением вошли в стог сухого клевера. Насиба уронила голову на гладко обмазанную глиной крышу, застыла на какое-то время. Из глаз ее ручьем бежали слезы…
Нет, глупо, конечно, самой лезть в руки врагов… И слезами, причитаниями теперь делу не поможешь… Случилось то, что должно было случиться. Надо защитить себя, спасти дом, всех своих. Собраться с мужеством и действовать с умом. Их на крыше трое. Самая меткая она, Насиба. А эти байские лизоблюды и ружье-то держать как следует не умеют, притом они на конях: верхом, известно, особо не прицелишься…
— Ты, Баротали, спустись в сад, — повернулась она к младшему из них. — Оттуда и переползи к вашим воротам, пока они не зашли с тыла. Будешь стрелять только в том случае, если захотят они увезти… отца. — У нее не повернулся язык сказать «труп отца». Ведь еще совсем недавно он был живой, а теперь — повис, привязанный к грушевому дереву, в каких-то десяти-пятнадцати шагах отсюда… и они не в силах ему помочь!
— Нет, апа-джан[48], нет! — поднял на нее умоляющие глаза Баротали. — Я останусь с вами!..
— Делай, как велят! — прикрикнула на него Насиба. — И ни в коем случае не стрелять. Слышишь? Если только они захотят забрать отца с собой…
Баротали, извиваясь ужом, отполз к заднему краю крыши, по-кошачьи спрыгнул вниз. По тому, что не раздалось ни криков, ни выстрелов, Насиба поняла, что тот благополучно юркнул в густые заросли кукурузника, росшего прямо за стенами хлева. Собственно, на это она и рассчитывала. Кажется, тыл у них еще свободен. Байские львы, по всему было видно, побоялись покидать свои безопасные углы. Свое бессилие они вымещали яростным огнем, которым нещадно поливали стог клевера. Насибе и Аману невозможно было даже головы приподнять, осмотреться, не то чтобы вести прицельный огонь…
Что дальше делать? Не лежать же здесь бесконечно, ожидая, когда их прикончат?.. Что бы предпринял Намаз-ака на ее, Насибы, месте? Он бы, конечно, придумал какой-нибудь хитроумный ход, спас бы себя и своих верных товарищей, да еще бы неприятеля в бегство обратил. Что ж может она, слабая, беззащитная женщина?
Стог сухого клевера загорелся, нещадно чадя. К тому же захлопали выстрелы из сада, отрезая последний путь к отступлению. Казалось, нет никакого выхода. Но тут Насиба вдруг вспомнила про люк для освещения хлева. Она осторожно толкнула Амана локтем и стала отползать назад. Аман ее понял.
Отодвинув заслонку, они один за другим спустились в хлев. Здесь было темно, хоть глаза выколи, слышалось тревожное ржание лошадей, беспокойный топот копыт. Увидеть отсюда, что происходит снаружи, тем более высмотреть притаившегося врага, не было никакой возможности. Сами вроде как в ловушке, и дом остался без защиты…
Насиба прислушалась. Стрельба прекратилась. Что-то предпринимают, решила Насиба. Медлить нельзя. Иначе они попросту задохнутся здесь от дыма или сгорят заживо. Если займется огнем и хлев, пропадут и чужие кони, которых отец брал под честное слово для работы…
Решение созрело моментально. Насиба тронула руку Амана:
— Быстро освобождай коней!
Она тоже бросилась отвязывать похрапывающего поблизости своего Карылгача, сняла веревку. Конь, учуя ее запах, послушно следовал за хозяйкой. С веревкой в руках подбежала Насиба к двери, нащупала кольца, служившие ручкой, привязала к одному из них веревку. В хлеву росло движение: освободившиеся кони встревоженно бегали, искали выхода.
— Аман! — позвала Насиба.
— Я здесь, — раздалось в ответ.
— В конце хлева должно быть окошко для выбрасывания навоза, знаешь? Как только я выпущу коней, выскакивай через него.
— А ты? Я тебя одну не оставлю!
— За меня не беспокойся. Нам нужно разойтись. Иначе мы ничего путного не сделаем. Иди к дому. Там — умирающая мать, там люди, которые нуждаются в нашей помощи! Будь осмотрительней. Угол, куда выходит окошко, невыгоден для осаждающих, там наверняка никого нет… А дальше смотри сам… лучше всего заберись на крышу дома… Когда я открою огонь, поддержи меня. Все, беги.
Насиба поймала за шею Карылгача, все время топотавшего рядом, взлетела ему на спину. Она не выпускала из руки веревку, привязанную к кольцу на двери.
Оказавшись верхом, она начала гонять коня по кругу, хлеща концом веревки и так ошалевших от дыма, страха и выстрелов животных. Когда в хлеву движение достигло предела, она резко потянула веревку на себя — створки распахнулись, в глаза ударил ослепляющий свет яркого дня. Табунок коней ринулся к спасительному выходу. Кони дико ржали и громко отфыркивались.
Прильнув к шее Карылгача, Насиба в последний раз хлестанула его концом веревки и вылетела вслед за табуном. Освободившиеся кони носились по двору, создавая невообразимую суматоху. В воротах стояла арба, вздыбив в небо оглобли и закрывая проход. Нукеры, видать, хотели штурмовать хлев под ее прикрытием. Насиба пустила Карылгача во всю прыть вдоль стены хлева и, когда он достиг небольшого строеньица сарая, молнией выбросилась на его крышу, перевернулась несколько раз, откатываясь подальше. Прицельных выстрелов не последовало. Байские прихвостни, видно, до того растерялись, что ее и не заметили. Они никак не могли уразуметь, что происходит: почему вдруг сама собой распахнулась дверь, как сумели выскочить из хлева кони? А когда до них дошел смысл случившегося, они всю злобу обратили на дверь хлева, зловеще зиявшего черной пастью, обрушили на нее огонь винтовок.
Насиба на это и рассчитывала.
Воспользовавшись суматохой, Аман перебежками достиг угла дома, спрятался за тандыром, на небольшой площадке, куда обычно клали широкую плетеную корзину, когда пекли лепешки, и тотчас открыл огонь. У нукеров создалось ощущение, что намазовских джигитов здесь видимо-невидимо.
Дым горящего клевера стелился над крышами хлева и сарая, служа Насибе надежным прикрытием. Но отсюда она не могла стрелять — улица не просматривалась, а ее могли сразу обнаружить.
Насиба решила перебраться на крышу дома соседа, Карима Глухого. Он стоял на излучине дороги, и с его крыши можно было вести огонь и по улице, и по двору своего дома.
Она ползком добралась до края крыши, оглядела сад Глухого. Он был пустынен, как и весь кишлак, который казался вымершим. «О боже, дай мне еще немного времени и сил. Сделай мою руку твердой, а волю несгибаемой, чтоб я смогла отомстить за убитого отца, за мать, которой не дали даже спокойно попрощаться с родными…»
Насиба спрыгнула во двор Карима Глухого и, держа оружие на изготовку, зорко оглядываясь, перебежала короткий открытый участок, упала на дно узкой канавки, образованной грядками помидоров — кусты были высокие и укрывали ее надежно, — проворно поползла вперед.
Дом Карима Глухого возвышался над Насибой почти в два роста. «Ой, беда мне, как же взберусь на крышу? — подумала женщина в отчаянии. — Нет, я должна одолеть и эту преграду, обязана одолеть! Хоть на самую крышу мира, но я должна взобраться!»
Насиба зацепила ремень за выступающий конец потолочной балки, вскарабкалась наверх, цепляясь вначале за приклад, затем за дуло оружия, ухватилась одной рукой за край крыши, подтянулась — «О боже, дай мне еще немного силы и ловкости!» — закинула ногу на крышу, уперлась левой рукой за выступ балки — и… вот она на крыше! Свесившись, сняла с балки винтовку… На все это ушли считанные минуты — нукеры стреляли в Амана и в дверь хлева. Значит, так и не поняли, что Насиба благополучно ушла оттуда.
На крыше Карима Глухого была сложена большая поленница. Насиба заползла за нее, осторожно приподнялась. Грудь ее тяжело вздымалась и опускалась, воздух вырывался из горла со свистом и хрипом. Но голова по-прежнему была ясной, руки твердыми.
Шагах в ста от Насибы, вблизи ворот, за дувалом притаились трое всадников. Кони под ними встревоженно всхрапывали, нервно перебирали ногами, прядали ушами. Здоровенный черный мужчина, заросший густой бородой, что-то кричал, приложив руки ко рту.
Узнав убийцу отца, Насиба встрепенулась. Что ж, Хамдамбай, пришло время держать ответ за свои злодеяния! Посеявший ветер — пожнет бурю, говорят…
Насиба тщательно прицелилась под левую лопатку Хамдамбая, нажала на курок. Всадник вскинулся на миг вверх, точно хотел взглянуть на невидимые звезды, потом как бы нехотя согнулся и ткнулся лицом в гриву коня.
— Байбуву убили! — закричал страшным голосом джигит, стоявший рядом с Хамдамбаем. Затем проворно спешился, чтобы оказать помощь Хамдамбаю.
Пуля, пущенная Насибой, видимо, ударила его в затылок: джигит, словно подкинутый мощной невидимой рукой сказочного дива, отлетел в сторону и навзничь рухнул на землю.
В это время загремели выстрелы со стороны дома Халбека. Это заговорила винтовка Баротали: видно, отчаяние и ненависть взяли верх…
Третий всадник, находившийся в компании Хамдамбая, завопил благим матом, держась за бок, и, нещадно хлеща камчою коня, понесся прочь.
— Спасайся, кто может! — кричал он. — Мы окружены!
Через миг в Джаркишлаке наступила могильная тишина.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЗАГОВОР УБИЙЦ
Среди желающих достать голову Намаза шло своеобразное соревнование. Казачий отряд Олейникова днями и ночами рыскал по краю, не оставляя без внимания ни одного самого безобидного конника. Отряды, нукеров прочесывали кишлак за кишлаком. Вели охоту профессиональные ищейки полицейского управления. Все мечтали только об одном: доставить голову Намаза властям. Тогда подполковник станет полковником, пятидесятник — тысячником да еще заработает сто тысяч таньга золотом!
Каждый из них считал, что дело это по плечу только ему, лишь бы создатель ниспослал немного удачи и везения. Так каждый, стремясь выделиться, первым схватить птицу удачи за хвост, зачастую ломал и крушил планы другого. Когда один, казалось, вот-вот у цели, появлялся другой, и у первого все летело вверх тормашками.
В эти-то горячие деньки Кенджа Кара, искусно угождавший обеим сторонам, решился наконец действовать, да так, чтоб наконец-то сорвать солидный куш. Вообще, нельзя сказать, что услуги его до сих пор плохо оплачивались, особенно когда не без его помощи Намаз был схвачен и помещен в «Приют прокаженных». Тогда Кенджа Кара остался «чистеньким», поскольку в этом деле был замешан и другой предатель — Хатам Коротышка, который своей смертью спас его, Кенджу, отвел от него подозрения. Тогда всего какой-то шаг оставался до заветной цели: Намаз должен был быть казнен или навеки отправлен на каторгу в Сибирь. И он, Кенджа Кара, получил бы обещанную Грибнюком высокую должность, разъезжал бы на сытом коне, разнаряженный, полный важности и достоинства, а чернь всякая да богачи помельче пресмыкались бы перед ним. Когда же Намазу вдруг удалось избежать смерти да еще выбраться на волю со всеми своими людьми, Кенджа Кара чуть не плакал от досады. «Почему ты бежал, негодяй? — трясся он от злобы. — Почему лишил меня должности, которая была уже почти моей?! Ведь тебе все равно не сегодня завтра умереть. Я бы читал молитвы, поминая добрым словом твой дух, по святым праздникам резал барашка, раздавал мясо бедным и нищим. А ты, негодяй, расстроил все мои планы. Погоди же ты, теперь я возьмусь за тебя. Раньше я доил тебя как дойную корову, а теперь продам, точно барана, со всеми потрохами.
Полицмейстер господин Грибнюк отличился в преследовании джигитов Намаза, заслужил похвалу и благодарность начальства, с повышением в чине был переведен в уголовное отделение главного полицейского управления уезда. Кенджа Кара в поисках его и отправился в Самарканд. Во-первых, они давненько не виделись, и Кенджа Кара не знал, нуждается ли Михаил-тура по-прежнему в его услугах. А во-вторых, чтобы вернуться к Намазу в отряд, ему требовалась помощь полиции.
Получилось так, что встреча эта больше обрадовала самого господина Грибнюка, нежели Кенджу Кара. Если в прежние времена, здороваясь, начальник подавал последнему только кончики пальцев, то теперь крепко обнял его, даже облобызал. Потом начался их обычный разговор: смешение русских и узбекских слов, сопровождаемое отчаянной мимикой и жестикуляцией.
— Моя твоя скучал, — вздохнул Михаил-тура, освобождая из объятий дорогого гостя. Кенджабай — обе руки на груди, низко поклонился хозяину, чуть не стукнувшись лбом об пол, мол, очень благодарен за честь.
— Моя башка тоже всегда тура, — проговорил он.
— Как мама, жива-здорова?
— Мама, вай-вай, тот свет.
— Плохо. Мама вай-вай, а сына не поженил.
— Мне мама господин Михаил, она женил.
Кендже Кара потребовалось почти полдня, чтобы втолковать Михаилу-туре на подобной тарабарщине свой план.
На другой день, когда Кенджа Кара уезжал обратно в Дахбед, у него в потайном кармане лежал документ, удостоверявший, что предъявитель является представителем полицейского управления, и предписывавший всем должностным лицам оказывать ему всяческое содействие. Кроме того, он вез с собою письмо, лично адресованное Арсланкулу, подписанное самим господином Сусаниным и заверенное его печатью.
В этот же день в родном кишлаке Кенджи Кара появился карательный отряд, который «ввиду оказания преступником вооруженного сопротивления» сжег его дом, а самого отвез в тюрьму. На четвертый день по всей округе распространился слух, что доблестный Кенджа Кара совершил дерзкий побег из тюрьмы.
Ночью того дня, когда намазовский отряд был окружен у «Одинокой чайханы» и ему удалось благополучно уйти из-под носа солдат и нукеров, Кенджа Кара разыскал Намаза, устроившего бивак в глухой степи. Намаз, тяжело переживавший гибель лучших джигитов, принял Кенджу Кара с распростертыми объятиями, собственноручно дал ему винтовку, подарил коня. Он, конечно, уже слышал о сгоревшем доме Кенджи, знал, что ему удалось чудом бежать из тюрьмы. «Погоди, братишка, вот выведем злодейский род баев, мы сами построим тебе дом», — пообещал Намаз. Обрадованный тем, что план его возвращения в отряд осуществился так легко, Кенджа Кара проявлял необычайное усердие в службе Намазу. В то же время он усиленно искал пути сближения с взбалмошным и до смерти упрямым Арсланкулом.
С какой стороны подобраться к такому человеку, чем его приманить?
Арсланкул ненавидит Намаза — это ясно как день. Намаз опозорил Арсланкула перед всем отрядом, даже чуть не пристрелил. Говорят, совсем недавно они опять крупно повздорили, когда Арсланкул выкрал и привез на стоянку младшую жену бугажильского тысячника. Намаз отхлестал его тогда плетью. Забыть такую обиду, конечно, Арсланкул не мог, не в его это характере.
Однажды отряд остановился посреди степи на короткий привал. Джигиты разбрелись по лагерю, занимаясь кто чем: одни, полулежа на постланных на землю чапанах, мирно беседуют, другие спят, растянувшись на жухлой траве, третьи заняты починкой сбруи. Кенджа Кара отыскал Арсланкула на склоне небольшого холма. Он лежал вдали от других членов отряда, подставив лицо мягким лучам осеннего солнца. Кенджа Кара бесшумно приблизился к нему.
— Чего тебе, наушник? — процедил сквозь зубы Арсланкул, не открывая глаз.
«Ну и слух у проклятого, — подумал Кенджа Кара, — точно у зверя какого!»
— С вашего позволения, бек-ака, я бы тоже малость вздремнул подле вас.
— Мало тебе места во всей этой необъятной степи? — приподнял голову Арсланкул. — Проваливай отсюда, ты мне омерзителен.
— Вы уж не гоните меня, бек-ака. Рядом с вами я чувствую себя спокойнее, — сказал Кенджа Кара, опускаясь на мягкую, теплую траву рядом с Арсланкулом. — Вы чуете любой шорох за версту, к тому же кто может сравниться с вами в меткости стрельбы?
— Подлизываться ты умеешь, червяк. Ну, что хочешь сказать, выкладывай.
— Кроме того, вы предприимчивее Намаза…
— Ты откуда это взял? — впервые взглянул Арсланкул на Кенджу Кара.
— Да как же, все это говорят!
— Кто — «все»?
— Да наши джигиты. Говорят, Арсланкул-ака наш — храбрец, каких еще поискать. У него размах, широта души: и казнить, и миловать умеет по-хански. Если бы он был нашим предводителем, говорят они, то мы давно покончили с карательными отрядами и каждый из нас стал бы управителем волости или тысячником.
— Дураки они, если так считают.
— Почему вы так говорите, бек-ака?
— Ты — предатель, сгинь с моих глаз долой.
— Если вы согласитесь…
— Заткнись.
— …джигиты готовы вам помочь.
— Помочь? В чем? Каким образом? — порывисто сел Арсланкул, буравя глазами Кенджу Кара.
— Ну, помочь как-нибудь, — ответил тот неопределенно. — И признать вас своим беком.
Смелый разговор Кенджи Кара насторожил Арсланкула. Еще третьего дня он тайно встречался со сватом Хамдамбая, которому пообещал убить Намаза, получив аванс три тысячи таньга чистым золотом. Неужели Кендже Кара стало известно об этой сделке? Или Намаз, не доверяя ему, Арсланкулу, специально подослал к нему эту черную пиявку?
— Собака! — взревел Арсланкул, резко хватая собеседника за горло. — Ты за кого меня принимаешь, подлая тварь? Как ты посмел сравнивать меня, ничтожного, с таким человеком, как Намаз?!
Кенджа Кара привык всю жизнь плясать на краю пропасти, когда один неверный шаг грозит гибелью. Но он никогда не терял присутствия духа. Так случилось и сейчас. Кенджа действовал трезво, расчетливо и осторожно, как искусный дрессировщик. Когда дрессировщик ловит взгляд хищного зверя, он сразу видит, зачем хищник обнажает клыки: чтобы взметнуться в смертельном прыжке или просто для острастки. В глазах Арсланкула сквозили страх и отчаяние. Он напоминал потревоженного зверя, жадно охраняющего свою добычу.
— Осторожнее, эдак ведь можно и задушить человека, — спокойно сказал Кенджа Кара.
— Задушу! — рявкнул Арсланкул, несколько ослабляя хватку, но и не выпуская Кенджу Кара. — Признавайся, кто тебя ко мне подослал, Намаз?
— Нет.
— Назармат?
— Нет.
— Кто же? Отвечай подлый интриган!
— Уберите руки, пожалуйста, бек-ака, — прохрипел Кенджа Кара. — У меня к вам специальное послание.
— Послание? — заинтересовался Арсланкул.
— Отойдемте подальше от лагеря.
Пройдя метров двести, они укрылись от глаз в густой траве.
— О каком послании ты говоришь? — недоверчиво уставился Арсланкул на Кенджу Кара.
— Поклянитесь, что сохраните в тайне то, что сейчас узнаете, — тоном приказа проговорил Кенджа Кара.
— Ладно.
— Учтите, если тайна раскроется, нас обоих ждет смерть.
— Учту.
— Нет, поклянитесь.
— Давай сюда это свое послание, зануда! — заорал Арсланкул, теряя терпение. — Не родился еще человек, который заставил бы меня в чем-нибудь поклясться. Давай сюда эту штуку.
Письмо было зашито в рукаве халата Кенджи Кара. Арсланкул, видя, как тщательно и умело подшита бумажка, адресованная ему, решил, что простодушный Намаз никогда бы не догадался, а если и догадался, не стал бы таким подлым способом проверять его.
Послание осторожно извлекли, но поскольку и Кенджа Кара и Арсланкул были совершенно неграмотны и прочитать его не могли, Кенджа Кара предусмотрительно заучил текст наизусть.
— Выходит, это от самого господина полковника? — спросил Арсланкул с загоревшимися глазами, когда Кенджа зачитал ему письмо по памяти.
— От него самого, бек-ака.
— Выходит, они обещают не преследовать меня за прошлые грехи?
— Точно так, бек-ака.
— И еще назначат меня тысячником, если я захочу? Ну а вдруг все это обман, вдруг они хотят поймать меня на слове?
— Если здесь кроется хоть малейший обман, можете убить меня на месте, — покорно склонил голову Кенджа Кара, прижав руки к груди.
— Да я тебе, собака, сейчас голову оторву, не дожидаясь, когда обнаружится обман! Предатель!
— Нет, все ж дурак я дурак! — горестно покачал головой Кенджа Кара. — Ради чего стараюсь? А ведь хотел помочь человеку получить почетное звание бека, должность тысячника! Да, дурак я настоящий, круглый идиот. Поначалу все надежды возлагал на Намаза. Думал, станет он беком — и нам засветит солнышко. А он только и знает, что заступается за каких-то голодранцев, лентяев и лежебок, а нас мытарит, неприкаянных, по всему свету… Да, кто же я такой, если не дурак, коли ошибся в последней своей надежде?!
— Эй, ты, — окликнул его, несколько смягчаясь, Арсланкул. — Ты мне правду сказал?
— Да умереть мне на месте, если неправду!
— Поклянись.
— Пусть создатель на месте убьет меня, если вру, — горячо прошептал Кенджа Кара.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. УЧАСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ
Да, Арсланкул давно мечтал избавиться от Намаза. Именно из-за Намаза, у которого оказалась кишка тонка на большие дела, он, Арсланкул, до сих пор никак не пробьется к власти и богатству. Эге-ей, если собрать в одну кучу все золото, что перебывало в их руках и которое все до последней монеты разбросал этот недоносок по базарам и центральным площадям кишлаков, наверняка сложилась бы целая гора. Где эти деньги? Ни у кого ни гроша. У Арсланкула тоже, конечно. А когда он, Арсланкул, хотел сам позаботиться о себе, этот чурбан опозорил его перед всем отрядом. А когда он, Арсланкул, по примеру тех же баев, выкрал младшую жену бугажильского тысячника, чтобы потребовать за нее выкуп, этот подлец Намаз отхлестал его нагайкой, как последнего негодяя. Разве может он, Арсланкул, забыть обиды? Нет, не такой он человек, он должен ответить ударом на удар, плевком — на плевок. Не успокоится, пока не выместит зло, что накопилось на душе. Теперь же этот дурень Намаз замыслил связаться с какими-то партийными из Самарканда. Чем черт не шутит, вдруг за этими ребятами сила кроется? Тогда ведь Намаз, связавшись с ними, станет в десять крат сильнее, авторитет его среди голытьбы, который и теперь не мал, возвысится до самых небес! Ему, Арсланкулу, этого не вынести. Тогда он хоть в лепешку расшибется — не достанет вершину этой чинары. «Надобно стегать коня плетью, пока он скачет, — продолжал размышлять Арсланкул, лежа с закрытыми глазами на пригретой солнцем земле. — Иначе будет поздно. Да, я должен расправиться с Намазом, но почему, однако, я должен брать в напарники Кенджу Кара, делиться с ним добычей? Кто он такой вообще? Вошь ползучая, провокатор и предатель! Кто гарантирует, что он завтра не продаст меня с потрохами, коли сегодня уже продал своего защитника и благодетеля Намаза? Ведь в тот раз, когда я припрятал серебро в горах, меня выдал именно Кенджа Кара, а не кто иной! Нет, нельзя связываться с таким подлецом! Тайна — это тайна, когда она захоронена в сердце одного человека. Нельзя в одну добычу целиться сразу двум охотникам. Кенджу надо убрать.
Арсланкул вскочил на ноги, схватил лежавшего рядом Кенджу за плечи и поднял над землей:
— Просыпайся, предатель! Ты еще можешь спокойно спать, продавая налево-направо своих друзей?!
Кенджабай спросонок не сразу и понял, что происходит. Однако, взглянув в преисполненное решимости грозное лицо Арсланкула, почувствовал себя дурно. «Да, я, видно, в самом деле дурак непроходимый! — мелькнуло в его сознании. — А то не принял бы этого негодяя за простака, которым можно вертеть, как захочется!»
Намаз, о чем-то беседовавший с десятниками невдалеке, удивленно оглянулся на шум. А увидев, что Арсланкул силой волочит к нему Кенджу Кара, поднялся на ноги:
— Что у вас стряслось?
— Намазбай, этот ваш любимчик оказался предателем! — крикнул Арсланкул, еще не доходя до предводителя.
— Ложь это, клевета! — завопил Кенджабай. — Арсланкул ненавидит меня: я всегда честно докладывал вам о его неприглядных делишках, вот он и решил извести меня. Арсланкул давно работает на полицию!
Подведя Кенджу Кара к предводителю, Арсланкул с омерзением оттолкнул его от себя, а Намазу протянул скомканную в кулаке бумагу. Тот расправил письмо, пробежал глазами по строчкам.
— Кто принес эту гадость? — выдохнул он наконец, проглотив противный ком, застрявший в горле.
— Вот этот сукин сын принес его мне! — крикнул Арсланкул, готовый, казалось, съесть глазами Кенджу Кара.
— Неправда! Письмо это было у него самого. Когда я случайно увидел его, на меня же свалил, подлец! — Кенджабай громко зарыдал, закрыв лицо руками, потом вдруг выпрямился с оскорбленным видом, заколотил кулаком по груди: — Друзья мои, почему вы так спокойно смотрите, как на вашего товарища возводят чудовищную напраслину?! Есть справедливость на этом свете или нет? Я-то, дурень, бежал из тюрьмы, пришел прямо к вам, ища понимания и защиты, а вы?! Уж лучше бы я сгнил в темнице, чем терпеть здесь, у своих, такой позор! Я ведь тоже бездомный, несчастный, как вы все, так почему вы слушаете этого злого человека? Намаз-ака, брат мой, защитите меня от черного навета! Я никому не вручал никакого письма, никому, никому!..
Кенджа Кара зарыдал в голос. Джигиты, сбежавшиеся на шум, молчали, образовав тесное кольцо вокруг двух товарищей, обвинявших друг друга в страшном преступлении. Хранил молчание и Намаз. Он понял, что столкнулся с хитро и коварно устроенной ловушкой. Намаз, не имея обыкновения знакомить отряд с получаемыми им во множестве письмами, жалобами и челобитными, на этот раз нарушил заведенный порядок. Зачитал письмо полковника, адресованное Арсланкулу и якобы доставленное Кенджой Кара. Пусть и сами немного поломают головы, пусть знают, какая висит над ними вечная угроза, решил Намаз.
Джигиты молчали. Молчал и Намаз, думая о случившемся, сопоставляя имевшиеся факты и свои догадки.
Одному из членов отряда пришло письмо. Не от тетушки или бабушки, а от главного начальника уездного полицейского управления. В письме говорится, что Кенджа Кара, а не кто другой, уполномочен вести секретные переговоры от имени полиции с Арсланкулом. Стали бы поручать Кендже Кара такое тонкое и важное дело, если бы он не имел давних связей с полицией и определенных заслуг перед ней? Нет, конечно. Возможно ли, что письмо придумано только для того, чтобы оклеветать, опорочить доброе имя человека, в худшем случае — подвести его под смертный приговор товарищей? Чушь собачья. Кто такой Кенджа Кара, чтобы плести вокруг него такую тонкую сеть? И надо ли было пристегивать сюда еще и Арсланкула? Но ведь пристегнули. И обещают простить все грехи, если поможет уничтожить намазовский отряд, да еще тысячником назначат! Метят точно в цель, будто хорошо осведомленные о неважных отношениях между Намазом и Арсланкулом. Положим, осведомлены. Допустим, что через Кенджу Кара, своего старого осведомителя, намеревались вбить клин между ним и Арсланкулом, а если удастся — даже привлечь его на свою сторону. Но тут-то и нашла коса на камень. Арсланкул — парень прямой и честный, хотя малость и вздорный, не оправдал надежд полиции, расстроил их планы…
— Так давайте разберемся во всем спокойно, — проговорил Намаз, хотя сам был далеко не спокоен. Ох, многое бы он отдал, чтобы оба его джигита оказались невиновными, но ведь вот оно, письмо, с подписями, печатью, жжет руку, точно раскаленный уголь. — Вы все знаете, — продолжал он, — клевете не место в нашем отряде. Всем известно, безвинных мы еще не наказывали. Так будет и на сей раз. Вам обоим придется доказать свою невиновность. — Намаз повернулся к Арсланкулу. — Скажите, откуда появилось у вас это письмо?
— Мне его передал этот черный жук.
— Неправда! — взвыл опять Кенджа Кара. — Я нечаянно увидел у него письмо, вот он и решил свалить все с больной головы на здоровую! Подлый клеветник!
— Я клеветник? — шагнул к Кендже Кара Арсланкул, но вдруг остановился. — Ты все еще утверждаешь, что письмо было у меня в кармане?
— Да, в этом кармане! И я знаю, что ты давно охотишься за головой Намазбека!
— Намазбай, прикажите ему снять халат, — спокойно сказал Арсланкул, указав пальцем на Кенджу Кара. — Письмо это было искусно вшито в подкладку его халата, проверьте сами, место это вспорото ножом.
Намаз до последнего не хотел верить в предательство Кенджи Кара, надеялся, что тот как-то докажет свою невиновность. Вспоротое место в халате, на которое указал Арсланкул, поколебало его веру, а извлеченная через минуту бумага рассеяла все сомнения. Стало совершенно очевидно, что Кенджа Кара был предателем, хитрым и подлым врагом Намаза и всех его джигитов, что он давно и верно служил полиции.
Намаз громко зачитал соратникам и эту бумажку.
«Податель сего Кенджа, сын Аликула, является секретным агентом отделения уголовного розыска Самаркандского уездного полицейского управления. Согласно пункту «А» 1274 статьи Свода законов Российской империи предписывается всем административным чинам губернии: тысячникам, волостным управителям, кишлачным старостам и иже с ними беспрекословное выполнение всех просьб и указаний вышеозначенного Кенджи, сына Аликула.
М. В. Грибнюк, полковник, управляющий уголовно-розыскным отделением уездного полицейского управления».Все молчали. Тишину хранила и беспредельная степь, словно пораженная подлостью, представшей перед нею. Казалось, даже птицы, спешившие куда-то по своим делам, застыли в небе. Солнце остановило свой ход. Все сущее застыло, закаменело…
Намаз с неживой улыбкой взглянул на съежившегося, не смевшего поднять головы Кенджу Кара.
— Да ты, оказывается, большой человек, Кенджабай. Кто бы мог подумать!
— Это не мой халат, его мне кто-то подсунул! — завизжал Кенджа Кара, пятясь под буравящим взглядом Намаза. — Умоляю вас, будьте справедливы, Намазбай! Вы ведь не любите проливать невинную кровь!
— Невинную? Где ты был, когда дом Шернияза стал для нас западней?
— Вы сами послали меня с поручением.
— Наутро, после стычки с неприятелем, семнадцать джигитов из разных кишлаков, не выказывавших своей причастности к нашему делу, были арестованы. Случайность? Это я, дурак, простак, думал, что случайность. Только теперь понял, что это ты их продал. Потому что их имена, место жительства никто не знал, кроме нас с тобой. А ты? Где ты был, когда все наши джигиты гнили в темнице?
— На воле был. Дома! Я же не виноват, если полиция так плохо работает! Или я сам должен был прийти и сдаться? Потом же они все-таки добрались до меня, упекли за решетку! Сожгли отчий дом! Самого чуть не убили, пытали, морили голодом!
— Хороша же полиция, что так мучает своих агентов, волю которых обязан беспрекословно исполнять весь уезд! — засмеялся Намаз, наливаясь гневом.
Случалось, и не раз, что Намаз вот так пытал провинившегося перед товарищами, а потом прощал, коли тот признавал свою вину, обещал искупить проступок кровью. «Повинюсь, пообещаю, вдруг пронесет?» — мелькнула у Кенджи Кара последняя надежда.
— Дьявол сбил меня с праведного пути, Намазбек! Обещаю кровью искупить свою вину! Пощадите меня!..
Грохнуло одновременно несколько выстрелов, произведенных по предателю намазовскими джигитами, принявшими на себя исполнение непроизнесенного приговора.
Кенджа Кара рухнул на землю.
И опять в степи воцарилась гнетущая тишина.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ВЕСЬ МИР — ЦВЕТНИК
Несколько дней уже, как Намаз живет у чабанов, пасущих овец вблизи реки Шурсай. Его сюда пригласили сами чабаны: «Поживите у нас, Намазбай, сколько хотите. Степь наша — неприступная крепость для недругов, а мы — ваша стража». В этих местах намазовские мстители чувствуют себя в безопасности: во всех селениях от Карасува до кишлака Шахид старостами да пятидесятниками сидят люди Намаза. Они вовремя предупреждают отряд об опасности, обеспечивают, коли в том есть нужда, лошадьми, продовольствием.
Последнее время положение отряда стало весьма сложным. Преследователи, утюжа край шаг за шагом, вытесняли намазовцев из обжитых мест. Стало невозможным посещение кишлаков. На каждом шагу стояли усиленные караульные посты. Один проскочишь благополучно — наткнешься на другой. Едва увернулся от нукеров какого-нибудь прыткого тысячника, глядишь, уже наседают казаки. Намаз не в состоянии дать неприятелю открытый бой. Для этого надо, как советовал некогда Михаил Морозов, поднять народ, а это оказалось Намазу не по плечу.
Намаз, страдая бессонницей, всю ночь бродил по напоенной ароматами трав и цветов степи. На рассвете вернулся к юрте, где оставил спящую жену. Чабаны поставили юрту у самого берега Шурсая: из-за войлочного полога все время слышался звон серебристой воды, беззаботный щебет птиц.
Низко пригнувшись, Намаз осторожно вошел в юрту. Но Насиба уже не спала.
— С праздником тебя, дорогая.
— И вас с праздником, Намаз-ака.
— Хочешь, пойдем по заре в горы? Наберем тюльпанов. Так красиво они расцвели, огнем полыхают. Можно и сестренок твоих взять. Прогуляются.
— Далековато вроде. А я не устану?
— Устанешь — на руках понесу. Ты ведь не тяжелая.
Насиба мягко улыбнулась.
— Да я вас всех до самой высокой горы донесу! — громко засмеялся Намаз, почувствовав во всем теле неожиданную легкость. Мрачных ночных мыслей словно не бывало. — Девочки, вставайте! — крикнул он сестренкам Насибы, которые проснулись с приходом Намаза и теперь тихо смеялись, о чем-то перешептываясь. — Девочка Васила, милочка Вакила, хотите пойти за тюльпанами?
— Хотим! — радостно повыскакивали из постели сестры.
— Тогда собирайтесь. Надо успеть, пока солнце не поднялось слишком высоко.
Выйдя из юрты, Намаз позвал Эшбури, велел в честь праздника весны приготовить в больших казанах плов. Арсланкулу приказал почаще менять дозорных.
— А ты, Авазбек, пойдешь за нами следом. Да гляди в оба.
Перейдя на противоположный берег Шурсая, они в радостном возбуждении направились к синеющей вдали Лолавайской — Тюльпаньей гряде. Васила и Вакилабану, весело смеясь, убежали вперед. Намаз шел рядом с женой, готовый в любой миг поддержать ее, если она оступится или поскользнется на камнях. Чем выше они поднимались, окружающий их простор раздвигался, и ширь, представавшая взору, успокаивающе действовала на изможденный, смятенный дух Насибы. Она дышала глубоко, всей грудью, чувствуя, что ее покидают горести, печали и тревоги, а их место занимает мощная волна радости, счастья. Женщина никак не могла понять, откуда она вдруг нахлынула. Возможно, это чувство подарили ей утреннее солнце, роса, искрящаяся на травах, легкий ласковый ветерок, овевающий лицо. Возможно, счастьем ее переполнило уже одно то, что они вместе с мужем, рядом, никуда не спешат, ни от кого не убегают, не скрываются, а просто идут в горы за тюльпанами… Удивительный человек ее Намаз-ака! Столько у него забот и тревог, а он с зарею отправляется в горы за цветами. Создатель дал ему широкую и тонкую, чуткую, как струна дутара, душу!
— Намаз-ака… — позвала вдруг Насиба.
— Что, дорогая?
— Передохнем малость, — улыбнулась она виновато.
— Устала?
— Нет, только что-то дыхания не хватает.
Дав жене немного отдышаться, Намаз поднял ее и понес дальше на руках. Насиба обвила руками шею мужа, положила голову ему на плечо и притихла, закрыв глаза. Ах, если бы мир состоял из одной этой тишины, а дороги его вели бы лишь к тюльпанам, и счастье это никогда бы не кончалось, никогда…
— Намаз-ака, хватит, спасибо. Лучше возьмемся за руки и пойдем потихоньку. Придут ли когда-нибудь лучшие дни, Намаз-ака? Столько испытаний уже выпало на нашу долю…
— Придут, дорогая, обязательно придут. Говорят, на лучшее не надеется только шайтан. Мне сообщали из Самарканда, что и в других краях то и дело вспыхивают мятежи. Вот если бы нам удалось объединиться! Сказать честно, Насиба моя, я очень нуждаюсь в советах умного человека. Много ошибок я допустил и допускаю. Поднял людей на большое дело, а как быть дальше — не знаю. Обеспечу людей конями — оружия нет. Каждый норовит делать только то, что ему нравится, общей заботы знать не желает. Голова моя пухнет от забот и мыслей, а посоветоваться толком не с кем.
— Чем плох ваш советчик Назарматвей-ака?
— Видишь ли, дорогая, Назар, — хороший, верный друг, храбрый, находчивый воин, которому, наверное, нет равных. Но он такой же босяк, как и я, выросший в хлеву Ивана-бая. И не грамотнее меня, чтобы открыть мне что-то новое. Нам же сейчас необходим такой мудрый человек, который умел бы жить не только сегодняшним днем, но и заглянуть в завтрашний. Все намеревался поближе сойтись с Морозовым, да, видно, не суждено. Я слышал, и его, беднягу, упрятали за решетку, отправили куда-то под усиленным конвоем, то ли в Ташкент, то ли в Мерв, точно не знаю. Я вроде рассказывал тебе о своей встрече с ним. Тогда я много диковинного услышал от него. Ты, Намаз, говорил он тогда, ничего не добьешься, покуда не свяжешься с партией, не погрузишься в глубь народа. Рассуждал как пророк, поверишь ли?! Эх, если бы я еще разок встретился с ним, возможно, спала бы пелена с моих глаз, яснее стал бы различать свою дорогу…
Так, за разговором, они не заметили, как взобрались на вершину высокой горы. Отсюда ясно виднелись степи, раскинувшиеся до самого Каттакургана. Казалось, солнце сегодня освещает долину с особой щедростью и любовью. Над землей навис легкий сизый туман. Травы едва заметно колышутся, завораживая глаза, наполняя душу каким-то особым трепетом… Тишина над долиной. Мир, спокойствие… Тюльпаны застыли, ловя раскрытыми чудо-чашами благодатный солнечный свет.
Насиба была заворожена представшей перед ней красотой. Она составляла красивые букеты из тюльпанов и протягивала Намазу, будто даря ему весь белый свет, то и дело заливалась звонким, счастливым смехом. Казалось, будь у нее крылья, легко оттолкнулась бы сейчас от земли и полетела, полетела…
Вдруг словно земля качнулась у нее под ногами, небо накренилось, по телу пробежал жгучий жар.
— Намаз-ака! — закричала она испуганно.
Намаз, полулежавший на склоне и любовавшийся зеленой долиной, в один прыжок оказался рядом, подхватил ее на руки.
— Голова закружилась… — виновато прошептала Насиба.
— Устала?
— Нет. Я, кажется, замучила вас.
Опустившись на землю, Намаз положил голову жены на колени. От ее иссиня-черных волос исходил приятный, кружащий голову запах. Намаз гладил их большой, жесткой ладонью, и по мере того как он гладил волосы жены, на ее бледном лице проступала тихая, блаженная улыбка. «Знаю, как тебе трудно, дорогая, невыносимо трудно! — с горечью думал Намаз. — Кто знает, полюби ты кого другого, может, совсем иначе сложилась бы твоя судьба, не испытала бы столько бед. Я же принес тебе горе вместо счастья, волнения и тревоги вместо тихой, спокойной жизни…»
В эти дни Насиба чувствовала себя неважно. Порою вновь заявляла о себе душевная болезнь, связанная со смертью их первого ребенка и с арестом Намаза: тогда она замыкалась в себе, мрачнела, беспричинно плакала или уходила, куда глаза глядят, босая, простоволосая, неряшливо одетая. А то вспрыгивала на коня и, хлеща его плетью, неслась, не разбирая дороги…
Намаз прекрасно понимал, что это дают о себе знать постоянно удручающие ее душу страх за него, беспокойство о завтрашнем дне, боль и печаль по утратам, обида за свою несчастную жизнь, тоска по мирному, уютному очагу… Поэтому он старался не перечить ей, исполнять любое желание, окружить заботой и вниманием. Ко всему, она опять была беременна, что, несомненно, служило причиной изменчивости настроения, упадка духа. Конечно, сейчас Насибе необходима спокойная, нормальная жизнь. Но есть ли нынче на земле уголок, свободный от лжи, предательства и соглядатаев? А что, если отправить Насибу с сестрами в Коканд, к Сергею-Табибу? Старик будет рад принять их под свое крыло — Намаз знает, как Рябов переживает свое одиночество! Любопытным Сергей-Табиб может представить Насибу женой какого-либо бая, которая желает лечиться только у него.
— Насиба, — тихо позвал Намаз.
— А, что такое? — проснулась женщина.
— Послушай, что я надумал, родная. Только ты не отказывайся. Как ты посмотришь, если я отвезу тебя с сестрами в Коканд, к Сергею-Табибу?..
— Пока я жива, — покачала головой Насиба, — я не расстанусь с вами.
— Насиба, дорогая, но ты пойми…
— Намаз-ака. Вы тоже поймите меня. Никого-то у меня дороже вас не осталось на свете, — проговорила она раздельно. — И у вас нет никого, кроме меня. Я считаю своим долгом всегда быть рядом с вами, оберегать вас от опасностей. Никому я теперь не доверяю после того случая с Кенджой Кара. Нет у меня веры и Арсланкулу вашему, он прикидывается мурлычущим котенком, а сам — кровожадный зверь. Уж я-то вижу, какая у него недобрая улыбка появляется на лице, когда вы что-то говорите или приказываете. Поверьте моему чутью, Намаз-ака… У него жестокие глаза, в них таится что-то ужасное! Я боюсь этого Арсланкула!..
— Но он ведь отвел от меня страшную опасность, Насиба! И я ему очень благодарен. Ты тоже должна быть ему благодарна.
— Не знаю, умом понимаю, что должна ему верить, а душа восстает. Он все время прячет от меня глаза, словно, заглянув в них, я прочту его сокровенные мысли.
— Может, тебе только кажется?
— Ах, если бы так!
Беспокойство и тревогу жены Намаз истолковал как следствие ее беспредельной любви. «Точно так и мать, всеми силами души любящая единственного сына, — подумал он, — не доверяет свое чадо ни небу, ни земле, во всем видит угрозу для его жизни. Насиба любит меня именно так. И отсюда все ее страхи. И болезнь ее, наверное, в этом сказывается. Нет, ее надо лечить, обязательно лечить!..»
— Насиба, дорогая, не отказывайся, — взмолился Намаз. — Ты должна уехать в Коканд. Ты ведь ждешь ребенка, шутка ли?!
— Дитя должно родиться возле отца! — улыбнулась Насиба, вскочила на ноги и протянула мужу руки: — Вставайте, давайте лучше собирать тюльпаны. И надо посмотреть, куда делись девочки…
— Они вон на той горушке. Я гляжу за ними. Да и Авазбек, наверное, где-то рядом обретается, прикинулся небось замшелым валуном…
Насиба благодарно засмеялась, пряча лицо в охапке тюльпанов.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПИСЬМО ПЕТРА ЗАГЛАДЫ
Хайитбай только прибыл на стоянку. Издали заметив Намаза, он перешел реку, прыгая с камня на камень. Они поздоровались, обнявшись. Потом Хайитбай, важно отстранясь, преподнес Насибе свой праздничный подарок — пуховую шаль, а девочкам — расшитые веселыми узорами тюбетейки.
— А мне что привез? — улыбнулся Намаз.
— А вам самый лучший подарок! — воскликнул Хайитбай, кинув незаметный взгляд на Насибу и ее сестер, мол, можно ли при них говорить. Чуткая Насиба пошла вперед, обняв сестер за плечи.
Хайитбай, опустившись на землю, стал снимать левый сапог.
— Я ждал тебя позавчера, — прислонился Намаз к высокому валуну. — У тебя все в порядке?
— Нет, — вздохнул парнишка. — Дедушка Дивана скончался.
— Дивана-бобо? — встрепенулся Намаз.
— Вчера похоронили, — проглотил слезы Хайитбай. — Ехал позавчера, дай, думаю, заеду к дедушке, проведаю… А он уже лежит, плох очень… Говорит, не уходи, проводишь меня в последний путь. Кликнули сирот — целая туча набежала. Дервиши, нищие пришли. Умирая, Дивана-бобо передал для вас мешочек монет. Велел, чтоб вы купили скакуна и посадили на него самого смелого джигита. Еще он просил, чтоб я вас поцеловал в лоб… и чтобы вы не забывали прочитать молитву об успокоении его души… Потом… все… Намаз молчал как оглушенный. До его слуха не доходили ни всхлипывания Хайитбая, ни веселое журчание реки, ни щебет птиц.
— Вчера, говоришь, похоронили? — спросил Намаз в оцепенении.
— Вчера, Намаз-ака. Народу было видимо-невидимо. И каждый хотел хоть несколько шагов, но пронести его табут[49] на своих плечах.
— Ты сказал кому-нибудь здесь об этом несчастье?
— Нет.
— Не говори. Люди собираются отмечать праздник весны, цветения и счастья. Не надо омрачать им настроение плохой вестью… Ты виделся с дядей Петром?
Хайитбай с готовностью протянул Намазу письмо, извлеченное из портянки, сказал с важным видом: «Велено после прочтения сжечь».
В Самарканде по-прежнему было немало сочувствующих и помогающих Намазу людей. Самым верным и последовательным из них оказался Петр Заглада. Намаз высоко ценил и почитал этого благородного и решительного человека, готового идти за справедливость на любой рискованный шаг. Намаз ждал с нетерпением вестей от Петра, находя в его коротких письмах ценные советы, сведения, весьма важные для жизни отряда.
«Дорогой мой!
Ты просишь помочь с оружием. Прости, но я не могу выполнить эту твою просьбу. Ты спрашиваешь о Сергее-Табибе. О нем я не располагаю никакими сведениями. Знаю только, что одним из зачинщиков мятежа кокандского гарнизона был он. Если это так, то не может быть никакого сомнения, что он тоже переведен на полное довольствие его величества.
Дорогой друг, я опять вынужден предупредить тебя, что среди твоих людей есть провокатор, который регулярно сообщает властям о пути твоего следования, ответах стоянок, о тысячниках и пятидесятниках, помогающих тебе. Все это такого рода сведения, которые может знать только человек, непосредственно находящийся в отряде. Прошу тебя, будь предельно осторожен, перепроверь всех джигитов. Мирзы Хамида ты теперь можешь не опасаться. Он внесен в «черный список» как «сочувствующий Намазу».
Теперь, дорогой друг, сообщу главную, но не радостную для тебя весть. На днях у господина Гескета состоялось важное секретное совещание. Как стало известно, на нем принято решение о полном уничтожении твоих групп. В помощь здешним воякам из Ташкента прикомандирована «Дикая дивизия», известная своей жестокостью и беспощадностью в подавлении народных волнений. Намечено увеличить количество контрольных пунктов в приграничных районах между Самаркандским уездом и Бухарским эмиратством до двадцати, между Каттакурганским и Самаркандским уездами до десяти, с правом содержать в каждом из них до пятидесяти-шестидесяти сабель. По совместному соглашению между господином Гескетом и эмиром в бекства Хатирчи, Зиявуддин и Китаб направлены три карательных отряда, в составе которых около трехсот хорошо вооруженных солдат. На соединение с ними в Зиявуддинском бекстве следует через Чимбайскую и Джамские степи отряд небезызвестного тебе капитана. Кстати, его-то ты как раз можешь не очень бояться. Когда ты попал в тюрьму, он сожалел, что немалую роль сыграл в твоей поимке. «Намаз честный и храбрый джигит, — говорил он, — спас меня от смерти, а я его пленил, не смог даже защитить от издевательств Хамдамбая и его своры, — век не прощу себе этого!» По его словам, в одном из столкновений между вашими отрядами, происшедшем в январе сего года, он приказал своим солдатам не открывать огня, якобы чтобы взять вас живыми. Вследствие этого вам удалось благополучно уйти от преследования. Припоминаешь такой случай? Если это правда, то можно надеяться, капитан и дальше не станет проявлять особого усердия в преследовании твоего отряда, и вам нынче будет спокойнее действовать в пределах Джамско-Чимбайских степей. Где находится домулла, мне выяснить не удалось. Ходят слухи, что ему удалось бежать. Будем надеяться, что это правда.
Прощай. Береги себя. Пусть тебе всегда сопутствует удача.
Твой друг».Прочитав письмо, Намаз неторопливо изорвал его в мелкие клочки и бросил в реку, задумчиво наблюдая, как, весело кружа, обрывки умчались прочь. «Да-а, утешительного мало», — вздохнул Намаз.
Через минуту, подняв голову, он увидел на противоположном берегу Тухташбая, с улыбкой глядевшего на него, держа коня под уздцы. Намаз отправлял парнишку разведать, что происходит на свете и сегодня вернуться назад. И вот он перед ним собственной персоной!
— Тухташбай! — обрадованно воскликнул Намаз.
— Он самый! — ухмыльнулся неунывающий Тухташ.
Намаз перешел реку, крепко обнял мальчишку. Удивительно, один вид Тухташбая, этого говоруна, весельчака и балагура, рассеивал мрачное настроение Намаза, а его шутки и проделки вызывали беззаботный смех и улыбку в самые трудные минуты.
— Рад тебя видеть, — сказал Намаз, вглядываясь в лицо Тухташа и с удивлением обнаруживая, что у него над губой уже пробивается мягкий, еле заметный пушок. Давно ли он вел их с Хайитбаем, больных, едва державшихся на ногах, в дом Сергея-Табиба? Как будто вчера. Как же быстро летит время!
— Когда вернулся? — спросил Намаз.
— Только что.
— Ну, рассказывай.
— Каратели сожгли Джаркишлак.
Намаз вздрогнул.
— А люди что?
— Люди успели уйти.
— Улугой-апа вам привет передала, — продолжал Тухташ. — Ничего, говорит, живут. У одного укланского жителя обосновались. Двадцатидневные поминки по Халбеку справили.
— В таком-то состоянии!
— Говорит, живой-то на этом свете ничего хорошего не видал. Пусть хоть на том душа покой обретет.
— Бедная моя сестра!
— Она просила передать, что вас ни в чем не винит. Пусть, говорит, бьет и крушит злодеев, нисколько не жалея. Еще сказала, что Мирза Хамид им мешок муки и мешок риса прислал.
— Мирза Хамид? Чудеса да и только!
— Не удивляйтесь. Он мне вот даже скакуна подарил. Я заехал к Джуре Саркару, как вы велели, а когда собрался уезжать, он говорит, что мне следовало бы повидаться с Мирзой Хамидом. Я засомневался было, ехать или нет, а Саркар говорит: «Он тебя ждет, не бойся». Ну, я поехал, нашел бывшего волостного на поле. Представляете, как простой дехканин, землю волами пашет! Встретил меня как родного. Говорит, передай Намазбеку, пусть считает меня в рядах своих мстителей. И коня вот подарил. Ничего?
— Ничего-то ничего. А своего куда дел?
— Своего паршивого оставил тому же Мирзе Хамиду, — ухмыльнулся Тухташбай, — чтоб не такой уж большой ущерб терпел, помогая намазовцам. Однако вы, пожалуйста, не перебивайте меня, не то забуду, что хотел сказать. Так, Мирза Хамид просил передать, чтоб вы были осторожнее. Говорит, Хамдамбай к вам убийцу подослал.
— Так он не подох, Хамдамбай, от пули Насибы?
— Пытался, да говорят, Азраиль-бобо явился за его душой, но, взглянув на его рожу, тут же повернул назад. Нечего, мол, тебе на том свете наводить ужас на моих добропорядочных покойничков. Помучайся уж лучше тут, этот свет как раз под стать твоей роже и душе!
Тухташбай сам же громко засмеялся своей шутке. Глядя на этого быстро забывающего горе и обиды, довольствующегося маленькими радостями жизни парнишку, Намаз тоже невольно улыбнулся.
— Ну и выдумщик ты, Тухташбай!
— А что делать, если жизнь сама так горазда на выдумки?!
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. «ПРАЗДНИК ВЕСНЫ СЕГОДНЯ!»
Возле своей юрты Намаз остановился, одним духом выпил косушку парного молока, присланного чабанами, вытер рот тыльной стороной ладони.
— Авазшер!
Аваз, охранявший сегодня Намаза, молчаливой тенью вырос из-за юрты.
— Прикажи собрать людей.
Джигиты Намаза приучены действовать четко, быстро, без суеты. Через несколько минут отряд был в сборе.
— Друзья мои, — сказал Намаз, оглядывая нестройные ряды сотоварищей, одетых кто во что горазд, не признающих никакого ранжира. — Друзья мои, сегодня навруз — счастливый и священный день для всего сущего на земле. Я поздравляю вас с праздником. Сегодня в Зеравшанской долине большое народное празднество. Стар и млад, женщины и мужчины, богачи и бедняки, даже кровные враги, на время позабыв взаимные обиды и вражду, облачась в белые одеяния, означающие чистоту, веру и надежду, соберутся в празднично украшенных местах гуляний. Среди них, конечно, будут и ваши братья и сестры, отцы и матери. Душою мы всегда с ними. Так поздравим же их с праздником и пожелаем, чтоб ниспослал им создатель доброго здравия и хорошего расположения духа. Сегодня мы тоже будем гулять, отринув горести, беды и печали. Эшбури-ака! Сколько барашков вы зарезали?
— Два.
— Раздобудьте еще одного бычка. Надобно угостить также наших гостеприимных хозяев-чабанов. Всех от мала до велика пригласите на праздничный дастархан. А я с друзьями отбуду ненадолго.
И Намаз, взяв с собой Назармата, Арсланкула и Авазшера, отправился на главный сайилгах[50] края, которым издревле служила открытая степь вблизи Каттакургана, сплошь покрытая цветущими тюльпанами. В день навруза сюда стекались жители близлежащих волостей. Выстраивают лотки торговцы сладостями, разбивают свои палатки лицедеи, фокусники и шуты, возводят трапеции дарбозы — канатоходцы. Устраиваются скачки, купкари — конные игрища, на которых участники стараются вырвать друг у друга козлиную тушу, мерятся силой знаменитые курашчи. По ночам пылают бесчисленные факелы, вокруг костров задаются пиршества с участием музыкантов и танцоров.
В сайилгахе народу видимо-невидимо. Кипит-бурлит базар, воздух сотрясает рев карнаев и сурнаев, лотки кондитеров облеплены разнаряженными детишками, дудящими в деревянные дудочки, свистящими в свистульки. К помосту каттакурганского кукольника и вовсе не пробиться. Иные смотрят представление, не сходя с коня или осла, иные взгромоздили детей на плечи, чтобы было лучше видно. Кукольника самого не видать — он скрыт белой занавеской, над которой развертывается действо…
Намаз и его друзья медленно ехали по сайилгаху. Празднующие сидели группами: семьями, кишлаком. Возле составленных ими кругов кипели казаны над очагами, источая ароматы. Богачи располагались особняком, вольготно возлежали на ярких ахалтекинских коврах, цветастых шелковых тюфяках. Кое-где наигрывала музыка, слышалось пение.
Проезжая мимо одного из кругов, Намаз невольно натянул поводья коня. Сердце его встрепенулось. «Неужели это голос Шернияза? Разве он не погиб? Разве может быть другой такой голос?! Так умел петь один лишь Шернияз, только Шернияз!»
Намаз поспешно соскочил с коня и, передав повод Авазбеку, приблизился к кругу, откуда доносилось пение. Поющий, видимо, заметил, что заинтересовал проезжавших конников, продолжал петь с еще большим воодушевлением, держа у рта глиняное блюдце и постукивая по нему ногтями.
Песня звучала по-таджикски, но слова были те же, что сочинил когда-то на ходу, играючи, Шернияз. Видно, и слушатели Шерниязовой песни были таджики — жители одного из близлежащих таджикских сел.
— Да ниспошли аллах тебе здоровья!
— Мед твоему языку! — восклицали они то и дело.
Бедный люд собрался здесь, ясное дело. На дастархане — лепешки из джугары, несколько горстей сушеного урюка и изюма. Чай разливают прямо из черных кумганов. В сторонке к наспех вбитым в землю колышкам привязаны ослы. Оглобли арб нацелены в небо.
Певец вел свою песню к концу, как бы собирая мелкие волны в мощный водопад, чтоб низвергнуть его в невидимую бездну. У парня были такие же глаза, как у Шернияза, и брови, и овал, и цвет лица, и нос, и подбородок, и усы… Только был он гораздо моложе, чем Шернияз.
Намаз понимал не все слова песни, но он видел, что она доходит до самых глубин души слушателей, даже непоседы-мальчишки сидели словно пригвожденные к месту.
Песня смолкла.
— Хвала тебе, братишка, молодец! — подошел Намаз к певцу. — Как тебя зовут?
— Давлатнияз, — потупился юноша, смущенный вниманием незнакомого человека.
— И имя твое прекрасно, Давлатнияз, и песня. По-узбекски понимаешь?
— Немного.
— Хорошо, что украсил своим несравненным пением праздник земляков, а не позарился на жирные блюда на байских дастарханах. Так же поступай и впредь. У тебя что, нет дутара?
— Дутар, ака, не по карману даже людям побогаче меня.
— Авазбек, — подозвал Намаз джигита, слушавшего песню поодаль, не слезая с коня. — Выдай юноше денег на дутар. И всем сидящим здесь раздай по целковому, чтобы и у них праздник был как праздник. Какой же навруз с лепешками из джугары да горстью сушеных фруктов?!
В дальнем конце круга на ноги поднялся высокий, густобородый человек с младенцем на руках и поспешно направился к Намазу.
— Гость, я вас узнал! — воскликнул он, не совсем верно выговаривая узбекские слова. — Вы — Намазбек, уверен, что не ошибся. Вы бывали у нас. Еще поколотили тысячника Кадыркула. Отменили налог на воду.
— Так вы из кишлака Пайинав?
— Совершенно верно. Присаживайтесь, Намазбек, будьте нашим дорогим гостем. Не побрезгуйте бедным дастарханом.
— Спасибо, — приложил руку к сердцу Намаз. — Но мы очень спешим.
— Тогда возьмите этого младенца на руки, — попросил незнакомец, — поцелуйте его. Авось вырастет таким же добрым богатырем, как вы!
Намаз взял испуганного ребенка.
— Как зовут вашего палвана?
— В лучших надеждах наречен Намазом.
— О-о, да мы тезки! — обрадовался Намаз. И ребенок, будто тоже признав его, вдруг обнял Намаза за крепкую загорелую шею. Присущий лишь малым детям запах вскружил голову. По сердцу палвана разлилась сладостно-щемящая волна.
— Чем вы занимаетесь? — спросил он бородатого.
— Ткач я, ака.
— Бязь ткете?
— Слава богу, бязь.
— Сколько у вас детей? — задавал Намаз ничего не значащие вопросы, не желая так скоро расстаться с прижавшимся к нему ребенком.
— Двенадцать человек, мой бек.
— Ого, расплодились же! — улыбнулся Намаз. — Как вам удается прокормить столько ртов?
— С божьей помощью, бек. Малые дети — на улицу не выгонишь. Семеро из них — дочки и сыновья старшего брата, рано покинувшего земную юдоль.
— Авазшер! — позвал Намаз. — Подай сюда моего коня.
Когда Аваз подвел коня, Намаз усадил в седло мальца, поддерживая его под мышки.
— Говорят, конь принадлежит тому, кто на нем сидит, — проговорил он. Потом добавил громче: — Это твой конь, братишка Намазбек. Дай аллах, чтобы ты не знал в жизни горя, вырос здоровым джигитом, всегда помогающим слабым.
Празднество набирало силу. Грохотали дойры, выли карнаи, сурнаи: начинались скачки.
— Намаз, пора уходить, — подъехал к предводителю Назарматвей.
— Как уходить? А купкари?
— Нет, пора уходить, дружище, — повторил Назармат. — Что-то неспокойно у меня на душе. Ты не думай, что здесь нет полицейских ищеек. Одного пса я, кажется, уже видел. Ускакал в сторону Каттакургана.
— Давно? Что ж ты мне сразу не сказал?
— Ты песню слушал. Не хотел портить тебе настроение.
— Арсланкул-ака, — подобрался Намаз, — в сторону Каттакургана ушел всадник. Догоните его. Если это полицейский соглядатай — уберите его потихоньку. Потом загляните к нашим людям. Они дадут вам кое-какие сведения. Авазшер, давай мне своего коня. Сам пересядь к Назару. Нам пора к своим. Погуляли — хватит.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ДОРОГОЙ ГОСТЬ
Стоянка мстителей тоже была превращена в небольшой сайилгах. За широко расстеленными дастарханами расположились намазовцы, чабаны с детьми на руках. Второй год в краю свирепствовал жестокий голод. Джигиты Намаза хорошо знали об этом. Поэтому гостям подавались чаши шурпы погуще, с куском мяса побольше, а плов — пожирнее. У казанов колдовали сами же намазовцы — многие из них выросли при состоятельных хозяевах: умели и готовить, и лепешки печь, и корову доить, и двор мести.
Десятник Турсун выкладывал плов на глиняные блюда, лихо постукивая половником о бок казана. Кабул, обвязав лоб цветастым платком, вынимал из пышущего жаром зева тандыра румяные лепешки: он хотел на прощание оделить всех десятком-другим лепешек. Нурбай и Карабай разносили еду.
— Нурбай, — крикнул Намаз, подъезжая к пирующим, — осталась у тебя еще шурпа? Мы проголодались как волки…
Вечерело. Возвращавшиеся с большого сайилгаха обитатели соседних стойбищ стекались сюда — они прослышали о пиршестве. Десятники усилили охрану — мало ли кто может просочиться с толпою простого люда!
К Намазу подошел один из часовых, спешившийся в отдалении, чтобы не беспокоить гостей, опустился на корточки рядом с ним и прошептал:
— У Кривого оврага мы задержали трех всадников.
— Выяснили, кто такие? — так же тихо спросил Намаз, не меняя благодушного выражения на лице.
— Один говорит, что он — бахши. Нурманом зовут.
— Нурман-бахши? Как он выглядит?
— Здоровый такой, плечи — во! Левый глаз чуть косит.
— Это он. А другие?
— Второй будто бы пятидесятник, а третий — старик, дряхлый такой.
— Раз они с Нурманом — пропустите.
Когда часовой так же незаметно исчез, как и явился, Намаз поднялся с места:
— Эшбури-ака, где вы? Прикажите зарезать еще одного барашка. К нам пожаловал лучший наш друг Нурман-бахши!
Каттакурганский поэт и сказитель Нурман, сын Абдубая, уже несколько раз бывал в отряде Намаза, скрашивал их трудную, неустроенную и полную опасностей жизнь своими песнями. Намаз питал большое уважение к богатырской силе и храбрости поэта, любил его проникновенные стихи и песни.
Через некоторое время гости подъехали в сопровождении двух вооруженных джигитов. Нурмана-бахши многие знали в лицо, многие мечтали увидеть его, послушать его чудные песни. Его встретили с почтительным поклоном.
— Оббо, Намазбай, наконец-то довелось свидеться с вами опять! — воскликнул бахши после взаимных приветствий. — Почитай, целый месяц охочусь за вами — никак не поймаю. Если другу это так трудно, значит, дай-то бог, врагам и подавно.
— А как же вам удалось разыскать нас сегодня, поэт-ака?
— Если бы не вот этот дедушка, — указал Нурман-бахши на одного из своих спутников, — я бы, наверное, опять гонялся за ветром в степи.
— Намазбек, сынок, — вступил в разговор белобородый дед, — вы уж простите меня, старого, что раскрыл бахши место вашей стоянки. Сам я из кишлака Айранчик. Двое моих сыновей-чабанов и пятеро внуков стоят сейчас в охране вашего лагеря. Я верю, что они и их товарищи с вашими людьми оберегут вас от случайностей. Днем повстречал на большом сайилгахе сына-бахши, Нурманбая. С его слов понял, что он давно жаждет повидаться с вами. Ну и взял на себя смелость привести его сюда. Я и сам, кстати, давно мечтал повидать вас.
Намаз повернулся к Нурману-бахши:
— А этого друга нашего я что-то не узнаю.
— Это пятидесятник кишлака Шахид. Разве не помните, вы же сами велели селянам выбрать его на эту должность?
Пятидесятник был худощавый человек лет тридцати, с высоким, чистым лбом.
— Запамятовал, — виновато улыбнулся Намаз. — Слишком много воды утекло с тех пор… Как поживаете, брат, какие новости в ваших краях?
— Слава аллаху, ничего, — ответил пятидесятник. — Месяц трудились не покладая рук, вскрыли наконец арык, засыпанный тысячником Каюмом, помните, мы еще говорили вам об этом?
— Помню, помню. Пришла вода-то?
— Прийти-то пришла, но боимся, как бы тысячник опять какую подлость не выкинул. Пока вскрывали арык, какие-то люди трижды нападали на работающих. А по ночам засыпали вынутую землю обратно. Тогда нам пришлось отвозить ее, землю-то, далеко в сторону.
— Конечно, это дело рук тысячника. Если к вам придет вода — кто же станет работать на его полях?! — воскликнул Нурман-бахши.
— За свои права надобно крепко стоять, брат, — одобрил Намаз. — Для борьбы с негодяем всякие средства хороши. Ну а воду, смотрите, распределяйте по справедливости. В первую очередь давайте малосильным дехканам, вдовам, старикам…
— Мы так и делаем, бек-ака. Нам бы пять-шесть винтовок… Иначе арык нам не уберечь…
— Оружие я вам дам. С плеч своих бойцов сниму, но вам дам… Так, шаир-ака, — повернулся он затем к Нурману-бахши, — рассказывайте, что на белом свете делается, вы ведь много ездите, встречаетесь со многими людьми.
— Что рассказывать, Намазбек? Нищета кругом беспросветная. Люди пухнут от голода…
— Я слышал, Намазбек, вы отобрали у хатирчинского лабазника Салиха сто мешков пшеничной муки и раздали голодающим, спасли от смерти сотни, тысячи жизней. Слух об этом облетел всю Зеравшанскую долину, вселил в души бедняков надежду, надежду на вас и ваших мстителей…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. АРСЛАНКУЛ ВЫЖИДАЕТ
Получив приказание Намаза, Арсланкул чуть не взревел от радости. В эти дни он только этою мечтою и жил — попасть в Каттакурган, а выбраться не было никакой возможности. Любая неоправданная отлучка могла вызвать подозрение. А он, Арсланкул, не имеет права лишаться того доверия, ради которого пожертвовал жизнью Кенджи Кара. Он должен вести себя так, чтобы Намаз не отдалял его от себя, а, наоборот, еще больше приблизил. Слишком осторожным, недоверчивым стал Намаз, а телохранители — самые верные, надежные, давние друзья, ни на миг не оставляют его без опеки. Теперь отряд дольше одной ночи нигде не останавливается — только у чабанов вот несколько задержались. По всему, Намаз и завтра-послезавтра не собирается поднимать отряд. Арсланкул и надумал воспользоваться этой заминкой; только не знал, как сообщить о местонахождении Намаза каттакурганским друзьям. А тут птица удачи сама прилетела, села на плечо.
Арсланкул подозрительного всадника не искал. Въехав в Каттакурган, прямиком направил коня к канцелярии тысячника Лутфуллы, свата Хамдамбая.
Лутфулла, низенький, пузатый, с благообразной бородкой, более смахивал на служителя мечети, нежели на чиновника.
— Что скажет мой ястреб, есть ли добрые вести? — встретил тысячник Арсланбека вопросом.
— Баран привязан к колышку, — бросил Арсланкул отрывисто.
— А обещали связать ему ножки, мой ястреб…
— Я очень спешу, — процедил сквозь зубы Арсланкул, пропуская мимо ушей слова хозяина. — Оставьте пустые разговоры. Одно я хочу спросить у вас еще раз. Помните, вы говорили, что поможете мне стать беком?
— Я ведь аллахом клялся, мой ястреб.
— Тогда вы должны сегодня же ночью напасть на лагерь Намаза. Вы будете бить его снаружи, я — изнутри.
Тысячник быстро догадался, что от него требуется: послал нарочных к городскому полицмейстеру и командиру воинской части. Последнего на месте не оказалось. Вместо него приехал ротмистр Конев. Полицмейстер же явился скоро. Но, обнаружив, что против «банды» они располагают всего шестью полицейскими и десятью конными солдатами ротмистра Конева, он заявил, что идти с такой силой против Намаза — сущее безумие. Но ротмистр был молод, горяч. Он горел желанием уничтожить Намаза, покрыв свое имя славой.
— Скажите, господин тысячник, а сарту[51] этому можно доверять? — спросил он Лутфуллу.
— Можете доверять, как мне самому! — ответил тот.
— Как тебя зовут, сарт? — обернулся Конев к Арсланкулу.
— Не смей называть меня сартом! — злобно огрызнулся он.
— Ладно, ладно. Так как тебя зовут?
— Узнаешь, как меня зовут, когда получишь из моих рук голову Намаза.
— Ого, ну и надменен ты, брат, как я погляжу. А ты не обманываешь нас?
— Если не веришь, можешь не идти.
— Верю, верю, потому как господин тысячник за тебя ручаются. Объясни-ка, далеко отсюда стоит ваша шайка?
Арсланкул нахмурился, сглотнул слюну.
— У нас не шайка, а отряд.
Грубые ответы и вызывающий вид Арсланкула раздражали гордого ротмистра, его так и подмывало отхлестать негодяя нагайкой, но тысячник, угадав его желание, тихонечко подмигнул, покачав головой, не надо, мол, горячиться, все дело можно испортить.
— Сколько в отряде человек? — взял себя в руки Конев.
— Тридцать пять.
— Значит, вы сегодня ночуете там, у чабанов. Сможешь задержать отряд до нашего прихода?
— Постараюсь.
— Нет, ты поклянись.
— Не люблю клясться.
— Ладно, как хочешь, гордый сарт. Но ты все ж постарайся задержать отряд на месте, пока мы не подойдем. А то я знаю этого вашего Намаза…
Из канцелярии тысячника Арсланкул вышел как оплеванный. С ним здесь обращались будто со скотом. И это с человеком, который не сегодня завтра станет беком всего Зеравшана! Так и тычут в морду: «Сарт! Сарт!» Сами вы сарты, подлецы!
Однако они вроде решились напасть на отряд. В таком случае он, Арсланкул, еще на шаг приблизился к заветной цели, а ради этого, конечно, можно и усмирить свою гордость…
Потом Арсланкул встретился с несколькими людьми, обязанными передать Намазу кое-какие сведения, и пустил коня обратно к стоянке.
Гости уже разошлись, в костре дотлевали последние угольки. Джигиты крепко спали, попадав кто где: одни под наспех сколоченным навесом, другие — в юртах, третьи прямо под открытым небом. Верно, сказалось действие вина, привезенного спутником Нурмана-бахши. Дастарханы не убраны. Немытая посуда сложена в беспорядочные кучи.
Намаз и Назармат полулежали у костра, неторопливо беседуя о чем-то. Рядом стоял кувшин, пиалы наполнены вином. Оба были заметно навеселе.
— Подите сюда, брат! — позвал спешившегося Арсланкула Намаз. — Устали небось крепко?
— Устал очень, бек, — вздохнул не кривя душой Арсланкул.
— Как, догнали?
— Я догнал с десяток конников. Но подозрительных среди них не обнаружил, бек.
— Может, он куда свернул, подлец, а?
— Может, и свернул, кто его знает. Степь широка. Остальное все в порядке. Встретился с нужными людьми. Отряд Сокольского, сообщили они, несколько дней стоял в городе. Посадили четырнадцать человек, обвинив в пособничестве бандитам. Позавчера отряд отбыл в Нурату.
— Выяснили, где обретаются нукеры Лутфуллы-хакима?
— Выяснил, Лутфулла поехал на праздники в Кумушсай.
— Значит, мой верный друг, в эти дни мы можем спать спокойно?
— Аллах даст, бек, можем спать спокойно.
— Э-э, бросьте вы все на своего аллаха кивать! — вскипел вдруг Намаз. — Они должны были сегодня нас атаковать, понимаете, непременно должны были атаковать! Видите, Назар пьян, я пьян, джигиты все дрыхнут, хмельные, без задних ног. Дураки они будут, коли упустят такую возможность и не нападут на нас! Сколько тут сегодня перебывало гостей? Сотня, две сотни, три? И думаете, среди них нет хотя бы одной продажной шкуры? Есть, еще как есть, верно я говорю, брат мой верный? А среди нас самих разве нет людишек, готовых на предательство?
— Не люблю подозревать ближних в подлости, бек. Я стремлюсь верить им до конца.
— Однако, брат, спасибо вам! Вы честный человек… А я обижал вас, чуть даже не приговорил к смерти… Но ведь между нами все плохое забыто, забыто, верно я говорю?! И все благодаря вашей широкой натуре! Давайте, выпьем, напьемся в эту ночь допьяна!..
— Нет, бек, я не могу себе этого позволить. Хочу иметь ясную голову. Ведь вы же сами сказали, что в эту ночь может случиться всякое.
— Назармат, слышал мудрые слова нашего друга?! Хвалю за верность, преданность, какую не всегда встретишь даже у родного брата! Скажите, Арсланкул-ака, чем бы я мог наградить вас и за то, что вы есть, и за верную вашу службу, и за слова, только что вами сказанные? Увы, такой награды нет. И вы не похожи вон на храпящих, лежащих вповалку богатырей!.. Но, ака, сегодня праздник, и им это простительно. Вас же я все равно должен чем-то одарить. Но я сейчас гол как сокол, сами знаете. Что я могу вам дать? Ничего, кроме вот этого своего стеганого простецкого халата! Остальное все… раздарил. Отдал людям. Но я вам подарю… я вам свой собственный кинжал подарю! Кинжал, полученный от такого же верного друга, как вы, мой брат. Берите же!
— Я тронут вашими словами, бек. Я готов служить вам до последнего часа.
Когда Арсланкул ушел, Намаз вдруг взял Назармата за шиворот, стал трясти его:
— Назар, Назарджан, вставай, друг, воспрянь, пойдем-ка нырнем по разу в реку. Все-то сегодня позабыли об осторожности, но мы-то на что, мы должны с тобой глядеть в оба!.. Мы — среди врагов…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ВЫСТРЕЛ ИЗ-ЗА УГЛА
Конев давно мечтал прославиться, проявив на поле брани чудеса храбрости. После разговора с Арсланкулом, несмотря на предостережения полицмейстера, он немедленно послал гонцов в Дамарыкскую, Иштиханскую и Мингарыкскую волости с просьбой прислать по десятку нукеров. Городской тысячник собрал для него двадцать вооруженных джигитов. Наспех сколоченный отряд Конева тронулся в путь. Ротмистр рассчитывал загодя добраться до цели, а с рассветом неожиданно атаковать неприятеля, погруженного в крепкий и сладкий предутренний сон.
Однако Конев не знал, что в эту злополучную ночь 24 марта 1907 года еще один честолюбивый господин оголил саблю, чтобы снять голову ненавистного Намаза.
Тысячник Карасувской волости двадцатитрехлетний Арабхан не уступал в горячности ротмистру Коневу. Совсем недавно администрация обвинила его в пособничестве намазовской «банде»: он якобы беспрепятственно пропустил ее в Зиявуддинское бекство, когда казачий отряд Сокольского загонял грабителей в заранее заготовленный «мешок». Арабхану было строго указано, что если он в течение месяца не исправит свою ошибку (не сказать, преступление) и не изловит Намаза, то займет в «Приюте прокаженных» темницу, предназначенную для самого Намаза. Арабхан, само собой, забегал-засуетился, как ступившая на уголья курица, более страшась лишиться высокой должности, нежели оказаться в темнице. Сегодня он получил сообщение от одного из своих соглядатаев, что намазовский отряд находится на отдыхе на берегу Шургаса.
Не мудрствуя лукаво, Арабхан собрал с помощью соседних волостных и полицейского управления железнодорожной станции Нагорная отряд в сорок три сабли и тотчас тронулся в путь: «Или я убью Намаза, или он меня — середины тут быть не может!»
Конев, мчавшийся ему навстречу, надеялся на большую удачу: он хотел взять Намаза живьем, не больше, не меньше.
Намаз, искупавшийся в ледяной воде Шурсая, чувствовал в теле необыкновенную свежесть и легкость. Спать ничуть не хотелось. Вообще, у него в последнее время нарушился сон: бывает, по двое-трое суток не сомкнет век. Вчера ночью не спал ни минутки, сегодня тоже, видать, не уснет. Заложив руки за спину, он ходил по лагерю и думал, думал…
Медленно приближался рассвет, едва заметно высветив контуры далеких гор, ивовых деревьев на берегу реки.
Острый взгляд Намаза засек всадника, пулей несшегося к лагерю со стороны Каттакургана. Намаз, почувствовав неладное, крикнул Назарматвею, возившемуся у кострища:
— Поднимай джигитов.
Всадник осадил коня прямо перед Намазом. Это был один из чабанов, стоявших на часах за пределами лагеря.
— Там, в низине, появились конники! — указал он рукоятью плети назад.
— Много их? — взял Намаз коня под уздцы.
— Человек пятьдесят, наверное. Вооружены. Спустились в низину, притаились.
— Возвращайся назад. Следите, что они станут делать. Не стреляйте: они вас перебьют. Соберитесь все вместе. Только спрячьтесь хорошенько.
Намазовская стоянка немедленно пришла в движение. Проснувшиеся седлали коней, заряжали винтовки, не желавших пробуждаться Назарматвей безжалостно поливал ледяной водой. В лагерь влетел Курбан-Табиб, один из часовых, выставленных вверх по течению Шурсая.
— Намаз-ака! Со стороны Нагорной появились конники!
— Много их там?
— Много, Намаз-ака! Больше полусотни.
— Скачи обратно. Забери остальных джигитов и возвращайся.
— Мы можем их задержать, Намаз-ака, пока вы соберетесь!..
— Выполняй приказ. Бойцов у меня достаточно, а лекарь один, понятно? Пошевеливайся!
Когда Курбан ускакал, Намаз подозвал Эшбури.
— Берите свою десятку, десятки Назара и Кабула, переходите реку и уходите вверх по оврагу. Юрты, навесы не разбирать. А вы, — обернулся он к Арсланкулу, ни на шаг не отходившему от него, — залягте с пятью джигитами вон под теми ивами. Задача — прикрывать отходящих. В бой не ввязываться. Можете пальнуть пару раз, если слишком смело поведут себя нагорновские герои. Мы с Назарматом поглядим за каттакурганскими. Только не пойму, чего они медлят, ведь самое время нападать!
— Вот именно! — невольно воскликнул Арсланкул, но тут же, прикусив язык, побежал со своими людьми к ивняку. Это было отличное место: возвышение, густо покрытое кустарником, древними толстыми талами с низко свисающими к земле ветвями. Отсюда прекрасно просматривался брод, который поспешно переходил отряд. (Джигиты не захотели бросать фаэтон, который Намаз держал последнее время для беременной жены, — волокли его вшестером.) И низина, откуда мог появиться неприятель, хорошо простреливалась. «Кто это такие, интересно? — думал с досадой Арсланкул. — Очень некстати они появились. Все мои планы могут порушить».
Арсланкул выдвинул джигитов вперед, велев им открывать огонь, едва покажется неприятель, а сам залег ближе к лагерю. Он не терял надежды, что все может сложиться так, что ему удастся взять Намаза на мушку.
Невдалеке промчался Курбан-Табиб с остальными дозорными, с ходу врезался в брод. Арсланкул приложил ухо к земле и услышал глухой гул. Шли конники.
Арсланкул осторожно отвел затвор, оглянулся назад. Фаэтон застрял в реке, попав колесом между камней. Его помогали толкать теперь и Курбан с товарищами. Из-за навеса выбежал казначей Эшбури, навьюченный тяжелым хурджином. Едва взглянув на него, Арсланкул почувствовал, как потемнело в глазах. Он решительно прицелился под лопатку Эшбури и повел дулом за ним…
Люто ненавидел Арсланкул Эшбури. Считал его жадным и мелочным, не по праву распоряжающимся богатствами, которые добывает он, Арсланкул. «Ах ты, гад! — подумал он, распаляя себя. — Я рискую шкурой, отнимаю у богатеев денежки, а ты тут же становишься их хозяином! Вы только поглядите на него — благообразный кормилец большой семьи, да и только! Как он бережно тащит этот хурджин! Но ты же, подлец, тащишь не свое золото, а мое, мое золото, добытое моими руками!»
В это время грохнул дружный залп джигитов Арсланкула по появившимся вдали всадникам. Тут же захлопали ответные выстрелы. Воспользовавшись этим, Арсланкул нажал на спуск. Эшбури, молча и покорно, даже не взмахнув руками, уткнулся лицом в воду.
— Эшбури-ака убили! — завопил кто-то. — Держите его, а то унесет водой!
Арсланкул посмотрел туда, откуда донесся голос, словно желая выяснить, кто кричал, и взгляд его наткнулся на яркое красное пятно. Это алел платок Насибы, помогавшей толкать фаэтон.
«Зачем он тебе вообще нужен, этот фаэтон?!» — Арсланкул резко передернул затвор винтовки и замер, прислушиваясь.
На той стороне, откуда ожидался Конев, царила тишина. Намаз, видно, стерег его, не открывая огня.
Арсланкул взял Насибу на мушку. Целиться было трудно: женщину то и дело загораживали джигиты, толкавшие фаэтон…
Арсланкул всегда был настороже с Насибой, особенно после того, как замыслил злодеяние против Намаза. Насиба словно чувствовала, что он в себе затаил: поглядывала на него долгим, изучающим взглядом. Насиба смотрела на Арсланкула, чуя своим женским сердцем, что он уготовил ее Намазу что-то страшное. И вполне может случиться, что в один прекрасный день она разоблачит его.
Насибу давно пора было убрать. Все случая не представлялось. А теперь приспело время!
Арсланкул прицелился в красный платок и, когда под ивами снова грохнули выстрелы, нажал на курок.
— Насиба-апа! Ападжан! — громко взревел Тухташбай, оказавшийся рядом. Женщину подняли, понесли за злополучным фаэтоном, который наконец-то выволокли на другой берег.
Арсланкул, криво усмехаясь, перебежал поближе к своей пятерке.
У брода неожиданно возник Намаз. Громко свистнув, он махнул рукой, давая Арсланкулу понять, что надо отходить.
Арсланкул подбежал к ближайшему бойцу.
— Быстро! Отходим!
И тут ему в руку, повыше локтя, угодила шальная пуля. Охнув, он присел на землю…
Последними перешли реку Намаз, Назарматвей и Арсланкул с бессильно повисшей рукой — уходить раньше он отказался, процедив сквозь зубы: «Успею!»
Намаз и его спутники углубились в овраг, по которому ушел отряд. За спиной царила странная тишина. Они сели на оставленных для них коней, поднялись на холм. Взглянув на недавнее место лагеря, они остолбенели. Там затевался бой по всем правилам военного искусства: отряды Конева и тысячника Арабхана, преодолев первоначальное замешательство, решились наконец атаковать намазовскую «банду», каковой каждый считал противостоящих конников. Одежда врага никого из них не смущала, ибо давно уже во всех инструкциях, поступавших свыше, подчеркивалось, что намазовцы часто переодеваются, действуя то в форме полицейских, то солдат.
«Да примите вы хоть чертово обличье, от меня не уйдете!» — думал Конев, выдергивая саблю из ножен и приказывая атаковать врага.
— Окружить лагерь! Пленных не брать! — скомандовал Арабхан. — С божьей помощью, победа будет за нами!
И началась сеча! Стороны не жалели живота своего, напропалую рубились саблями, палили из ружей — дым стоял столбом, ад кромешный!
Намаз повернулся к усмехавшемуся Назарматвею.
— Видишь, что происходит?
— Я полагаю, лучше не мешать молодцам. Они уж теперь не остановятся, пока не уничтожат друг друга.
Пустив коней вскачь, они вскоре догнали отряд. У фаэтона сломалась ось. Раненые Эшбури и Халилбай из пятерки Арсланкула, положенные на траву посреди ярко пылавших тюльпанов, уже скончались. Рядом лежала, вытянувшись, с открытыми глазами, устремленными в небо, Насиба…
Из-за горизонта поднималось мутно-багровое солнце, словно омытое кровью.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. «КАКОВО БЫТЬ БЕЗДОМНЫМ, БАЙБУВА?»
Время близилось к полуночи. Полная луна то и дело исчезала в рваных лохмотьях облаков, словно стараясь скрыть от любопытных глаз семерых всадников, мчавшихся по степи. На окраине Джаркишлака один из них резко натянул поводья и соскочил с коня.
— Намаз-ака… — тихо позвал мальчишеский голос.
— Что скажешь, Тухташбай? — обернулся Намаз, уже растворившийся было в темноте.
— А могилки вы их знаете?
— Найду авось…
— Может, я пойду с вами, покажу…
— Пошли.
И они углубились в кишлак, погруженный в мрачную тишину.
Сегодня вечером Намазу удалось навестить сестру. Встреча была тягостной. Обнявшись, они оба не смогли сдержать слез: столько потерь, лишений выпало на их долю за последние годы, что, наверное, даже камень бы не выдержал. И всю дорогу, пока мчался в Джаркишлак, сказать родным последнее «прости», сердце Намаза обливалось кровью. Покинули сей мир мягкосердечный Джавланкул, добрая Бибикыз-хала, и ни в одну могилу не довелось ему, Намазу, бросить прощальную горсть земли. Вот даже могилы навестит впервые…
Джаркишлак был безжизненным, как покинутый хозяевами дом. Да так оно и было. Трижды наведывались сюда карательные отряды. Десятки людей взяты под стражу. Спаслись только те, кто вовремя бежал из родного селения. Дома сгорели, сады пришли в запустение, веранды и дувалы обвалились…
Намаз опустился на колени у изголовья могилы Бибикыз-халы, прошептал: «Здравствуйте, мама… Осиротел я опять, видите… Не уберег я нашу Насибу, простите меня…»
Три дня тому назад они похоронили Насибу на Кызбулаке: есть такое место на слиянии Лолавайской и Нуриддинской степей. У сочащегося из земли родника с чистой, как девичья слеза, водой растет-возвышается громадная, развесистая чинара. Под нею и стынет теперь могила Насибы…
Тяжко вздохнув, Намаз молитвенно провел ладонями по лицу и решительно поднялся на ноги.
— К Хамдамбаю! — скомандовал он, взлетая в седло. — Полагаю, настала пора рассчитаться с ним окончательно. Как ты думаешь, Назармат?
Десять дней исполнилось, как Хамдамбай вернулся из Самарканда с лечения. Пуля Насибы угодила ему под лопатку, прошла чуть в стороне от сердца и вылетела, сломав ребро. Искусные русские доктора сохранили Байбуве жизнь, но вернуть здоровье, конечно, полностью не смогли. Вчера Хамдамбай устроил поминки по Заманбеку, созвал на угощение множество народу. Он хотел заодно возблагодарить всевышнего, спасшего ему жизнь. Следовало еще отметить и радостное событие — изгнание Намаза в Каттакурганские края.
Уставшие за день сыновья, невестки, внуки легли рано. Байбува тоже залез в постель, блаженно закрыл глаза. Неделя уже, как на четырех базарах продается байская пшеница. Народ голоден — скупает зерно, не торгуясь. Деньги текут к Хамдамбаю мешками, он не успевает даже считать их…
Четыре нукера, приданные Мирзой Кабулом для охраны Хамдамбая, едва заслышав, что хозяева угомонились, заперлись в караульном домике рядом с воротами и принялись играть в кости — ашички.
Назарматвей осторожно отворил дверь караульной.
— Страсть как люблю игроков! — произнес он, входя в помещение и направляя на нукеров сразу два револьвера. — Обычно игроки — отчаянный народ. Но у меня дурная привычка: чуть что — всаживать пулю в лоб. Потому, прошу, не трепыхайтесь. Живо лицом вниз на пол, вот так, молодцы! Аваз, унеси оружие, как бы они после не переколошматили друг друга.
Между тем снаружи дело двигалось. Джигиты хорошо знали, кто что должен делать, — в считанные минуты все члены байского семейства были связаны и с кляпами во рту погружены на байские же арбы.
— Аваз, поджигай! — скомандовал Намаз. — Керосину не жалей. И гоните арбы за мной!
Все произошло так быстро, что никто и не успел понять спросонок, что происходит. Байбува, небрежно заброшенный на арбу и прижатый чьими-то телами, долго не мог прийти в себя. А когда осознал, что случилось, его охватил ужас. «Неужто это опять Намаз? — Не хотелось ему верить в очевидное. — Ведь вечером только люди говорили, что он рыскает где-то в Каттакургане! Боже, все кончено, кончено! Этот негодяй способен всех живьем в реке утопить!.. Помоги и смилуйся, создатель…»
Ехали недолго. Примерно в версте от байского подворья находился болотистый участок земли, густо покрытый камышами. Здесь Намаз и велел остановиться, снять пленников с арб, вынуть кляпы. Ночной воздух огласился громким плачем и причитаниями.
— Молчать! — топнул ногой Назарматвей и передернул затвор винтовки. — Не то перестреляю как собак!
— Хош, Байбува, как вы себя теперь чувствуете? — поднял Намаз рукояткой плети голову Хамдамбая. — Говорите, не стесняйтесь.
— Грабитель! — зло сплюнул на землю бай.
— Это я-то грабитель? — удивился Намаз. — Много же я награбил добра, коли ничего не имею, кроме вот этого старого халата! А вот ты, — Намаз повысил голос, чтобы все слышали, о чем он говорит, — на всех базарах от Самарканда до Каттакургана продаешь мешками пшеницу. Откуда ты взял столько зерна, ни разу в жизни не махнув кетменем?! Что, Бегайым, дрожите, замерзли, что ли? — повернулся Намаз к жене Хамдамбая. — Вы за всю свою жизнь хоть раз подоили корову, скатали кизяк или испекли лепешки в пышущем жаром тандыре? Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда на вас платья из парчи, золоченые платки на голове, нитки жемчуга? Вы догадываетесь, чьим кровавым потом добыто все это? Так скажите: кто же грабитель — вы или я? А ты, Даврбек? Ответь мне, почему ты сжег Джаркишлак? За какие грехи ты оставил безвинных людей без крова? Тебя поколотили мои джигиты, а ты выместил зло на немощных старухах! Вот какой ты богатырь, оказывается! Ну-ка, развяжите его. Вот он я — перед тобой. Покажи свою силу, коли такой герой! — Соскочив с коня, Намаз подошел к Даврбеку. — Будешь биться со мной? Одолеешь меня — отпущу всех твоих родичей… Будешь биться? Трус, ты же хил, как сорная трава, растущая под замшелым валуном, а мнишь себя легендарным Алпамышем! Полагаешься на отцовские богатства да царскую власть! Драться ты не годишься, работать кетменем не можешь, но жрать плов пожирнее ох как горазд! Дармоеды, пиявки! За что ты застрелил моего зятя Халбека? Как рука поднялась на беспомощного калеку?..
Намаз так двинул булавоподобным кулаком в челюсть Даврбека, что тот отлетел шагов на семь в сторону, упал и затих, странно дернувшись.
Хамдамбай отвернулся. Его покачивало как пьяного, к горлу подступала тошнота. Но тут взгляд его упал на яркое зарево, поднимавшееся вдали…
Байбува забыл о сыне Даврбеке, забыл обо всем: он во все глаза смотрел на свои горящие хоромы. Казалось, не дома его горят — все нутро. Векселя, деньги, ценные бумаги — все его состояние! Горят ковры, атлас и парча! Плавятся, тают как воск золото и серебро, гибнут драгоценные камни!
Хамдамбай был глух — он ничего не слышал. Он был слеп — ничего не видел. Огонь полыхал не в домах — в его глазницах! В голове кружилась одна и та же мысль: «Все кончено, конец, конец мне, сгорел я!»
Хамдамбай, казалось, умирал стоя.
— Намазбек! — ожил он вдруг. — Прикажи своим джигитам, пусть погасят огонь. Кувшин золота подарю!
— У тебя уже нет домов, бай. Как нет тех, кто строил их. Они хотели получить заработанное своим трудом, а получили смерть. Теперь ты без крова, Хамдамбай. Ты гол как сокол. Хочешь жить — освой клок земли, работай кетменем, жни серпом. От непогоды укроешься в камышовом шалаше. Будешь жить своим трудом, как тысячи тысяч людей…
— Застрели лучше! — взревел Хамдамбай, рванувшись к Намазу. Но, сделав шаг, рухнул замертво на землю.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. БЛЕСК КИНЖАЛА ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ
Третий день шло преследование намазовского отряда. Не удавалось нигде остановиться, перевести дух. На всех своих тайных стоянках намазовцы обнаруживали засады нукеров и казаков. Не удалось просочиться в соседнее эмиратство: в пограничье стоял такой плотный заслон, что, нарвавшись на него, Намаз чуть не потерял весь отряд.
Уходя от погони, Намаз небольшими группками отпускал джигитов по домам. Он решил, что это самый верный путь сохранить людей. Завернув в Утарчи, забрал с собой скрывавшихся там сестер Насибы. Намаз надеялся переправить Василу и Вакилабиби куда-нибудь в безопасное место, где их не могли бы достать длинные руки родичей покойного Хамдамбая, которые тоже теперь не сходили с коней, поклявшись извести намазовский род.
Всадники держали путь к Кызбулаку. Усталые кони спотыкались, чудом удерживаясь на ногах. Трудно им приходится, беднягам. Едят из торб, привязанных к морде, стоя, разгоряченные, пьют холодную воду. Подождать, дать несчастным животным остыть — некогда. А не попьют — когда еще встретится по пути вода?!
Конь Намаза стал прихрамывать, переставляет переднюю правую ногу с опаской: слетела подкова…
Этой ночью они должны вырваться из окружения. Завтра будет поздно. Сядь сейчас враг им на хвост — не уйти. Кругом смертельная опасность. Однако Намаз решился заглянуть в Кызбулак, попрощаться с Насибой. Кто знает, когда еще он вернется из чужбины, вернется ли вообще?!
У них, правда, был выход — уйти пешими через Бахмальские горы в Фарыш, а оттуда уже пробраться в Коканд, где Сергей-Табиб укрыл бы их (сообщение, что он в тюрьме, оказалось ложным). Но неожиданно стало известно, что Зиявуддинский бек взял в залог жену и двух сыновей Арсланкула. Обещал отпустить их, если последний добровольно сдастся.
Неделя уже как поступила эта неприятная весть. Привез ее племянник Арсланкула Джуракул. И возвращаться не захотел. Сказал, что вернется только с дядей вместе или совсем не вернется. Но Намаз не решался отпустить горячего, опрометчивого Арсланкула одного. Он силен, храбр, слов нет, но за что ни возьмется — все делает напропалую, без хитрости и ума. «Нет, не могу я отпустить его одного, — думал Намаз. — Погибнет зазря и семью не спасет. Самому надо с ним ехать. Он спас меня от неминуемой смерти, раскрыв заговор. Я должен добром отплатить за добро Арсланкула, искупить перед ним свою вину. Я ведь сам учил джигитов, что нельзя бросать друга в беде. Какими глазами я буду глядеть в глаза людям, если не сдержу свое слово?!»
Семеро всадников медленно пробирались по густой высокой траве по направлению к Кызбулаку. Девочки пристроились позади Хайита и Тухташбая. Намаз никак не мог отрешиться от грустных мыслей. «Неужели все кончено? — думал он. — Где те сотни джигитов, коих я вооружил, посадил на коней? Почему они рассеялись, развеялись как дым вместо того, чтобы множиться и множиться? Иль моя вина в том, что не смог их удержать, сплотить, объединить, приумножать? Чего-то нам не хватило, до чего-то я не дошел умом… Выходит, домулла Морозов как в воду глядел. Еще год назад он предсказал мне наше сегодняшнее положение. Вот, рассеиваемся, точно стайка воробьев, по которой ударил ястреб. Приглашал ведь Морозов присоединиться к ним. Говорил, что человека можно убить, но идею убить невозможно. Да, упустил я золотое время. Бессмысленно гонял коней! А вдруг не все еще потеряно? Ведь можно же начать все сызнова? Конечно, можно. Надо только выбраться из кольца, оправиться малость. Соберу джигитов и примкну к домулле. Мои люди возражать не станут. Только надо им все объяснить, растолковать. Страшную тупость я проявил. Целиком предался личной мести. А этого, оказывается, недостаточно. Сокрушить древо гнета могут сами угнетенные, если они все поднимутся разом. Отдельные мстители ничего не способны сделать. Вот ведь что говорил тот бородатый мудрец! Нет уж, я его найду, непременно найду, протяну ему руку дружбы. Скажу, давай веди. Возьму те книги, что он мне обещал, буду постигать их премудрость, пока не одолею. Пусть год потрачу, два, но не отступлюсь, покуда не прозрею. Вот тогда мы опять будем сильны. А пока придется отступать. Кто сказал, что отступление — смерть? Вовсе нет. Можно отступать, чтобы потом перейти в наступление. Тогда у меня и бомбы появятся, и пушки, и обученные солдаты! И достанется же вам опять, кровососы, только держитесь! Проснется еще спящий Зеравшан, весь край проснется! Беспробудного сна не бывает, нет, не бывает!..»
Кызбулака достигли, когда вечерело. Джигиты тяжело попрыгали на землю и, видно, полагая, что задержатся здесь недолго, повесили на головы коней торбы с овсом.
На Кызбулаке, кроме Насибы, похоронены еще четверо джигитов-мстителей. Нурбай быстренько произвел омовение и прочитал над могилами погибших коротенькую молитву. Намаз опустился перед холмиком, под которым лежала Насиба, и надолго застыл со склоненной головой. Только изредка вздрагивали его плечи…
Арсланкул находился неподалеку. «Ах, если бы не было остальных! — думал он. — Выпустил бы в этот затылок пулю, и вся недолга! Увы, рано еще, рано. Надо ждать. Видно, недолго осталось. Я не должен спешить. Лев бросается на добычу раз и берет ее!»
У родника расстелили дастархан, вынули из хурджинов вяленое мясо, лепешки. Намаз, выпив из родника пару пригоршней ледяной воды, встал и пошел к коням. Оказалось, они к овсу не притронулись, спали, понурив головы. «Бедные животные! Если не дать вам отдохнуть, завтра вы не сможете двигаться дальше!..»
Положив голову на шею своего охромевшего скакуна, Намаз на какое-то время притих. «Знаю, устал ты, мой дорогой. Все мы устали, намаялись. Будто только для того мы и рождены, чтобы уставать и маяться бесконечно! Но что поделаешь, коли так написано у нас на роду? От судьбы разве уйдешь?! Почему ты, бедное животное, спишь стоя, не дашь отдохнуть натруженным ногам? Или твоя душа тоже полна смутного беспокойства и тревоги, как моя? Отчего, интересно, у меня такое состояние, не могу понять. Так и кажется, что парит надо мной некое чудовище, распластав черные крылья, строит рожи, ухмыляется…»
Намаз вернулся к спутникам, невольно задремавшим, не вставая из-за дастархана. Васила и Вакилабиби стояли, обнявшись, у могилы сестры.
— Ну-ка, просыпайтесь все! — вскричал Намаз. — Нужно посоветоваться, друзья. Девочки, вы тоже идите сюда. Назармат, друг мой верный, слушай приказ.
— Слушаю, — приложил руку к сердцу Назармат, слегка опустив голову.
— Нынче разобьем отряд надвое. — Намаз говорил решительно, твердо. — Ты берешь с собой Тухташа, Хайита, Василу с Вакилабиби и немедленно отправляешься через горы в Коканд.
— Намаз! — встрепенулся Назарматвей, не согласный с решением друга.
— Ты знаешь, — продолжал Намаз, не давая себя перебить, — эти четверо сирот мне дороже всех на свете. Девочки — это память о любимой моей жене Насибе, о дядюшке Джавланкуле и тетушке Бибикыз, ставших мне родными отцом-матерью. Тухташ и Хайит — память о Диване-бобо, не давшем мне умереть голодной смертью. Сохранить их — мой святой долг. Найди Сергея-Табиба, скажи, чтоб он берег их, отдал в ученье. Сам я не имею права уйти отсюда, пока не разрешу неприятности Арсланкула. Это мой долг чести. Исполнив его, я как на крыльях полечу за вами. После разыщем домуллу Морозова, решим с ним, как нам дальше действовать. Пришла пора выбираться с темной, запутанной тропы. Вот такая у нас нынче задача. Ты жди меня в Коканде, Назармат, я скоро приду.
— Намаз, ты все верно рассудил, да. Но я не могу оставить тебя одного.
— Почему?
— Я не имею права покидать тебя, когда над тобой нависла страшная угроза.
— Ты не покидаешь меня, дружище. Ты уходишь, чтобы выполнить мое поручение. Пойми меня правильно, Назармат. Нас осталась горсточка, кони измождены до крайности. Если произойдет столкновение — мы все погибнем. Так не лучше ли спасти тех, кого еще можно спасти?! Эти сироты должны жить, понимаешь, жить за себя и за всех тех, кто раньше времени ушел из жизни.
— Послушай меня, парень, — вмешался в разговор Арсланкул. — Никто из нас не имеет права ослушаться приказа предводителя, ты это прекрасно знаешь. Кроме того, почему ты считаешь, что оставляешь Намазбека одного?
— Можете быть уверены, Назармат-ака, пока мы живы, ничего с Намазом-ака не случится, — произнес Нурбай с дрожью в голосе.
— Ладно, — вздохнул Назарматвей. — Когда отправляться?
— Теперь же! — обрадовался Намаз, не обращая внимания на боль, неожиданно пронзившую сердце. — Сейчас и трогайтесь. Откладывать нельзя. Нурбай! Выдай Назармату и мальчишкам по тридцать патронов. Дай им две бомбы. Пусть возьмут и бинокль. Мы как-нибудь обойдемся. Я еще раз прошу, Назармат: береги сирот. Не тебя мне учить: понадобится — продайте коней, пересядьте на огненную арбу. Давайте, дорогие мои, прощаться. Прошу только не плакать. Не выношу слез. Девочки, Васила, Вакилабиби, идемте обнимемся… но я же сказал: не плакать… Бог даст, и для нас наступят светлые деньки. В пустыне освоим себе по клочку земли. Выстроим дома, сестер выдадим замуж, мальчишек женим. Славные свадьбы справим, всем на зависть. А теперь пора по коням, мои дорогие! Прощайте!
Намаз глядел вслед всадникам, потихоньку, шаг за шагом, двигаясь за ними. Из глаз его лились слезы. И странное дело: слезы словно смыли с души ту непонятную тревогу, не дававшую ему покоя. Видно, его мучил страх за судьбу сирот, и теперь на душе словно неожиданно взошло солнце…
— Джуракул, не спишь? — вернулся Намаз на стоянку.
Джуракул, беседовавший с Арсланкулом, поспешно вскочил на ноги.
— До сна ли теперь, бек-ака?
— Не осталось у тебя что поесть?
— Вашу долю мяса я отложил, Намаз-ака. Присаживайтесь, я сейчас подам.
Джуракул проворно постелил свой чапан на землю, чуть ли не силком усадил Намаза на него. Потом нарезал мясо, надломил лепешку.
— Однако, скажу я вам, бек-ака, здорово вы придумали, что решили отправить сирот в Коканд, — говорил он между тем. — Если бы Назар-мулло отказались, я б сам отправился с ними. Прилягте, бек-ака. Вот так, хорошо. Хотите, помну ваши ноги?
Намаз неловко улыбнулся.
— Не надо, брат. Странный ты парень, Джуракул…
— Бек-ака, вы не представляете, как я вас полюбил! Однажды вы спасли моего дядю Арсланкула из тюрьмы, теперь собираетесь вызволить из беды его семью. Вы напоминаете мне доброго, сказочного богатыря.
— Убери руки, парень, некрасиво это как-то…
— Нет, бек-ака, позвольте, я ведь от души…
Намаз, чтобы избавиться от назойливых приставаний юного Джуракула, сел, убрав ноги под себя.
— Давайте лучше обсудим, как действовать дальше. Арсланкул-ака, отчего вы нос повесили? Выше, говорю, голову! Сегодня мы ускользнем от преследователей. Завтра, в крайнем случае послезавтра, мы освободим вашу жену и детей, вот увидите. Слушайте, какой у меня возник план. Нынче мы подадимся в Карачинские горы, на подступах к которым установлены два контрольных пункта. Они, конечно, предупреждены, что мы можем появиться на их территории, двое суток ждали нас в полной боевой готовности. Само собой, люди устали, разуверились, что мы сунемся к ним, и сегодня уснут спокойненько. Этим мы и воспользуемся. Тихо проскочим между двумя постами и попадем в Даханисайское ущелье. Те места я хорошо знаю. Месяца два там скрывался, когда сбежали из «Приюта прокаженных». Как вам мой план?
— Годится, — коротко обронил Арсланкул, занятый своими мыслями.
— Однако же и голова у вас, бек-ака! — восторженно воскликнул Джуракул. — Мыслите широко и глубоко, не зря, видать, оценена ваша голова в сто тысяч таньга, верно я говорю, дядя?
— Дурак! — выругался Арсланкул, раздраженный несдержанностью племянника. — Чего ты все хвостом машешь, щенок?
— Ладно, не сердитесь, — сказал Намаз миролюбиво. — А теперь, друзья, пора вздремнуть. Время уже позднее. Ты, Нурбай, возьми Джуракула да пройдись в сторону Яккакайрагача, посмотри, что там делается. Будьте осторожны. Ничего не предпринимайте. Только разведайте и быстро возвращайтесь, хорошо? Вы, Арсланкул-ака, кажется, уже дремлете? Так ложитесь, поспите, я постою на часах.
— Э, какой сон может быть у человека, жене и детям которого грозит смерть?! Лучше отдохните сами. Третьи сутки уже в седле. Разве можно человеку так мучить себя?! Спите, бек, спокойно. Уж я охраню ваш покой.
Намаз вынул из хурджина позеленевший медный тазик, направился к могиле жены. Здесь, у подножия могильного холма, он лег, подложив перевернутый вверх дном тазик под голову. Эта посуда — не только единственная память, оставшаяся ему от любимой Насибы. Тазик этот обладает удивительным свойством: он улавливает звуки шагов, конский топот за три версты и предупреждает хозяина об опасности. Намаз всегда спит без опаски, коли подложил тазик под голову. Так привык. И он, этот тазик, не раз выручал его. Подтрунивающим над ним Намаз всегда говорил, что от тазика исходит запах волос жены, в нем она когда-то мыла их… Секрета никому не раскрывал. Но порой ему в самом деле казалось, что он явственно улавливает родной запах любимой Насибы…
Сон начал убаюкивать Намаза. Какая-то слабость разлилась по его телу, затуманила мозг. И чем больше он погружался в небытие, туман отступал, перед взором прояснялось, прояснялось и возникла… Насиба. Она была в белом одеянии. На руках младенец. Похудела, измождена до крайности… Вдруг Насиба распяла рот в немом крике: «Бегите, Намаз-ака, уходите! Вам грозит опасность, вас убьют!»
Вздрогнув, Намаз проснулся. Осторожно оглянулся по сторонам. Кругом царила тишина. Невдалеке, на возвышении, маячила темная фигура Арсланкула, верного стража. Успокоенный, Намаз опять опустил голову на медный тазик и крепко уснул. На сей раз уже без сновидений…
Арсланкул стоял невдалеке, маясь своими мыслями. «О создатель, все складывается, как я мечтал, — думал он. — Неужто ты сам способствуешь мне, своему ничтожному рабу? Уснул, кажется, наконец этот буйвол. Не спит, не ест, весь в заботах, и хоть бы что. Стрелять в него? Нельзя. Выстрел могут услышать. Всадить в грудь кинжал? Такого одним ударом не прикончишь! Вскочит и даже раненый из тебя кишки выпустит. Лучше всего, наверное, вначале оглушить его камнем, а после уже зарезать. Бог ты мой, и камень наготове, будто сам создатель подкинул его сюда… именно на это место… Ноги дрожат, будь они прокляты… От волнения, наверное… Помоги, всевышний, поддержи мой дух, не дай расслабиться! Я ведь так долго ждал этой минуты, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, горя жаждой мести! Вот от чего я, наверное, дрожу — меня снедает огонь мести! Однако ты был храбр, Намаз, мужествен, доверчив и жалостлив… Если бы ты не бил, не унижал меня в свое время перед людьми, если бы не стоял преградой на моем пути — ты бы жил. Но пока ты жив — мне не стать беком, не разбогатеть. Потому ты не имеешь права жить, Намаз. Ты обязан умереть. Обязан, понимаешь, обязан! Вот, слава создателю, и сила ко мне вернулась, и дрожь прошла, и мысли стали ясные, четкие. Пора. Аминь, аллаху акбар!»
Застывший изваянием на возвышении Арсланкул поднял валявшийся под ногами большой пудовый камень, бесшумными кошачьими шагами прокрался к изголовью Намаза. Его опять заколотило. Страх, нерешительность сковывали все его члены. Поэтому, наверное, камень попал не в голову Намаза, куда целился Арсланкул, а в грудь. Намаз, непонятно как, тотчас вскочил на ноги. Но сразу же упал, словно кто-то выбил у него землю из-под ног. Через секунду, однако, он опять начал медленно подниматься, опираясь на обе руки. Тогда Арсланкул в ужасе выхватил револьвер и вне себя стал выпускать ему в затылок пулю за пулей. Намаз распластался на земле и замер.
«Все, Намаз мертв, Намаза нет! — било, сверкало в мозгу Арсланкула. — Слава аллаху, он мертв! Теперь надо снять его голову. Не привезя ее, я не получу ни бекства, ни золота! Но, боже, почему я не могу даже шевельнуться, дрожу весь, руки-ноги не слушаются? Боюсь я его, что ли, он ведь мертв, мертв, мертв!..»
Арсланкул вынул из ножен кинжал, подаренный ему самим Намазом, но не мог сделать ни шага. Казалось, он окаменел. Без нужды не вынимай кинжал из ножен, а коль вынул — отбрось все сомнения, говорил Намаз, когда дарил этот кинжал. Нет, он, Арсланкул, сомневаться не станет. Он доведет дело до конца…
При свете неожиданно выглянувшей луны зловеще и безжалостно сверкнул стальной клинок…
ЭПИЛОГ
В ту ночь группа Назарматвея не ушла далеко от Кызбулака. Назармат считал, что Намаз зря отослал его от себя. «Трое суток уже, как никто не смыкал глаз, — рассуждал он. — Их осталось мало — они могут не выдержать усталости и уснуть. И тогда господину Сокольскому ничего не стоит настигнуть их. Но и ослушаться приказа я не имею права…»
Едва скрывшись от глаз Намаза за ближайшим холмом, Назарматвей натянул поводья.
— Объявляю привал, — сказал он. — Будем тихо полеживать здесь и чутко прислушиваться.
— Значит, не уходим? — обрадовались Хайитбай с Тухташем, которые были одного мнения с Назарматом.
— Уйдем, когда убедимся, что Намаз в безопасности, — ответил Назарматвей.
— Верно, непростительную глупость совершим, если уйдем, — согласился Хайитбай. Спешившись, они уложили девочек спать, а сами забрались на вершину холма, где и решили коротать ночь.
Они говорили о всякой всячине, строили планы, как доедут до Коканда, чем там займутся…
Ночную тишину вдруг разорвал грохот выстрелов, донесшийся со стороны Кызбулака.
— По коням! — скомандовал встревоженный Назармат. — Там что-то случилось!
Приближаясь к Кызбулаку, они заметили всадника, пулей унесшегося в противоположную сторону, но сочли ненужным пускаться в погоню, не выяснив, что произошло. Когда же они увидели, что сталось с Намазом, догнать убийцу было уже просто невозможно.
Они похоронили Намаза там же, где его настигла смерть, — у подножия могильного холма Насибы.
Отъезд в Коканд отменили.
Назарматвей, Тухташ и Хайитбай, встав на колени у могилы Намаза, поклялись найти убийцу и отомстить ему.
Произошло это в полночь с 3 на 4 июня 1907 года.
Через несколько дней на имя господина Гескета поступило поздравительное письмо. В нем говорилось:
«Наконец благодаря принятым Вами серьезным и решительным мерам с Намазом, сыном Пиримкула, покончено. Примите мою искреннюю благодарность. Поздравьте от моего имени всех руководителей администрации, командиров войсковых частей, принявших деятельное участие в искоренении намазовского движения. Срочно представьте, кого сочтете нужным, к награде.
Генерал-губернатор Туркестана Н. Гродетов. 1907 год, 9 июня, город Ташкент».В дни, когда правительственные чиновники и богатеи упивались концом намазовского движения и то и дело цитировали эту бумажонку, на Кызбулаке, у изголовья могилы Намаза, появился белый мраморный памятник в виде талисмана. На нем было высечено:
НАМАЗ, СЫН ПИРИМКУЛА
Год рождения — 1879
Год гибели — 1907
Круша злодея род во имя чести,
Ты души умащал бальзамом мести.
От чабанов Лолавайских степейЗеравшанские бедняки мечтали, чтобы рядом с ними всегда жил и действовал такой храбрый, добрый, справедливый джигит, как Намаз, сын Пиримкула. И мечта эта не осталась бесплодной. Начали появляться богатыри, которые, оголяя саблю, громогласно заявляли: «Я — Намаз. Я не погиб. Я жив!»
К лету того года количество отрядов, действовавших под именем намазовских, перевалило за тридцать. Отряды мстителей Назармата, мастера Турсуна, Кабула-десятника, Большого Карабая, Усты Назара, племянника Намаза Амана не давали покоя правительственным войскам и нукерам местной администрации, изматывали их силы. Движение это ширилось и росло, как волны штормового моря, и постепенно влилось в бурные памятные события 1917 года.
Примечания
1
Маш — растение семейства бобовых.
(обратно)2
Хурджин — переметная сумка.
(обратно)3
Паранджа — длинный, до пят, балахон с прорезями по бокам для рук. Лицо женщины закрывается чачваном — сеткой из конского волоса.
(обратно)4
Здесь и далее перевод стихотворного текста Ю. Кушака.
(обратно)5
Палван — богатырь, силач, побеждающий на состязаниях по борьбе.
(обратно)6
Шурпа — суп.
(обратно)7
Хаким — волостной управитель.
(обратно)8
Казий — судья, судящий по своду мусульманских законов — шариату.
(обратно)9
Див — демоническое существо в облике исполина.
(обратно)10
Дувал — глинобитная стена.
(обратно)11
Кавуши — кожаные галоши с загнутыми вверх носками.
(обратно)12
Ураза — пост.
(обратно)13
Табиб — лекарь.
(обратно)14
Бай-бай-бай — возглас удивления.
(обратно)15
Кураш — национальный вид борьбы. Курашчи — участник кураша.
(обратно)16
Урус — искаженное произношение слова «русский».
(обратно)17
Сури — широкая деревянная скамья.
(обратно)18
Сандал — низкий квадратный столик, который ставится над углублением в земляном полу с горячими углями, сверху накрывается одеялом. Служит для согревания рук и ног зимой.
(обратно)19
Пахсакаш — мастер, возводящий глинобитные стены.
(обратно)20
Танаб — мера площади, равная 1,6 га.
(обратно)21
Хала — тетушка.
(обратно)22
Дастархан — скатерть с яствами, служит вместо стола.
(обратно)23
Кумган — медный кувшин.
(обратно)24
Ата — отец.
(обратно)25
Вой-дод — призыв о помощи.
(обратно)26
Тура — господин высокого происхождения, сановник.
(обратно)27
Сура — глава Корана.
(обратно)28
Казихана — канцелярия казия.
(обратно)29
Шолча — небольшой домотканый войлочный палас.
(обратно)30
Кыбла — сторона, в которой находится священный город мусульман Мекка, место их паломничества.
(обратно)31
Зиндан — темница.
(обратно)32
Сазойи — предание позору; до революции в Средней Азии существовал обычай предания позору преступника, которого вели пешим или сажали с вымазанным сажей лицом задом наперед на осла и возили по базарной площади.
(обратно)33
Анхор — канал.
(обратно)34
Алпамыш — герой одноименного эпоса.
(обратно)35
Гуроглы — герой одноименного эпоса.
(обратно)36
Газават — «священная» война мусульман с иноверцами.
(обратно)37
Купкари — конноспортивные состязания.
(обратно)38
Яктак — длинная, навыпуск рубаха без воротника.
(обратно)39
Тулпар — сказочный крылатый конь.
(обратно)40
Мираб — лицо, ведавшее распределением воды в оросительной системе.
(обратно)41
Шахид — павший за правое дело.
(обратно)42
Баракалло — возглас одобрения.
(обратно)43
Арабасаз — мастер, изготовляющий арбы.
(обратно)44
Теша́ — инструмент типа топорика с лезвием, насаживаемым поперек топорища.
(обратно)45
Курбан — мусульманский праздник жертвоприношения.
(обратно)46
Тандыр — печь для выпечки лепешек.
(обратно)47
Домулла — учитель, наставник.
(обратно)48
Апа — сестра.
(обратно)49
Табут — носилки с ножками, на которых выносят покойника из дома.
(обратно)50
Сайилгах — место гуляния.
(обратно)51
Сарт — уничижительное название узбеков в дореволюционное время.
(обратно)

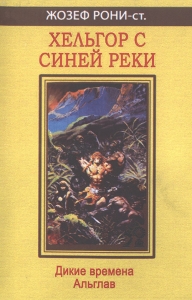


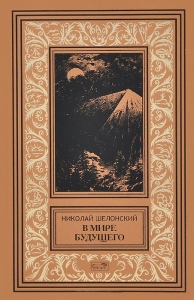
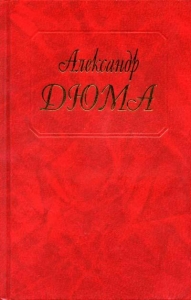
Комментарии к книге «Золотой выкуп», Худайберды Тухтабаев
Всего 0 комментариев