Юрий Иванович Градинаров Братья
© Градинаров Ю.И., 2014
© ООО «Издательство «Вече», 2014
* * *
Всем поколениям таймырцев
ПОСВЯЩАЮ
Глава 1
Конец октября. Примораживает. Потрескивает Енисей, схваченный льдом. Лед набирает толщину.
У берега сиротливо пригорюнились присыпанные снегом деревянные баржи, доставившие самосплавом с верховьев реки товары таймырским купцам для зимнего менового торга с инородцами, кочующими от Оби до Лены. Посудины доживают свой короткий век. По весне их разберут на тесины для кровли и обшивки изб.
В саженях пятидесяти от них, у двух майн[1], увитых надолбами льда, стоят собачьи упряжки с деревянными кадками на санях. Водовозы черпаками наливают в них воду для домашних нужд.
На стрежне – четверо рыбаков запускают под зеркало замерзшей воды деревянные шесты – норила с веревками для растяжки сетей. Хотят по перволедку свежего сига добыть!
А версты через две от них, в сереющих тальниках острова Кабацкого, копошатся с силками охотники на куропаток.
Со стороны села Потаповского мчат по реке две оленьи упряжки к купцам Сотниковым за порохом и свинцом.
Не пустует батюшка Енисей ни летом, ни зимой, являясь то водным, то ледовым трактом для жителей тундры.
На угоре курятся сизыми древесными дымками трубы дудинских изб и нескольких лабазов с картошкой, луком, чесноком да бочками с медом и соленьями. А в тундре где дымок – там и жизнь!
А с угора, до самой песчаной косы, катятся на санках неугомонные дети. Рядом – вездесущие собаки. Прыгают, трутся спинами, валят с ног малышню, лижут раскрасневшиеся ребячьи щеки. А детвора ласкает их словами, гладит их морды пуховыми рукавицами, укладывает на санки и норовит съехать с ними вниз.
Солнце, в ожидании полярной ночи, щедро отдает свой свет укрытой снежным ковром остывающей от лета земле.
Медленно и степенно, без крепких морозов и сильных пург, дородной купчихой входит в село Дудинское на целых девять месяцев полярная зима.
Здесь живут домовитые селяне: и сыты, и одеты, и обуты. За короткое комариное лето успевают и дровами запастись, и рыбой, и мясом, и грибами, и ягодами, и тушками диких гусей. Да и зиму встречают в шапках, шубах и торбасах из песцовых, волчьих или собачьих шкур. У каждой избы ладные поленницы, нарты белеют новыми полозьями, а в катухах[2] – по десять – двенадцать ездовых собак.
Двери сенные обтянуты оленьими шкурами, чтоб не задувало. В окнах – стекла вместо пузырных оболочек и льдин. А кое у кого даже баньки пристроены, и чаще по-белому. От изб веет достатком и ухоженностью.
У купцов, братьев Сотниковых, лабазы забиты товаром. Приказчики суетятся оприходовать провизию, ружейные припасы, тюки ситца, сукна, кули с бисером, ящики со спичками, медные котлы, рыболовные дели, деревянные бочки и всякую всячину до ноябрьского аргиша с меновой торговлей по затундринским станкам.
Отец братьев, потомственный казак Михаил Алексеевич Сотников, в пору смотрителем хлебозапасных магазинов стал вдовцом после смерти жены при родах второго сына Петра.
Первый сын Киприян на одиннадцать лет старше брата и в отлучке отца становился для малыша и тятей, и мамой, и няней. Переживал отец за сыновей, оставляя их без взрослого догляду. Он не замечал, что Кипа взрослеет, как сказочный герой, не по дням, а по часам. А за ним тянется и Петруха. Старший и грамоте успел обучиться у дьячка. Сумели три казака и без материнских рук себя обиходить: и сыты, и умыты, и одежонка к лицу.
Малыш уже встал на ноги и тенью ковылял по избе за старшим братом. И первое в жизни слово пролепетал «Кипа», а не «тятя». Михаил Алексеевич восхищался привязанностью братьев друг к другу и в душе радовался, что они есть и будут неразлейвода.
Однажды, словно предчувствуя беду, он сказал Киприяну:
– Служба моя разъездная – на тысячу верст. Летом – Енисей опасен. Зимой – бездорожье, пурги, морозы. Беда всегда рядом. Не дай бог, она снова меня подкараулит. Ты как есть, так и будешь в ответе и за Петю, и за себя. Кто бы тебя затем ни звал: не соглашайся ни в сыновья, ни в пасынки. И с братом такжа. Сам грамоту разумеешь – и его обучи. Мое ремесло смотрителя ты уже освоил. К призыву назначит тебя атаман вахтером на один из участков. Поднатаскаешь в торге Петра. И держи его под твоим крылом, доколь на свое не станет, как птенец. Влей ему в душу доброту и уважение к людям.
Отец взял на руки подошедшего Петруху.
– И ты, несмышленыш, слушай! Деньги у нас есть. Бедность, думаю, не коснется вас. А невзгоды вряд ли обойдут стороной. Служить зачнете – казаками себя почуете. Ну, это я так! К слову, Кипа! Может, и я буду с вами, пока на ноги не станете.
Но беда накинулась на вдовца нежданно-негаданно. И не Енисей, не мороз, не пурга лишили его жизни. 26 февраля 1834 года урядник Туруханской казачьей станицы Михаил Сотников погиб в казенном доме вместе с семью инородцами при взрыве пороховой бочки. На куски разнесло всех, кто сидел за столом и чаевничал. Покойного отпел чернобородый священник Введенской церкви Диомид Анцыферов. Отпел без покаяния.
Киприян все свершил, как наставил отец. Сначала сам помытарился вахтером[3] в низовье Енисея да на Хатанге-реке, брата держал приказчиком, учил разворотливости и предприимчивости. В свои девятнадцать Петр стал смотрителем хлебозапасного магазина на Тазовском станке, что северо-западнее Туруханска. А в 1855 году указом губернского правления Киприян был назначен смотрителем Дудинского участка, где вели торг девять казенных магазинов, расположенных по берегам Енисея, Хеты, Авама и Хатанги. В чине урядника, он со своими вахтерами вел надзор за обеспечением населения мукой, солью, порохом, свинцом, гильзами и другими товарами, за сохранностью казенного имущества, сбором денег, рухляди[4] и ведением шнуровых книг. Свыше четырех тысяч инородцев и затундринских крестьян жили на его огромном участке.
* * *
Через три года службы Киприян добился перевода брата в Дудинское на должность главного пристава затундринских магазинов, построил огромный дом на две половины с торговой лавкой и начал, помимо службы, подторговывать вместе с Петром своим товаром.
Киприян Михайлович не по-казацки высок и строен. В покойную мать. Лицо светлое – луна в полнолуние. Голубые глаза под крыльями густых бровей лучатся добротой. Годы накатывались на братьев быстрее, чем волны на берег Енисея при шторме. От недавнего казачьего урядника остались лишь аккуратные соломенные усы с подусниками, как у енисейского губернатора, да отцовская шашка на стене. Казалось, кончился в нем казак. Теперь он купец второй Енисейской временной гильдии.
Под стать ему и брат. Ростом почти с него, да и красотой не обделен. Но поставь рядом – не скажешь, что они братья. Младший черноволос, временами безус, кареглаз. И голосом суровей. Людям мужавым кажется. Трубку по-стариковски курит важно и раздумчиво. Бороду и усы заводит лишь на темную пору, чтобы щеки в тепле держать. А чуть солнышко забрезжит в небе после полярной ночи – махом бреется. С января по октябрь румянцем сияет да девкам подмигивает. Даже став главным приставом, Петр по-прежнему прислушивался к советам Киприяна:
– Людей, Петруха, уважать треба. Нехай он пришлый иль тунгус. У кажного из них душа божья, а не оленья. Мы с тобой тут ради них поставлены, хоть и зашибаем лишнюю копейку. Не станет их – и нам здеся не место.
Старший брат замолкал, набивал табаком из кожаного кисета трубку, чиркал трутом и подавал младшему для растяжки тлеющую махорку:
– А ты ведь, Петруха, казак реестровый, гордость России. И земли наши Российские испокон века прирастали и хранились только казачеством. Ведь и Мангазею, и Таймыр, и Якутию кто открыл?
Петр незнайкой поднимал сначала брови, затем плечи, удивленно таращил глаза и в сомнении робко отвечал:
– Небось, казаки?
И Киприян довольно потирал ладони:
– То-то жа! Казаки! Запомни: мы шашкой в снегах не махали. В земли стылые шли с крестом и хлебом. Тунгусов от смерти спасали.
Он скользнул пальцами по подусникам и задумчиво, с огорчением, произнес:
– Пожалуй, лишь Ермак Тимофеевич кровью обагрил свою шашку в Сибири. Да Бог ему судия. Он больше бунтарь, чем казак. Стало быть, Петр, шашка в наших краях годна лишь для рубки тальника, а не людских голов. Человека ведь сдобрить можно и теплом души, и теплом костра.
– Тупить шашку о сухостой – не по-казацки, Кипа! На дрова топор сгодится. А душа доброго человека всегда греет сильнее костра. По себе знаю.
– Ты верно смикитил, братуха! Шашка для великих дел! Как говаривал наш атаман Иван Гаврилович Томилов на строевых смотрах о ней: «Без нужды не вымай, без славы не вкладывай!» Вот так-то, Петруха! А куревом не сильно увлекайся. Затягивает.
Петр редко перечил Киприяну, хоть и сомневался в некоторых суждениях, но про запас держал в уме. Иногда норовил внести что-то свое, вертел умом и так и сяк, но в итоге возвращался к исходному: Кипа прав, умнее не скажешь. Бывая с ним в тунгусских родах, ощущал уважение аборигенами Киприяна, да и пришлые люди ценили купца. Даже мудрые, но спесивые шаманы, старейшины родов и князьцы считали за честь угощать чаем старшего Сотникова, держать с ним говорку и совета испросить. Добрая слава о нем катилась от стойбища к стойбищу, от станка до станка, от человека к человеку. А пясинский шаман Нгамтусо хвалился сородичам, что в тундре появился большой ум – белый чародей Кипа Сотников, знающий все от земли до небес. И настаивал шаман выдать за купца молодую девку, чтобы нганасанский род умом наполнить. Сородичи согласно кивали головами. Они уверовали, что Кипа отведет от их рода беды. Но не ласкали его взгляд нганасанские раскосые красавицы. Посмеиваясь, он нередко говорил Петру:
– Вишь, они бесхитростные как дети. Душа у них открыта. Не лукавят. Что думают, то и говорят. И князьцом бы меня избрали, и три-четыре молодки без калыма подарили бы. Жил бы как шаман, сразу с четырьмя! А нам церковь запрещает! А пришлые русские? Сколь их с местными живет! Видел, дети какие красивые?
– Видел! Ты так все обсказал, будто женить меня собрался на юрачке[5].
– Нет, Петруха! Ты крещеный, а они язычники. Пока не все под нашей верой. Бывшие беглые от царского топора живут здесь еще с Ивана Грозного. Царь так и не смог их достать. От них и пошли полукровки: ни тебе тунгус, ни рус. Низовские их сельдюками кличут.
Петр наматывал все на ус и быстро освоил язык и обычаи кочевников, научился гостевать в чуме, получать от хозяев подарки и одаривать их, сидеть по-турецки и часами чаевничать.
Кроме Киприяна его не раз наставлял и Мотюмяку Хвостов, компаньон Сотниковых и владелец огромного стада саночных оленей:
– Ты, Петр Михайлович, не брезгуй! Оленя убили, кровь пьют – и ты пей! Толокно жуют – и ты жуй! Строганину едят – и ты ешь! Уважай наши обычаи – и тунгусы ответят тем же. Твой брат все прошел, прежде чем своим в тундре стать. Я тоже тунгус, но ваше все перенял, кроме курения и пьянства. Главное, что свое не забыл. Потому чтят меня и русские, и сородичи.
* * *
Киприян Михайлович сидел в горнице после бани и опивался чаем с сахаром вприкуску. На шее влажное полотенце. По покрасневшему лицу струился пот. Екатерина, рядом, за столом, набирала на нить разноцветный бисер. Купец после каждого глотка покрякивал и отирал полотенцем лицо.
– Ох, и чаек, Катенька, заварила! Седьмой пот прошибает. Вся хворь – наружу.
– На здоровье, батюшка! Это ягодки тундровые жар гонят.
И снова каждый занят своим. В горнице тикают большие часы с эмалевым циферблатом и тремя медными гирями. Потрескивают в печи дрова. Веет мягким теплом, будто и нет за окном снежной зимы. Кажется, в каждом уголке этого просторного дома идет монотонная, как ход часов, жизнь в уюте и полном согласии обитателей. Резной буфет из черного дерева, массивный дубовый стол для званых обедов, черные стулья с высокими спинками, как в губернском собрании, и широкий диван с расшитыми плюшевыми подушечками придают горнице роскоши, а хозяевам – умиротворенности. Неспешно, особенно в зиму, течет время. Киприян Михайлович, увлеченный чаепитием, прикрыл глаза. Так лучше думается. В памяти возникли проводы брата.
Петру не с руки было уезжать в верховье Енисея последним судном. У Киприяна в конце октября венчание. «Неужто он с умыслом выбрал эту пору, чтобы избавиться от меня?» – думал Петр, стоя с братом на берегу и нервно затягиваясь трубкой. Прищуренным глазом он вглядывался в Киприяна, пытаясь найти подтверждение своим мыслям. Но старший брат, заметив горечь на лице отъезжающего, у сходней парусника сказал:
– Не кручинься! У тебя дела важнее моих. Люди поймут – не осудят. Как Енисей вверху схватится – отправь весточку о банковских векселях да о налогах. В Усолье закажи пудов двести нулевого и второго помола. Но главное, выясни на Алтае все касаемо руды. А допрежь посоветуйся в Енисейске с Кытмановым.
Петр, казалось, слушал, но думал об ином. Венчание брата не давало ему покоя. Он уже не раз намекал Киприяну, что Катерина займет его место в сердце старшего брата. Петр не хотел понимать, что любовь Киприяна к кухарке совсем другого покроя, нежели к нему. Старший не раз пытался объяснить:
– Петруха! Брат мой! Меж нами любовь кровная, а с Катей я роднюсь по душе. И в сердце обе любви уживутся без урона тебе.
Петр наклонился, выбил о сапог трубку. Остался в сомнении. Не убедил брат. Может, впервые не убедил.
Киприян понял это и виновато моргал глазами. Чтобы как-то спрятать растерянность, он крепко обнял Петра и трижды поцеловал в колючие, уже не сбритые на зиму, усы.
– Не убивайся, братишка! Женитьба не порушит наш торг и родство. Я без тебя, что купец без товару, а уха без навару. Через год-другой и ты приведешь в дом енисейскую или туруханскую казачку. И пойдет род Сотниковых в рост.
– Может, и так! Но зараз на душе неспокойно. Я без тебя сиротой себя ощущаю. Ты для меня, как Святая Троица для верующих: и матушка, и татушка, и брат. Ум мой тобой прирастает.
– Верю, верю, брательник! Ну а Катерина-то как? Будет толк?
– Женись! Лучшей не выждешь. Люба она мне, и, может шибче, чем тебе. Твой верх – ты старше. Но всяка невеста для своего жениха родится. Катюша – для тебя. Оттого я и невесел. Однако в работе подвоха не жди. Всю исполню, как велел. Но душу от нее не ослобоню. Не в силах.
– Да ослобонись в мою пользу. Будто долг отдай – и забудь!
– Легко судачить! Как бы ты запел на моем месте? Я ведь не могу души лишиться, пока жив. А стало быть, и Катюши.
Киприян сочувственно смотрел на брата.
– Угораздило же тебя, Петруха! В самое сердце! А я думал, только меня.
– Лето прокрутился в делах, боль утихать стала вроде. А домой вернулся, увидел ее – и заныло в груди. Она ведь не знает. А тут ты с венчанием. По-живому резанул, хотя крови нет. Она запеклась там, в душе.
– Тут я тебе не советчик! Сам бессилен перед чарами ее. Душу свою очернить легче, чем очистить. Даже от светлых дум. Воля стала мягче пчелиного воска. Тает от огня душевного. Сам маюсь два года. Говорю тебе, а сам разумею плохо. Чую, сердце с умом не в ладах. – И добавил: – С Димкой потерпимей! Наставляй парнишу!
* * *
На Енисее штормило. Волны окатывали привальный брус судна. Стая чаек, терзаемая ветром, сиротливо прижалась к земле, рядом с парусником. И при его порывах то одна, то другая птица всплескивали крыльями, чтобы удержаться на скользком снегу.
Матросы заканчивали увязку на корме двадцатипудовых бочек с соленой рыбой и укладку мешков с бивнями мамонта.
Морозец на лету схватывал легкие брызги и приклеивал к судну, серебря голубые борта обшивки. Вскоре капитан из штурвальной рубки хозяйски оглядел судно, убедился в готовности к отходу, спустился по трапу к Сотниковым.
– Зазябли, небось, на ветру-то беседовать. Зашли бы в каюту, коль разговор долгий.
– Уже наворковались, – ответил Киприян Михайлович. – Вроде все дома обговорили, а тут выплывает то да се. Я выговорился, а ты, Петр?
– Я тоже камень с души скинул. Легче плыть будет.
Капитан, сняв перчатку, протянул руку старшему Сотникову:
– Бывайте, до будущей навигации. А брата с племяшом доставлю в здоровье и добродушии. Спешу, пока шторм не разгулялся.
Он поднялся за Петром Михайловичем по скользким сходням.
– При случае кланяйтесь Кытмановым. Весной появлюсь в Енисейске! – вдогонку крикнул Киприян Михайлович.
Капитан, опершись на леер, пообещал:
– С благодарностью, передам!
На палубе появились десятка два сезонных рыбаков и засольщиков. Бородатые и хмельные, они с грустью на лицах смотрели на укрытое снегом взгорье, где остались зимовать породнившиеся с ними дудинцы.
– Убрать трап, отдать швартовы! – скомандовал в рупор капитан. Его голос, подхваченный и чуть искаженный ветром, унесся до стоявших на угоре провожающих.
Два каната маутом[6] взметнулись в воздухе и шмякнулись на берегу у покрытых инеем кнехтов. Судно нехотя отшатнулось от причала. Гребцы взмахнули веслами и повели его через устья Дудинки к стрежню Енисея.
А воображение продолжает рисовать другие картины. Теперь Киприян Михайлович видит себя, как бы со стороны, в собачьей шапке, в коротком, с оборками, овчинном тулупе, машущим вослед уходящему судну, затем идущим домой с грустно-веселой улыбкой. Грусть от расставания с братом, а веселость – от удачного завершения летне-осенней путины. Но главная радость – от скорого венчания с Екатериной. И лишь за венчанием зреют другие заботы: торговые аргишы[7] в низовье и будоражащие душу нетерпением залежи угля и руд у Норильских гор. Тридцать семь лет прожил холостым и не задумывался о женитьбе. Заботы о брате, служба на востоке и западе Таймыра, внушение себе, мол, рано, а затем вопрос без ответа: «А есть ли в ней нужда?» не позволяли авторитетному уряднику, а затем и купцу строить семейные узы. И к молодкам тяги не было. Бывало, правда, просыпался среди ночи от внезапного буйства всего тела, вытягивался в струнку, расслаблялся и снова трепетал каждой жилкой в преддверии чего-то необычного. Потом ощущал блаженство и засыпал в радостном упоении происшедшим.
Но два года тому назад взгляд зацепился за красавицу Катерину да так, что оказался бессилен его отвести и начал терять бобылий нрав. Потерял легко, с удивлением и укором, что так долго уходил от женитьбы. Ведь смазливые тунгуски не раз поднимали перед ним подолы парок. Но не позволял себе Киприян по частям разбазаривать свое сердце, поскольку гулял слушок: утехи приручают тело и мужик становится блудником. Хотя мужицкая часть родни не чуралась тунгусок, и кровь Сотниковых густела, смешиваясь с кровью инородок.
Теперь у него перед глазами темные тесины стоящего на угоре дома, а над крышей – выглядывающая маковка церкви. Снизу, от реки, кажется, что она сидит сверху его пятистенка, нелепо нарушая вид купеческого дворца. Впервые удивился хозяин: «Сколь дом стоит, но ни разу не замечал эту нелепицу. Моя махина закрыла церковь, кроме вершинки», – всполошился купец. Остановился, непонимающе завертел головой, капли влаги смахнул с ресниц. Снова вгляделся. «Как же я мог застить Божий храм? И церковники, и приезжавшие чиновники ни разу не укорили меня. Только сейчас я понял: мамона стоит впереди Духа Божия! Это же кощунство! Хотя без моих товаров здесь и дух охлянет. А место под дом освятил тогдашний священник Димитрий. Ему и ответ держать перед Господом Богом».
Купец трижды перекрестился: «Избави, Боже, от наваждений и укоров перед венчанием».
* * *
Он открыл глаза, перекрестился в красный угол, где перед иконой Пресвятой Богородицы теплилась лампада.
– Засыпаете, что ли? – оторвалась от вышивки молодка. – Уже и глазоньки слипаются. Неужто, чай, нагнал сон?
– Да нет! Брата вспомнил. Петруху. Проводы вверх. Чаек. Людей на берегу. И церковь. Все прошло перед взором, будто вчера было. Как он там среди чужих.
– Он же не один. Он же с Димкой Сотниковым.
– С Димкой-то с Димкой. Да какая от него подмога? Он еще несмышленыш в торге. Одно дело – тундра, а другое – товар закупать. Тут не только голова нужна, но и глаз. Наш брат, купец, на руку нечист. Кто кого надует. Все купечество на этом держится. Недаром царь Петр торг воровским делом обозвал.
– Так и вы, батюшка, грешите этим?
– Стараюсь грех на душу не брать. Меновая торговля честнее. Ты мне три песца – я тебе – ружье. Да я с любым тунгусом каждый сезон вижусь. Заплевали б за обман. Что ты бы ни думала, но я не теряю честь урядника за какие-то гроши. Тем и живу.
Он вытер полотенцем лицо, шею, промокнул грудь.
– Сегодня воскресенье, – перелистнул церковный календарь. – Большого праздника нет. Надо счета навести в ружейном лабазе. Сходи-ка за Алексеем Сидельниковым. Пусть бумаги возьмет. Свериться надо. Справимся – то, может, на Опечек съездим. Посмотрим, как рыба идет. Скажи Акиму, чтобы собак сытно накормил. Вдвоем поедем.
– С кем вдвоем?
– С тобою, Катенька! Посмотришь мои владения. Да и на собаках ездить поучишься.
Екатерина отложила вышивку, подперла голову, задумалась и спросила:
– А зачем вы решили мне владения показать? Я место свое знаю. У меня кухня да порядок в доме. Я до вас у губернского прокурора служила. Не приглянулась бы вам, так и осталась бы в Енисейске.
– Ладно вспоминать. Не просто приглянулась. Судьба свела. Я думал, возьму тебя к рыбакам на путину куховарить. Да уж сразу ты мне в душу запала. При себе, видишь, оставил! И не жалею! Служишь исправно, привязался я к тебе по-особому. Куда ни уеду – о тебе думаю.
Екатерина смущенно отвела взгляд. Потом насмелилась и поглядела в глаза. Они светились как-то особо и, казалось, с надеждой ждали ответа.
– Вы знаете, был у меня в Енисейске казак. Убили его в отряде Черняева под Ташкентом. Вы мне его напоминаете. Будто он воскрес. Как увидела вас на ярмарке – душой изболелась. Каждый день ходила за покупками, чтобы на вас взглянуть. А тут вижу, вы сезонников набираете. Вот я и решила к вам устроиться, хотя у прокурора жила как у Христа за пазухой. Зашла в лавку, услышала голос, обмерла. Так похож он на голос моего суженого, Думаю, не возьмете с собой – упаду на колени, умолять буду, но потерять вас себе не позволю. Отец не пускал в Дудинское. Из-за меня он и перевелся в ваш приход.
Киприян Михайлович с опаской посмотрел в красный угол, на икону Божьей Матери. Он будто пытался проверить: не гневается та, слыша такие откровения кухарки. Он перекрестился и наложил крест на Катерину.
– Так больше, Катюша, нам жить негоже. Мне отец Даниил намекал, мол, пора, Киприян Михайлович, жениться, а то люди злословят по поводу моей дочери, думают, вы богохульствуете. Но я ответил, что на чужой роток не накинешь платок, а об венчании подумаю. Правда, не сказал с кем.
– Да он мне дома тоже все уши прожужжал. Укоряет, что иногда у вас ночую.
Он легонько положил ей руку на голову и медленно провел по упругой темной косе. Екатерина покорно стояла, дрожа всем телом.
– Катюшенька, пойдешь за меня замуж? Неволить не стану, хоть и хозяин я тебе.
– Да что вы, свет мой, Киприян Михайлович! Неужто и вправду меня выбрали? Ведь в губернии столько дочек купеческих и с каким приданым, а у меня – я да котомка. Батюшка мой, хоть и священник, но не богат.
– Я к богатству не прирос, но богатством чуть оброс. Был душой казак – им и остался. А вот это богатство, – показал он на серебряный подсвечник, – мне тунгусы подарили за доброту. Просто край этот богатый. Знаю, что людям надо. Деньжат скопил на хлебе. Думал, вернусь в Омск. Но когда службу завершил, почуял, тундра не отпускает. А тут туруханский начальник депешу прислал, просил, чтобы я торговлей занялся да сбором пушнины у тундровиков. Вот и остался. Взял кредит в Енисейском банке – и закрутилось. Пять лет купечествую. Оборот от копеек до сотен рублей вырос. Почти вся родня в приказчиках ходит. Чужим торговлю доверять не с руки – воруют. Да и за своими глаз да глаз нужен. Главные тут мы с Петром. В тундре нас всяк знает. И в Минусинске, и в Енисейске мы не чужие люди. Товары оттуда возим. Как Енисей станет, так и обвенчаемся. Теперь ты моя суженая.
Екатерина вздрогнула. Она никогда не думала, что кто-то может вот так, в один миг, решить ее судьбу, как это сделал Киприян Михайлович. Стало боязно. Она пожалела, что открылась хозяину, рассказала о тайне души. Надо было повременить, приглядеться. И еще сомневалась, сможет ли выветриться из ее нутра холуйская зависимость от хозяина. Сможет ли их уравнять взаимная любовь? Не будет ли он при раздорах упрекать за былую бедность?
От мыслей бросало в жар. Правда, за два года службы он плохого слова не проронил в присутствии кухарки, ни разу не упрекнул за какие-либо нелады. Терпеливо объяснял, даже помогал вести домашнее хозяйство. Научил рыбу солить, гусей коптить, шкурки песца выделывать, в товарах разбираться. Даже родне запретил понукать Екатериной.
– Ты, Катюша, служишь у меня. Не позволяй ни Петру, ни племяннику, ни приказчикам хозяйничать в доме. Здесь я – главный, а ты моя кухарка. Ты хозяйка в доме, пока я бобыль! – не раз дружелюбно наставлял он, замечая, как девушка робеет то перед братом, то перед приказчиками. – Уважать уважай, но бисер перед ними не мечи. Пусть они к тебе на поклон ходят.
От подобных слов у Екатерины туманилось в голове. На прежней службе она была служанкой: спала в людской, вставала первой, ложилась последней. А тут – что твоя купчиха!
Теперь и вовсе, скоро богатство Киприяна Михайловича будет принадлежать и ей, а кухарку себе она подыщет. Отец с матерью привезли гувернантку готовить младшую сестренку Елену в Томскую гимназию. Нравится она Катерине. С виду вроде строгая, но разбитуха! Вот с ссыльными сошлась. Книги у них интересные берет. Спорит с батюшкой о Новом Завете. Тот нередко, хотя и шутливо, возмущается:
– Ох, богохульница ты, Мария Николаевна, все ревизию норовишь Божественных законов провесть. Вона, дочь моя знает кухню, да и все. А ты в духовность высокую лезешь.
– Да не ревизию, отче, а истины хочу добиться. Гложет червь сомнения. Что-то там не то. Библейские братья с сестрами стали жить да потомство давать. А ведь это же грех большой, отче.
– Ты где такое вычитала? Политссыльные внушили? Эти еретики кому хошь голову задурят. Особливо таким молодым, как ты, Мария Николаевна. Я уж начинаю беспокоиться. Не дай бог, и дочь сделаешь безбожницей. Человек без веры – птица без крыльев. Не может без нее он оторваться от грешной земли, стать ближе к Господу.
Отец Даниил покровительственно смотрел на гувернантку. Спорить с ней не совсем уместно. Человек Библию читает с верой, а вера нередко логику исключает. Соглашаться же с ересью он не может – грех большой для батюшки: потому не любит споры о Боге, да и доводы образованной гувернантки иногда обезоруживают. Хотя ему нравится пытливость и дотошность Марии Николаевны. Хочется священнику, чтоб она передала эти качества младшенькой, Елене. Мария Николаевна воспитывает девочку ненавязчиво, незаметно как-то. Да и матушка Аграфена Никандровна не нахвалится гувернанткой.
* * *
Привез он ее из Томска год назад. Со страхом она сошла на берег Енисея. Больно деревенька показалась маленькой. Томск – город большой. Там гимназистов на каждом шагу встретишь. И музей, и библиотека. Даже театр есть в гимназии! А здесь пахнуло с берега дикостью и незащищенностью.
– Не робей, дочь моя! – поддерживая под руку на сходнях, рокотал басом отец Даниил. – Я живу – не тужу! Поверь, и ты тужить не будешь. У меня старшая, Катерина, первой сюда сбежала. Чуток старше тебя. Подружитесь. У купца куховарит. Лучше Дудинского не сыщешь. Здесь столько красот, дочь моя, Томску твоему еще тянуться надо. Дочь грамоте обучишь и года через четыре возвернешься с нею в Томск дальше учиться. Эвони, она с матушкой стоит. Ждут. Я ведь семинарию в Екатеринбурге закончил. Здесь попал к чер… к Богу в рай. Здесь хорошо. Здесь люди особые. Надеждой от них веет.
* * *
Катерина молчала и рисовала себе картины будущей жизни. Вот она родит Киприяну Михайловичу двух сыновей и дочь, потом выберут они в Енисейске хорошего учителя-гувернера, пусть занимается с детьми. А может, Мария Николаевна согласится. Нет! Мужчина-учитель лучше, особенно для мальчишек. Ну а дочерью она сама будет заниматься.
«Что-то я размечталась! – мысленно упрекнула она себя. – Пока все слова. Вдруг Киприян Михайлович передумает. Хотя словом он тверд. Может, самой придется через год-другой, за котомку – да домой, а я уже и детей нарожала, и гувернера нашла, и купчихой стала. Дура! Ой, баба-дура. А может, и не дура? Дождусь осени, погляжу, что за казак Киприян Михайлович. Хотя два года уже рядом, а не налюбуюсь».
Она снова вздрогнула. Показалось, будто Киприян Михайлович слышит ее, безмолвную, слышит не ушами, а сердцем. Он по-прежнему стоял рядом и словно обдумывал что-то важное и интересное. Потом перекрестился и сказал:
– Ты, Катюша, не сумлевайся. Одному в таких местах жить несладко. Или сопьешься, или с тоски иссохнешь. Я-то супротив хандры смог устоять лишь заботами. И зимой, и летом – служба. А поженимся, думаю, хандру как рукой снимет. Двое – вдвое больше, чем один. Вдвоем – жизнь по-другому пойдет. А дети если пойдут – уже по-третьему.
– Вы, Киприян Михайлович, рассуждаете, будто уже семью держали?
– Не держал. Но по другим вижу Родни полсела. У них и беру пример.
Девушка сердцем ощутила, что он говорит правду. Такой человек, как Киприян Михайлович, не подведет. Не станет над ней глумиться да и никому не позволит. И в душе прочнее крепла надежда.
– Вам чайку обновить?
– Благодарствую. Уж семь потов согнал. Пора за дело. Ты про Сидельникова не забыла?
– Нет! Полкана накормлю – и к нему.
Екатерина вынесла корм Полкану, дремавшему на крыльце.
– Подкрепись, лежебока!
В катухе зашебуршились упряжные собаки, заслышав голос девушки. Они затупотили лапами в дверцу, заскулили, учуяв запах еды. В дверную щель повалил пар, а затем показались их ноздри.
– Аким, ты где? – кликнула она сторожа. Тот вышел из дровяника с охапкой заиндевевших швырковых дров. Приостановился, подправил сползшую на глаза шапку.
– Чего надо, Катя?
– Сегодня собак покорми раньше. Хозяин хочет, если успеет, пополудни на Опечек сгонять. Готовь две упряжки. Я от Сидельникова вернусь – будем завтракать.
– Покормлю. Вот золу почищу, печи разожгу и снежок отбросаю.
* * *
Сидельников жил у Поганого ручья, рядом с купеческими лабазами, где мимо проходила накатанная собачьими и оленьими упряжками дорога. По ней возили товары, охотники уезжали на охоту по правобережью Енисея. После сильных заносов ее чистили вдоль улицы лопатами или волокушами, впрягая в них не по одному десятку собак. Старшина села Дудинского Николай Яковлевич Панов и зимой и летом следил за дорогой и пешеходными тротуарами, проложенными рядом с избами. Для работ привлекал жителей села по очереди. Вот и сейчас у своего двора чистил дорогу Андрей Бычов, горбоносый, с выпирающими из-под шапки ушами. Он поднял голову и оценивающе глядел на проходящую Катерину: «Эту бы молодку да летом в лодку. Ох, жарко было бы!»
Она легко шла по укатанному снегу. Рядом бежал Полкан. Принюхивался к собачьим следам, испятнавшим дорогу. Из трубы сидельниковской избы валил свежий, пока холодноватый, дым. «Не спят, коль труба дымит», – обрадовалась девица. Во дворе, отталкивая мордами друг друга и тихо урча, собаки уминали из деревянного корыта парящую на морозе приправу из рыбы, оленьего мяса и отрубей.
«Собак кормит, знать перед дорогой», – предположила она. Полкан жался к ее ноге. Во двор вышел хозяин, одетый по-охотничьи: в ненецком сокуе[8], бокарях[9], на поясе нож. Тускло поблескивала его рукоять, сделанная из бивня мамонта.
– Здравствуй, Алексей Митрофанович!
– Доброго здоровьица, Катя! С чем пожаловала? Как сам?
– Хозяин? Жив-здоров! Тебя с бумагами кличет. Хочет приход подбить по твоему арсеналу.
– Жаль! Я на охоту собрался. Пасти, капканы проверить. Вишь, собак кормлю.
– Ты с бумагами сходи, авось сговоритесь. Он тоже с обеда хотел на Опечек сбегать. Думаю, по рукам ударите.
– И то правда! Зараз схожу. У меня с кремневками и порохом завсегда порядок. Сошлось все тютелька в тютельку. Это – не мануфактура. Там аршин с тюка срезал – и не заметишь. А у меня ружьишко к ружьишку, патрон к патрону, порошинка к порошинке и картечь фунт к фунту. Тут не обжулишь.
– Ладно тебе! Замыслишь кого обжулить – обжулишь. Хоть пришлого, хоть тунгуса. И на порохе, и на шкурье, и на дроби. Только Киприян Михайлович больно строг к прощелыгам. Попадешься – дня держать не будет!
– Да знаю! Не первый год служу Потому и молчу если что не так. Надо, чтоб каждая цифирь, каждая копейка сошлись.
Он возвратился в избу и вскоре вынес оттуда сокуй, связанные бокари и повесил в сенцах на вбитый деревянный крюк.
– Плакала моя охота. Счас я шапку в охапку.
Он появился во дворе в песцовой шапке и утепленном казакине с громадной амбарной книгой и счетами.
– А счеты-то зачем? У Киприяна Михайловича их четыре. Даже костяные есть. Мамонтовы. Ему Хвостов подарил.
Алексей Митрофанович чуть зло ответил:
– На то он и купец, чтобы счеты иметь. А я приказчик. Счеты у меня главный струмент, как у охотника ружье. Поняла? Да и поверье у меня есть свое. И приход, и расход одними костяшками вести надо. Как только начинаю на других считать – обязательно что-то да не сойдется. Вроде колесики разные. Потому щелкаю только на своих.
Собаки доедали корм, отталкивали друг друга, пытаясь ухватить кусок полакомей, и предупреждающе рычали. Полкан равнодушно слушал их собачий разговор, зевал, лениво потягивался и изредка хапал пастью снег.
Сидельников протянул Екатерине приходно-расходную книгу.
– Подержи! Собак загоню в сарай.
Он щелкнул бичом. Собаки приподняли головы, посматривая на хозяина. Даже Полкан встал на ноги.
– А ну-ка, на место! Шасть! Живо!
Шесть собак, одна за другой, неохотно нырнули в проем. Приказчик прикрыл дверь на защелку и сказал:
– Отдохните чуток, можа и прогуляемся на капканы.
И с Екатериной направился к дому Сотникова. Перешли наполовину занесенный ручей и подошли к церкви. У бревенчатой избы отца Даниила им встретилась Мария Николаевна с дочерью священника. Гувернантка в коротких кожаных сапожках, в длинной юбке и цигейковой шубке. На голове, охватив аккуратно свернутую косу сидела вязанная разноцветными шерстяными нитками шапочка.
– Доброе утро, Мария Николаевна! Чей-то вы спозаранку гуляете?
– Здравствуйте, люди добрые! Гуляем, коль погода теплится. Твоей сестренке полезно. Не все ж грамоту учить.
И она толкнула от себя санки с сидящей на них Еленой. Полкан бросился по косогору за катящейся девочкой, а она понукивала его:
– Шибче, шибче, Полканчик! Не отставай!
Лапы пса скользили по снегу. Он как-то боком бежал вниз, стараясь не отстать от санок. Когда они остановились у начинающейся косы, пес обнюхал довольную девчушку и даже лизнул ее румяную щеку. Елена визжала от восторга и кричала, поглядывая на гору:
– Мария Николаевна! Мария Николаевна, а Полкан целуется.
– Любит он тебя, такую умницу, – смеясь, ответила гувернантка.
А Екатерина требовательно позвала:
– Полкан, ко мне! Ишь, разыгрался!
Огромный пес лениво поднялся на горку, прильнул боком к ноге Екатерины и заискивающе искал ее глаза. Он как бы просил прощения за участие в детских шалостях. А кухарке уже было не до пса. Она разговорилась с гувернанткой. Сидельников постоял малость в сторонке, не прислушиваясь к шепоту подруг. Закурил, встряхнул счетами:
– Ладно, Катя, я пошел, а то хозяин гневаться будет.
– Я тоже часом подойду.
Девушки остались вдвоем.
– Мария Николаевна, у меня перемены. В субботу венчание. Киприян Михайлович…
– Я догадывалась. Твои родители шепчутся, а мне ни слова.
– И я тебе не сказала! Боялась, вдруг хозяин передумает.
– Поздравляю, Катенька! Киприян Михайлович надежный человек. И любовь его надежна.
Мария Николаевна неловко поцеловала подружку.
Ее вязаная шапочка съехала набок, оголив покрасневшее на морозе ухо с серебряной серьгой, подарком священника Даниила ко дню ангела.
– Мария Николаевна! Маша! Я прошу тебя не оставлять меня. Ты – единственная подруга.
У Екатерины навернулись слезы. Першило в горле. Гувернантка заметила в ее глазах жалость. Жалость окончания их дружбы.
– Катя, милая! Не жалей ни о чем, коль пришла любовь. Я же остаюсь свободной от мужской любви. И теперь наша дружба зависит от тебя.
– Машенька, все будет как прежде. Мне его богатство не льстит. Лишь бы лад был в семье. А может, тебя за Петра сосватаю.
– Нет, нет, Катенька! Петр – не для меня. Мы с ним разные. Но я боюсь не этого! Меня любовь страшит и зависимость.
Они откровенничали, оглядывались по сторонам, боялись открыть кому-либо другому свои тайны.
Елена, запыхавшись, поднялась с санками на взгорье. Мария Николаевна прервала разговор и крикнула девочке:
– А ну-ка, еще разок скатись, да не тормози ногами!
– Ножки болят подниматься на гору.
– Ох, лени у тебя скопилось, сестричка! Ножки уже не носят! – засмеялась Екатерина.
– Дай Полкана, Катя! Пусть санки на угор тянет! – захныкала Елена.
– Обойдешься! Полкан тоже устал. А ты любишь кататься – люби и саночки возить. Особенно на гору, – остановила девочку Екатерина. Затем доверительно сказала гувернантке: – Ладно, Маша, я пошла. Заходи вечерком вязать. Еще кое о чем потолкуем. Я в сомнении.
– Сомнение – это похвально! Но любовью сияют твои глаза. В них не осталось места сомнению. Там видна лишь любовь.
Она говорила, а по щекам скатывались слезы, густея на морозе.
Екатерина чувствовала себя виновницей ее слез, а как утешить – не знала. Она смотрела ей в глаза и растерянно перебирала бахрому своего платка.
– Ой, что же я наделала! Я виновата во всем!
– Знаешь, есть слезы радости и слезы горести. А сейчас они слились вместе, как Дудинка с Енисеем. Горе пересилило. Сдержать их не могу.
Маша поправила шапочку, спрятав выбившиеся волосы, вытерла слезы:
– Да полно. Судьбы бы тебе благосклонной. Один раз живем.
Екатерина смотрела куда-то вдаль, за остров Кабацкий, где в снежном мареве сливался с горизонтом наволочный[10] берег Енисея. Смотрела, сузив веки, будто прослеживая будущую судьбу. Потом спохватилась:
– Ой, пора! Жду вечером. Вперед, Полкан!
Пес нехотя двинулся за хозяйкой.
* * *
В горнице за столом, обложившись бумагами, сидели Киприян Михайлович и Алексей Митрофанович. Над головами висела обрамленная стеклярусовым ободком люстры керосиновая лампа с потрескивающим фитилем. Стучали костяшки счетов. Сидельников открыживал в амбарной книге сверенные товары.
– Сутяжничать с нами никто не будет? Особо по тульским ружьишкам. Там ушлый купчина сидит. С каждого ствола слупит по лишнему гривеннику. Михайлов – еще тот хват.
– Насчет «Зауэра» я приценялся. Не прогадали. Брал дешевле, чем в Томске. Двустволки, бескурковки. Там одна насечка на прикладе чего стоит. Могут немцы ружья делать! А тулки – за милую душу тунгусы берут. Сутяги не будет.
– Ну, дай бог! А то суды да пересуды не один рубль вытянут. Надеюсь на тебя, Алексей Митрофанович!
– Стараюсь, Киприян Михайлович! Только по моему арсеналу прибыли будет тыщ пять.
Сотников пристально посмотрел в плутовские глаза приказчика. Тот сидел не моргая, стараясь выдержать взгляд хозяина.
– А пороха бездымного в достатке?
– Хватает! Даже пудов десять лишку взял. Боялся, вдруг подмочут али еще что. Теперь все в амбарах, все описано.
– На Хатангское готовишь товар?
– Готовлю! Упряжек тридцать только под ружья да порох.
– Толково! Хвостов передал, там бескурковки ждут. Они, говорят, надежнее кремневок.
Сотников потянулся, поднялся из-за стола и убавил огонь в лампе.
– На сегодня – шабаш. Езжай на капканы. Потом еще раз кой-какой товар сверим. Давай уж заодно и почаюем.
Часы пробили полдень.
– Катя! – кликнул Сотников. – Ты рыбки из тузлучка подай, кулебяку с муксуном да иноземную бутылочку за удачную сверку.
– Все готово! Даже самовар свистит! – озвалась она из кухни.
– Помочь, Катя? – вызвался Киприян Михайлович.
– Не надо. Я сама накрою.
Сидельников удивленно приподнял брови.
– Что-то я не понял, Киприян Михайлович! – нагловато спросил он. – Не мужичье дело – на стол подавать.
– А тут и понимать нечего! Женюсь я на Катюше – все и разумение. Ты уже детей кучу нарожал, а я в бобылях хожу. Я что, по-твоему, не мужик?
– Не мужик, а казак. Не казак, а урядник.
– Вот, вот. Наследники нужны. Катерина в этом деле поможет.
– Давно бы так! Дело большое держите, родней обросли, а своей семьи нет… Похвальная задумка. Отец Даниил благословит да и тестем станет!
– Ладно, Алексей Митрофанович! Ты не учиняй здесь советы… Мне неловко будет перед Катей за твою тарабарщину. Лучше ешь сытней да молчи мудрей. Проку больше будет.
– Я и так в амбаре – один да один. Окромя собак, на службе и поговорить не с кем. Лишь товары осматриваю да отсчитываю.
– По делу говори, а без дела – нишкни. В амбаре иль на охоте сам с собой посудачь, – засмеялся Сотников.
Сидельников заерзал на стуле. Не такой он человек, чтобы молчать, тем более на досуге. Когда он увидел идущую с подносом будущую хозяйку, то ощутил, как какая-то неведомая сила подняла со стула, выпрямила, а потом согнула в низком поклоне перед кухаркой. Екатерина от неожиданности остановилась и увидела лысеющее темя приказчика.
– Алексей Митрофанович, ты рехнулся? – поставив поднос с кушаньями на стол, всплеснула руками. – Перед хозяином шапку не ломаешь, а тут – поклон.
Киприян Михайлович захохотал, сложив руки на груди.
– Эка ты бестия, Сидельников! Даже к учтивости приучен! За тобой такого не замечал. Холуйством от тебя веет. Вот я и думаю: казак ты или лакей. Или нос по ветру приучился держать, как олень пугливый. Ой, бойся ты себя такого! Страшись таких деяний! – похлопал он приказчика по плечу. – Но коль кровь у тебя давно подпорчена, то поклонись ей еще раз. Привыкай, душа холуйская. Но еще раз увижу – плетки не миновать твоим бокам! Понял?
Сконфуженный Сидельников покрылся испариной, лицо усеяли капельки пота.
– Опять попал впросак! Прости, Киприян Михайлович! То со своим языком, то с учтивостью. А может, хозяйке нравится! – заискивающе посмотрел он в глаза Кате и снова сверкнул лысиной.
– Я еще не хозяйка, а кухарка! И поклоны твои, как сказал Киприян Михайлович, кроме мерзости, ничего не вызывают. Будешь служить исправно – без поклонов уважать и ценить будем. Всегда в доме привечать. Киприян Михайлович не любит бражников, бездельников и угодников, кроме святых. Запомни и боле не фордыбачь.
Сидельников испуганно смотрел на Екатерину, а Сотников с любопытством наблюдал и восхищался рассуждениями будущей жены.
«Вот тебе и кухарка, – думал он. – Осадила бойкого приказчика, что тот язык проглотил! А как понятливо и колко. Я бы так не смог. Эта никому не позволит перемывать косточки почем зря купцу Сотникову».
– Ты понял, Алексей Митрофаныч, мы люди простые и барами никогда не будем ни по чину, ни по душе. Хоть и велика наша северная земля, а мы крутимся друг около друга, как собаки у кормушки. Не пристало одному казаку в баринах ходить, другому – поклоны бить. В поход призовут, под одной буркой спать будем. Потому нутро казачье на приказничье не спеши менять. Так можешь душу осквернить. Большой грех!
Сидельников расстегнул ворот косоворотки. Было тяжело дышать от упреков Сотникова. Он горестно вздохнул.
– Вывернули вы меня с кухаркой наизнанку. Просветили, как неразумного тунгуса. В таких делах бабе вроде не с руки тесто месить. Но она, смотрю я, месит сноровисто, как заправская стряпуха. Отбрила так, срам не скоро покинет меня. Сижу и думаю: то ли пить, то ли не пить заморское. Стыд гложет. А может, меня подняла со стула, и правда, учтивость к женщине, как говорил ссыльный поручик Закревский. Когда он, бывало, опрокидывал в горло кружку водки, то становился на колено, протягивал вперед руку воображаемой даме и склонял пред ней голову. И в запальчивости выкрикивал: «Я перед государем стоял навытяжку, как перед Богом, а перед женщиной преклонял колено, потому что она – выше Бога и царя. То-то же, брат мой Сидельников». Может, и меня он приучил встречать даму стоя. Правда, я до этого не пробовал, а тут опрофанился.
– Будет, будет Алексей Митрофаныч! Давай-ка выпьем за мою суженую. Катя, садись с нами. Пригуби малость.
– Не бабье дело с мужиками бражничать. Не привычна я к вину. У нас в роду нет пьющих, кроме отца Даниила. Бога почитают. Постничают. Я чаю выпью с малиной. Он вкусней иноземного хмеля.
Она присела рядом с Киприяном Михайловичем. Чай пила маленькими глотками, вглядываясь в хозяина. Тень от ее головы ложилась к нему то на плечо, то на грудь, то на руки, и ей казалось, что она сама лицом прижимается к хозяину Ее щеки покрылись румянцем. А купец, выпив вина, почувствовал неловкость перед гостем. «Может, рано нарек я ее хозяйкой при приказчике. У того язык – помело. Вся округа будет знать. Подумают, Сотников грех на душу взял без благословения церкви…» А держать Катю при людях за кухарку, не выдавая ни словом, ни видом любви к ней, он не может. Не фарисей он библейский, а казак. И не лицедей, комедию ломать. А грешок-то по Катиной линии – есть! Затяжелела она!
– Ты, Алексей Митрофанович, закусывай да долго не сиди, коль охота ждет. А ежели передумал, то я не гоню – потчуйся, пока добрый. А взбеленюсь, тогда уходи подобру-поздорову.
– Да ты не пужай. Ты иного норову. Добряга.
– Буде, не хвали. Всяк бываю, но наше дело от того не болеет. Притерлись мы друг к другу.
Они чокнулись небольшими деревянными кружками.
– За тебя, Катя! А ты, Митрофаныч, не серчай. Мне, тихому, такая и нужна хозяйка, с голосом да с характером, чтобы могла приструнить горластых, как ты.
– Я с виду нахрапистый, – озвался Сидельников, отправляя в рот кусок селедки, – на мужиков, а баб боюсь, как порох огня. Тут у меня все немеет. Язык особо!
– С твоим горлом только сотником быть да орать на полном скаку: «Шашки – на-голо!» За версту будет слыхать.
В трубе заныл ветер. Стеганул по стеклам снежным песком.
– Неужто юго-восток пошел гулеванить? Пропала охота. Опять пасти занесет.
– Ладно, коль пурга, то и я на Опечек не поеду. Давай еще бутылочку откроем. Мне последним рейсом пять ящиков к свадьбе привезли.
Сотников вышел из-за стола и вскоре вернулся с бутылкой.
– Вино заморское – не нашенское! – для пущей важности сказал он. – Пьется как вода, без горчинки. Заметил, Митрофаныч?
Теперь он налил в большие стеклянные рюмки. Белое вино с желтоватым отливом искрилось при свете лампы.
– Ну настоящий янтарь. Его, видать, надо пить только из стекла, а не из дерева. Цвет во вкус вводит. Раньше пили только португальские короли. Мальвазия называется. А теперь и купцы енисейские пьют. Давай, Сидельников, и мы себя чуток королями почувствуем. Катя, на – попробуй. Хоть глоток. Благородные дамы его тоже пьют.
– Спасибо, но даже королевский напиток меня не манит. Простите, Киприян Михайлович, но хочу оставаться сама собой. Завистью пока не страдаю да и в королевы не мечтаю. А то Алексей Митрофанович начнет снова поклоны бить.
Сидельников хмельно глядел на Катерину.
– Мой язык остер, как топор у енисейского сучкоруба, но у тебя – как бритва у справного брадобрея.
– То-то же. Смотри не порежься! – съехидничала кухарка.
* * *
На улице смеркалось. Разморенный вином Сидельников развалился на стуле и изредка икал. Киприян Михайлович ни себе, ни гостю не наливал. Он тяготился долгим застольем.
– Алексей Митрофаныч, пора тебе домой. Наверное, будет браниться твоя женушка. Ты уж сошлись на метель. Скажи, распогодится – проверишь капканы. Мол, зима длинная.
– Да уж ухвата не избежать. Или поленом попотчует. Моя похлеще Катюши. Да вы знаете. Тут язык прикусить – и спать. Спящего она не тронет. Боится во сне напужать. А так она добрая. По дому управляется за двоих. Я больше в амбаре да на зимнике. Она прыткая. Охотится лучше меня. А может, она удачливей?!
Он поднялся со стула, разгладил сбившуюся за день бороду, взял под мышки счеты, амбарную книгу и направился в теплые сенцы, где осталась волчья шуба и песцовая ушанка. Долго не мог попасть в рукав.
– Вот тебе и хмель! – бубнил он. – Короли, говорите, пьют. Обманное вино. Для утробы незаметное, а в голове туман. Будто на Енисее перед заморозками.
– Ты амбарную книгу оставь. Не ровен час – потеряешь. Пурга ведь.
Сидельников вдруг на миг отрезвел и строго посмотрел на Сотникова.
– Никогда! Даже Богу не доверил бы. Здесь весь амбар на бумаге. Тут десятки тысяч, – он потряс книгой и прижал к себе. – Здесь жизнь моя и честь. Помните, что Алексей Сидельников – не мот и не вор.
Он сунул книгу за пазуху, застегнул все пуговицы и вышел в пуржистую темень ночи.
Киприян Михайлович закрыл дверь на засов, погасил в сенях керосинку и возвратился в горницу. Стол был свободен от закусок, стулья стояли вокруг него, как будто тут и не было недавней трапезы.
Екатерина поглядывала на часы. Они отбили шесть часов вечера. С минуты на минуту должна появиться Мария Николаевна. Она долила самовар, маленькой кочережкой пошевелила в поддувале угли и услышала нарастающий шум закипающей воды.
– Ты чайку захотела, Катя? Я дак все. После вина пить не хочется.
– Жду Марию Николаевну. Обещала прийти.
Она глянула в незамерзший краешек окна в сторону темного пятна церкви. Размытые контуры храма будто ходили ходуном, то появляясь, то исчезая в вихре снега.
– Поземка сильная, видать, к пурге, – решила она и накинула на плечи цветастый платок.
Ей казалось, уличная метель залетела на кухню, укутала тело слоем мягкого холода.
– Ты озябла? – спросил Киприян Михайлович. – А где Аким? Может, печи погасли?
– Нет, горят. Даже окошко начинает оттаивать. Я мысленно озябла, взглянув в окно.
– Может, Мария Николаевна метели испугалась? – предположил хозяин. – Хотя она не из пугливых. Ссыльных не боится, с тунгусами дружит. Умом всех завораживает. Ей бы в другом месте жить. Где она, вокруг все оживает. Есть в ее душе невидимый огонь. В глазах вспыхивают искорки.
– Вы, Киприян Михайлович, даже глаза разглядели. Я думала, вы девиц не замечали.
– Замечал. Взгляд сам двигался за такими, будто оленуху выслеживал на охоте. Только выстрелов не делал. В тебя первую выстрелил, а ранеными оказались оба.
Легонько постучали в окошко.
– По стуку слышу, Маша пришла! – обрадовалась Катерина, накидывая безрукавку. – Я сейчас открою.
И она исчезла в темных сенях. Послышался скрип задвижки, шум ветра и легкий топот. Киприян Михайлович поднялся навстречу.
– Добрый вечер, Мария Николаевна! Проходи, а то заждались тебя.
Маша стряхнула снег с шапки, щеточкой сняла с воротника и повесила шубку на крючок.
– А где ваша галантность, Киприян Михайлович! Кавалер должен встречать даму согласно этикету. Эх, купцы, купцы! Вам бы чуть-чуть светских манер и из казаков можно сразу в дворяне. Не вся еще у вас кровь порченая.
Киприян Михайлович, переминался с ноги на ногу из-за своей неловкости. Он только успел у нее взять шапку и положить на полку. Катерина была рядом и выслушивала замечания гувернантки. Нервничала, пытаясь вставить слово.
– Мария Николаевна, мы росли без гувернанток. Правилам хорошего тона нас не наставляли. Тятя с мамой учили делам домашним! – заступилась за Сотникова кухарка. – Что его, что меня, хотя родители были разные. У казаков своя выучка, у священников – иная.
– Да я не виню. Я шучу, но даму встречать нужно хозяину. Запомните, Киприян Михайлович!
– Запомню. Но я застенчивый, особенно при таких дамах, как вы. Уж простите за мою купеческую никчемность! – перевел все в шутку Киприян Михайлович.
Екатерина принесла свежезаваренный чай, вазочку с вареньем и судок пряников. Молча пили чай, готовились к разговору о важном. Хозяева стеснялись начать первыми. Мария Николаевна уловила замешательство:
– Хочу вас поздравить с помолвкой. Хоть и поздно, но поздравляю. А вот венчание – дело Божественное. Отец Даниил измаялся в ожидании. Готовится. Ритуал дома репетирует. Церковь внутри уже блестит. Хочет венчание дочери сделать академичным, по всем церковным канонам. Чтобы вы на всю жизнь запомнили его.
Киприян Михайлович со смешинкой в глазах слушал рассказ Марии Николаевны. «Надо его в баню позвать! – подумал он. – Все-таки теперь тесть. Пусть и свои грехи смоет, да заодно и пожертвую сотню-другую на храм». Екатерина сбоку смотрела на суженого, боясь проронить лишнее слово. «А ведь рожу – все равно все узнают, что раньше срока. Отцу-то с матерью неловко будет. И прихожане скажут: недоглядел священник свое чадо!» – думала Катерина, слушая свою подругу, и подозревала, что та все заметила. А Мария Николаевна продолжала:
– Да что вы сникли? Чего испугались? Радоваться надо. Каждый человек когда-нибудь к этому приходит. Вас интимная сторона, наверное, смущает. Лично не знаю, но читала. Со временем, пишут, смущения и стеснения проходят. Ну а женская стыдливость остается. Это врожденное.
Катерина нашлась первой.
– Мария Николаевна, как ни говори, а стыд все-таки пробивает. Я вот перед тобой, подружкой, сейчас робею. Чувствую, лицо огнем горит. А в других случаях подобного со мной не бывает. Я по натуре не из робких. А вот Киприян Михайлович. В прошлом годе здоровенную волчицу уложил на Пясине – не испугался. Один на нее наткнулся. А женитьба для него, верно, страшнее волчицы.
Киприян Михайлович указательным пальцем пригладил усы:
– Дело непривычное для меня. Многих женил за свою жизнь. Даже Мотюмяку Хвостова. За всех волновался, чтобы семьи держались. А вот свой удел выбрал и сковался невидимыми путами, как кандальник в Туруханском остроге. Скажу, Мария Николаевна, для венчания у нас все есть. Припасли в навигацию. Даже венчальное платье сшили. Как примерила, ну что твоя царевна! А кольца, свечи, ленты – в сундуке. Кроме тройки лошадей да цыган.
– А души готовы?
– Готовы! Они уж год, как наслаждаются соитием! – ответил Киприян Михайлович.
– Я заметила, что Катюша раздобрела! – сказала она. – А насчет троек – не морочьте голову! Собачьи упряжки – не хуже. Романтики больше. Представьте: полярная ночь, небо в ярких звездах, то здесь, то там дрожит многоцветное сияние. А на земле – сказочные свечи освещают дорогу двум мчащимся навстречу друг другу упряжкам. Миг – и два любящих сердца соединятся. И только луна и звезды будут вечно глядеть на вашу любовь.
Катерина так увлеклась картиной, нарисованной Марией Николаевной, что прикрыла глаза и ощутила как бы наяву ее буйную фантазию. Увидела себя в белом подвенечном платье, с развевающимся воздушным шарфом на шее, на четверке белых собак, мчащихся по снежной дороге, освещенной большими восковыми свечами. Они горят, скрипит снег, слышится тяжелое дыхание уставших собак. А где-то далеко, меж огней, она видит в полутьме бегущую ей навстречу упряжку серых собак Киприяна Михайловича. Он взмахивает бичом, кричит «Тоба, тоба, серый!» и ведет упряжку прямо к ее белой четверке.
– Очаровала ты нас своим рассказом, Мария Николаевна! Будто книгу прочитала нам с Киприяном Михайловичем. Сейчас прошел перед глазами весь твой сказ. Я видела себя невестой, а его, – повернула голову в сторону хозяина, – женихом.
Киприян Михайлович засмеялся.
– Хорошо хоть другого не видела. А венчание не показалось?
– Нет! Глаза открыла для того, чтобы проверить, явь это или наваждение. До венчания не дошло.
– Венчание будет в субботу Наяву! Екатерина Даниловна, – добавил Киприян Михайлович, – да такое, что останется в памяти до конца дней своих не только у нас, но и у дудинцев. Сотников женится один раз. Все село приглашу на свадьбу Осталась одна неделька.
* * *
Отец Даниил, блистая ризой, наперсным крестом, вышел из алтаря чрез Царские врата, держа в руках крест и Евангелие. Он окинул взглядом стоящих в притворе храма молодых, положил на аналой крест и святую книгу.
А в церкви тесно, прохладно, почти как на улице. Тепло от дыхания прихожан уходит вверх, под купол. Священник в теплой поддевке под рясой, прохлады не чует. Ему жарко от волнения. Старается, чтобы обряд прошел без сучка и задоринки. Худо-бедно, а по большим праздникам купец Сотников жертвует церкви: то деньгами, то новой рясой, то подсвечниками, то колоколами на звонницу.
У левого клироса почтовик Герасимов, как всегда, в форменном кителе, с женой Агриппиной да двумя детьми-погодками, Мишей и Машей. Дети стоят впереди всех и непонимающе смотрят на огромного отца Даниила, размахивающего, как шаловливый ребенок, на длинной цепи кадилом.
За ними двое сродных племянников купцов Сотниковых, работающих у дядей по найму то на рыбалке, то на охоте. Почти впритык к ним ссыльные поляки: Сигизмунд и Збигнев. На умных лицах даже в свете свечей видна печать задумчивости и сосредоточенности. Может, думают о своей вере или о родных местах, где-то далеко оставшихся за тысячеверстными снегами да лесами, а может, о своих невестах, оставшихся в поместьях под Краковом. Они хоть и католики, но в церковь ходят охотно, зная, что Бог един. Отец Даниил любит беседовать с умными, начитанными и воспитанными людьми и не считает это крамолой. Рядом с ссыльными – Мария Николаевна, поглядывающая в притвор церкви, на молодую пару.
За ссыльными виднеются румяные лица казаков из питейного дома. Глаза их горят интересом. Сами молодые да бравые и купеческое венчание видят впервые. Стоят, папахи в руках мнут да иногда крестятся. На невесту поглядывают с жадностью.
– Хороша Даша, да не наша! – шепнул Спиридон своему напарнику Никите. Священник услышал шепот, посмотрел на служивых и поднял правую бровь, мол, замолчите. Казаки смиренно отвели от невесты глаза.
Из-за спин казаков выглядывал Мотюмяку Хвостов с женой Варварой и двумя сыновьями. Он пытался глазами встретиться то с Сотниковым, то с отцом Даниилом, поддержать и подбодрить своих друзей в свершении Божественного действа. За Хвостовым стояли бородатые охотники и рыбаки из Опечека, что в двенадцати верстах от Дудинского.
У правого клироса – матушка Аграфена Никандровна с дочерью Леной. За ними – туруханская родня Сотниковых: тетка Домна Петровна, дядя Андрей Никитич, друг детства Николай Перепрыгни с женой Маланьей, приехавшие на оленях по зимнику. Далее – семьи скорняков, кузнецов, плотников и башмачников. А ближе к молодым – приказчики: Иван Михайлов, Кирилл Зырянов, Тит Теткин да Алексей Сидельников. Все четверо в одинаковых темных поддевках, простоволосы, с коротко подстриженными бородами. Стоят, поглядывают на хозяина, готовые по первому движению его брови кинуться на подмогу, если понадобится.
А Киприяну Михайловичу сейчас ничего не надо. И он, и Катерина пребывают в каком-то непонятном таинстве среди сотен горящих свечей, ликов золоченых святых икон и легкого свечного дыма, заходящего в притвор. Они отсюда пока не видят ни прихожан, ни отца Даниила. Они мыслями далеко на небесах, и сам Бог свершает святой обряд.
Наконец из дыма выплывает священник с двумя зажженными свечами. Огоньки колеблются от сквозняка, ложатся почти к восковым стержням, потом вновь выпрямляются и горят ровно. Молодые смотрят на игру лепестков пламени, и каждый сравнивает свою судьбу с мечущимися на сквозняке огоньками. Поток пытается сорвать пламя со свечей, шатает его, будто хочет погасить хрупкий свет любви.
Священник торжественным голосом благословляет брачующихся и вручает свечи. Он вводит пару внутрь храма. Теперь уже прихожане жадно глядят на жениха и невесту.
Батюшка, помахивая кадилом, начинает великую ектению: «Благословен Бог наш».
Молодые почти не слышат слова. Их взгляды замерли на иконе Пресвятой Матери-Богородицы. Они пытаются встретиться глаза в глаза с очаровавшей их иконой. Но неподвижен лик Богородицы, не хочет она глянуть в души Катерины и Киприяна Михайловича. И только слова: «Обручается раб Божий Киприян рабе Божия Екатерине» выводят их из оцепенения. Священник, держа в руках золотое кольцо, творит над головой жениха крестное знамение и надевает ему на безымянный палец правой руки. Киприян Михайлович чувствует, как стынет палец, будто схваченный морозом, от холода золотого ободка. Невеста видит побледневшее лицо жениха, хочет улыбнуться, но неведомая сила сковывает ее, и она успевает только взглядом поддержать Киприяна Михайловича. А отец Даниил весь в ритуальном действе! Он берет с подноса серебряное кольцо, трижды осеняет крестным знамением невесту и громовым басом, долетающим до самого купола, говорит:
– Обручается раба Божия Екатерина рабу Божию Киприяну, – и надевает ей кольцо.
Тускло поблескивают кольца. С непривычки они стягивают фаланги. Хочется крутануть их, разгладить сморщившуюся под ними кожу, потереть затекшее место. Батюшка доволен, что дело подходит к концу. Он теперь озорно размахивает кадилом впереди себя, очищая путь молодым к супружеской жизни, и выводит их на середину храма. Еще несколько напутствий, а церковный хор выводит: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!».
Отец Даниил уже пред аналоем, подтянув к локтям широченные рукава рясы, берет венец, трижды крестит им Киприяна Михайловича и дает поцеловать образ Спасителя, прикрепленный к передней части венца. И снова звучит голос священника: «Венчается раб Божий Киприян…»
Теперь Екатерина трижды прикладывается к образу Пресвятой Богородицы. И венец тоже украшает ее голову.
Священник берет чашу с вином и осторожно, чтобы не расплескать, подносит молодым. Жених и невеста трижды испивают вино, осененное крестным знамением.
Общая чаша – общая судьба!
Глава 2
Петр Михайлович заключил контракты на поставку сахара, муки, чая в Енисейске, в Томске – на поставку пороха, свинца, топоров, оконного стекла. Дмитрию Сотникову поручил подписать договоры с гужевиками на перевозку до Енисейска грузов, а также с июня по сентябрь зафрахтовать пароход «Енисей» с баржой.
После крещенских морозов погода помягчала и пошел сильный снег. Да такой, что были сбои конных маршрутов даже по, казалось, ухоженному Сибирскому тракту. Петр Михайлович выждал, когда закончатся отсевки снега, и заказал экипаж на Барнаул. В Томске дворники уже очистили улицы и неспешно вывозили снег за город. По небу плыли тяжкие облака, и метельщики опасались, как бы снова не повалил снег. К полудню распогодилось, и выглянуло не по-зимнему яркое солнце. Оно брызнуло лучами, прошлось ими по сугробам и как бы придавило их теплом.
* * *
Сани легко скользили по укатанной дороге. Справа и слева высились в человеческий рост бурты снега, сдерживающие в степи порывы ветра. Сквозь окошко кибитки Петр видел верхушки рябых берез, раскидистых темно-зеленых сосен и ярко-красные гроздья рябин.
Вечерело. Слышались топот бегущих коней, зычный голос ямщика и скрип снега. С двух сторон нависала тайга, придававшая зимнему вечеру оттенок поздней ночи. Меж деревьев замелькали огни.
– Подъезжаем! Повалихино! Здесь лошадей надо менять! – крикнул бородатый ямщик. – А нет, так заночуем. Тут постоялый двор и ямщицкая теплая.
Почти у самой дороги, стоял большой рубленый двухэтажный дом.
– А вот и станция! – обрадовался ямщик. – Идите, тормошите смотрителя! Я на конюшню – лошадей пристрою. Да прослежу, чтобы конюх напоил и накормил.
Петр Михайлович выбрался из кибитки и увидел два светящихся окна: одно – на первом, другое – на втором этаже. Свет из окошка падал прямо на небольшую строганую доску, где черными буквами написано: «Станция Повалихино». А ниже мелко: «владелец Евграф Кухтерин». Петр Михайлович прочитал, с ходу и подумал: «Всю Сибирь занял Кухтерин. Уже и до Алтая добрался. Крепкий мужик, никому не позволяет влезть в гужевики». Он отворил дверь и вошел в зал ожидания. Зал представлял комнату со столом у окна, с висящей у потолка керосиновой лампой и несколькими широкими лавками со спинками. Справа дышала, накалившись докрасна, печка-голландка. За столом сидел мрачный человек в поношенном ватном пиджаке. Это был станционный смотритель. Он сидел, подперев голову рукой, и смотрел в огромную тускло освещенную книгу. На появление Сотникова он даже усом не повел.
Комнату наполняла гнетущая тишина, собранная здесь не за час, а, вероятно, за целый день. Петр двинулся к столу и, чтобы не закрывать свет лампы, встал с торца. Потом достал из кармана и протянул свернутую подорожную.
– Прошу вас снарядить трех лошадей!
Смотритель не глянул в подорожную, небрежно отодвинул локтем и не поднял глаз:
– Лошадей нет! После непогоды дорогу укатали – все разъехались.
– Вы понимаете, я тороплюсь на Колывано-Воскресенский завод. Дел невпроворот.
– Да по мне хоть на Уральский. Нет лошадей!
– Неужель конюшня пуста? – подивился Петр Михайлович.
– Не пуста! Те лошади только с тракта. Отдыхают. Снег тяжелый.
Смотритель не отрывался от книги.
Петр разглядывал тщедушную, склоненную над книгой фигуру от которой зависела сейчас судьба. Он сдержал себя, чтобы не ударить кулаком по столу. В сердцах думал: «Ну и смотритель! За что ему только деньги платит?» Потом резко спросил:
– Так сколько ждать?
Очевидно, смотритель ждал этого вопроса. Впервые посмотрел в глаза Петру Михайловичу.
– До утра! Вернутся с дороги, отдохнут лошади и ямщики. Сделаем замену. Не вернутся – уедете на своих. Сейчас отдыхайте. Постоялый у нас со двора – второй этаж.
– А перекусить где?
– Трактира у нас нет. Мы – маленькая станция. Экипажей много не бывает… Чай могу предложить.
– А к чаю?
– К чаю – добрые люди с собой имеют. Что, впервой на тракте?
– Не впервой! Пол-Сибири обкатал, а вот в такой глуши – впервые. Я купец временной второй гильдии и требую к себе уважения, а не равнодушия.
Услышав слово «купец», смотритель только теперь заметил распахнутую волчью шубу Петра Михайловича, жилетку с белой манишкой и золотую цепочку от часов. И с издевкой:
– По вас не видать! Деньги имеете, а голодом в кибитке ездите. Еду надо брать в дорогу с запасом. Авария случится, упряжь лопнет, лошадь поранится, волки нагрянут. В дороге все бывает. Кусок хлеба всегда надо иметь. А у нас здесь не токмо купцы, но и генералы случаются. Всех встречаем, по возможности, одинаково.
Петр Михайлович понял: этого ничем не проймешь. Что в лоб, что по лбу.
– Я оставляю дорожную, чтобы в восемь лошади стояли у станции. Иначе доложу управляющему.
– Я не боюсь ни Кухтерина, ни Александра Второго. У меня здеся своя Расея. И я – император. Седоки все подо мною ходят.
Петр Михайлович выскочил на улицу плюнул со злости, достал из кибитки чемодан и пошел на постоялый. Прежде чем подняться на второй этаж, он закурил и долго смотрел на мерцающие звезды, пытаясь найти свою Полярную.
Петру Михайловичу повезло. Привратницей в постоялом в ту ночь была молодая девушка Авдотья. Через полчаса в его номере появились яичница, горячий чай с хлебом.
– Благодарствую! – сказал Петр Михайлович девушке. – Я бы вас просил к завтрашнему утру жареную курицу, хлеб и чай. Снова в дорогу.
– Я попробую, – неуверенно ответила она. – Если маму уговорю. У нас есть одна курица. Яиц не несет. Может, ее. А вина не надо?
– Нет, красавица! Вино пью, когда повод есть. А у меня лишь голод и усталость.
– Ничего. Сейчас подкрепитесь и спать. Откуда вы и каким ветром занесло в наши края?
– Я из тундры, где белые медведи шастают. Есть в низовье Енисея маленький станок[11] Дудинское. Знаете?
– Немного знаю. Это север Енисейской губернии. В гимназии училась. Это же отсюда несколько тысяч верст. Сколько ж вы добирались до Томска?
– Не так долго, как вам покажется. За месяц можно. Сначала весельным парусником, потом на лошадях. Из Томска скольжу на Барнаул.
Вдруг Петр осекся. Он вспомнил: Киприян не раз наставлял не распускать язык в чужих краях, не открывать душу незнакомцам. Облапошат – в один миг! Правда, Авдотья вызывает доверие. У нее такие чистые синие глаза. Хочется с ней говорить и говорить.
– Вы проходите в номер. Сейчас я подам жбан с водой, таз и полотенце. Умывайтесь и торопитесь, а то и чай, и яичница простынут.
В комнате прохладно. На полу затоптанные половики прикрывают щели. У наполовину оттаявшего окна деревянная кровать, похожая на полати охотничьих избушек. Петр через камин услышал скрежет. Это, видно, Авдотья чистила колосники. Затем заложила дров. И, наконец, загудела печь, наполняя теплом пока неуютную комнату.
«Для меня старается Дотя», – обрадовался Петр Михайлович. Поужинав, он вышел в коридор.
– Благодарю, Дотенька за ужин и тепло. Теперь до утра доживу.
Авдотья зарделась от похвалы:
– Когда на ночь появляются постояльцы, мы топим печи. Потому я поступила как положено. А ужин? Я свой отдала.
Теперь покраснел Петр Михайлович. Ему стало стыдно перед девушкой. Съел ужин и чувствует себя джентльменом или польским дворянином. «Ох, знал бы Киприян! Снова учил бы меня учтивости. Может, и с Авдотьей я не так веду. Не могу быть приветливее даже с ней. Не умею!» – подумал Сотников.
Он так и не сообразил, что ответить Авдотье, в смущении развернулся и ушел.
Послышался стук. Петр Михайлович еще не ложился. Фитиль в лампе вывернул до отказа.
– Войдите! – вежливо пригласил он.
Девушка забрала жбан, таз и мокрое полотенце.
– Спасибо, Дотенька! Спокойной ночи! – купец встал и поклонился. Авдотья ответила кивком и вышла. Петр Михайлович снова сел, закурил и мысленно перенесся в Дудинское. Он вспомнил не о брате, не об обозах, идущих по тундре, а о Катерине. Вспомнил, как, в страхе, она ему первому сказала, что в грехе затяжелела от Киприяна. Ему, однажды, вернувшемуся из Енисейска! Хотела облегчить грех.
– Не мучайся! Поженитесь – и дитя готово! – успокоил он ее и сказал: – С Богом! – А на душе – иное. Появилась еще препона на пути его несбывающегося счастья. Вот оно, рядом-то, но не его – чужое, братнино. Даже стал подумывать, будто Киприян намеренно отлучает от дома, отправляет на три – пять месяцев не только по своей, но и по другим губерниям по торговым и банковским делам, дабы меньше мозолил глаза Катерине. Он понимал: семья Киприяна гуще и гуще прорастает ивняком жизни, укрепляющим ее, как талую землю тундры. Иногда лезла навязчивая мысль разделить с Киприяном нажитые капиталы, открыть свое горнорудное дело или уйти на все четыре стороны. А влезать в семью брата – не по-казацки. Там ждет только беда. Вырубить любовь шашкой из души вряд ли удастся. Чует, что она намертво вросла. На всю жизнь. И даже если женится на другой – Катерина не помешает. «Под бочком» – одна, а в душе – другая. Все это он промысливал и будто соглашался так прожить жизнь. Ну а что будет наяву – оставалось загадкой. Жить в одном доме, каждый день, если не в отлучке, встречаться на кухне, в гостиной, на берегу Енисея, на улице при всех или с глазу на глаз и ничем не выразить непроходящую любовь! Это тяжелее, чем просто жить! Он вспомнил, как привез и подарил золотой нагрудный крест. С дрожью в голосе сказал:
– Носи всегда и помни: моя любовь к тебе – святая, как сей крест.
Катерина показала подарок Киприяну. Он не огорчился, но задумался:
– Ну, неугомонный! Никак не смирится с потерей тебя. Может, женится да перекроет свежей любовью свои чувства к тебе.
Она с опаской сказала:
– Боюсь, чтобы его любовь не выросла в ненависть к тебе. Не привела к раздору меж вами.
Киприян Михайлович вытянул губы вперед и задумался.
– Его характер, наверно, вмещает и ненависть ко мне, и что-то еще варнацкое. Неужель он с каиновой печатью? Надо бы присмотреться. Хоть и грешно так думать, но ведь Каин брата своего Авеля убил. А может, мы, Катюша, делаем темень в светлую пору.
* * *
Петр лежал в постели на гужевой станции и настраивался на завтрашнюю дорогу Если непогода не помешает, то через двое суток будет на заводе. Нашатался он за четыре месяца по городам и весям! Стольких переморгал он: и худых, и честных. Купца каждый норовит надуть, где – на копеечку, а где – на товар. Правда, племяша Дмитрия поднатаскал в закупочных делах. Еще годка два-три помотается с ним – и готовый приказчик. Умеет и счет вести, и за товаром следить. В Томске много металлу заказали: и свинец, и топоры, и котлы с медью для тунгусов. Все идет у Петра как у заправского купца. Только никак не решается с Катюшей.
Встал, закурил, посмотрел в окошко: метели нет. Значит, завтра будет как задумано. Окурок загасил в пепельнице. Кашлянул и нырнул под одеяло. Все передумано. Теперь спать.
Утром Авдотья осторожно, боясь напугать спящего, постучала:
– Откройте! Пора умываться и завтракать.
Петр Михайлович сонно глянул в окно. У станции стояла кибитка, запряженная тройкой. Возле экипажа крутился тот же извозчик, с которым Сотников доехал сюда. Он подогнал упряжь, смазал колеса дегтем и все косился на окно второго этажа. Петр Михайлович заторопился. Вошла Авдотья.
– Экипаж подан, но раньше восьми не уйдет.
Петр заглянул в висящее на стене в деревянной инкрустированной раме зеркало. Лицо посветлело, усталость из глаз убежала, будто и не было вчера пятидесятиверстной дороги. Он быстро умылся и, пока Дотя подавала, снес вниз чемодан и отдал извозчику.
– Через полчаса выезжаем! Пью чай – и в дорогу!
– Экипаж готов! – озвался извозчик.
Авдотья внесла на подносе пухлую жареную курицу с картошкой. Кругляк белого хлеба, чашку чая, кусок рафинаду и щипцы для сахара. Запах курятины нагонял аппетит.
– Ух ты, как заказал! – подивился Петр Михайлович. – Где ж вы это взяли?
– Домой ходила. У мамы выпросила курицу. Для вас. А готовила здесь. Ночью.
– Да я уж и не знаю, как благодарить. Такой доброты давно не встречал. Спасибо, Дотя! Сколько я должен?
– Два с полтиной ассигнациями, а за номер я выпишу квитанцию.
Петр разрезал курицу пополам: часть завернул в бумагу, а вторую стал с аппетитом уплетать. То ли с голоду, то ли по курятине соскучился. Белое мясо оказалось вкусным, в меру посоленным, в меру поджаренным. Хлеб теплый, словно только вынули из формы. Даже на морозе не остыл. Авдотья сидела в коридоре и ждала, когда постоялец поест. Петр Михайлович вытер полотенцем губы, руки и вышел к девушке. Рассчитался ассигнациями. Потом, как бы между прочим, достал маленький кулончик из бисера на тонкой кожаной нитке и надел ей на шею.
– От меня. На память. Тунгусское украшение, – пояснил Петр Михайлович.
Авдотья покраснела, поднесла кулончик к глазам, не могла скрыть восхищения подарком. А Петр, по-мужицки нагло, окинул взглядом стан, пристально посмотрел в карие глаза. Она опустила кулончик.
– Красивая вы и добрая. И глаза у вас честные.
Она никак не среагировала и спокойно спросила:
– Петр Михайлович! Вы этим трактом возвращаетесь?
– Да! Просто другого близко нет.
– Соберетесь назад – дайте депешу! Встречу, накормлю. А согреть? Шуба согреет. Вы морозостойкий.
– Обязательно сообщу. А фамилия-то как?
– Иволгина. И-вол-ги-на.
Он спустился во двор и вышел к экипажу. Посмотрел на светящееся окошко. Через изморозь окна пробивался силуэт. Петр Михайлович понял: она прощается с ним.
* * *
Четырежды сменив лошадей, Сотников через двое суток добрался до Колывани. На лихаче подъехал к гостинице, взял дорогой номер, сходил в баню, пообедал в трактире и пошел прогуляться. Шел по деревянным тротуарам, на которых дворники легкими пешнями скалывали лед. На площади стояла примерно двадцатиаршинная украшенная елка, а рядом устроены снежная горка и каток. Здесь же продавали горячий чай, блины, пирожки с начинкой, конфеты, мягкие баранки. На горке суетилась ребятня, занимая очередь к ледяным желобкам, чтобы скатиться вниз на санках, досках, охотничьих лыжах или просто на ногах. Вдали виднелись крепостные стены. Спросил у прохожего: что за крепость?
– Колывано-Воскресенский завод. Видите, дымит!
– Он мне и нужен, – обрадовался Петр. – Завтра доберусь до него.
Потом он направился на базар, шумевший в самом центре поселка на берегу полусонной реки Белой.
Через реку лежала плотина, собранная из бревенчатых и заполненных землей срубов. Справа – водохранилище, затянутое корочкой льда, а у самой плотины – большие разводья.
«Видно, зимой вода не замерзает, благодаря сбросу плотиной!» – сделал вывод Петр Михайлович.
Он стоял у длинного, чуть ли не стодвадцатиаршинного, тела плотины, смотрел в мутные разводья и думал: «А Енисей-то наш чистенький и прозрачный. Как стекло! Здесь завод реку запоганил. Жаль. А воды, кажется, не так уж и много. Беречь ее надо, а не мутить».
Вечером, на постоялом дворе, он достал бумаги и стал записывать: что необходимо сделать, где побывать, с кем встретиться, что выяснить.
Ночью спал плохо. Волновался: как примут на заводе. Не отнесутся ли к нему как к чудаку, как к человеку, не искушенному в металлургии, но приехавшему научиться медь плавить. Кытманов дал вопросник, но много любопытностей возникло у него самого. И еще выплывут неясности при встречах со знатоками медеплавильного дела. Но купеческая сметка и в металлургии должна сработать. Утром, надев белую с галстуком рубаху, брюки навыпуск и хромовые в гармошку сапоги, розовый шарф, соболью шапку и волчью шубу Петр на дрожках подъехал к крепостной браме. Как договорились ранее, извозчик подал руку когда он сходил с саней, низко поклонился и указал на полосатую сторожку Навстречу Петру Михайловичу выскочил старший охраны и взял «под козырек».
– Здорово, есаул! – отдал честь купец и протянул руку. – Урядник Сотников. Мне нужен управляющий.
Есаул, придерживая рукой за эфес шашку, крикнул в сторону сторожки:
– Иртеньев – на выход!
Появился молодой казак, в хорошо подогнанной, словно для строевого смотра, форме.
– Слушаю, господин есаул!
– Отведи господина урядника Сотникова к управляющему. И мигом назад!
– Слушаюсь, господин есаул! – и, повернувшись вполоборота, вытянул прямую руку вперед. – Прошу, господин урядник!
Петр Михайлович козырнул есаулу и важно зашагал в сопровождении казака к управляющему заводом.
Контора располагалась на втором этаже деревянного здания. Помощник управляющего записал фамилию, сословие Петра Михайловича и просил подождать до конца совещания. Через дверь доносилась ругань. Кого-то бранили, кто-то оправдывался. Потом шум стих и слышались короткие разноголосые доклады. По голосам Петр Михайлович определил, что докладывали по очереди пять человек. Через некоторое время в кабинете дружно задвигались стулья.
– Завершили, – сказал помощник управляющего.
Из кабинета выходили люди. Помощник остановил главного инженера завода.
– Иван Иванович, здесь купец к управляющему. Вы понадобитесь для консультации по техническим вопросам. Знакомьтесь!
– Иван Иванович Келлер! – протянул Сотникову руку главный инженер.
– Петр Михайлович Сотников.
Иван Иванович выслушал гостя.
– Медь – это хорошо! России она нужна. Но считаю абсурдным создавать кустарное предприятие по производству меди. Тем более на краю света, в голой тундре. Где брать древесный и каменный уголь? А у вас тайга начинается за двести верст! А транспортные связи? Енисей – это хорошо! А к горам чем добираться? По бездорожью? На оленях?
Петр Михайлович достал сверток с кусками руд. Иван Иванович надел пенсне и начал кусочки подносить к самому носу.
– Визуально – медная руда. Такая зелень характерна только меди. А это – кусок графита. Это – каменный уголь. Я отдам минералы рудознатцу. Он наверняка определит содержимое ваших залежей, в том числе полезных металлов.
Управляющий вникнул в суть просьб Сотникова:
– Иван Иванович! Я попрошу удовлетворить пытливый ум этого молодого человека, свести с нашими специалистами, показать ему весь процесс добычи меди от рудника и до желобка. А вообще я скажу, господин Сотников, плавить руду кустарным способом – это пшик. Подчеркиваю, не руда, а пшик. Начинать надо с больших изыскательских работ. Знать точно: какие там запасы руды. На сто, на двести или на триста лет? Без царской казны вы не осилите этот вопрос. Нужны громадные субсидии. У меня все.
Он пожал руку Сотникову:
– С Богом, молодой человек, на добрые дела!
Инженер Иван Иванович Келлер, из немцев, очень подвижный и энергичный очкарик. Покой – не его стихия. Он все время куда-то торопился, на ходу давал распоряжения, успевал проверить качество руды и меди, работу подсобных цехов, состояние плотины, подъездных дорог. Петр Михайлович заметил, что он держит в руках все нити завода. Очень у него большое хозяйство!
Он поправил пенсне.
– Господин Сотников! Вы не подготовленный к выполнению данной вам миссии человек. Металлургия – сложная наука, объединяет в себе еще несколько сопутствующих наук. В этом вопросе вам не помогут одни записи. Здесь надо простоять у горячей печи не один месяц. Плавка навыков требует. Я уж не говорю о секретах, которые знает каждый медеплавильщик применимо к этой печи. Такого ни в одной книжке не найдете. Эти секреты передаются только по наследству. Поэтому хороший плавильщик ценнее инженера.
Сотников продолжал писать в тетрадь. И Келлер продолжал:
– Да и в рудах надо знать толк. Рудознатца опытного иметь. Жалованье хорошее посулить. А соорудить печь? Потребны опытные кладчики и кирпич огнестойкий. Простая глина не выдерживает такого ада. Кирпич превращается в песок.
Они шли по территории завода, а Иван Иванович продолжал наставлять:
– И еще, вам будет необходим толковый штейгер, чтобы рудник развернуть в мерзлоте. А вечная мерзлота – не алтайские горы. Там кайлами долго не намашешься. Взрывные работы вести. Штольни долбить. А штейгеры – вторые люди после плавильщиков. У нас рудники за сто верст от завода.
Подошли к плотине. Келлер горделиво указал на водохранилище:
– Длина плотины сорок саженей, высота – пять. Без воды завод завтра бы стал. Это – творение инженерной мысли! Видите, вон, деревянные желоба. По ним вода идет на лопасти и вращает систему колес и приводов для работы мехов. А меха подают воздух в медеплавильные печи.
Петр огорчился в душе, что не в состоянии сразу осмыслить и переварить услышанное на заводе. Требовалось время, чтобы понять всю цепочку медеплавильного цикла. Он с надеждой и восхищением смотрел и слушал Келлера. «Башковитый немец! Таких нам надо людей!»
Однажды в паузе, во время перекура, Петр Михайлович умоляющим тоном попросил:
– Господин Келлер! Не держите в себе, что знаете, – отдайте мне. Я человек понятливый – в долгу не останусь.
Келлер язвительно улыбнулся, выпуская клубы дыма:
– Я и так стараюсь простым языком подать вам истины медеплавильного дела! А у вас купеческая струнка посулы обещать. Мы честно служим России! Я и так помогу чем смогу Все сделаем согласно контракту. Я дам список оборудования, сырья, специалистов, чтобы построить и запустить медеплавильную печь. А мастера, рудознатца, штейгера я вам порекомендую. Завтра съездим на рудники, там кое с кем потолкуем. О жалованье будете говорить сами. Столкуетесь – считайте, повезло. Не каждый согласится ехать, как у вас говорят, к черту на кулички.
– Страхи надуманные. Тех, кто не был в наших краях, пугает неизвестность. Кроме зимы у нас бывает, как и здесь, лето. Вместо снега – зеленая трава и цветы, и ягоды, и грибы. Земля богата птицей и зверем, реки – рыбой. А под слоем мерзлоты есть и медь, и графит, и уголь, и золото. Скоро и Ледовым морем пойдут пароходы.
– Людей убеждайте сами, как сейчас пытались меня убедить. А теперь пойдемте к медеплавильным печам. Вот склад с древесным углем, – показал Иван Иванович рукой налево, – а вот рудный склад. Здесь же, рядом, – меховая, кузница и лесопилка. Это все подсобки. А сердце завода – плавильня! Сейчас вы увидите шесть печей.
В лицо дыхнуло теплом.
– Видите, Петр Михайлович, вокруг зима – здесь тепло. Сюда доходит дыхание печей. Они все под одной крышей.
Петр, входя в плавильню, выделил из общезаводского шума сильный гул вперемешку с уханьем и ощутил ногами тряску земли. Иван Иванович подошел к мастеру и сказал что-то на ухо.
Мастер достал из шкапчика синие очки Петру Михайловичу, а главный инженер посадил свои поверх пенсне. Сотников, по совету главного инженера, подошел к слюдяному глазку печи и заглянул в пламенное чрево. Глянул, откинулся и снова припал. Там колыхалась и скрипела стена светло-розового пламени. «Это не топка парохода. Ту можно назвать огнищем, но здесь – подобие солнца. Даже сквозь очки бесовский огонь глаза режет! – Петр ужаснулся невиданной ранее силе огня. – Это же какой крепости должен быть кирпич, чтобы сдержать внутри бушующее пламя?!»
– Господин главный инженер! – обратился он к Келлеру – Даже страшно стало стоять на этом месте. Кажется, что огненная стихия вот-вот вырвется, хлынет по цехам и весь завод и все вокруг превратит в пепел.
– Не бойтесь, Петр Михайлович! Это – не стихия! В любое время я могу ее укротить. Отключу меха – без воздуха все и загаснет. Инженерия! Силу всему дает человек. Видите трубы от мехов? По ним подается воздух в печи. Я понятно объясняю?
– Понятно, Иван Иванович! Спасибо!
Явился шихмейстер, попросил Келлера и Сотникова отойти.
– Сейчас будет слив. Брызги металла опасны.
Он кивнул мастеру, и тот еще раз посмотрел в слюдяной глазок печи, проверил готовность рабочих и скомандовал:
– Фартухи!
Все нацепили кожаные фартухи, надели рукавицы и большие синие очки. Удар железными жезлами! И вырвалась из печи белоогненная медь. Медная река раскатилась по желобкам, местами пылала, взрывалась искрами, шипела, суша желобки.
Воздух быстро нагревался. Иван Иванович и Петр Михайлович сняли шапки. Пот стекал по лицу.
Рабочие чистили в земляном полу узенькие канавки для растекающегося металла. Печь казалась Петру головой сказочного дракона, а желобки с шевелящимся металлом – его хвостами, которые, остывая, становились красными с черными пятнами примесей.
– Это черновая медь. Там есть сера, железо и другие металлы, – перекрикивал грохот печей Иван Иванович. – Потом мы ее чистим в гармахерских горнах[12]. При чистке теряется пятая часть веса. Горны у нас на правом берегу Белой. После рудника заглянем туда.
– А сколько же человек управляется с этим хозяйством?
– Восемьсот, не считая охраны. Намечаем реконструкцию завода. Будем использовать паровики: и на горнах, и на мехах, и на рудниках. Заказали котлы на Урал. Вам кое-что прояснилось? В заявке учитывайте каждую мелочь: от фартухов и рукавиц до синих очков. Жидкий металл бывает нередко неуправляем.
Они вышли из плавильни. Легкий ветерок приятно освежил разгоряченные лица.
– Теперь вы знаете, как достается России медь. То, что видели, является венцом нашей работы. А ведь сначала надо руду добыть кайлом, киркою или ломом. Погрузить, взвесить, измельчить. Привезти к печи. Сделать шихту и загрузить в печь. Потом поддерживать температуру, необходимую для плавки металла.
Петр Михайлович мотнул головой, как олень от назойливого паута.
– У меня зародилось неверие, удвоился страх. Ни у меня, ни у моего брата, ни у нашего компаньона, мне кажется, не хватит сил и умения освоить Норильские залежи.
– Неверие ваше к месту и ко времени. Нужны спецы на каждый вид работ. Нужен проект печи, расчеты от фундамента до верхнего венца, объем разовой шихты. Но не страшитесь, не боги горшки обжигают. Освоите дело один раз – на всю жизнь останется. Других подходов к плавке пока не существует ни в России, ни в Европе.
Иван Иванович протянул руку Сотникову:
– Ну что, молодой человек, хватит на сегодня. Отдыхайте, дышите свежим воздухом после сероводорода. До завтра!
– Премного благодарен, Иван Иванович! Я за день узнал столько, сколько не смог за двадцать три года жизни.
– Прошу еще раз, не огорчайтесь! Я по металлу, как у вас говорят, дока. А вы мастак в торговом деле. В этой жизни каждому свое!
Келлер надвинул заячью шапку, протер платочком пенсне и поклонился Петру Михайловичу.
Сотников тоже ответил поклоном. Ему не хотелось расставаться с умным, добрым человеком. Однако Петр знал: немцы народ пунктуальный и надо уважать их нравы и обычаи. Так наставлял его Александр Петрович Кытманов. И еще просил: «Мотай на ус все, нужное и ненужное, – потом просеешь. Заноси в тетрадь, что успеешь – сразу, остальное – перед сном. Денег наемным рабочим много не сули. Когда прояснятся все виды и последовательности работ, тогда и станем набирать людей. Заводских будем брать только спецов. Черновую работу сделают тунгусы. Их и кормить дешевле, и платить меньше, и морозы им нипочем».
* * *
Вечером Петр Михайлович приводил в систему записи и впечатления, чтобы не только ему, но и брату, и Кытманову стала понятна суть плавки. Вчитывался, прикидывал в уме, вспоминал и снова вносил важное в наполовину исписанную толстую тетрадь. Тут же, в записях, нашел фамилию своей повалихинской знакомой.
– Чуть не забыл! – возмутился он. – В голове одни штейгеры, шлаки да шихты. А про Авдотью – и не вспомнил.
Несмотря на поздний час, он пошел на трактовую станцию, выяснил, кто из ямщиков уходит завтра на Томск, сел и написал короткое письмо:
«Здравствуйте, моя кормилица Дотюшка! Через три дня буду проездом через вашу станцию. Хочу вас сильно видеть. Целую руки. Петр Сотников».
Он зашел в ямщицкую, наполненную храпом четверых бородатых мужиков. Тянуло табаком и сырой овчиной. На лежанке, на широкой доске, сушились четыре пары валенок.
– Здорово, братцы! – тихонько сказал Сотников. Никто и усом не повел. За храпом ямщики не услышали Сотникова. Тогда он подошел к ближайшим полатям, поднял с пола клочок шерсти и пощекотал ухо спящего. Человек нервно почесался, крутнул головой и захрапел пуще прежнего. Петр Михайлович взял за плечо и потряс, приговаривая:
– Проснись, братец! Пора в дорогу!
Ямщик приподнялся на локтях, посмотрел на своих спящих товарищей и, не глядя на Петра Михайловича, снова рухнул на подушку.
– Не смей спать! Ответь, кто завтра едет в сторону Томска.
Ямщик раскрыл глаза и непонимающе пялился на Сотникова.
– Ты меня слышишь? – переспросил купец. – Кто завтра едет на Томск?
– На Томск?
– Да, на Томск! – повторил с раздражением Сотников.
– Я, а что, полозья лопнули?
– Ты-то мне и нужон! Сделай добро! Доставь депешу по адресу: Повалихино, постоялый двор, Иволгиной Авдотье.
– А вдруг я эту станцию пройду по ходу. Попадется седок спешащий – и гуляй депеша туда-сюда, пока по адресу не дойдет!
– Ну, ты, братец, пройдоха! Вот – полтинник! И смотри: смошенничаешь – из-под снега достану! Понял?
– Понял! Понял! Доставлю в точности адресату. Не впервой. А найти меня по номеру сможете и по маршруту. Что я за полтину мараться буду.
Он взял письмо, сунул за пазуху и откинулся на подушку. Уходя, Петр Михайлович услышал громкий храп своего ямщика.
Два дня Сотников с Иваном Ивановичем ездили по рудникам, смотрели печи по очистке меди, составляли заявку, заключали контракты на поставку необходимого оборудования и нашли толкового штейгера. Он еще не дал согласия на поездку в Дудинское, но как только будет окончательная договоренность между Сотниковым и Кытмановым о строительстве печи, то штейгер Инютин Федор Кузьмич будет к часу по месту требования.
Теперь Петр Михайлович справил все дела на Колывано-Воскресенском заводе и заказал шестерик на Томск. На прощание подарил Ивану Ивановичу шкурку белого песца:
– Вам на память о нашей встрече. Еще называется сей песец полярной собакой. Он и лает по-собачьи. Сшейте себе шапку. Я думаю, это не последняя наша встреча. – И Сотников обнял Келлера.
Утром, не мешкая, Петр вышел из гостиницы и сел в ожидавшую кибитку Шестерка, предчувствуя скорый бег, гарцевала на месте, и ямщик поводья держал натянутыми.
– Садитесь, барин, быстрее, кони замаялись. Потом сдерживать их будет трудно. Дорога ноне скользкая.
И шестерик рванул, оставляя после себя снежный туман.
Через полтора суток Петр Михайлович остановился в Повалихино: сменить лошадей и увидеть Авдотью. Он зашел на постоялый двор. В номерах скучали постояльцы. Слышались детские голоса. Привратницы на привычном месте не оказалось. Из номера вышла немолодая женщина, а за ней два мальчика лет пяти-шести. Они, что называется, путались у нее под ногами, что-то тараторили, перебивали друг друга. Женщина увидела Петра Михайловича. Ей стало неловко за шумливых детей. Она попросила их угомониться, не шуметь и сказала Сотникову:
– Извините! Дети в дороге засиделись, никак не могу успокоить.
– Пожалуйста! Это же детвора. А не скажете, где Авдотья?
– Она в нашем номере кровати расправляет. Хотим немного отдохнуть с дороги.
Женщина приоткрыла дверь и окликнула девушку:
– Авдотья, к вам пришли.
Она вышла в коридор. Белая кофта с кружевным воротником и манжетами были к лицу. Русая коса свисала почти до пояса. Из-под длинной со складками юбки выглядывали носки красных сапожек. «Красивая деваха», – подумал купец и тут же от растерянности выронил:
– Здравствуйте, Авдотья!
– Что-то вы сегодня раньше графика примчали?
– Сюда я прибыл не на тройке, а на шестерке лошадей, да и ямщик пошустрей попался! – Он заулыбался и добавил: – К вам спешил!
– Ну что ж, мне приятно слышать эти слова, даже если они в шутку. А если серьезно, то вас ждет обед в вашем бывшем номере. Все на столе.
А Петру Михайловичу и есть перехотелось! «Как же она похорошела за неделю! Вероятно, красу ее я в прошлый раз и не заметил, потому как Катерина стояла перед глазами. Да она и сейчас стоит, а рядом с ней Авдотья. Только первая в воображении, а вторая – наяву», – восхищался и сомневался купец, глядя на девушку.
Умывался медленно степленной водой. Исподлобья посматривал на дверь в надежде увидеть Авдотью. Но она не заходила, как прежде. Просто, вероятно, не было повода, или поняла неравнодушие к ней Петра и решила выждать. Петр Михайлович недоумевал, отчего у него возникло дурацкое желание видеть эту девушку? Видеть сейчас, когда он моется. Наконец понял:
– Все это вздор! Но как он мог родиться в моей голове? – провел он пальцами по мокрой шевелюре. – Не возомнил ли я, что она влюблена в меня и на все готова? Наверное, в том и есть причина.
Стало стыдно самого себя. Хорошо, что Авдотья не догадывается о его желании. Иначе не могло быть и речи ни о каком обеде.
Он умылся, досуха вытерся, оделся и сел за стол есть. Девушка быстро вытерла брызги на полу и пожелала приятного аппетита.
– Спасибо, Дотенька! Я буду обедать, а вас прошу посидеть рядом. Я сильно соскучился по вас.
Она с неверием глядела на Сотникова.
– Скука, господин Сотников, – слово многоликое. Скучать можно по собаке, по отцу, по матери, по друзьям, по родным местам. По всем, с кем долго и привычно прожили. А ко мне – однажды увиденной – это слово не подходит. Скучают, когда расстаются после длительных встреч! Да и «скучать» – от слова «скука». Кушайте! Я не люблю затасканных слов, особенно когда их говорит мужчина женщине. У меня сразу наступает разочарование.
Авдотья развернулась и ушла. Петр Михайлович хотел возразить, но почувствовал, что такие девушки ему не по зубам, что у него слишком занижены интересы. Для таких девушек одних любезностей мало. Не верят они им.
Петр пообедал. Но так и не нашел, что ответить серьезной и доброй девушке. Рассчитался за услуги. Чуть постоял в нерешительности, взял ее руку и посмотрел в открытые, затянутые грустью глаза.
– Извините, Авдотья, за мое косноязычие. Язык не всегда в ладах с душой. А впрочем, прощайте и не поминайте лихом.
И он поцеловал ей руку.
– С Богом, Петр Михайлович! Будете в наших краях – навещайте!
И повернулась спиной. Сил больше не хватило, чтобы сдерживать слезы.
Вернувшись в Томск, Петр Михайлович подъехал к гостинице, где оставил племянника Дмитрия Сотникова. Тот не ожидал быстрого возвращения дяди из Барнаула и находился под хмелем. В его номере крутился красноносый бородатый лакей, отстоявший ночную смену. Стоял крепкий табачный смрад. Разило пролитым и засохшим вином. Скатерть на столе грязнили красные пятна.
– Почему в номере кавардак? – зыркнул глазами Петр Михайлович на лакея. – Сделать уборку и проветрить! Я за что плачу? За грязь или за номер?
Крепко выпивший коридорный, со слипшейся от вина бородой, часто моргал, пытаясь прикрывать полотенцем облитую вином жилетку. Его покачивало.
– Ты, не понял? – вызверился Петр.
Лакей посматривал на своего собутыльника Дмитрия, как бы ища защиты.
– Что же ты на службе налакался? Не лакей, а лакай!
– Я после. Я ночь отстоял. Купец Димитрий угостил. Ночь кутили.
Петр резко пошел к двери и дернул за колокольчик. В комнату заглянуло трезвое бородатое лицо.
– Быстро умыться! И полотенце. А сейчас убери, чтобы блестело, и выставь соратника пьяного. Со своим сам разберусь!
Остались вдвоем с племянником.
– А это что? – спросил у Дмитрия и показал на заполненный до самой пробки графин.
– Вино! – еле выговорил племянник.
– По роже видно, пьешь уже неделю. Я на перекладных мотаюсь за четыреста верст туда-сюда, а ты гуляешь! Посмотри на себя в дивильце[13]. Тебе ж девятнадцать! Рожа была – кровь с молоком! А сейчас – как туча синяя в августе. Ты что ж себя запустил?
Димка сидел нахохлившись, как полярная сова в ожидании солнца:
– В-вид как в-вид, дядя Петя!
И непонимающе оглядел себя с ног до головы. Но ничего непривычного не заметил или просто не мог. Пожал плечами.
– Не заметил? Глянь на хромачи. Они уже забыли, что такое вакса! Лень сапоги почистить? С лакеем бражничаешь. Сам хуже лакея.
Петр Михайлович покачал головой.
– А воротник? Стоит от пота! Уже шею согнуть не можешь! Придется тебя из приказчиков удалить. Третий год беру тебя на закуп. Оставил одного – сразу съехал. Много пил?
– Не-не. Немного. Все по делу.
– Кто же тебе зерно хорошее предложит, такому замызганному? Ты род наш сотниковский позоришь! У нас с Киприяном дело на первом месте, а остальное – идет мимо. Понадобится – идущее остановим.
Дмитрий сидел потупившись и вдыхал запах собственного пота.
– От тебя разит за версту!
Петр Михайлович дернул за колокольчик.
Показался опухший от ночного сотрапезник.
– Бери Димку и веди в баню. Сгони с него и с себя семь потов, чтоб аж кожа хрустела. Он казак, а не тунгус. Да бороды – и ему, и себе – раскудель, промой хорошенько, а то сбились в клок! И неча на меня кукситься – в запой сами ушли.
После бани Димка появился бодрый и краснощекий, вроде бы и не гулял неделю. Видно, проняло парком каждую косточку до самой грешной души. Побаивался он дядьки. Коль отрезвел, то и спрос строгий Петр Михайлович учинит. Хоть и родня, а служба есть служба. Присел на табуретку подальше от греха, чтоб невзначай дядя не съездил по загривку.
– Гляжу я на твой загул и думаю. По пьяному делу могут такие контракты подсунуть, на каторгу пойдешь! А мужик-то ты вроде толковый. Умное на ходу ловишь. А дурное – само прилипает! Остался без догляду, как дите малое, и пошло-поехало. Дома-то не был в бражничанье замечен. Али скрытный такой?
– Не скрытный, а сдержанный. Я это зелье редко принимаю. Дурмана его боюсь. А в Томске расковался. Он-то мне и вид попортил. Я думал, пока возвернешься, обрету себя.
– Буде оправдываться. Что успел сделать?
– Все отгрузил. Обоз три дня как вышел отсюда. Сахар на подходе. Чай возьму в Енисейске.
– Я понял, сбоев нет? – уточнил Петр Михайлович.
– Почти. Кроме, где поставщики мешкают. Или гужевики артачатся. Не хотят оттуда порожняк гнать.
– А как с ламповым стеклом? Со свечами?
– Пока нет! К воде подвезут. Сразу на баржу.
– Хорошо! Меньше за склады платить. А лампадное масло? Или на рыбьем жире будем Богу молиться? Вонь рыбью разводить.
– Масло припас. Пять бочек на складе. Тут уж ни тебя, Петр Михайлович, ни Бога не прогневил. Одну бочку отцу Даниилу, вторую – в Хатангский приход. Остальные – верующим на продажу.
– В банке был?
– Был! Векселя оплачивают без заминок. Я думаю, пока обойдемся без кредита.
– Без него не обойтись! Один возьмем здесь, в Томске. Тут процент ниже. Второй – в Енисейске. Будем оплачивать Колывано-Воскресенскому заводу, речникам и гужевикам. За соль – должок прошлогодний. Одним словом, тысяч пятнадцать брать надо. Правда, не все деньги поступили от казны за рыбу и пушнину! Но для расчетов наскребем. Не хватит – Кытмановы помогут. У них сейчас свыше двадцати приисков: семнадцать собственных и шесть арендованных. Восемнадцать пудов золота сдали! А сколь себе зажилили – неведомо. Потому за деньгами задержки не будет.
Он укоризненно посмотрел на племяша.
– Ходом дел я доволен. Но предупреждаю: если ты еще раз позволишь меж делами вино жрать – из приказчиков вылетишь! На майну отправлю – лед долбить! Внял?
– Понял, Петр Михайлович! Ты только дяде Киприяну не говори – огорчится!
– Ладно. Завтра я еще раз сверю векселя, а ты закажи двухместную кибитку до Енисейска. Надо с Кытмановым посоветоваться по медеплавильной печи и нам с тобой свои дела завершить.
Выполнив наказы Киприяна, Петр месяцем позже возвратился в Повалихино, заслал сватов к Иволгиным и увез с собой Авдотью по зимнику в Дудинское.
Глава 3
Над Дудинским ни облачка. Солнце, поднимаясь к зениту, осторожно ласкает теплом вечную мерзлоту, желтоватый, обглоданный водой лед в озерах и озерках, слизывает залежавшийся в ложбинах и ущельях снег, тянет к себе налитые темно-зеленым соком листья ивняка, лепестки полярных маков да белых ромашек. И висит над тундрой дрожащее марево.
С острова Кабацкого через Енисей доносится до села разноголосье упивающихся летом птиц. Им здесь приволье, как хозяевам, вернувшимся с далекого юга домой. Енисей будто кто первой льдинкой-паутинкой затянул: на фарватере застывшая водная гладь – ни единой морщинки. Лишь у правого берега рисуют круги на воде верткая сорога, хитрый сиг да ненасытный налим. Они хватают снующих над водой мошек, комаров да жирных оводов. На песчаной косе, усеянной горбатыми валунами, кто-то запасливый уже успел сложить три поленницы, кто-то на вешалах сушит сети, а кто-то смолит лодку, готовясь к рыбалке. У ряжевого причала стоит баржа с мукой и сахаром.
Сегодня в Дудинском праздник. Селяне ждут прихода первого парохода. Киприян Михайлович Сотников вместе с сельским старостой Николаем Яковлевичем Пановым распорядились всем дать отдых, кроме рыбаков-сезонников да засольщиков, разъехавшихся сразу после ледохода по тоням от Дудинского до Бреховских островов. Им нельзя терять ни дня: рыба идет! А к осени пойдут шторма – попробуй поймай! Дудинцам же сегодня – приволье! Купец угощать будет! Недалеко от дома Сотникова, под брезентовым навесом, летняя лавка, а рядом – ведерные самовары, заправленные древесным углем, на длинных столах для чаевников. За ними – лавка питейного дома, с двумя усатыми казаками, сдувающими пылинки с деревянных кружек. Вино в четвертях, квас в бочках обложили привезенным с ложбины льдом, накрыли брезентом, чтобы не грелись на солнце. Медовуха густела в большом чане, рядом со столом. Один из казаков взял два куска льда и опустил в чан. Потом прикрыл его большой деревянной крышкой:
– Пущай будет холодненькой, – подняв с лица накомарник, подмигнул он напарнику, – в такую жару только в Енисее сидеть, а не вино пить.
– Ничего. Жара – жарой, а выпить задарма каждый горазд. Вон мужики уже замаялись от безделья. А так каждый освежился бы кружкой медовухи, гляди и маета прошла.
Люди скучали на берегу, вскидывали глаза в сторону Грибанова мыса в надежде увидеть дымок диковинного парохода. Курили, коротали время за чаем с пряниками да сушками, исподтишка кидали косяка на прикрытое брезентом вино. Мужики, кто побойчее, заговаривали с питейщиками о том о сем, а острый на словцо сезонник Стенька Буторин предупредил:
– Глядите, казаки, чтобы вино не закипело от такой жары. Кто его потом пить будет. Чаем мы уже сыты.
– Чай – не вино. Больше самовара не выпьешь! – ответил один из казаков, Спиридон Лаптуков, отгоняя мух от чашек. – Наше дело казачье. Скажет хозяин наливай – нальем, сколь утроба примет. Я и сам бы с вами медовухи глотнул! Да нельзя! Служба!
– Не боись, служивый. Закончишь государеву – возьму тебя неводить. Мне крепкие мужики нужны. Только уж кружечку подай.
– Не велено, браток, до парохода. Купец запрет наложил, – показал он рукой в сторону дома Сотникова. – А рыбачить я не пойду, – поводил он пальцем перед бородатым лицом рыбака, – я приказчик. Мое дело торговое. Атаман туруханский – мне указ, пока на службе.
– Да где же этот плавучий самовар? – не унимался Стенька Буторин. – Выпить из-за него не позволяют. Я на таком ходил однажды из Минусинска до Енисейска. Дыму много и колесо воду молотит – за две версты слышно. Налей хоть глоток – горло остудить. Я из Опечка, только из лодки выскочил. Мужики отправили. Сказали, может, и нам медовухи привезешь. А тут и себе на глоток не разживешься. Сами, небось, еще в питейном тяпнули.
– Не мели, а то сядешь на мели! – съерничал Спиридон Лаптуков и перевел разговор снова на пароход. – Мне в диковинку эта невидаль. Хочу поглазеть на него трезвым. А уж когда вас всех попотчуем, тогда и мы с Никитой выпьем. И похлопал по плечу своего напарника.
Разговор катился дальше.
Хоть и собрался в селе народ лихой и отчаянный, видавший и кочи, и парусники, и плашкоуты[14], но чтобы идти по Енисею против течения без паруса и весел и без бечевы – такого здесь еще не было. Многие из встречавших и не верили, что такое чудо где-то есть. Пожалуй, кроме енисейских засольщиков да минусинских плотников, никто из дудинцев в глаза не видел колесный пароход. Правда, молва докатилась до села, что енисейский купец Александр Кытманов со товарищи построил на судоверфи три парохода и открыл частное пароходство. И уже между Енисейском и Минусинском возят муку сахар, чай, крупу, картошку для таежных золотых приисков. Теперь торговым людям приходится реже трястись на подводах по Енисейскому тракту, пыль глотать да в оба глядеть, чтобы таежные разбойнички не позарились на их товары. На воде – на волнах – благодать и купцам, и старателям, и охотникам, и мастеровому люду! Кто уходит севернее Енисейска в тайгу, кто пересаживается на подводы и катит по тракту на Ленские прииски, а кто – на Иркутскую ярмарку. Все куда-то спешат. Сезон в разгаре. Большую подмогу оказала пароходная компания енисейцам, хоть и навлекла на себя гнев владельцев гужевого извоза. Дошли слухи о скорой прокладке чугунки, которая соединит чужие земли с Сибирью. Изыскатели чертили на бумаге тонкую линию будущей многоверстной железной дороги… Машина отца и сына Черепановых медленно, но уверенно пыхтела по железным и водным дорогам России.
И решил Кытманов в низовье сходить, воочию убедиться: смогут ли его суда до Гольчихи товары доставлять, а назад везти рыбу да пушнину? А еще хотелось ему увидеть не заходящее летом солнце, белые ночи и, если верить россказням купца Сотникова, залежи каменного угля да медной руды. Если уголь лучше хакасского, то его пароходы будут бункероваться в Дудинском, не буксируя за собой вниз баржу с минеральным топливом для возврата вверх.
Киприян Михайлович в прошлом году на Енисейской ярмарке пошептался с ним о залежах угля и договорился о фрахтовке пароходов для доставки его товаров в низовье. Кытманов на радостях обнял тогда Сотникова и троекратно расцеловал:
– Тебя, дорогой, будто Бог послал мне с доброй вестью. Я вот частное пароходство открыл, а не все докумекал. Уголь хакасский после двух перевалок мельчится, а потом тепло плохо держит. Расходы угля увеличиваются, дров тоже не напасешься, хоть и тайга кругом. Нанимало казенное пароходство изыскателей. Прошли берегом Енисея до самого Туруханска. Ни углинки нигде нет.
Киприян Михайлович смотрел на Кытманова с укоризной.
– Рано радуешься, Александр Петрович! Туда знаешь сколько золотых рубликов надо вложить. У… Уйма! Дешевле три парохода построить. Летом приходи сам. Сгоняем на залежи. На месте все обмозгуем. Я лет десять вожусь с этими залежами. Петр возил камни на Алтай. Там рудознатцы подтвердили: это медная руда. Я с инородцами вскрыл пласт медистого сланца саженей пятьдесят в длину и две сажени в глубину. Пробы возьмем. Пусть еще раз знатоки посмотрят. Надо будет по секрету застолбить эти места да к губернатору прошение подготовить.
– За губернатора не переживай! Я с ним на короткой ноге. Бумаги сделаем без промедления, летом приду сам на «Енисее». Гидрографов по участкам раскину. Пусть фарватер изучат вплоть до Дудинского. Створы поставят, бакены на отмелях. Сейчас уже бакенщиков набираю на службу. Избы им надо будет строить. Казенное пароходство что-то медлит с этим. А мне не хочется суда гробить.
– Приезжай, дорогой Александр Петрович! За честь буду считать. Встретим не хуже, чем губернатора. Ты и Михаила Фомича Кривошапкина возьми с собой. Четыре года как стал начальником Туруханского края, а в наших местах еще не бывал.
– Знаю его. Толковый мужик. Книгу пишет о нашей губернии. Нам бы втроем и посмотреть твой уголек.
Пообедали они тогда у Кытманова славно и расстались до лета.
Потому и ждал Киприян Михайлович пароход с особой надеждой. Кытманов богаче его. Ежегодно на его приисках по правобережью Енисея, от Ангары до устья Подкаменной, старатели добывают до ста пудов золота. Это по шнуровой книге проходит, а сколько оседает в карман самого Кытманова – никто не ведает.
Сотников относился к нему с почтением, но не завидовал. У Александра Петровича золотые прииски да пароходы, а у него рыба да пушнина, да тысячи полуголодных тунгусов, которых он кормит. И он, и Кытманов занимаются каждый своим делом в согласии с умом и способностями. Но и тот и другой все делают во благо людям. По крайней мере, конкурентами они никогда не будут, а вот компаньонами – дело наживное. Ежели с углем не получится, то пароходы фрахтовать Киприян Михайлович будет только у Кытманова, а не у казенного пароходства. Выгода есть выгода. У Александра Петровича дешевле и надежнее, да и расчеты можно вести и рыбой, и пушниной.
Купец, по случаю встречи жданных гостей, надел белую рубаху со стоячим воротником, черный короткий галстук. Примерил фрак, залежавшийся с тех пор, как несколько лет назад был он на балу купеческой гильдии в Енисейске. Фрак стал маловат, и Сотникову казалось возможным встретить Кытманова и Кривошапкина в кафтане. Но заботливая Екатерина быстро вывела из сомнения:
– Киприян Михайлович! Да ты на графа во фраке смахиваешь! Твоя стать и красота не купцу предназначались – графу, – подхваливала она, восхищенно оглядывая с разных сторон. – Появишься на берегу, люди кланяться станут. Фрак тебя красит.
– Мне он кажется кургузым. Ну ладно. Фрак дак фрак! А что стати графской касаемо, то, Катенька, запомни: все мы под Богом ходим. Сегодня – дворянин, завтра – дворник. Разор нагрянет – никакая осанка, никакая красота не спасет! Нищим – гордость не по карману.
– Ну об этом, батюшка, не ко времени. Сегодня праздник, а ты о разоре. Гости поймут, что ты от казаков ушел удачно, к купцам пришел надолго. И шапку ломать перед губернскими людьми не станешь. Сам себе хозяин и голова!
– Ты, Катюша, говоришь, как статский советник. Я думал, ты только кухню знаешь.
– Я конечно, не статский советник, но, по-бабьи, могу кое-чему и надоумить.
– Ладно. Пойду-ка я на крыльцо. Посмотрю на Грибанов мыс. Может, дымок увижу. Где бинокль?
Он вышел на крыльцо и сразу ткнулся головой в висячую тучу зудящих комаров.
– Гнусы уж ждут. Катя, приготовь четыре накомарника. Мне, себе, Кытманову и Кривошапкину. Возьми, которые со шляпами. Справные бери, чтобы комар носу не подточил, – крикнул он, улыбаясь. – А ну-ка, поищи деготь.
Катерина успела обрядиться в цветастую кофту да длинную ситцевую юбку. На зов Киприяна Михайловича шла мягкой торопливой походкой, встряхивая слежавшиеся шляпы.
– Ладно, не тряси. На головах распрямятся, если комары не сомнут.
Киприян Михайлович надел шляпу, откинул сетку с лица и приник к биноклю. Перед глазами проплыл Кабацкий, потом Малый Енисей, потом песчаная коса, и наконец вдали закачался Грибанов мыс. А за мысом, в стеклышках, черный дымок. Купец оторвался от окуляров и смотрел туда же просто так. Под дымком виднелось движущееся светлое пятно палубы парохода. Оно почти сливалось с водой, иногда блистало медью в солнечных лучах.
– Ура! – радостно закричал купец. – Катюша, взгляни! Вон он, мыс обходит.
Он протянул ей бинокль.
– Смотри, вон туда, далеко. Это верст двадцать.
Екатерина неловко припала к окулярам, крутила головой, пытаясь найти в двадцативерстной дали долгожданный пароход.
– Не могу я попасть на этот мыс, – горестно сказала мужу. – Мельтешит вода, а парохода не вижу.
– Да ты сначала так посмотри. Видишь, чуть подается вправо?
– Вижу.
– Это и есть мыс. А правее – черное пятно дыма. Это – пароход. Теперь – в бинокль.
– Вижу, вижу! – обрадовалась Екатерина. – Да, это он. Я такой в Енисейске видела, когда на воду спускали – народу было страсть. Еще Кытманов шампанское разбил. Как ты думаешь, – она опустила бинокль, – сколько тут ходу?
– Пожалуй, по течению часа четыре будет.
– Народ уже замаялся ожидаючи. Комары будто со всей тундры сюда слетелись.
– Иди, Катя, распорядись, пусть приказчики на чай да на баранки не жадничают. Проверь, все ли на столы готово. Надо гостей кормить нашими таймырскими закусками.
И она, по-хозяйски осматривая столы, направилась к приказчикам. Купчиха шла среди гуляющих, то и дело показывая рукой в сторону Грибанова мыса и приговаривая:
– Смотрите-ка, дымок!
Вверх полетели накомарники, послышались крики: «Идет!»
Киприян Михайлович из дому направился к крутой деревянной лестнице, ведущей с высокого угора прямо на песчаную косу, где сидели на пустых бочках около десятка бородатых сезонников, еще не успевших загореть под редким северным солнцем.
– Здорово, мужички! Засиделись без дела да без винца?
– Здорово, хозяин! – дружно ответили лодочники. – Долго ждем. Запал проходит, – как всегда заперечил краснобай Стенька Буторин. – Дрожим, как лошади перед скачками. Хотя бы медовухи дали для успокоения.
– Ты, Степан, не баламуть. Праздник начнем, тогда и гульню разрешу. А сейчас дело надо вершить.
Он окинул стоящие на сухом берегу две четырехвесельные и одну двухвесельную лодки:
– На этих пойдете. Сразу в Малый Енисей, и там ждите пароход. Как приблизится к вам за версту, сразу на весла – и на фарватер. Четырехвесельники по бокам, а двухвесельная – сзади, за кормой. И гребите что есть мочи. Поняли?
Мужики молча кивнули. Лишь неугомонный Стенька Буторин снова спросил:
– Киприян Михайлович! А мы за ним поспеем? Колесо – не чета веслам.
– Успеете. По двести пудов рыбы на веслах выгребаете, а порожняком – и пароход обгоните. Смотри, мужики все крепкие, как дровосеки. Покажите силушку свою нашим гостям, я в накладе не останусь.
Они, зная твердое слово купца, поняли: на празднике их не обойдут, дадут погулеванить от души.
Пароход, приближаясь, увеличивался на глазах. Теперь и стар и млад застыли на высоком берегу, пытаясь разглядеть пыхтящую дымом невидаль. Поравнявшись с Кабацким, он протяжно хрипло загудел. Вспугнутые стаи птиц взлетели над островом и потянулись за протоку в тундру Три лодки устремились наперерез пароходу В накомарниках, обливаясь потом, гребцы, как по команде, дружно опускали и поднимали весла. Их крепкие тела будто слились с лодками. С судна, завидев гребцов, сбавили ход, приветствуя лодочников хриплым гудком. А те, войдя в азарт, быстро достигли стрежня и теперь шли рядом с пароходом, медленно перебирая веслами. На палубе стояли немногочисленные пассажиры. Почти на самом носу, как впередсмотрящий, выделялся мощной фигурой хозяин Александр Петрович Кытманов, рядом – туруханский начальник, щуплый Михаил Фомич Кривошапкин, а позади – осанистый пристав Иван Никитич Зверев да тщедушный уездный благочинный Прокопий Егорович Власьев. Зато на двух идущих на буксире баржах многолюднее.
Ударили колокола Введенской церкви. Над Енисеем поплыл малиновый звон. Звонарь Иван Горкин изредка посматривал на приближающийся пароход и с упоением выдавал такое, будто звенели не семь, а семьдесят колоколов… Важные пассажиры прекратили отмахиваться от надоедливой мошкары, перекрестились, очарованные этой небесной музыкой. Прокопий Егорович подошел к Кривошапкину и зашептал на ухо:
– Звонарь – от Бога! Такого и в Енисейске ой-нет! Эдакущей симфонией даже неверующего зазовет. Божественные звуки! Кажется, само небо посылает их.
Он перекрестился.
Михаил Фомич Кривошапкин под церковный перезвон думал о своем. Врач по профессии, этнограф по призванию, журналист от Бога, попав на государеву службу, он ею тяготился. Уйму времени забирает казенщина, свободной минуты для науки нет. Не раз писал губернатору прошение об отставке. Тот отвечал отказом, ссылался на его богатый служебный опыт и деловитость. Не хочет губернатор понять: душа Михаила Фомича другим наполнена. Край большой, поболе каких-то Германий иль Франций: на тысячи верст вольготно раскинулся с юга на север и с запада на восток. И люди разделены друг от друга сотнями верст, окружает их тайга дремучая или тундра бескрайняя, где человеку проще мамонта вытаявшего найти, чем живого собрата. Царская казна не всегда щедра к таким богом забытым местам. Вот и мучается Михаил Фомич, страдает от бессилия помочь людям. Идя в низовье вместе с приставом, побывал в Плахине, в Сопочке, в Хантайке и в Потаповском. Осмотрел остроги, беседовал с ссыльными и сезонниками. Сокрушает его, что провианта на станки завезли мало, запасы иссякли. Сотня малых купчишек не управляется с завозом товаров на своих лодках – шитиках. Да еще и торгует втридорога через перекупщиков. Если б не братья Сотниковы, Киприян да Петр, то, наверное, тундра опухла б с голоду. Сметливые купцы – вперед глядят! Даже казенные магазины снабжают хлебом. За паводковым льдом первыми идут по Енисею сотниковские баржи, потом парусники да лодки из Минусинска, Енисейска. А товар везут на любой вкус: чай китайский, сахар воронежский, муку томскую, ружья тульские, бисер чешский. А самовары – залюбуешься!
«Надо их надоумить, – соображает туруханский начальник, – фрахтовать суда частной компании дешевле и надежнее. И грузы страхуются».
Его окликнул Александр Петрович:
– Видите, какой дворец стоит?
– Вижу.
– Дом сотниковский. Почти с мой пароход. Я по его заказу рубил в Енисейске, потом приплавил в Дудинское.
– Хорошо смотрится с Енисея. Губернаторский в Красноярске хуже. А этот – что твой царский дворец! – восхитился Кривошапкин.
Кытманов смахнул комара со щеки. Он-то знает этот дом до последнего чулана. Сам в тайге лесины подбирал, помогал Киприяну Михайловичу чертежи готовить, чтоб все в доме к месту, под рукой. Лучшие енисейские плотники да краснодеревщики приложили умение!
Крыльцо тесовое с четырьмя резными колоннами, а над ними мезонин для сушки собольих и песцовых шкурок. Шесть окон смотрят на Енисей, играют лучами незаходящего солнца, вызывая резь в глазах у пассажиров идущего к причалу парохода.
Крыша на городской манер крыта железом с низким вальцом, чтобы снег не задерживался. А под крышей, кроме мезонина, четыре комнаты, зала, кухня, два чулана, лавка да баня. В левой части живет Киприян Михайлович, в правой – брат Петр. Три печки-каменки обогревают дом в зимнюю стужу, а по весне – и двух хватает.
– Он в Енисейске еще дом строит. В семье ждут прибавку. Может, видели, там, на взгорье, у женского монастыря дом рубят. Это Киприяна Михайловича.
Колокола стихли, и снова гудок сообщил о подходе парохода. Засуетилась команда. Пассажиров попросили уйти с носа, чтобы не мешать при швартовке.
Пароход частил гудками, медленно подкрадывался боком к барже, потеснил ее и замер у мертвяка[15]. Матрос проворно спрыгнул с судна на баржу и, перебежав на берег, остановился у кнехта.
– Завести швартовы! – скомандовал в рупор капитан. И с парохода, по-цирковому ловко, прямо в руки матросу бросили чал. Матрос обвил вросшую в вечную мерзлоту стойку и стал выбирать канат на себя.
– Отдать кормовой!
До встречающих донесся скрежет лебедки, лязг бегущей по желобу цепи и всплеск воды от ухнувшего в воду якоря.
Первым, как и полагалось, сошел Кривошапкин, низко поклонился встречающим, трижды облобызал Киприяна Михайловича, поднял вверх сложенные ладони:
– Здравствуйте, люди добрые!
Вынырнувшие из толпы дети почтовика Герасимова подбежали к Михаилу Фомичу и протянули букет. Тот присел, расцеловал сначала девочку, потом мальчика:
– Спасибо, малявки! – Достал из кармана разноцветные карамельки: – Вот вам гостинец! А зовут-то вас как?
Дети энергично отмахивались от комаров веточками ивняка и вдруг застыли при виде карамелек, застеснялись, опустили головы.
– Ну, что же вы такие несмелые? Как вас величают?
Из толпы неслось:
– Говорите! Говорите! Будьте посмелей!
Услышав поддержку, мальчик, стоявший ближе к Кривошапкину, прошептал:
– Ее зовут Маша, меня – Миша.
– Молодцы! Цветы-то сами рвали при таком комаре?
– Сами, сами! У нас они рядом с почтой растут, – дуэтом выпалили осмелевшие дети.
Все снова смотрели на сходни, по которым спускался Александр Петрович. Они скрипели, прогибались под восьмипудовой тушей золотопромышленника и судовладельца. Он медленно переставлял ноги, успевая разглядывать стоявших на берегу. По лицам пытался понять, как восприняли приход первого парохода. Знают ли они, кто построил его да в какую копеечку он обошелся для Кытманова? На лицах и восхищение, и любопытство, и недоумение, но только не вопрос о затратах. Людей с пустыми мошнами такие мысли вряд ли посещают. Пожалуй, лишь Киприян Михайлович мог прикинуть, сколько ушло золотых на эту невидаль.
Александр Петрович Кытманов весь путь от Енисейска до Дудинского только и думал: как лет через пять – десять, его мощные пароходы вытеснят с Енисея парусники и шитики и станут ходить сначала до Гольчихи, а потом, кроша льды, и до самого Петербурга. Он уже прикинул, где надобно строить добротные пристани и деревянные причалы, сколько придется установить створов и бакенов, сколько обслуги содержать. Думал обо всем, стоя на палубе и отдыхая в каюте. Даже во время обильных обедов и ужинов. Хватит у него ума, и таланта, и денег! Вот найти бы да достать уголек в тундре! И тогда никто и ничто не истребит его желание разбудить этот дикий край гудками красавцев пароходов.
Кытманов остановился на последней ступеньке, будто выбирал в толпе, кого первого обнять. Но, ступив на землю, сам попал в объятия Киприяна Михайловича. Его темный однобортный пиджак, белая манишка и узкие с манжетами брюки почти слились с фраком купца. И только дугой свисающая золотая цепочка от часов то сияла позолотой на солнце, то исчезала, зажатая телами двух мужчин.
Киприян Михайлович ощутил какую-то невообразимую мощь, идущую от енисейца, уловил густой запах цветущих роз.
– Рад видеть тебя, Александр Петрович, на нашей холодной земле!
– Спасибо! Только не холодная! Жара хуже, чем в Енисейске, – рассмеялся судовладелец. – Смотри, вон у господина Кривошапкина недавно сорванные ромашки успели пожухнуть.
– Ничего, Александр Петрович, будем нюхать духи твои «Чио-Чио-сан». – ответил туруханский начальник. – Китайские розы нонче в моде.
– Ну, как дошли? – вклинился Сотников.
– С Божьей помощью. С такой посадкой, как у «Енисея», шли осторожко. Двести ходовых часов. Правда, напоролись на мель в Курейке. Но, слава богу, выбрались. Надо гидрографам промеры в сомнительных местах делать. Много отмелей на реке.
Разговор прервал залп из ружей со стороны дома Сотникова. Все повернулись на облако дыма, закрывшее часть купеческого дворца, будто там занялся пожар. Киприян Михайлович сквозь пелену увидел стрелявших и подмигнул Кривошапкину и Кытманову:
– Прошу прощения, господа, пушек не держим, а из ружей пострелять мы горазды. Охотники все же.
– Я тебе, Киприян Михайлович, отолью и подарю пушку сигнальную. Будешь выстрелами каждый мой пароход встречать, – фамильярно похлопал Кытманов его по плечу. – Я ведь открыл эпоху пароходства на нижнем Енисее. А там, глядишь, и море Ледовое покорим. Свяжем водой Енисейск с Петербургом и Владивостоком. И пойдет лес сибирский во все концы света на пароходах Александра Петровича Кытманова и его компаньонов. Жить хочется для такого будущего.
Жители села потихоньку теряли интерес к приехавшим: вроде люди как люди, только свеженькие. А вот пароход!.. Он удивлял величиной, дымящей трубой и чумазыми кочегарами, появлявшимися на вымытой до блеска палубе. Матрос, пришвартовавший судно, осторонь объяснял мужикам, чем пароход отличается от парусника.
– Видите, вона, слева, колесо! Там плицы воду гребут под себя, и пароход плывет. Слышали, когда подходили: «Шлеп! Шлеп!»
– А колесо-то отчего вращается? – спросил приказчик Дмитрий Сотников.
– Внизу, в трюме, паровая машина с огромной топкой. Она жрет уйму дров и угля. Вода кипит, переходит в пар, а пар под давлением через поршни вращает колесо. Тяжельше всех кочегарам! Всю смену с лопатой! А жара от топки, как в пекле.
– Да, несладкая эта пароходина, а с виду красивая, будто игрушечка, – не унимался все тот же Дмитрий.
– Сладкая-несладкая, паруснику – не чета! И скорость, и груза берет в два-три раза поболе, – защищался матрос. – Хотя взаместь весел – лопата.
Последними покинули пароход пристав Иван Никитич Зверев и благочинный Прокопий Егорович Власьев. Отец Даниил облобызался с Власьевым, а Зверев прижался щекой к руке священника.
Сотников жестом пригласил гостей к лестнице, ведущей на усыпанный ромашками угор, и первым взошел на ступеньки. За ним кучно двинулись Кривошапкин, Кытманов, Зверев и благочинный с отцом Даниилом. Вездесущие ребятишки, предвкушая чаепитие со сладкими пряниками и баранками, прытко рванули прямо по косогору рядом с лестницей, торопились занять места за столами с яствами. Проворные Сотниковы приказчики с казаками из питейного дома успели накрыть длинные столы полотняными скатертями, расставили деревянные расписные миски и чашки, разложили ароматные рыбные закуски, румяные хлебные караваи, лоснящиеся на солнце тушки копченых гусей. Три девицы разделывали свежую рыбу и бросали в большие котлы с кипящей водой. Дым от костров тянулся вверх, изгибался змеей и плыл к Енисею, захватывая с собой стаи задыхающегося комара. Когда гости отдышались после подъема, а селяне заняли места у столов, из дома вышла Катерина, грациозно неся пышный каравай с посаженной на нем хрустальной солонкой. Остановилась, низко поклонилась гостям и подала хлеб-соль Кривошапкину:
– Милости просим, гости высокие, к столу нашему.
Михаил Фомич в ответ поклонился, поцеловал молодку в щеку, бережно отломил кусочек хлеба, макнул в соль и положил в рот. Александр Петрович с интересом разглядывал каравай:
– Такой красивый хлеб и ломать жалко!
На румяной корке каравая изваяны пароход и надпись: «Милости просим в Дудинское».
– Надо же, целая картина из теста. Кто ж у вас мастак такой?
Екатерина зарделась. Тут нашелся Киприян Михайлович.
– Как кто? Катюша! Она на все руки. Да вы попробуйте, каков хлебец на вкус. Тогда и восхищайтесь! – засмеялся Сотников.
– Жаль портить такую красоту, а надо – для полной оценки, – сказал судовладелец, отправил в рот ломтик каравая и передал хлеб дальше. Ощипанная коврига пошла по кругу, уменьшаясь в весе, и вскоре осталась одна солонка. Когда и гости, и хозяева, кому досталось, насладились вкусным хлебом, Михаил Фомич строго посмотрел на перешептывающихся, требуя тишины:
– Уважаемые граждане! Сегодня мы являемся свидетелями исторического события! Впервые за полярный круг прибыл пароход – чудо мореплавания. Он доставил сюда пассажиров, почту, товары. Этот пароход построил на средства своей компании Александр Петрович Кытманов, а привел сюда капитан Николай Григорьевич Бахметьев. Рейс был не из легких. Но мы убедились, мощные пароходы смогут ходить на Север. Пройдет немного лет, и таймырская тундра наполнится гудками судов, спешащих до Гольчихи или до самого Санкт-Петербурга. Оживут енисейские берега новыми селами и городами, заводами и фабриками. И будет наша губерния жить и процветать во благо России.
В воздух полетели накомарники, послышались крики «Ура!».
– А теперь, дорогие гости и хозяева, прошу всех к столу, – жестом пригласил Киприян Михайлович.
Народ застучал о стол мисками и чашками, требуя долгожданного угощения.
Катюша окликнула приказчиков:
– Ну-ка, братцы, шевелитесь! Уха поспела, пора подавать.
Казаки с мутными четвертями проворно двигались вдоль столов. Кривошапкин, выждав, когда миски задымили ухой, а медовуха запенилась в кружках, крикнул во всю мощь:
– Господа! Тост за государя и его семью!
Михаил Фомич понимал, что это дежурная, приевшаяся, но самая короткая здравица. Его должность начальника Туруханского края требовала подобных слов, хотя они не вызывали у людей восторга. Но они выпили, правда, каждый за свое. Кытманов и стоящий рядом пристав Зверев равнодушно обмахивались платочками от комаров, не реагируя на тост.
– Господа! Комар комаром, а за государя выпить след! – укорил их Кривошапкин.
Киприян Михайлович отпил несколько глотков и искал глазами Катерину:
– Ах, вон она где! Пригубила квасу, а скривилась, точно вина хлебнула, – засмеялся он.
Сотников намекнул ей взглядом и жестами, что надо сделать.
Через несколько минут Катерина возвратилась с двумя накомарниками. Один Сотников протянул Кривошапкину, второй – Кытманову.
– Надевайте, господа, пока лица не опухли от комара. А вы, господин Зверев, простите. Вам не предусмотрели. Ну, завтра что-нибудь придумаем. Хотите, возьмите мой. – И он снял свой накомарник.
Лицо Зверева лоснилось на солнце, будто он потел сильнее других. Комары тыкались в него и отлетали.
– Благодарю! Не надо! Мне гувернантка Мария Николаевна, добрая душа, прислала с чадом отца Даниила деготь. Будто в прохладу окунулся. Теперь терпимо. Хоть в рот не лезут.
Подошел капитан «Енисея». Статный, в белоснежном, военного покроя кителе с блестящими пуговицами, на поясе в золоченых ножнах кортик, полученный им за храбрость в Крымской кампании. Он казался человеком необычайной силы и мощи. Остальные, пожалуй кроме Кытманова, выглядели карликами рядом с великаном. Даже Киприян Михайлович казался худым и нескладным.
Он на правах хозяина посадил Бахметьева за стол:
– Ну, Николай Григорьевич, за ваш приход. За пароходного Колумба Таймыра!
К капитану потянулись руки с кружками. Сотников спросил:
– А ваши матросики могут принять винца за удачный рейс?
Капитан вытер платочком усы, спрятал за борт кителя и, чуть подумав, ответил:
– Пожалуй, могут свободные от вахты. У нас машина работает круглосуточно. Я распоряжусь.
Он поманил пальцем своего помощника.
Несмотря на утомительную жару и комарье, селяне веселились до позднего вечера. Люди потеряли счет времени, убаюканные хмельным застольем. Кого вино успело свалить, просыпались, медленно сползали с угора к воде и плюхались в прохладный Енисей. Потом сушились у костров и снова потчевались хмелем.
Стенька Буторин, уже проспавшийся, но внове хмельной, рассказывал матросам, как ходил на пароходе:
– На паруснике спокойней и надежней. Главное, рыбу не пугает. А ваш паровик – как кузнец молотом по наковальне. Стук – грюк. Весь зверь в округе разбегается, не то что рыба. А дыму! Будто тайга горит.
– Рыба и зверь привыкнут. Человек тем более. Я под стук паровика крепко сплю. Зато в кубрике тепло. И электричество скоро будет, – парировал матрос. – Это не парусник.
– Как ты говоришь? Э-э-элтричество. Что за штуковина?
– Деревня ты, мужик. Это когда замест свечей лампочки стеклянные горять. Понял? Не керосинки. Ни дыму тебе, ни воску. А светло как днем!
– Ты уж, матросик, не заливай! Мы тож не лаптем щи хлебаем-то. Кой-чего в жизни повидали. Но элтричества твоего не знаю! Давай-ка лучше еще тяпнем. Может, и вправду в глазах посветлеет.
Стенька осоловелыми глазами уставился в стоявшего на разливе казака:
– Эй, служивый, освежи-ка души нам с матросиком. Чтоб комар подох.
Они чокнулись, залпом выпили, закусили копченым гусем. Беседа потекла доверительней.
– Ты-то кем ходишь? Штурвальный, что ли, аль шкипер? – Стенька просто не знал флотских званий. – Я на лодке веслами гребу заместь колеса. И руль у меня на веслах. Чуть потабаню – и лодка развернулась. Один и гребу, и рулю. А ты какое дело правишь?
Парень показал руки с забитыми углем ногтями. Вздувшиеся по тыльным сторонам рук вены светились сквозь кожу синевой. Стенька от удивления погладил ладонью бороду и непонимающе уставился на матроса:
– Что-то я, малый, не разумею. Ну, руки как руки, будто на веслах долго сидел. Ладони вздутые. А ногти? Чернее земли!
– Кочегар я. Слышал о таком? С топкой управляюсь. С лопатой. А топка – сердце парохода.
Матрос похлопал себя ладонью по левой стороне груди.
– Котел погаснет, и махина становится корытом. Разве что по течению ее может нести.
Рыбак сконфуженно смотрел на матроса стекленелыми глазами и виновато моргал, будто просил прощения:
– Ты уж прости, браток, не разглядел, что ты сердце. Я думал, ты только швабру в руках держишь до мозолей да швартовы отдаешь. Недотепа я в этих делах. Давай еще по кружечке.
На другом конце длинного стола восседала приехавшая и местная знать. Кроме пристава Зверева, никто не увлекался вином. Не доверяли друг другу. После медовухи пили чай маленькими глотками, курили трубки, беседовали о назревших делах.
– Надо, Михаил Фомич, подумать о фельдшере. Тундра на тысячи верст, и нет лекаря. Шаманы еще кое-как лечат тунгусов, а пришлые люди – кто во что горазд. Мрут от пустячных хворей. А моровая язва приключится! Тогда – конец! Особенно страдают крестьяне низовского и затундринского обществ. Надо губернию тревожить, – настаивал Сотников.
– Писал, не раз! Сам трижды был у губернатора. Сетует, денег нет. Казна пуста. Я по школе вопрос ставил. Жди, говорит, лучших времен. А фельдшера вам не положено.
Киприян Михайлович почесал за ухом прямо через накомарник:
– Когда ж эти лучшие времена настанут? Может, вообще оставить этот кусок Русской земли, которую мы, казаки, по крупицам собирали до кучи, чтобы цвела империя под двуглавым орлом? Как думаете, Михаил Фомич?
– Оставлять ни в коем разе нельзя, Киприян Михайлович! Только оставим, тут сразу англичане будут. Они еще в далекие времена в Мангазею хаживали за пушниной. Хорошо, что царским указом наложили запрет для иноземцев. А то бы и нас достали.
Александр Петрович по-прежнему сидел в раздумье, но после слова «англичане» встрепенулся, выпрямил мощную спину и постучал слегка кулаками по столу. Посуда задрожала, заколебалась налитая в чашки медовуха.
– Если они пронюхают про уголь и медь, сразу полезут через льды. У них пароходы мощные. Начнут заключать концессии. Но пока жив Кытманов, ноги их тут не будет. Мы сами с усами.
Он улыбнулся, расстегнул пиджак, расправил плечи и добавил, глядя в глаза Сотникову:
– Если мы с тобой об угольке дотолкуемся, тогда и школа, и фельдшер – все будет! Дудинское городом станет! Енисейск затмит. Пристань соорудим и для пассажирских, и для грузовых судов. Тут и отстой, я смотрю, хороший будет у Кабацкого. Верно, Николай Григорьевич? – обратился к капитану.
– Да! У Кабацкого всегда затишье, когда на фарватере беляки гуляют. Остров волну гасит.
Благочинный Власьев вслушивался в разговор и норовил вставить слово.
– Священник тоже нужен разъездной для отправленья богоугодных дел и пришлым, и тунгусам.
– Тут, я думаю, церковь найдет деньги для духовника, – поддержал Сотников. – Так что, Прокопий Егорович, ищите деньги на сруб, на жалованье да и самого священника. Нужен крепкий боголюб, как отец Даниил, чтоб не сбежал от холода. И оленей ездовых следует церкви держать.
Кытманов больше не участвовал в разговоре. Его мысли были где-то далеко, в не знакомых ему Норильских горах. Ради этого он, человек дела, и приехал на Таймыр. Его мало интересовали проблемы, о которых говорили. Он в воображении рисовал свое видение развития этого края, где нашлось место и школе, и больнице, и пароходам, и заводам, и фабрикам. Он знал: только разработка угля и медной руды привлечет субсидии правительства. Но коль дело дорогое, то правительство может дать добро на ближайшие сорок девять лет частным компаниям, чтобы те сделали всю «черновую работу» от изысканий до строительства заводов, а после окончания договорного срока прибрать запасы к государевым рукам, как поступили с Демидовым на Урале, на Алтае. А надеяться, как наивный Кривошапкин, на казну – не надо. Крымская война вытянула последние копейки.
Крепостное право отменили. Тысячи крестьян заполонили города. Ищут работу. Иноземцы, как пишут газеты, строят заводы и шахты в Донбассе, на Урале. Капиталы вкладывают. Прогореть не боятся. Видят, как капитализм на паровых машинах едет по России. Вот и он, Кытманов, одним из первых в Енисейской губернии уловил стук английского паровика. Хотел пригласить англичан строить пароходы. Да повезло, встретил русского умельца Худякова. Паровую машину в шестьдесят лошадиных сил купил в Перми на заводе Гуллита.
Он себе цену знает. Ругает нередко себя за промашки, а Россию за тугодумство. Англия и Америка уже наводнили океаны своими пароходами. Бункеруются суда то на островах, где угля вдоволь, то на углематках, стоящих по маршруту пароходов. А мы только реки осваиваем. Да и паровики из-за границы возим, хотя отец и сын Черепановы первыми паровоз изобрели. Стыдно бывает за матушку-Русь.
Так думал золотопромышленник и судовладелец и не вмешивался в разговор туруханского начальника с Сотниковым.
Солнце уходило к горизонту. От дома Сотникова удлинялась долгожданная тень, и ее темного покрывала хватало, чтобы прохладой хоть чуть-чуть ублажить гостей за столом.
– Слава богу, тенек навис, а то и квас холодный не помогает, – вышел из раздумья Кытманов, вытирая усы от напитка.
– Потерпи, Александр Петрович! Скоро банька поспеет. Еще раз пот сгоним. Видишь, дымок пошел из каменки, – показал рукой Сотников на шлейф сизоватого дыма над крышей.
А народ гулял. Слышались песни, звуки жалеек, удары бубнов с колокольчиками. У самой воды, на толстом чурбане плотники боролись на руках с матросами. Рядом стояли четверти с вином и ведро с квасом. Победителя потчевали хмелем, побежденного – квасом. Два матроса сняли с судна фисгармонию, поставили на песчаной косе, и над рекой поплыла песня о Ермаке. Пели так слаженно на два голоса, что регент церковного хора Иван Пантелеевич Хворов вздохнул, заслышав песню.
– Мне бы эти голоса в хор – вся тундра бы заслушалась.
– Ты, Иван Пантелеевич, среди моих приказчиков поищи. Может, и найдешь голосистых. Приобщи их к Богу. Воровать меньше станут, да и тебе прок! – посоветовал Киприян Михайлович. – Пусть славят Бога хоть песней, коль делами не могут.
Пристав спросил разрешения у Кривошапкина и расстегнул ворот кителя. На вздувшейся шее осталась красная широкая полоса.
Было по-прежнему безветренно. Обслуга суетливо носила в деревянных ведрах воду из реки, доливала в кипящие расписные самовары и небольшими металлическими крючьями шевелила тлеющие угли через спрятанные под днищем колосники.
На пароходе зажгли сигнальные огни. Палубные вахтенные, развернув удочки, ловили сорогу, чумазые кочегары в машинном отделении пили из ведра холодный дудинский квас, охлажденный в енисейской воде.
Слышалось шипение пара, бульканье кипящей воды и поскрипывание тяжеленной баржи. Светлый день над селом переходил в светлую ночь. А на берегу продолжал гулеванить веселящийся народ.
Глава 4
Через два дня после прихода парохода в селе появился Мотюмяку Хвостов. Нганасанин смешанной крови, пригнавший, согласно уговору с Сотниковым, стадо ездовых оленей. Небольшого роста, кряжистый, с жиденькой бороденкой в три волоска, подвижный и вечно спешащий. Откинув накомарник с лица, он смело постучал в дом Сотниковых, не боясь нарушить сон гостей. Ждал хозяина, переминался с ноги на ногу, посматривал на Енисей, небрежно отмахивался от комаров и успевал гладить огромного хозяйского Полкана, с любопытством заглядывающего ему в глаза. Послышался скрип половиц, лязг запора, и в проеме появился Киприян Михайлович. Он заспанно глянул на Хвостова и протянул руку:
– Прибыл?
– Вчера вечером. Двадцать олешек пригнал, как говорили. Крепких быков отобрал. У Верхнего озера пасутся. Иряки[16], сбруя, хореи[17] в лабазе. Сегодня готовить буду с Тубяку. Сколько санок возьмешь?
– Четыре. И одну в запас. Выбирай попрочней. Кытманов – пудов восемь. Олешки падать будут.
– Менять будем. Дорога короткая. Выдюжат.
Он говорил быстро, зная ответы на все вопросы, какие задавал Сотников. Чувствовалось, для него поездка в долину реки Норильской обычная и больше напоминает аргиш к соседям в гости.
– Не тревожься, Киприян Михайлович, все будет хорошо. Хвостов плохо не делает. Добежим дня за три, если реки не помешают. Я много ходил в ту сторону.
Он нетерпеливо почесал темечко.
– Ладно, я побег. Утром буду у крыльца с упряжками.
И закачался на носках, готовый сорваться с места.
– Постой, Митрий, – по-русски назвал его Сотников, – пойдем, хоть чайку попьешь с устатку.
– Некогда, Михалыч, дел – во! – провел он указательным пальцем у горла. – Присяду – лень по костям пойдет, в сон потянет. А хожу – ее будто с меня ветер сдувает. Завтра попью. А сейчас к реке спущусь, пароход посмотрю.
– Да он не уходит, будет ждать. Вернемся с гор, и посмотришь.
– Нет-нет. Сегодня сбегаю. Душу надо насытить, как говорил мой духовник отец Евфимий, а не чрево.
И он быстро зашагал к лестнице.
– Ну, неугомонный, ну, непоседа! Двое суток гнал оленей по тундре – и явился свежий, как каравай только испеченный, – восхитился купец выносливым нганасанином.
Мотюмяку из авамской тундры. Еще мальчонкой, попавший бог весть какими путями в Хатангский приход, обучился грамоте, освоил русский язык с помощью священника Евфимия. Казалось, навсегда связал свою судьбу с церковью. Был истопником, звонарем и пастухом церковного оленьего стада. Отец Евфимий после перевода в Туруханский монастырь хотел взять с собой и Мотюмяку. Но тот влюбился в красавицу Варвару Порбину, пал на колени перед настоятелем и просил не брать его в Туруханск. Жаль отцу Евфимию бросать выпестованного им тунгуса, крещеного и приобщенного к православной вере. Но проявлять духовное насилие к ослушнику не стал. Он поднял с колен Мотюмяку и сказал:
– Мне тяжело расставаться с тобой, сын мой. Но твоя страсть может перейти в греховность, если я тебя буду сдерживать. Благословляю твою любовь. Верю, ты никогда не предашь православие.
Он обнял его, поцеловал в лоб, и Мотюмяку увидел плачущего священника.
Приехавший вскоре в Хатангское урядник Киприян Сотников познакомился с Мотюмяку и удивился его знанию языков тунгусских родов. Он привез его вместе с Варварой в Дудинское, поселил в балок[18] и стал брать толмачом в торговых делах с тунгусами. Мотюмяку быстро понял, что надо расхвалить товар, чтобы выгоднее продать. А коль выгода будет купцу, то и толмач внакладе не останется. Вскоре он освоил зимники от Гольчихи до Хантайки, от Дудинского до Хатанги. Года через четыре сметливый нганасанин построил дом в Дудинском и приобрел стадо ездовых оленей в полторы тысячи голов да взял два десятка сородичей пастухами. Часть небольших стад паслось зимой у станков, лежащих вдоль зимника Дудинское – Хатангское, где с декабря по апрель шла бойкая торговля, завоз товаров и почтовая гоньба[19]. Оленей меняли на каждом станке. А ночевали путники через два перегона, в заезжих избах да балаганах. В ночлежках стояли деревянные полати[20] из лиственницы для роздыха седоков, покрытые оленьими шкурами, заправленными пуховыми одеялами и подушками. Благо, за лето отстреливали столько гусей, что пуха хватало даже на спальные мешки, в каких пришлые люди спали в дороге. Тунгусы же, нередко даже в крепкие морозы, отдыхали прямо на нартах в оленьих парках и сокуях.
Летом пастухи Хвостова готовили оленью упряжь, чинили нарты, утепляли избы да лабазы. А олени нагуливали жир на сочных, обдуваемых ветром лугах. Основное стадо уходило к морю, а в октябре, когда реки и озера покрывались льдом, возвращалось к озеру Пясино и ждало прочного зимника для аргиша.
Мотюмяку живет в Дудинском с Варварой и двумя пухлощекими сыновьями: Хоняку и Дельсюмяку. Старший, Хоняку, на отца смахивает: нос прямой, скулы глаза держат, чувствуется – в рост не пойдет, больно ноги при ходьбе широко расставляет. Но, видать, суетливым, как отец, не будет. А Дельсюмяку – мать своей красотой наградила. Волосы черные, густые, брови, как крылья гагары, с изломом, щеки круглые скулы спрятали. И все в меру: глаза, нос, губы.
В батраках держат якута Романа, крепкого жилистого человека. Он и плотник, и рыбак, и истопник, и сторож. Крутится вокруг балка день и ночь и зимой и летом. Работы всегда хватает, если ее видеть. А он видит, не ждет, пока Варвара пальцем укажет. Сам хозяйке подсказывает, что необходимо сделать.
В селе Хвостов бывает редко. Пока объедет владения, гляди, уже и зима хвост поджала от ясного дня да жаркого солнца. Есть у него передышка разве что весной да перед осенней распутицей. Вот тут он с Романом и рыбачит, и избу утепляет, и с сыновьями возится. А бывает, и среди лета появится какой-нибудь странствователь и просит Хвостова тундру показать, увезти за сотни верст к каким-нибудь озерам или рекам. Отнекивается Мотюмяку, больно по семье соскучился. Варвара хмурится, грустно смотрит на мужа:
– И наглядеться на тебя не успела – опять в тундру. Мальцы так и тебя забудут, Мотя.
Он виновато глядит на жену, оправдывается:
– Ты уж прости, Варя, но люди просят. А Бог велит помогать. Я ненадолго. Недельки три – и снова дома. Дети вырастут, научу их своему ремеслу проводника. В тундре он всегда нужен.
Варвара знает, пришлые в тундру без Хвостова не суются. Потеряться – не за понюх табаку! А с Мотюмяку – полная надежа! Знает, когда тундра человеку под ноги ложится! Приметы особые в уме держит, когда аргишит! Каждая сопка, каждое озерко, каждый ивняк свой лик имеет, на людской похожий. А лица людей и все, что посадил Бог в тундре, Хвостов помнит всю жизнь. И достает, при надобности, их из памяти одно за одним, сверяет с дорогой и в полярную темень, и в светлую пору. Ему доставляет радость показывать странствователям родную землю. Он знает, его земли всем хватит.
Вот и завтра аргиш с бывшим хозяином, а теперь компаньоном Киприяном Михайловичем Сотниковым.
Крепко позавтракав, Киприян Михайлович с Александром Петровичем собирались в дорогу, ходили на цыпочках, чтобы не разбудить Кривошапкина, которого решили не брать на залежи.
– Лучше пароходом сходите по рыбакам. Посмотрите, как живут крестьяне низовского общества, – намедни посоветовал ему Сотников, – пока мы сбегаем к горам.
– И то правда, – согласился Михаил Фомич. – Но проводить-то я вас – провожу.
На том и порешили. Екатерина укладывала в большой кожаный мешок ковриги хлеба, рыбные котлеты, вяленую осетрину, копченые гусиные окорочка, пачки чая, сахара и галеты.
На крыльце стоял бочонок с питьевой водой, а рядом – баночка с дегтем.
Несмотря на жару, одевались потеплее. Кытманов с трудом пытался натянуть бродни. Кожа скрипела, казалось, вот-вот лопнет от его усилий.
Киприян Михайлович хотел помочь, но когда поднял один сапог подошвой вверх, то запричитал:
– Александр Петрович, это на младенца. Ноги сразу отекут. Ходить не будешь. В тундре это беда. Возьми сорок пятый. С пимами будет хорошо.
Катерина вынесла из чулана бродни, похожие на ботфорты.
– Вот, Александр Петрович! Больших нет. В них Енисей можно перейти. Почти в мой рост. Примеряйте.
Кытманов, мокрый от натуги, с радостью сказал:
– Спасибо, Катенька! Проверю твои бродни. Авось, сухим с гор вернусь.
Киприян Михайлович вынес четыре свернутых и связанных белыми веревками спальных мешка, потом два ружья, два патронташа, четыре накомарника.
– В тундру едешь на день – берешь припасы на неделю. Едешь на неделю – припасы на месяц. Тундра – не всегда понятная бывает! – как бы оправдывался Сотников. – В июле у нас может и снежок сыпануть, и дождь брызнуть. И зима, и лето вместе.
– А что, на нартах поедем по земле?
– Не по воде же. Хотя тундра летом – почти болото сплошное. Тунгусы ведь зимой и летом на оленьих упряжках аргишат. Со всем скарбом. На сотни верст. И стада перегоняют. Сейчас низовские ушли к Карскому морю, а затундринские – к Лаптевым. У моря гнуса и комара почти нет. Прохлада от воды.
К дому подъехал на первой нарте Хвостов, остальные четыре шли цугом. На последней – пастух Тубяку.
– По четыре олешка хватит. Поклажа небольшая, – подошел Мотюмяку к Сотникову.
– Знакомьтесь, Александр Петрович! Это проводник Хвостов, владелец полуторатысячного стада ездовых оленей. Надежный человек!
Кытманов протянул ему руку.
– Слышал, слышал о тебе.
Хвостов робко вложил свою маленькую руку в широкую ладонь.
– Шибко большой человек. А ладонь, что смушка выпортка[21], – мягкая и теплая, – глядя снизу вверх на Кытманова, разулыбался Хвостов. – Я к руке Михалыча привык. Она другая. Шершавая, как шкура нерпы, но надежная.
– Шершавая, Митрий, от работы, а надежная ли? В тундре, ты знаешь, без надежности – каюк. Надежность во всем: и в человеке, и в упряжке, и в нартах, и в ружье. Чай пить будешь?
– Нет! Маленько дома пил. Пока хватит. Олени сытые ходить хотят.
Вышел на крыльцо, потягиваясь, Кривошапкин.
– Доброе утро, гости и хозяева! – почтительно обратился он к стоящим. – Хлопотное это дело – сборы в тундру. Вроде сто верст – не дорога, а забот хватает. Сколько ж туда ходу на оленях?
– Дня четыре. Смотря как реки, ручьи, – ответил Хвостов, – а зимой, налегке да на хороших оленях, полсуток хватит.
Кривошапкин подошел к Мотюмяку и стал рассматривать почти в упор.
– Ты какого роду-племени, человек?
– Некогда сейчас говорку держать, – ответил проводник, – в дорогу торопимся. Род я свой не помню, сиротой остался после мору. Священник меня спас. А народ мой называется – ня.
– Слышал и читал о твоем народе. Самобытный. Он первым появился на Таймыре еще до Рождества Христова. А у нас всех под одну гребенку тунгусами зовут. Хотя есть ня, ненцы, якуты, кето. Ученые, если займутся, разберутся: кто есть кто. На первый взгляд вроде одинаковы, а вникни, увидишь много различий у этих народов.
– Да Хвостов больше уже русский, чем нганасанин. Он нашу культуру освоил лучше, чем свою, спасибо отцу Евфимию. Ему впору князьцом быть да медную бляху властную на шее носить. Он грамоту знает, занимается своим делом. Власть ему ни к чему. Обременительна она. Свободы лишает, – пояснил Сотников.
– Ты прав, Киприян Михайлович! Обуза она, притом большая. Жду не дождусь, когда отставку примут, – запахнул на груди халат туруханский начальник.
– Обуза-то обуза! А многие хотят ее оседлать, как лошадь свою. Чтоб за поводья дернул, она и пошла, куда мне хочется. Это не власть! Управлять должен один, чтобы Россия двигалась только к лучшему, – вмешался Кытманов, надевая накомарник.
Забытый на время Хвостов подтянул упряжь на оленях и разматывал веревки для увязки поклажи на легких нартах.
Остальные, разговаривая, стали подносить припасы и укладывали на санки. Сначала сложили ружья, потом патроны, мешки с харчем на каждую нарту поровну, кроме упряжки Кытманова.
– Сюда ничего не класть. Гость тяжел, как мы с Тубяку, – посмотрел он снизу на Александра Петровича. – Куда такой вымахал? Выше сопок в тундре.
– Чем выше, тем дальше вижу! – ответил Кытманов, поднимая со ступеньки коробку с дегтем.
– Чем выше, тем больше комаров сядет, – засмеялся Хвостов. – А деготь летом в тундре – дело не последнее. Дайте и нам этой слякоти. В тундре мошка бесноватей, чем в селе. А ну-ка, Тубяку, собаку намажь.
Отъезжающие не жалели мази, тщательно втирая в кожу.
– Ее духу хватает часа на четыре. Потом комар снова блаженствует, а мошка залазит в любую щель в одежде. Катюша, перевяжи мне рукава! – позвал Киприян Михайлович. – А ты, Александр Петрович, не в Енисейске. Застегнись на все пуговицы, а воротник затяни веревками. Пусть душно, но от мошки спасение.
Катерина вытянула книзу рукава мужниной куртки, свела вплотную манжеты, проверила, не осталось ли лазеек для мошки, и, будто невзначай, скользнула по руке Киприяна Михайловича. На миг взгляды встретились. Этого было достаточно, чтобы понять друг друга. На их лица легла грусть.
Сотников, чтобы отвлечься, обратился к Кривошапкину:
– Михаил Фомич, сходите до Бреховских островов. Посмотрите, как живут сезонники. Там и юраков[22] много. А сегодня попаритесь со Зверевым и отцом Даниилом. – Ты, Катенька, накажи Акиму, чтобы тот баньку истопил да венички березовые замочил.
– Да, попариться не мешает! – поддержал Михаил Фомич. – На пароходе парилки нет. Тут Александру Петровичу надо подумать.
Кытманов засмеялся.
– Сейчас в деле проект судна дальнего плавания «Утренняя заря». Там будут отдельные каюты для комсостава. И душевая. Я же не зря говорил, чем выше человек, тем дальше видит. Я на этой «Заре» пройду по разводьям от Енисейска до Мурманска, минуя льды. Причем без дополнительной бункеровки.
– Ну ты, Александр Петрович, размахнулся! – не поверил туруханский начальник. – Такие пароходы, наверное, появятся только к концу века. Попробуй – пройди льды! Сколько парусников ушло на дно!
– Наука пока отстает. Океан Ледовый никто толком не изучает. Считают бессмыслицей. А когда будем знать направление движения льдов, появление разводий, тогда и пароходом лавировать станем. Кытманов, друга мои, слов на ветер не бросает. Мы утрем нос Европам. Именно мы – сибиряки!
– Да! – словно спохватился Киприян Михайлович. – С твоего позволения, пусть капитан покажет людям машину и прокатит по Енисею. Даже Герасимов просился с детьми.
– Лады, Киприян Михайлович! Михаил Фомич передаст просьбу капитану.
У причала дымил пароход. Шла разгрузка «Енисея» и барж. Грузители, словно муравьи, цепочкой сноровисто сновали по сходням с мешками, тюками, ящиками. На берегу сначала штабелевали, затем грузили в одноколесные тачки и по деревянному настилу катили на угор к лабазам.
– Ты, Киприян Михайлович, так скоро людей загонишь, а разгружают медленно. Работа непосильная. Я скоро поставлю на пароходы лебедки. Тогда трюмы легче освобождать будет. А тебе надо строить деревянную эстакаду и ручной конвейер. Видел, как в Енисейске, на пристани. Тогда все и пойдет с причала до самого лабаза. А так катали падают.
– У меня руки не доходят. Если уголь будет, без конвейера не обойдешься. Годка через три построю эстакаду. На Алтае и закажу конвейер.
– Тогда у тебя и суда меньше будут простаивать. Это копейку сбережет.
Киприян Михайлович согласно кивнул и посмотрел на хронометр.
– Ну ладно, по-моему все уложили. Пора трогать. Митрий, выводи оленей.
* * *
Сотников и Кытманов шли рядом с нартами, пока не минули Мало-Дудинское и двинулись вдоль правого берега реки Дудинки. Хвостов сидел на передней сайке[23] и тыкал хореем оленей. Рядом с ним на иряке лежала собака Мунси. Ее шерсть лоснилась на солнце от дегтя. На последней нарте трубкой попыхивал Тубяку.
Идти становилось труднее и труднее. Ноги увязали в хляби. Небольшие островки суши, даже кочки, покрытые мхом, лишайником, пушицей, с надеждой притягивали путников. Ведь кочка все-таки – не хлябь. У грузного Кытманова испарина опустилась с плеч до пояса, превращаясь в капли смешанного с дегтем пота. Он со злостью раз за разом поднимал накомарник, чтобы схватить ртом глоток свежего и прохладного воздуха да остудить потное лицо.
Хвостов остановил упряжку.
– Михалыч! Пора садиться, быстрее пойдем. Ягель[24] хороший под ногами. Олень бежать хочет от паутов.
Сотников поудобней усадил на нарты Кытманова, на третьи сел сам, поджав по-тунгусски ногу под себя. Хвостов еще раз обошел упряжки, посмотрел, не растряслась ли поклажа, не избиты ли копыта у оленей.
– Поехали! – крикнул Мотюмяку и развернул свою сайку вдоль реки. – Теперь до самой переправы.
Слышно, как в скрытых ивняком озерах галдят утки, пронзительно вопят гагары, тревожно кричат чайки, в камнях пищат свищухи. В небе парят канюки, выслеживая полевок[25]. Тундра живет своей жизнью. Пять упряжек идут по тундре, почти не нарушая гармонию ее бытия. Олени местами бегут резво, почуяв под копытами ягель. Сотников иногда окликает Кытманова, если замечает что-то интересное.
Взлетела стая куропаток, чуть не зацепив седоков крыльями. «Не боятся, чертята. Ждут, пока олени заденут. Тогда взмоют», – сделал вывод Александр Петрович. А куропатки, опоясав круг, почти коснулись крыльями ивняка и возвратились на прежнее место.
– Хитра птица! – крикнул он Сотникову.
– Видно, травку там надыбали вкуснее, чем где-либо, – пояснил купец Кытманову. – А может, червей разгребли.
Александр Петрович достал из чехла бинокль. Метнулся взглядом по сопкам, покрытым темно-зеленым кустарником, по закрывающемуся тучами горизонту, потом по оленьим рогам своей упряжки, спине Хвостова и застыл в распадке, где на клоке снега стоял на задних лапах зверек.
– Киприян Михайлович, взгляни вправо, на снежок. То ли лиса, то ли песец? – крикнул Кытманов и снова припал к окулярам.
– Песец! – подтвердил Сотников. – Учуял нас, вот и вытянул шею вверх, чтобы удостовериться. Хитрый, как лис!
Олени фыркали, на губах появилась пена, шерсть на спинах завлажнела. Хвостов оглянулся и увидел озадаченный взгляд купца.
– Рано, Михалыч. Переели перед дорогой. Вот пена и пошла. Скоро брод. Там и отдохнут.
Часа через два прямо на пути оказалась широкая и бурная река.
– Надо маленько вверх пройти. Там мельче и уже. – Хвостов соскочил с санки. – Это у Гнилого Камня. Я ходил тут много раз. Оленей выпрягу, переведу, а потом иряки перенесем. Вода мала, бродни высокие.
Сотников и Кытманов сошли с нарт. Хотелось поразмять тело, расходить упревшие ноги. Шли берегом реки, обходя пышные кустарники ивняка и почти в олений рост валуны. Мошка нагло лезла под одежду чуя запах человеческого тела. Сотников на ходу достал из рюкзака мазь и передал Кытманову:
– Обнови, а то мошка покоя не даст.
Александр Петрович сунул влажную и скользкую руку под вуаль накомарника и гладил лицо, шею, расстегнул пуговицы и потер ладонью грудь. Приятный холодок обдал шею. «Какая прелесть – прохлада», – подумал Кытманов. Захотелось раздеться и окунуться в эту бурлящую рядом воду.
– Эх, было бы это в Енисейске. Не вылез бы из реки, пока душу бы не остудил водой! – засмеялся судовладелец.
– Терпи, Александр Петрович, в тайге тоже гнуса не меньше. Видно, на приисках тебе не раз докучал.
– Было, было. Но такой мошки еще не видел. Смотри, – показал он на руку, – присосалась, и не слышно, а волдырь уже растет. И деготь – не помеха. Как же здесь летом работать? Тут лето страшней зимы. Страшней этим гнусом. Найдем ли охотников уголь колоть?
– Найдем! На рыбалку просятся – спасу нет! Выбор есть. Беру самых крепких и надежных. Не дармоедов. И плачу с каждой бочки соленой рыбы. Остальное мое: лодки, сети, соль, тара, избушки, вешала, нитки, ведра и еда. Пока недовольных не было. После путины все уплывают с деньгами. Причем с хорошими.
– Рыбачить – не уголь кайлами долбить. Легче и чище. Там сама мать-природа рыбу в сети гонит. А тут мерзлота держит в каменном мешке все залежи.
– Подожди, Александр Петрович, посмотрим сами, знатоков пригласим. Словом, услышим, стоит ли игра свеч. Может, тут запасов лишь лет на десяток. Стоит ли с этим возиться?
– И то так! – согласился судовладелец.
Река стала уже. Дно было усеяно крупными валунами, торчащими из воды. Кусты ивняка свисали над бегущей водой, создавая дрожащие тени. Взлетела стайка чирков и, петляя, скрылась за Гнилым Камнем. Хвостов развернул упряжку поперек движения.
– Кажись, прибыли, – сказал он.
Пологий участок берега будто обидела природа. Серый песок казался мрачным среди буйствующего вокруг разнотравья. Видно, что этой переправой ходили не один десяток лет, проложив оленьими копытами и нартами песчаную дорогу до самой воды. Мотюмяку с Тубяку быстро распрягли оленей, подтянули повыше голенища бродней и вошли в воду. Оленей вели за собой на поводке. Те на ходу пили воду, фыркали, трясли ушами. Хвостов их не понукал. Они понимали его по легким подергиваниям поводка.
– Ты смотри, воды не боятся. Лошади – и то трусливей! – удивился Кытманов.
– Это таежные олени. Для них что снег, что вода. Все нипочем. Это же ручеек. Они тысячами Енисей переплывают. И переправы – в несколько верст, а глубина – копытами не достанешь. Да еще течение! – пояснил Сотников.
Тубяку остался на левом берегу с оленями, а Мотюмяку вернулся назад.
– Воды набрал в сапоги? – поинтересовался Сотников.
Хвостов лег на землю, поднял вверх одну ногу, потом вторую.
Вода из бродней не лилась.
– Значит не успел, коль сухо, – сказал Александр Петрович. – А у нас голяшки еще длинней. Главное, не оступиться.
Они перенесли ружья, спальные мешки, бутыли. Остались иряки с привязанной поклажей. Нарты несли над водой, чтобы не замочить провизию, хотя она и была в кожаных мешках.
– Киприян Михайлович, не пора ли червячка заморить? Александр Петрович протрясся на нартах. Еда вниз ушла, – пошутил Мотюмяку, глядя на Кытманова.
– Можно и заморить. Доставай припасы. Будем обедать.
Тубяку увел оленей от берега, нашел обдуваемое ягельное место и посадил их на длинный поводок, для отдыха.
Потом собрал и поджег кучу ерника и мха. Густой дым завис над землей.
На одном из иряков разложили съестное. Ели быстро, опасаясь летящего прямо в рот гнуса. Даже дымокур был бессилен перед нахальными насекомыми.
Пока чаевничали да говорили о том о сем, мало кто прислушивался к пронзительным крикам гагар, долетающим с неба и со спрятавшихся в ивняке озер.
– Гагара шибко стонет. Погода плохая идет! – посмотрел в небо Мотюмяку. – Надо успеть пройти еще верст десять. Скоро горы, там ветер меньше.
И опять поскрипывают санки, слышится приглушенный голос Хвостова, понятный лишь оленям да пастуху Тубяку. Собака спит на оленьей шкуре, положив голову на передние лапы, вздрагивает и просыпается, когда нарта почти ложится набок или вспорхнет куропатка, будто выстрел. Мунси в такие минуты открывает глаза и с надеждой смотрит на своего хозяина Хвостова, будто верит, что тот не даст ее в обиду, не позволит опрокинуться нарте.
Тубяку на иряке клюет носом, спит с поводком на руке. С нарт слетит – олени не убегут. Он не выпустит веревку из рук до тех пор, пока не остановятся олени, даже если они поволокут по земле.
Небо хмурится. Задул холодный север, и сразу летняя тундра превратилась в осеннюю. Встревожились птицы, прячась в кустарниках и в высокой траве от наседающего сверху ветра. Пошел редкий снежок, потом гуще и гуще. Побелели вершины сопок, зелень листвы.
– Вот тебе и лето! – крикнул Кытманов съежившемуся Сотникову. – Июль, а снег, как в октябре!
– Удивляйся, Александр Петрович, но это не зима. Это север проказничает. Такое у нас бывает. Ветер переменится, юг подует и эту белую пелену как собака языком слижет.
А у Александра Петровича в голове сомнения. Не возьмет в толк, как ориентируется в этом бездорожье Хвостов, когда тундра, куда ни кинь, везде кажется одинаковой? По озерам? Дак их сотни, больших и малых! Одни пересыхают, другие рождаются после дождей и таяния, третьи – родниками живут. Речки быстрые да коварные: то широки, под стать Енисею, то суживаются до какого-нибудь безымянного ручья. Кытманову все надо знать да осмыслить. Будущие затраты, хоть и не подсчитанные, уже пугают. Все-таки не ближний свет этот Север! Каждая верста, будь то по воде или по тундре, в большую копейку выльется. Его никто не неволит, но азарт берет свое. Привык он везде быть первым.
Хвостов резко ставит оленей поперек санки и останавливается. Седоки сходят с нарт попыхтеть трубками. Начинается узкая безветренная долина. Кытманову хочется разузнать, как Хвостов находит дорогу.
– Слышь, Мотюмяку, как ты тундру видишь?
– Не знаю, Александр Петрович! Небо, солнце, ветер, реки, сопки вижу, слушаю. Головой что-то кумекаю. Олешки умные. Бредут, куда хозяину надо.
– Не понял! Олени умные, что ли? Я тебя спрашиваю. Ты в тундре плутал когда-нибудь?
– Плутал? В пургу, по-моему, плутал. В «куропачьем чуме» ночевал. Буря утихла. Сам дорогу нашел.
– Киприян Михайлович, может, ты какие секреты знаешь?
– Не знаю! Я по тундре много езжу, но всегда с опытными каюрами. У каждого тунгуса нюх особый. У них есть то, чего у нас с тобой нет. И сколько лет в тундре ни живи, такими не станем. У них свое видение, свой дар. Проведи Хвостова по улицам Енисейска, и он заплутает, а здесь как рыба в воде. Видишь, даже он, грамотный и умный, не может объяснить. Это, вероятно, то, что зовут интуицией.
– Значит, для перевозки грузов и людей пригодны только тунгусы?
– Почему? Плотники, грузители могут быть пришлые. Нарт понадобится не меньше тысячи да на поломки – запас. Сбрую оленью они режут сами из оленьих шкур и шьют. Ну и оленей тысячи полторы саночных. Это на первый случай. А потом много чего понадобится. Ты, наверное, понял, что Хвостов в дороге придерживается общего направления, а именно к Норильским горам. Зная местность, он ведет нас по низинам, по почти ровным местам, где есть моховой покров, где оленям легче тянуть поклажу. Ведет по только ему известным приметам.
– Вон большие озера! – показал на север Мотюмяку. – Их пройдем, и потом на восток, к горам. Однако прямо идти нельзя. Острый камень протрет полозы наших санок. Олень копыта побьет. Слабый станет. Дорога длинней будет. Надо свежую долину искать, чтобы к горам попасть.
– Давай выйдем к Дудинке, перейдем вброд! – предложил до сих пор молчавший Тубяку.
Сотников с Кытмановым переглянулись. В такую погоду не хотелось лезть в воду.
Через час они пересекли реку, бегущую с гор на запад. Хвостов пояснил: эта речка впадает в Енисей у села Дудинского и Киприян Михайлович даже рыбачил удочкой на ее берегу.
– А я и не узнал. У нас она раза в четыре шире, да и не такая быстрая. Там глубина сажени три. А здесь пешком перешли.
На левом берегу Дудинки разожгли костер, поужинали и легли отдыхать прямо на санках. Хвостов с Тубяку по очереди поддерживали костер и караулили оленей. Где-то за полночь Тубяку увидел, как олени сбились в кучу, настороженно подняли уши и приблизились к костру, ища защиты у человека. Тубяку взял ружье и пошел в сторону жидкого леса. Мунси останавливалась, принюхивалась и потом резко кинулась в лесок.
– Мунси, назад! – крикнул Тубяку. – Стой!
Мунси нехотя вернулась к пастуху, тревожно водила головой, словно чувствовала недалеко затаившегося врага. Послышался волчий вой. Тубяку вскинул ружье и выстрелил на звук. Спящие проснулись, схватились за ружья.
– Где они? – спросил Хвостов.
– К той сосне ушли, видишь?
– Вижу! Трое. Небось, не голодные, коль восвояси ушли.
Сотников с Кытмановым достали бинокли и увидели у подножия сопки три серых силуэта.
– Волк, волчица и волчонок. На охоту вышли, – сказал Киприян Михайлович.
– Хорошо, что Тубяку не спал! – обрадовался Кытманов.
– В тундре, как в тайге, свои законы, – поправил Сотников. – Надо каждый шаг осторожничать. Тут много бед затаилось. Это на первый взгляд здесь тишина. Как говорит Хвостов, здесь за человеком наблюдают десятки глаз. И человек для них – враг. Канюк в небе завис, видишь? Он не мышь-полевку выглядывает, нас стережет и криками сородичей предупреждает. А волки вроде отошли, но еще долго от нас не отстанут. Будут кругами по нашему следу идти не одну версту. Их даже выстрел не отпугнул. А песцы, облинявшие, в пушице спрятались. Нас караулят и мышей ловят. Если бы не Тубяку, могли остаться без оленей. Волки б разогнали их, а некоторых и задрали.
– Ладно. Ложитесь, досыпайте. Я сторожить буду! – успокоил Хвостов.
Он подбросил сушняка, сверху покрыл мхом, снял бродни и вытянул ноги к костру. От сырых пимов шел пар. В небе загоралось раннее утро.
На третий день пути вошли в широкую пологую долину, окаймленную с западной стороны горами, и двинулись вдоль реки Ергалак. Олени брели медленно. Путешественники, кроме Хвостова, идут каждый у своей нарты, держа в руках поводки. Дают передохнуть животным. Даже Мунси соскочила с иряка и бежала в хвосте аргиша, принюхиваясь к оленьим следам. И в долине, и на склонах сопок густые заросли леса. Красивые места вдохновляют и прибавляют сил. Александр Петрович снова в изумлении:
– Мы, Киприян Михайлович, на юг идем? Тайга ведь начинается! Так недалеко и до Енисейска, – пошутил судовладелец. – Не заплутал ли Мотюмяку? Он же говорил, что залежи северо-восточнее Дудинского.
Кытманов говорил шепотом, чтобы не обидеть Хвостова. Сотников отрицательно мотал головой.
– Ты на проводника не гневись. Он тундровик от Бога. А тайга здесь не от юга. Лес закрыт с севера горами. Долина – как оазис. Вот и растут здесь буйно: и ель, и сосна, и лиственница, и береза. Только, может, чуть пожиже, чем тайга енисейская.
– До тайги нашей далеко, как Енисейску до Петербурга. У нас лесина так лесина, а тут ветки, а не стволы. О колено переломишь, – возразил Кытманов. – Что ж ты дом рубил в Енисейске, а не с этих веток?
– Это для времянок пойдет, для балков. А настоящая изба только с твоей тайги, – согласился Сотников. – И для штолен нужен лес строевой, а не эти карандаши. Плоты будем буксировать огромные.
К вечеру подошли к большому озеру. Оно, будто огромная чаша, блестело среди ровной, как столешница, тундры.
– Озеро Дорожное! – объявил Хвостов. – Еще денек, и будем на месте!
За Дорожным снова пошли невысокие гряды и сопки.
– Начинается предгорье Норильских гор. Реку Амбарную пройдем и выйдем в долину, – пояснил Сотников Кытманову. – Узнаю знакомые места. Терпи. Немного осталось.
– Уже сидеть на иряке надоело, – с непривычки ерзал на санках Кытманов, то подгибая, то вытягивая длинные ноги. – Задницу отсидел, пройтись охота. На шкуре сижу, а кости ломит.
– Это тебе не карета! Привычка во всем нужна. Зимой почти не трясет. Снег ровный, как стекло. Олени раза в три быстрее бегут, чем по ягелю. Бывало, путь дальний – верст сорок – пятьдесят, привяжешь себя к санке и спишь, когда с каюром едешь. Лицо спрячешь в сокуй и кемаришь верст двадцать. На станке передохнешь, чайку попьешь, оленей сменишь – и дальше. Только сильная пурга и останавливала.
Шли пологим берегом Амбарной, выискивая широкое место, где течение слабее и глубина меньше. Вешняя вода еще не спала, но даже она не скрыла огромные валуны, усеявшие дно реки.
– Здесь будем пробовать! – сказал Хвостов, спускаясь с хореем к воде. Он подтянул голенища бродней почти до паха и осторожно вошел в воду. Пройдя половину реки, Мотюмяку зашатался под напором воды, но хорей помог устоять на ногах.
– С ног валит! – крикнул он, черпнув голенищами порцию ледяной воды. Поежился, вздрогнул от холода и, ощупывая хореем дно, пошел дальше. Ближе к левому берегу дно стало чище, вода ниже, и он без приключений добрался до суши. Три спутника с берега криками подбадривали своего проводника, принявшего ледяную купель.
– Терпи, сын Божий, скоро ромом согреем, чтобы никакая лихоманка не привязалась, – кричал Сотников.
– Дабы вода не сбила с ног, идите цепочкой, страхуя друг друга! – советовал вымокший Хвостов. – Вы-то оба тяжелые, устоите, а Тубяку может свалить. У вас и голяшки почти в мой рост. Я к вам.
И он снова перешел Амбарную.
Хвостов и Тубяку распрягли оленей, развязали веревки на иряках и, став цепочкой поперек реки, стали передавать друг другу пожитки. Последними поодиночке переносили нарты. Освобожденные от упряжи олени сами переплыли реку за хозяевами.
Сотников помог Тубяку нарубить сухого ивняка и березы-сухостоя. Благо их вокруг было вдосталь. Правда, у костра остался только Кытманов, остальные занимались каждый своим делом. Мотюмяку и Тубяку сняли бродни, вылили из них воду, отжали пимы, вывернули голяшками наружу и аккуратно разложили у костра. На себя надели летние парки и бумазейные кальсоны, предусмотрительно положенные Катериной.
День прохладный, не комарный. Олени на длинном поводке паслись на опушке, выискивая сытный ягель. В лес не заходили, боясь спрятавшихся в листве комаров. Сотников с Кытмановым собирали на берегу разноцветные камешки и складывали в сумку. Тубяку поставил пущальню[26] и вскоре принес пару жирных задыхающихся чиров. Решили посагудать[27]. Ели трепещущуюся рыбу, ловко отрезая ножами куски свеженины у самых губ. Киприян Михайлович – с солью, а нганасаны по привычке – пресно.
– Вон за той грядой видите вершину? – спросил Хвостов, прожевывая очередной кусок, и показал ножом на восток. – Это Медвежий Камень. Там есть уголь и руда. Кажется, рядом. Еще два перехода – и мы у горы.
Чиры шли за милую душу. И Сотников, и Мотюмяку, и Тубяку только причмокивали губами, наслаждаясь едой. Головы отдали Мунси, и она захрустела, уминая мягкую рыбью кость. Александр Петрович укоризненно качал головой.
– Ну людоеды, ну африканцы!
– А ты строганину пробовал? – поинтересовался Сотников. – Нет? А зря! Если б не строганина, цинга свалила бы всю тундру. От нее нет спасу, кроме строганины. Она и еда, и снадобье. Картошки не надо, а строганину дай. Это ж Север. А сагудай! Мягче его нет закуски из живности.
– Верю, глядя на вас. Глазами хочется, а душу воротит. Не могу побороть себя. Пока. Может, позже и пойдет, а сейчас – нет!
– Тогда ешь гуся копченого, коль свеженины не хочешь.
Выпили рому, закусили гусем да вяленой рыбой. Долго пили чай, как и положено при аргише. Курили Тубяку и Кытманов.
– Лучше строганину есть, чем дым глотать! – упрекнул шутливо Киприян Михайлович Кытманова. – Твоя привычка губительна, а моя – полезна для здоровья.
– Каждому – свое! – ответил судовладелец. – Но с трубкой легче думается.
– Не знаю. Не курю, а думаю постоянно. Считаю, голова без дыма светлее и нутро чище. Да и характер люблю держать. Брат Петр курит табачок черкасский, полжизни меня окуривает, а дым глотать не приневолил. Люблю стоять на своем.
Мотюмяку ощупывал сушившуюся одежду, влажные места подставлял огню, встряхивал и опять раскладывал ее на горячие от костра камни. Тубяку, в сухих запасных бокарях, караулил стадо, попыхивая трубкой. Потом поочередно поставил иряки торцом, осмотрел полозья и сказал:
– Сильно камень дерет дерево. Назад может не хватить.
– Заменим. Я взял четыре полоза и шесть копыльев[28]. Они на свободной санке в парусине, – успокоил Мотюмяку молодого Тубяку.
Кытманов достал карманные часы:
– Без четверти двенадцать, а ночи не видать. Может, двинемся дальше? Как олешки, Мотюмяку?
– Отдохнули. Можно аргишить.
Олени бодро пересекли невысокую цепь холмов «Шею» и вскоре подошли к северному уступу горы Медвежий Камень. Обогнув ее, вышли на ровную площадку Норильских гор. Здесь лето было в полном разгаре. У подножия горы настоящий лес. Лиственницы распустились, наполнив воздух своим ароматом. Рядом белоствольные невзрачные березы, кое-где северная ель. А на склонах – пышные кустарники ольхи, ивы, между ними – целые луга сочной травы. Округа наполнена птичьими голосами. Предвкушая конец нелегкого пути, все идут рядом с нартами, откинув сетки накомарников и вдыхая теплый летний воздух. В распадках гор пятна потемневшего снега напоминают о недавней зиме.
– Шабаш! – по-плотницки крикнул Хвостов. – Здесь будет наш станок. Медь рядом, а вон Угольный ручей. Там горючий камень.
Он резко остановил оленей.
– Тубяку, оленей выпрячь – и в горы. Там прохладней и ягеля полно. А тут – гнус. Бери провизию, ружье, одну иряку – и в путь. Я думаю, два дня нам хватит? – Хвостов смотрел на Сотникова.
– Как бегать будем! Надо горы обойти, осмотреть, камни собрать. Покумекать кое над чем вместе. Кытманов должен посмотреть. Он дока в золоте. Может, и в меди будет.
– Ладно, Тубяку! Два дня. Сигнал к спуску – два выстрела. У тебя беда – три выстрела. Понял?
– Понял. Возьми бинокль с собой.
Палатку развернули быстро. Наломали мягкого ивняка, покрыли им песок внутри палатки. Развернули и расстелили спальные мешки, а посередине поставили одну санку. Киприян Михайлович достал из вещмешка трехрожковый подсвечник и поставил на иряку. Зажег две свечи:
– Иди, Александр Петрович, погляди. В палатке от двух свечей светло. Можно даже кое-что и записать. Правда, мы купцы, а не топографы, но местность придется зарисовать. Ученые тут нужны в первую голову.
– Конечно, Киприян Михайлович, утрясемся – запишем. Надо посчитать, сколько рек и ручьев по пути от Енисея до этих гор. Выяснить, где залегают пласты. Реки разведать на заход судов. А потом уж заявлять это месторождение. Работы тут на десятилетия, а жизнь не так и длинна. Может, возьмем ружья да прогуляемся. У меня уже зуд.
– Не терпится тебе, Александр Петрович! Со мной то же самое было, когда попал сюда. Думал, вдруг рядом с медью и золотишко заблестит. Походили, поискали, песок в реках смотрели, но так и не нашли. Правда, я не успокоился, но и не огорчился.
Они надели надоевшие за дорогу и пропахшие дегтем и потом накомарники, взяли ружья и бинокли и двинулись вдоль Угольного ручья. Хвостов предостерег:
– Ходите так, чтобы палатка все время в глазу была, а костер зажгу – дымок ищите. В тундре много одинаковых мест, плутать можно. Не расходитесь. Теряться станете – стреляйте! Завтра на олешках смотреть будем.
И они медленно двинулись к нависшему над долиной утесу.
– Давай Медвежий Камень осмотрим! – предложил Сотников. – Вон, гляди, угольные осыпи.
Оба увидели: северный край горы, словно поясом, перетянут угольной осыпью. Она расширялась книзу и тянулась по склону ущелья на юг.
– Пойдем ближе к ручью, авось там уголек лучше видать, – предложил Сотников.
Ущелье неглубокое, но обе его стороны закрыты углем, доходящим до дна. Местами, сквозь осыпи, выдавалась порода, тусклым цветом выпадавшая из привычного восприятия угольных залежей.
– Киприян Михайлович, смотри, порода. Метра три толщиной – не меньше. Как в Хакасии. Ее даже топка парохода не может сварить. Но рубить ее придется, чтобы уголь достать.
Обогнули гору с западной стороны. Шли, считая каждый шаг, чтобы хоть на глазок определить площадь угольных выходов. Смотрели в бинокли. Почти от вершины горы и до подножия блестела на солнце осыпь.
– Пожалуй, две с лишним версты, – подытожил Киприян Михайлович.
Соседняя, к востоку, гора состояла почти целиком из каменных выступов, а между ними лишь кое-где виднелась угольная пыль.
– Вроде такая же гора, а угля почти нет. Зато глянь на эту породу с примазками медной зелени и сини.
Кытманов поднял с земли камень.
– Тяжеленный. Металлом отдает по плотности. Это, вероятно, и есть медная руда с примесью. Зелень как раз на медь смахивает. Окислилась. Эх, рудознатца бы сюда! Ну, мой друг, хоть крути, хоть верти, а уголь и медь здесь имеются. Завтра обнюхаем еще две горы. Может, и золотишко попадется.
– Не торопись, Александр Петрович! Дела в спешке не решишь. Это не пароход строить с английским паровиком. Тут каждая ошибка не в одну копейку влетит. Ни я, ни ты – не доки. Грамотеи нужны. Может, сначала начнем кустарями. Там втянем и других. Медь для России нужна не меньше золота.
– Нужна-то нужна, но ведь каждый пуд станет втридорога. Выплавь да доставь куда надо. Найдутся ли покупатели? А качество?
– А из Америки ближе и дешевле? Не верю. А не дай бог война? Иноземцы откажут. В Крымскую медь не дали! Все контракты разорвали. А без меди сейчас – и война не война.
– Понимаешь, пугает меня эта пустыня. Даже, когда сквозь льды пойдут пароходы, меня это уже не обрадует. Далеко залежи от Енисея. Чугунка потребуется. А по болоту ее еще никто и нигде не тянул. Даже Николаевская обходила и озера, и болота. А здесь и обходить нечего: вся тундра – топь. Везде насыпь нужна.
– Я не понимаю, Александр Петрович. Я ведь чугунки в жизни не видел.
– Увидишь. Доведут до океана. Уже до Урала дошли, а там – Красноярск, Иркутск. Забузят гужевики без работы!
– Зря ты, Александр Петрович! Лошадки останутся завсегда. В тайгу железку не поведут, а конь хоть где пройдет.
– Поведут. И в Енисейске она будет. И до Дудинского дойдет. Было бы что возить. Пароход на Енисее только летом полезен, а паровоз на погоду не смотрит. Правда, заносов снежных боится. А так ему только дрова, уголь да мазут подавай. И попыхтит он туда, куда путь железный ведет.
Киприян Михайлович окинул взглядом обступившие горы.
– А мы с тобой, Александр Петрович, может, эти горы с землей сровняем, выберем из них и медь, и уголек. Время идет к тому. И не боись многотысячных верст. Все они лягут нам под ноги.
– Дай Бог! Только не хотелось, чтобы кто-то раньше нас застолбил это место. Ты же знаешь, запас ноздри не щекочет.
– Не волнуйся! Пока я здесь хозяин, никто мимо меня не пройдет. А столб поставлю, когда уверуюсь в этих залежах.
– И все равно страх из меня не ушел. Как здесь можно полнокровно жить и работать? Летом – каторга от гнуса, а зимой, как ты говоришь, – от морозов да пург. Хотя красота неописуема. Тут Бог, по-моему, собрал всего понемножку: и красот, и уродств. И землю насытил видимым и не видимым нами богатством.
– Жаль, что я не художник! – с сожалением сказал Сотников. – Такая красота сама просится на холст: и горы, и лес, и ручьи, и эта долина, усеянная жарками, ромашками и полярными маками.
– Не огорчайся, дружище! Другие нарисуют, а нам успеть бы хоть холст подготовить. А это не легкое дело. От холста зависит, сколько жить картине.
– Так-то оно так. Но я бы хотел сам ощутить радость жизни в этой долине с дымом заводов, гудками паровозов, светящимися окнами домов и веселыми людскими голосами.
– Мне говоришь, не торопись, а сам торопишься, Киприян Михайлович! Может, без нас, но придет в тундру свежая жизнь. Разродится вечная мерзлота и медью, и другими сокровищами, которые удивят и притянут людей сюда. И скажут потомки, что у истоков новой жизни стояли купцы: Сотников и Кытманов.
Вдоль склона Медвежьего Камня поднималась узкая полоса дыма. Это Мотюмяку хозяйничал на стоянке. Александр Петрович взглянул в бинокль, обежал взглядом вершину горы, потом по склону скатился на край плато и увидел оленей.
– Смотри, вон наши пасутся. И Тубяку с ружьем и собакой. Стоит, как хозяин. Вроде в своем поместье. Удивляюсь, но делаю вывод: для тунгуса вся тундра – дом родной. Завидую им. Неприхотливы. Заметил, что удобств не ищут, но из всего стараются извлечь пользу. Даже из обстоятельств.
– Не все такие. Лодырей хватает, как и среди русских. Многие живут одним днем. Рыбы поймал на уху – больше не надо. Завтра еще проверит сеть. Лишнее ему – ни к чему.
– А может, от бережливости, чтобы и назавтра хватило, хотя тундра и рыбой, и мясом, и птицей – всех прокормит. Тут пришлым, видать, еще предстоит понять тунгусов. Боюсь, что это понимание может растлить их хрупкие души.
Кытманов, рассуждая, то опускал, то подносил бинокль к глазам, осмысливая увиденное.
– Окинул панораму. Красота нетронутая. Представляешь, мы с тобой первые из русских. Миклухо-Маклай на Канары собрался, а мы – у тунгусов. Газеты шумят об ученом. Как же? Русский – на Канарах. Кидаемся к чужим, а своих аборигенов кто будет на ноги ставить? У нас Север тунгусами забит. Их надо приобщать к цивилизации, а не каких-то людоедов.
– Приобщать их не надо. У них своя культура, способная выжить и развиваться только в ею выбранном темпе. Ускорь его – и задохнется она, как загнанная лошадь, исчезнет постепенно, как высыхает озеро летом. А что мы первые русские, ошибочка, Кытманов, произошла. Лет сто пятьдесят – двести назад здесь мангазейцы-кустари уже плавили медь. Видишь, нож у меня. Рукоять медными кольцами набрана. И вензель мастера мангазейского. Год одна тысяча шестьсот шестьдесят шестой. Кольца эти из норильской меди. Когда Мангазея ушла в небытие, именно тунгусы передавали из поколения в поколение легенду о горючем камне и хранили память об этих загадочных горах.
Кытманов с восхищением слушал Сотникова и удивлялся, что перед ним уже не купец, а тонкий и наблюдательный этнограф. А может, просто человек, понявший душу маленького северного народа.
Когда Киприян Михайлович закончил монолог, Кытманов многозначительно сказал:
– У тебя голова для больших дел. Ты превзошел в себе и урядника, и купца, и этнографа. У тебя цепкий, сообразительный ум, схватывающий самую суть в ворохе мыслей. Ты порой даже меня, опытного мужика, удивляешь своими суждениями. У меня есть мыслишка. Если ученые подтвердят ценность залежей, то давай их назовем в честь Александра Невского. Он был истинным патриотом Руси.
– Я не против. Угольные пусть будут Александровские, а медные – Невские. Это войдет в будущую заявку.
Глава 5
Уже ни один год милуются Киприян Михайлович с Катюшей. Милуются не только когда рядом, но и в разлуках частых, какие всегда длиннее встреч. И виною тому жизнь купеческая беспокойная! Нередко остается лишь в мыслях и в сердце держать друг друга да весточками обмениваться через оказию. А в тундре оказия редка, как изморозь в июле. Однако бывает, собачьи и оленьи упряжки заходят в Дудинское по торговым и почтовым делам. И успевает Киприян Михайлович на каком-нибудь станке, будь то в низовье Енисея или по Хатангскому зимнику, перехватить каюра и послать с ним весточку женушке. А там, между поручениями приказчикам, вписаны, как бы невзначай, пять-шесть слов ей самой. Да такие ласковые и неподдельные, что сразу оседают в Катином сердце.
Прижмет она письмишко к груди, потом снова пробежит глазами, поднесет к губам, принюхается к листочку, пытаясь отыскать знакомый запах мужа, не выветрившийся в дальней дороге, не угасший в хмельных и прокуренных припутных дворах. А она посылает ему то вареги, то носки, связанные из собачьего пуха, то свежее белье, то замороженные пельмени из оленьего мяса, до которых охоч Кипа. Радуется он каждой весточке любимой, каждому ее подарку Радуется по-мужски скупо, не лицом, а душой, – для других незаметно. Не принято в этих малолюдных краях ни радость, ни грусть выставлять наружу. После смерти трехмесячного первенца Катерина снова родила Киприяну сына: головастенького, с жидкими черными волосиками до залысин. Глазенки маленькие, серенькие, сверкают кругляшками зрачков! Часто вспоминает он в дороге, как, сидя на кухне, услышал легкий шлепок, детский плач и голос повитухи: «Сынок!» Он едва сдержался, чтобы не кинуться в спальню и взглянуть на появившегося на свет ребенка. Пока повитуха Марфа Тихоновна перевязывала пуповину, обмывала малыша и обиходила роженицу, Киприян Михайлович метался по кухне возбужденно-радостный и любопытный: какой он там, наследник? Мучило неведение. Киприяну казалось, время для него остановилось. Он с нетерпением ждал бабчиху. Наконец в кухню впорхнула помолодевшая взглядом Марфа Тихоновна с ребенком на руках:
– Смотрите, тятенька, на чадо свое! Не глаза, а зрачки! Въедливый будет! Весь в папашу!
– Когда же ты разглядела, Марфа Тихоновна!
– В одночасье!
Марфа Тихоновна накинула пеленку на ребенка:
– Батюшка родимый! Сколько же я лет бабничаю? – Она вытянула руки: – Сколь они приняли детей? Половину Туруханска! Не меньше! А теперь и Дудинское на мне. Я ведь помню глаза каждого дитяти. Знаю, какими они видят, впервые, свет божий. В одних – радость, в других – страх, а у третьих – ненависть. Все появляются на свет через муки. Живое отрывается от живого. А это – боль! У вашего сынка глаза тяжелые. Ненавистью веют. А у Катерины – все в порядке.
Купец застыл, услышав о взгляде сына. Он даже пропустил повитухины слова о здоровье жены. Радость сменилась грустной задумчивостью. Он поднял брови и почти закричал:
– Тяжелые, говоришь?! Ну, обрадовала ты меня! А ну-ка, дай сам гляну!
Он зашел со спины Марфы Тихоновны и хотел рассмотреть глаза сына. А ребенок уже мирно посапывал на руках повитухи.
– Ох и настырный, Киприян Михайлович! По-прежнему не верит старухе! – возмутилась бабка. – Погоди, проснется, сам увидишь. Такой взгляд не забывается.
– Это к худу или к добру? – встревожился еще сильнее купец.
– Нрава будет крутого, не мил к людям, батюшка! Мы уходим спать.
Марфа Тихоновна запеленала ребенка и положила рядом с матерью. Катюша искоса взглянула на вошедшую.
– Отдохни, голуба! Намаялась. У тебя все отошло ладно. Крепка телом, девонька! Тебе рожать и рожать надо. Все Бог дал. Сегодня он спать будет, хотя на новом месте, как водится, не сладко спится, – склонилась она над Катей, поправляя сползшее одеяло. – Полежи чуток, пусть нутро уляжется. Места много ослобонилось. Чутко спать налаживайся. Теперь уже закряхтит, засопит – у тебя же сами глазоньки навыкат.
Хозяйка не хотела ее слышать. Она смутно понимала, что все позади. Но материнский инстинкт, без воли разума, не очень внятно, будто в какой-то дреме, брал свое, рождая в душе понимание, что на свет появился ее сын. Что она выполнила завет Божий и желание Киприяна. Он так хотел наследника!
По животу Катерины перебегала судорога, нередко отдаваясь резкой болью то вверху, под ложечкой, то внизу.
– Не боись, это не страшно, – успокаивала бабка, увидев болезненную гримасу на ее лице. – Внутренности колобродят, когда плывут на свои места. Через недельку уйдет и тяжесть из утробы. Будешь легка, как июльская пушица. Киприян Михайлович просил доглядеть за тобой до размывания рук.
В спальне пахло потом, влажными простынями, свежей кровью и теплой водой. Доносился гул горящей печи. Марфа Тихоновна поставила на печь большой чан, налила воды и замочила краснопятнистые простыни, потом смыла с полу капли крови, убрала тазы с обмывками, развешала на веревке свежие пеленки. Теплый воздух наполнял спальню, сушил пол, обдавая легкой волной лица спящих мамы и сына.
Киприян Михайлович сидел в горнице и думал о сыне. «От кого это у него? И я, и Катерина на доброту приветливы. Разве с Петром будет схож. Упрям и несговорчив». Мысли прервала старуха:
– Киприян Михайлович, ты покушай. Не рожал, а намаялся пуще жены. Я на кухне накрою, чтобы в горнице не шуметь.
– Да что-то не до еды. Притомила ты меня сыновьими глазами. Неужто и вправду тяжел норовом будет?
Она ворошила деревянной лопаткой простыни в чану:
– На все воля Божья! Буду просить Бога мальцу душу поправить.
И она перекрестилась на красный угол, где висели иконы и теплилась лампада.
– Ты пойми, Киприян Михайлович, из одного дерева бывают лопаты и иконы. На икону Богу молятся, а лопатой дерьмо гребут. Ты, батюшка, знаешь, люди появляются на свете разной выделки.
Екатерине не спалось. Она слышала невнятно слова, доносившиеся из кухни через закрытые двери. Просто догадывалась, что разговаривают Киприян Михайлович, Марфа Тихоновна и Аким. Видно, обедают.
Катерине вспомнилось, как отец Даниил, играя в карты с ее мужем, не раз говорил, что человек создан по подобию Божьему. А гувернантка с ним спорила. Добивалась объяснения: откуда тогда появляются каины? Тот поглядывал сквозь очки то на карты, то на вышивающих Марию Николаевну и Екатерину Даниловну, мило, как бы мимоходом, отвечал:
– Мария Николаевна не может без ереси. Постоянно пытается изловить меня на каком-нибудь пустячке.
– Разве это пустячок, святой отец? – вмешивался, посмеиваясь, Киприян Михайлович. – Мы знать хотим, что в Писании сказано.
Священник, осердясь, хлестко отбивал очередную карту и глядел поверх очков на хозяина:
– Поймите, люди! Человек рождается без греха, чистый, как ангел из рая Господнего. Душа свободна от грехов, но не от Бога. Человек рожден под Божьим знаком.
Он перекладывал карты из левой в правую руку и многозначительно грозил девицам указательным пальцем.
– Правда, в душу ребенка никто не вошел, зато дьявол уже стоит у изголовья и докучает непонимающему мальцу земными соблазнами. Лезет в маленькую душу не телом, а духом. Да так напористо, словно льдины на берег при ледоходе. Не одна, так вторая выскочит на сушу. А по ней, скользкой, забьют берег сотни льдин. Так и душу забивают ересью.
Отец Даниил, довольный своей логикой, возвращал карты в левую руку и выхватывал из колоды туза.
– А эту, Киприян Михайлович, мы покроем тузиком!
Согнутая полудугой карта, шлепнувшись, распрямлялась на столе.
– Нету!
Киприян Михайлович, теряя надежду на выигрыш, пожимал плечами, а священник радостно восклицал:
– А вот тебе, Кипа, четыре дамы!
Он радостно похлопывал по плечу смущенного купца, как бы извиняясь за выигрыш:
– Мне и козыри подошли, и Бог помог.
– Ладно, ладно, Даниил Петрович, а что же там с Каином?
– Искусителя, кроме как крестом да Божьим словом, ничем не остановишь. Потому и есть обряд крещения и причастия.
Мария Николаевна сверкнула своими большими карими глазами, видно, созрел новый каверзный вопрос:
– Даниил Петрович, а Бог? Почему Он не ограждает человека с самого зачатия, коль лепит его по Своему подобию?
Катерина откатила ногой лежащий на полу моток пряжи и тоже поддержала гувернантку.
– А правда, почему?
Отец Даниил снял очки, сдвинул пальцем часть колоды, почесал в раздумье бровь и сказал, как бы между прочим:
– Защищает, девоньки! Верой защищает. Только верой.
Он перекрестился:
– Да невидимым крестом осеняет. А дьявол только каверзы сулит и создает иуд и каинов.
Мария Николаевна с недоверием слушала.
– А знаете, отче, почему Бог слабее дьявола? Видимо, потому, что и священные книги, и священники, и церкви, и обряды заменили дух на материю. Потому грех на земле множится, что у дьявола под рукой сама жизнь, а не несколько символов духовной власти, как у церкви. У вас мало аргументов.
Даниил Петрович поморщился, явно понимая, что спорить не о чем:
– Машенька, я думаю, человеку дано Богом мало сил. В возникающих бедах где искать защиты? У другого человека? А каждый ли готов утешить, если сам несчастен? Конечно, нет. И идет бедолага в церковь, видя в ней защиту и возможность откровения, будто перед Богом. А что касаемо наших ритуалов, Мария Николаевна, то они не для умерших, а для живых – отвести их от горя и дьявольских козней.
Катерина хорошо помнила ответы отца Даниила. Она вгляделась в припухшее личико своего сына. Ей хотелось смотреть на маленького безгрешного человечка, не понимающего добра и зла. Она сегодня засомневалась в услышанном ранее от священника, качнула головой как бы в несогласии, чуть не крикнула: «Нет!» Потом спохватилась, испугалась, что разбудит дитя. Снова взглянула на закрытые глазки, на чуть шевелящиеся крылышки розового носика. И с тревогой спросила себя:
– Каким он станет, этот райский младенец? Кто первый войдет в его душу: добро или зло, или войдут вместе?
Бесшумно появилась Марфа Тихоновна:
– Ты что заметалась, дочка? Боль докучает?
– Нет! Душа болит!
– Не убивайся! Судьба, Катенька, ни под чью дудочку не пляшет. Она сама дудит каждому Какую жизнь надудит, та и будет.
Екатерина сокрушенно качала головой, сбросила с лица сбившуюся прядь:
– Опять судьба, опять дуда. А он-то что? Обречен будет, как агнец перед ножом? Мне так жаль своего первенца Коленьку! И три месяца не прожил. В грехе его зачали. Бога обидели! Чует мое сердце что-то страшное. Станет ли этот нашей с Киприяном надеждой?
Глаза наполнялись слезами, и капли скатывались прямо к ушам.
Бабка сочувственно глядела на женщину, будто думала, чем утешить.
– Не о том сейчас кумекаешь! Радоваться надо. Родила легко, здоровье не порушила, сынок здоровенький. Береги теперь его от напастей. А чтобы угадать, какой он будет, надоть не один годок рост его видеть, ум его направлять. Прививать доброе, отсекать злое! Да к делу торговому тягу вызывать. А чутье твое не подводит. Оттого и тревожно на душе. Ну, успокойся! Я знаю, Сотниковы корни под Богом росли. Может, и от побегов Бог не отвернется. Я их всех знаю: и туруханских, и дудинских. Удачливы и совестью чисты. Хотя в торговом деле тяжко совесть чистою держать. Вот Петр на тазовской Часовне смотрителем служил. Правда, не в лучшие времена хлебом обеспечивал тунгусов. Край богатый, а были годы голода и болезней, доходило до людоедства. По крошкам, по фунтам выдавал он муку, хлеб, чтобы протянуть до следующего каравана. Кто-то хаял его, а кто-то благодарил. В голодуху всем не угодишь. О Киприяне молчу. Сама знаешь. Из урядника купцом стал. Славен на всю губернию. И ученые люди без Сотникова в тундру нос не кажут. Он и провизией, и упряжками, и проводниками пособляет. Может, и твой сынок в батюшку пойдет. А за Коленьку – не убивайся! Бог дал – Бог взял. И не в грехе, а в любви вы его зачали.
Екатерина с надеждой слушала бабкины слова, хотя и понимала: старуха успокаивала ее. Но как бы там ни было, а душа ее получила облегчение. Видя, как светлеют глаза молодой купчихи, Марфа Тихоновна поняла, что своего добилась:
– Катенька, хозяин давно норовит взглянуть на вас, а я его не пущала. Думала, ты спишь.
Екатерина поправила волосы, расправила одеяло, взбила подушку и застыла в ожидании мужа. Потом, словно вспомнила о чем, шепнула Марфе Тихоновне:
– Дивильце подай и гребень!
Она глянула в зеркало: печать тревоги еще не сошла, опухшие от натуги веки обрамляли глаза, в темных уголках лежала усталость. Она спешно пробежала гребнем по волосам, разгладила щеки и взяла за руку повитуху:
– Пусть заходит, только половицами не скрипит.
Киприян Михайлович на полусогнутых, как охотник в тундре, по-кошачьи мягко, пробрался в спальню. Екатерина приложила палец к губам, мол, тише. Широко раскрыла глаза и впервые после родов улыбнулась.
– Ну как ты? – припал к ее губам Киприян, и, не ожидая ответа, целовал лоб, щеки, шею. – Спасибо, Катенька, за второго сынка, – хватая ртом воздух между поцелуями, шептал он. Екатерина мягкой ладонью ерошила его голову.
– А он не просыпался? – перегнулся через нее Киприян Михайлович и поглядел туда, где спал, посапывая носом, мальчонка. «Мужик как мужик. Лобастенький. Ну, и что ж? А может, там ума палата? Бабка же мне что-то про глаза колобродила», – подумал довольный отец.
– Спит пока наш сыночек. Кушать захочет, проснется. Я уже соску приготовила, голосок его услышишь, заходи. – И она поцеловала Киприяна в губы.
Через три дня начали присматриваться тятя с мамой к сыну, но ничего своего не заметили. Оглядели с головы до пят. Одну родинку маленькую нашли, как у Киприяна Михайловича под мышкой.
– Вот она-то и будет для нас приметой, – обрадовался счастливый отец. – А твоего, маманя, пока ничего нет. Да ты не волнуйся! Марфа Тихоновна говорит, кожа заматереет, может, и твоя родинка у уголка рта вылезет. Твоя красивость ему к лицу будет.
Родители всегда ждут детей-красавцев, даже если самих Бог красотой обделил. А уж дитя, каким бы оно ни родилось, для тяти с мамой – красивее не бывает! Они сами эту красоту отыщут, а не найдут, то придумают. И тешутся ею до самой старости. Свое плохим – не кажется!
А тут тятя с мамой красивые как боги, сынок же и на ангела не смахивает. Но они радовались ему. Радовались, что наследник появился, что он не позволит захиреть делу купеческому, что в третьем поколении казаки станут, возможно, почетными гражданами или коммерции советниками, а род Сотниковых будет множиться на Таймыре. Радость была на душе, но с горчинкой.
Снова обнадежила их баба Марфа.
– Не хмурьтесь! Мальчонка как мальчонка! Кого Бог послал, тому и радуйтесь! А схожесть – дело наживное. Ваша красота зреет в нем, как бы ищет место, где ей проявиться. В лице иль стати, в улыбке или в цвете глаз. Не это главное, – не раз приговаривала она, тиская маленькое тельце. – Душу бы он вашу перенял. По ней красоту человека ценят.
На девятый день повитуха рано поднялась вместе с Акимом.
– Сегодня отмывание рук у младенца. Придут гости с подарками. Пока хозяева отдыхают, нам надо много успеть, – сказала она после молитвы Акиму.
– Не впервой гостей встречать. Все успеется, все будет ко времени!
В каминах отдавалось скрежетом, когда Аким чистил золу. Он шоркал железной лопаточкой и кочережкой по колосникам, освобождая их от древесных углей. Потом занес охапку швырка, взял на камине пучок сухой лучины, разложил в каждую топку и чиркнул серянкой. В печах загудело, потрескивали стянутые морозом дрова. Пахнуло теплом.
– Сегодня на дворе туман. На градуснике сорок восемь. Не видно ни зги. Ветра почти нет. Счас я собакам корм сварю, а потом и возьмусь за твои дела.
Аким порубил топором на куски трех увесистых налимов, покрошил оленьего мяса, все сложил в большой чан, засыпал два ведра муки, поставил на печь в людской и залил водой. Потом внес шесть охапок дров. Мимоходом поговорил с лежащими в катухе собаками, пообещав им скоро накормить. Очистил от снега крыльцо, дорожку вдоль дома и, сняв вареги, вернулся в дом.
– Попозже открою ставни, накормлю собак, а счас чем тебе пособить?
– Принеси из чулана в кухню деревянное корытце, пусть отходит от холода, налей в кадку воды, выбери двух жирных осетров на уху и строганину, три муксуна на котлеты и жареху, олений окорок на пельмени. Окорок оттает, нарежешь мяса без жил.
– Что это ты расхозяйничалась сегодня, Марфа Тихоновна? – в шутку спросил Аким. – Аль купчихой стала? Или мамкой норовишь быть у наследника? – поддел ее батрак.
– Ни то ни другое, Акимушка! Я человек свободный. Меня просят помочь, а не я. Ни купчихой, ни рыбачкой я не стала и уж не стану. У меня свое ремесло, нужное людям. Просто для хозяев сегодня праздник большой. Хочется все сделать по уму, чтобы и гости, и хозяева остались довольны. Подарки сегодня будут и матери, и сыну. Да и меня, думаю, купец не обойдет.
– Что ты, Марфа Тихоновна! У меня хозяева – не скряги. Завсегда добрым людям пособляют. Вот Петр Михайлович, тот копейку считает. Поди, сам в хозяева метит. Щедрости убавляется в нем. Киприян Михайлович иногда упрекает его за жадность, но тот свое гнет. Нередко до свар доходит. Я сторож, истопник. Ложусь позже, встаю раньше. Стало быть, много знаю. Забудь, о чем я сказал, а по кухне – все сделаю.
Тепло с потолка опускалось до пола, создавая для домочадцев ощущение уюта и радости бытия нового дня. В спальню доносились запахи жареной рыбы, дрожжевого теста, лука, чеснока, квашеной капусты и вареного мяса.
Киприян Михайлович в проеме между камином и стеной повесил на очеп колыбель-зыбку с блестящими кожаными ремнями. «Жар костей не ломит, – вспомнил он поговорку, слегка раскачивая люльку. – Пусть несмышленыш тепла набирается, а вырастет, тогда уж тундру стылую будет греть». Он позвал вышедшую из спальни Екатерину, качнул зыбку еще раз.
– Вот тебе и сыну Сашке мой подарок к размыванию рук.
Катерина удивленно подняла брови.
– Сашке? А почему Сашке?
– А если красиво, то Александру. Имя нашего батюшки-царя Александра Второго.
Женщина задумалась. Что-то ей не нравилось в этом имени.
– А ты знаешь, Кипа, имя это и женское, и мужское. Не станет ли оно в будущем поводом для насмешек енисейских остряков?
– Не думаю. Тем более в церковном календаре родившиеся 23 ноября наречены Александром – благоверным князем. – Ты взгляни на государя, – он указал рукой на висящий на стене портрет, – какой красавец! А взгляд? А голову как величаво держит!
– И правда, ему только это имя к лицу, с другим он бы так не смотрелся. Убедил, Кипа! Значит, наш сын теперь Александр, и дай бог ему добра! Еще надо его крестить и причастить.
– Это отец Даниил мигом сделает.
Она поцеловала Киприяна.
– Спасибо за имя и зыбку. Да, я не договорила о зыбке, Кипа! Ты забыл привязать поводок для покачивания люльки, если сынуля проснется. И еще! Скажи Акиму, пусть собачьего пуху принесет для маленькой перинки.
– Добро, Катенька! Я гостей пригласил на обед. Думаю, все успеем сделать.
Екатерина собрала на затылке хвост и пошла на кухню.
– Доброе утро, Марфа Тихоновна! Не умаялась от забот?
– Нет, слава богу! Мы с Акимом хозяйничаем. Все варится, жарится. И тесто готово на пироги и пельмени.
– Чем помочь, пока Сашок спит?
– Не суетись, доченька, я и сама управлюсь, хотя ходить тебе не возбраняется. Тело в свои берега войдет быстрее. А коль так, то разбирай мясо на холодец. Проснется, накормишь, соску дашь, а сама за дело. К полудню купель будем готовить.
К оттаявшему окну прилип снаружи серый темноватый туман. Мимо дома проскрипела собачья упряжка, подняв сотниковских собак. Они залаяли, запрыгали, пробуя лапами крепость березовых дверей. Сотников выглянул в окно:
– Никак почтовик поехал на майны в такую темень. На собак надеется, что ли? Заплутать в непогодь – раз плюнуть. Нужда, что ли, заставила? Мужик-то серьезный, – ни к кому не обращаясь, рассуждал купец.
Аким подбросил в печку дров, прочистил колосники, прикрыл трубу. Показалось, что хозяин обратился к нему. Он отозвался:
– Собаки у него – лучшие в Дудинском. Его и шесть кулей рыбы волокут на угор без бича. Вожак Валет – чего стоит! В такую згу на него только и надейся. Он найдет дорогу домой. Охотники всего низовья хотели б иметь у себя Валета. Герасимов друзей не продает.
– Ну дай Господь, чтоб не заплутал в таком молоке. Ты, Акимушка, заправь лампы в зале и сенях. Фитили замени и керосину долей. Стекла вроде не закоптились.
– Знаю, хозяин! Я уже приготовил и фитили, и керосин. Кушанье закончим готовить – сразу и примусь за лампы.
Послышался плач ребенка. Екатерина спешно вытерла руки о передник и протиснулась между штор в спальню. Сашка кричал что было мочи. Веки покраснели от натуги, а посиневшие губы то растягивались, то сжимались. Екатерина сунула ему в рот соску, потом пощупала пеленку под ним. Пеленка была теплой и влажной.
– Ах, да мы описялись и уросим! Сейчас заменим мокрушки и снова будет тебе тепло.
Она заменила подгузник, снова спеленала ручки и ножки и поцеловала в темечко. Но сынок не унимался. Он выплюнул соску, напрягся, как бы желая освободиться от пут.
– Знаю, знаю, маленький, кушать захотел! Уж утро занялось, а мы голодные!
И она поднесла к губам сосок. Саша жадно, вместе с воздухом, втянул его в рот, поперхнулся, закашлялся, а потом успокоился, поняв вкус молока.
На крик заглянула повитуха:
– Вот и хорошо, что проснулся. Корми, но глазкам не давай уснуть, а я пойду купель готовить до прихода гостей.
Она ловко, волноподобно, взмахнула резным снаружи корытцем, сделанным Стенькой Буториным, и поставила на широкую дубовую лавку, обдала кипятком, протерла вехоткой[29] и слила мутную воду в поганое ведро. Запахло влажным деревом, будто в бане.
– Аким, добавь снежку в ведро и дай собакам попить! – окликнула строгающего рыбу сторожа. – Пусть душу согреют.
Потом разложила в только ей понятном порядке пеленки, распашную кофточку, марлю, одеяльце, поставила рядом с корытцем деревянный ковшик. Пошла к образам, перекрестилась и по-хозяйски, руки в боки, окинула взглядом место, где будет делать размывание рук:
– Вот теперь, кажется, все.
Осталось плеснуть в корытце чистой воды, постелить туда пеленку, и можно начинать обряд.
– Катенька! – вытянула она шею в сторону спальни. – Как Сашок? Покушал? Не уснул? Пусть на свой праздник смотрит глазенками. А где Киприян Михайлович?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Майна – ледовая прорубь.
(обратно)2
Катух – загон для ездовых собак.
(обратно)3
Вахтер, смотритель – начальник по надзору за казенными хлебозапасными магазинами.
(обратно)4
Рухлядь – пушнина.
(обратно)5
Юрачка – ненка.
(обратно)6
Маут – аркан для ловли оленей.
(обратно)7
Аргиш – движение обоза оленьих нарт в тундре.
(обратно)8
Сокуй – летняя и зимняя одежда инородцев, сшитая из оленьих шкур.
(обратно)9
Бокари – обувь, сшитая из камуса (шкура, снятая с ног оленя).
(обратно)10
Наволочный – низменный берег реки.
(обратно)11
Станок – селение на Севере.
(обратно)12
Гармахерский горн – металлургическая печь для очистки черновой меди.
(обратно)13
Дивильце – зеркало.
(обратно)14
Плашкоут – плоскодонное судно.
(обратно)15
Мертвяк – вкопанная в землю деревянная стойка для чаливанья судна.
(обратно)16
Иряки – легкие оленьи нарты.
(обратно)17
Хорей – длинный деревянный шест для понукания упряжных оленей.
(обратно)18
Балок – легкая избушка на полозьях.
(обратно)19
Почтовая гоньба – перевозка почты между станками на оленьих упряжках.
(обратно)20
Полати – лежаки.
(обратно)21
Выпорток – олененок-выкидыш.
(обратно)22
Юраки – древнее название ненцев.
(обратно)23
Санка – оленья нарта.
(обратно)24
Ягель – тундровый мох, пища северного оленя.
(обратно)25
Полевка – тундровая мышь.
(обратно)26
Пущальня – рыболовная снасть.
(обратно)27
Сагудать – есть сырую рыбу.
(обратно)28
Копылья – стойки, вдолбленные в полозья нарт.
(обратно)29
Вехотка – мочалка для мытья посуды.
(обратно)
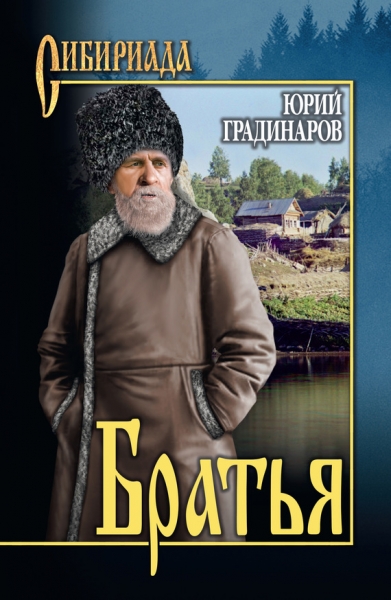






Комментарии к книге «Братья», Юрий Иванович Градинаров
Всего 0 комментариев