ВИСЕЛЬНИК И КОЛЕСНИЦА
История состоит изо лжи, на которую мы согласились.
Наполеон I БонапартПролог
3 термидора шестого года по календарю Французской республики (21 июля 1798 г.)
Египет. Несколько лье от селения Ембабе близ Гизы.
Канонада стихала. Теперь уже не вызывало сомнений, что сражение при пирамидах обернётся полной победой французов. Мамелюки[1] оставили на поле брани почти все пушки и панически бежали на юг, спасая от плена своего раненого в лицо предводителя – Мурад-бея. Преследовать их не имело смысла. Арабские скакуны тем и славятся, что легко уйдут от любой погони.
Главнокомандующий французским экспедиционным корпусом, член Национальной академии, генерал Наполеон Бонапарт неподвижно сидел в седле. Взор его бесцельно блуждал по каменистой равнине.
Предсказуемость событий навевала скуку. Как всё оказывается легко! Беи[2] столько лет владели этой страной, их армия по численности превосходила французскую. И что же? Завтра распахнёт свои врата оставшийся безо всякой защиты Каир, возвещая падение Египта. Победа над страной фараонов давалась едва ли сложней, чем некогда Александру или Цезарю, чьи империи остались в прошлом. Его же собственному, пока существующему только в дерзновенных мечтах государству – самому великому и свободному – будет принадлежать будущее. Интересно, найдётся ли на свете сила, способная противостоять Наполеону? Его воле и уму?
Сзади послышался звон подков и стук выскочившего из-под копыт камешка. Бонапарт обернулся:
- А, это вы, мой Демоний! А я думал, посыльный от Ренье с вестью о победе.
Подъехавший был одет в смесь европейского и восточного нарядов. Лицо его скрывала бедуинская накидка.
- Победа представлялась очевидной с самого начала, и вы о том осведомлены лучше моего, гражданин. Я к вам с более важной вестью. Оракул ждёт!
Французский главнокомандующий вздрогнул.
- Ну что ж, не люблю медлить, особенно если предстоит встреча с судьбой, – он тронул поводья гнедого иноходца. Следом двинулся эскорт личной охраны.
Стемнело внезапно. Уже три недели как европейцы вступили на берег Северной Африки, однако привыкнуть и перестать дивиться стремительному наступлению сумерек никому так и не удалось. Громады пирамид, мгновение назад желто-оранжевые, внезапно стали серыми, а затем почти сразу посинели. Огромная полная луна воцарилась на небе. В её серебряном свете у подножья Великой пирамиды стала видна небольшая группа людей в обычной для этих мест одежде феллахов[3].
- Кто они? – тревожно спросил Корсиканец.
Спутник генерала ответил мгновенно, будто ждал именно этого вопроса:
- Копты. Эзотерики. Не беспокойтесь, каждый из них с радостью готов отдать жизнь за вас и за ваше дело. Они всё подготовили.
- И будут меня сопровождать? – с надеждой спросил Бонапарт.
- О нет, вам придётся войти туда одному, – дал резкую отповедь человек в накидке, а затем уже мягче спросил:
- Следует ли мне напомнить, что нужно делать внутри, гражданин?
- Нет-нет, я всё знаю.
Спешившись, главнокомандующий жестом остановил попытавшихся последовать за ним французов и уверенной походкой приблизился к входу в пирамиду. Один из коптов вручил ему только что зажжённый факел.
Прежде, чем исчезнуть в чёрном проёме, Наполеон остановился, поднял голову, будто пытаясь охватить взором всю циклопическую мощь нависшего над ним древнего сооружения, а затем решительно шагнул внутрь. Некоторое время оставшимся ещё был виден слабый свет его факела, потом наступила тьма египетская.
Время текло медленно. Командир эскорта уже начал беспокоиться о судьбе главнокомандующего. Но вот, глубоко внутри пугающе-чёрной каменной утробы, забрезжил слабый свет, затем он стал ярче и, наконец, появился Бонапарт. Факел почти сразу упал в песок, но и одного краткого мига оказалось достаточно для того, чтобы закалённых во множестве сражений солдат взяла оторопь. Их генерал был без шляпы, волосы, обычно аккуратно перевязанные лентой на затылке, разметались по плечам, зубы выбивали дробь, в глазах плясало безумие. Ссутулившись и шатаясь, словно пьяный он побрёл к коню. В стремя попал ногой не сразу. Однако, оказавшись в седле, вновь стал прежним Наполеоном – угрюмым и равнодушным к миру. Не проронив ни звука, он на рысях понесся к лагерю французов.
Человек в бедуинской накидке, бросив коптам несколько слов на певучем языке, вскочил в седло и поскакал вслед. Поравнявшись с Бонапартом, он оглянулся на приближающихся солдат эскорта и заговорил с жадной надеждой:
- Умоляю, не томите! Вы слышали голос?
- Да. И это было ужасно! Я чуть не сошёл с ума в этом каменном мешке! – произнося это, Наполеон не смотрел на собеседника, от чего тому сразу бросилась в глаза неприятная перемена, произошедшая с генералом. Не вызывало сомнений: великий полководец, чья храбрость на поле боя всегда вдохновляла французов, сейчас сильно напуган.
- О нет, вы не представляете… Это - прекрасно! – страстно и одновременно успокаивающе заговорил человек в накидке. - Свершилось! Мы столько веков ждали! Что же он сказал?
- Да совершенно непонятно… Не тревожь Иоанна на юге, не перечь Александру на Севере и не узнаешь Елены на Западе, – Наполеон раздражённо передернул плечами, – но что это может означать?
- Всегда одно и то же! – после небольшой паузы ответил спутник. – Речь о границах, которые нельзя преступать и о наказании, что может последовать, если нарушить запрет.
- Послушайте, вы всё время напускаете туману, ничего не говорите толком! Не спорю, помощь от вас немалая. Но я ведь не кукла из театра марионеток, какую пользуют втёмную, дёргая за нитки! Может быть, пора объясниться? – раздражение генерала нарастало.
Собеседник долго молчал, а затем снова бросил взгляд через плечо на солдат и произнёс:
- Велите им отстать. Этот разговор не для лишних ушей.
Когда его просьба была выполнена, тот, кого Наполеон прежде назвал Демонием, медленно и торжественно начал:
- Вы совершенно правы… гражданин, – последнее слово говоривший будто повалял на языке и выплюнул. – Мы сознательно не открывали всего. Но сейчас, когда был явлен голос…
- Чей это был голос? – нетерпеливо перебил Корсиканец.
- Там, в пирамиде, вы слышали голос стража. Голос того, кого поставили, дабы защищать установленный порядок. Защищать… от вас, Император!
Наполеон сузил глаза, метнул на спутника быстрый взгляд, но промолчал. Он ожидал более внятного ответа.
- Когда-то его знали под именем Шепес Анх, а теперь называют Сфинксом, – человек в накидке театрально простёр руку в сторону гигантской статуи, силуэт которой при свете луны резко выделялся на фоне окружающего ландшафта.
- И какое отношение сие древнее пугало имеет ко мне?
- А вы не задумывались, почему горячо любимый вами Александр Великий при всём его колоссальном могуществе вдруг взял да и умер неожиданно от комариного укуса, вызвавшего лихорадку? Или по каким причинам умудрённый опытом Юлий Цезарь проглядел погубивший его заговор? Заговор, коего, к слову сказать, никто даже и не скрывал. Мало того, императора о нём открыто предупреждали. Ничтожный Брут - своего рода комар, которого легко могло сдуть ветром от развевающейся хламиды Цезаря, проходящего мимо, нанёс подлый удар. Или смерть вождя варваров Аттилы от сердечного приступа во время соития с женщиной по имени Ильдико…
- Насчёт комаров – не знаю. Но даже величайшие завоеватели продолжают оставаться обычными смертными людьми. Никакой почвы для мистики я в ваших примерах не усматриваю. И нисколько не сомневаюсь, что, когда-нибудь и сам умру столь же естественной смертью, – эти язвительные слова Бонапарт сопроводил пренебрежительным жестом.
- Нетерпеливость, не позволившая закончить мысль, нисколько меня не обижает. Напротив, нетерпеливость - очень полезное свойство для человека с вашими замыслами. Однако, дайте же договорить, – ухмыльнулся человек в накидке. – Прошу обратить внимание не только на характер кончины перечисленных властителей, но и на то обстоятельство, что каждый из них непременно ставил целью объединить в одно государство всё человечество. И когда эта мечта уже начинала сбываться, когда казалось, что нет на свете силы, способной помешать задуманному, – при этих словах Наполеон вздрогнул, – внезапно – раз, и нелепая смерть в цветущем возрасте, влекущая распад империи или застой с последующим распадом.
- Их убил Сфинкс? – тоскливо спросил Наполеон. Казалось, к нему снова возвращается начавший забываться ужас, пережитый в мрачных чертогах пирамиды.
- О, нет! Сфинкс - лишь цепной пёс. Их всех настигла Судьба. Вернее сказать, предначертание, подобное тому, что сегодня получили и вы. Не нужно перебивать: придет время, и вы поймете, кто эти Иоанн, Александр и Елена. И тогда придётся выбирать: нарушить ли границы дозволенного или умерить амбиции.
- Друг мой, простите, но всё это звучит как-то странно. Я привык придерживаться здравого смысла, пребывать в материальном мире…, – примирительно произнёс Бонапарт.
- Понимаю. Орден всегда прилагал немало усилий, чтобы древние сокровенные знания представлялись людям обычной сказкой или бредом безумца. Так что ваше недоверие можно смело отнести нам в заслугу, – собеседник издал сухой смешок, – наверное, вы даже полагаете, будто там, в пирамиде, вещал кто-то из моих подручных, – усмехнулся он снова. – Знаете, в летописях Ордена сохранился отчёт о том, что Александр Великий, побывав в пирамиде, тоже не сразу поверил предначертанию. Решил проверить истинность услышанного у оракула в оазисе Амона.
- А я читал иное. Якобы Александр, во что бы то ни стало, хотел узнать – сын он бога или нет. Для того и ездил к оракулу.
- О, более того: македонский царь был просто одержим этой мыслью! Эзотерики Ордена поведали ему, что только сын бога свободен от любых предначертаний. Но оракул ничего не ответил ни на один из его вопросов. Только драгоценное время оказалось упущено…
- Но позвольте…
- Да не был он сыном бога, – не терпящим возражений тоном продолжил человек в накидке, будто мнение Наполеона его совершенно не интересовало, – объявив себя сыном Зевса, император Александр попросту взял, да и обманул приближённых. Увы, судьбу так просто не обманешь…
Бонапарт угрюмо уронил голову на грудь, выпятив вперёд крутой лоб. После недолгого раздумья, он заявил:
- Ну что ж, раз сказано – не перечить Александру, так и стану поступать, как Александр Великий. Помнится, он мечом разрубил гордиев узел, таким образом разрешив пророчество о том, что тот, кто развяжет этот узел, будет владеть всей Азией. Или эта история – тоже ложь?
- Нет, истинная правда!
- Что ж, тогда я знаю, как поступить с полученным сегодня пророчеством. Только махать мечом не стану. Зачем, когда у меня есть пушки? Там, в пирамиде, я слышал голос Сфинкса. И мне он весьма не понравился. Нынче же ночью Сфинкс услышит голос Бонапарта. Думаю, артиллеристам бригадного генерала Домартена полезно поупражняться в стрельбе. Посмотрим, как это понравится каменному пугалу!
Спутник пристально взглянул на Наполеона и весело заметил:
- Мысль, достойная не просто свободного человека, но Императора!
- Послушайте, почему в разговоре вы дважды назвали меня императором, я ведь всего лишь скромный гражданин Французской республики?
- Честно говоря, надоело звать вас гражданином, – отозвался собеседник, – этот титул вам совершенно не к лицу. Император – вот истинная сущность Наполеона Бонапарта. И эта сущность никогда не смирится с мыслью – отказаться от величия, отказаться от свободы и загнать себя в узкие рамки предначертанного. И можете не сомневаться: пока вы здесь, в Африке, стяжаете славу, ослы из Исполнительной Директории[4] там, во Франции, безумными делами окончательно подорвут к себе доверие народа. Так что ваше возвращение в Париж обещает быть триумфальным.
- О, это звучит музыкой в моём сердце, попадая в такт с тем сокровенным, о чём мечтаю. Но, чувствую, льстивыми речами вы подталкиваете меня к какому-то очередному решению: вначале была Италия, затем Египет… Что дальше?
- К самому главному решению, мой Император! Можно сказать к наиглавнейшему, – казалось, глаза из-под плотной ткани прожигают насквозь. - После того, как в прошлом году в Италии мы обрели табличку Исиды Бембо, а нынче убедились в вашей избранности и узнали предначертание, остаётся последний шаг. И тогда человечество снова получит шанс стать свободным! Никто не сможет помешать великой объединительной миссии!
Говоривший замолчал, в который раз озираясь в поисках алчных ушей, но таковых поблизости не оказалось. А древние гробницы да южная луна – свидетели не из болтливых.
ЧАСТЬ 1
Когда раскроешь тайну карт,
Дуэль не состоится…
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
Владимир Высоцкий «Игра в карты в 1812 году»Глава 1 Мёртвый лес, мёртвое поле
27 августа (8 сентября) 1812 г.
Россия. К западу от Москвы. Несколько вёрст от селения Бородино.
Августовское утро в Семёновском лесу выдалось чудесным. Оно представлялось тем звенящим преддверием осени, когда в синем небе – ни облачка, когда в напоенных солнцем кронах царит невообразимый птичий гам, когда листва ещё зелена и не тронута увяданием, а воздух уже не по-летнему прозрачен и свеж.
Увы, великолепная и мирная эта картина пропадала, стоило лишь взглянуть на древесные стволы, изрядно пораненные: так обычно ранит шквал картечи. Внизу, у самых корней, во множестве лежали мёртвые. Русские в темно-зеленом – по одну сторону, а сине-красные или сине-белые в железных кирасах французы – по другую, ближе к опушке. Французов казалось несоизмеримо больше. Хотя, возможно, оттого, что рядом пали их лошади…
…Крошечный бурундук, отправившись на поиски пропитания, полосатой молнией метнулся вниз по дубовой коре и без опаски устроился на кожаном ранце убитого солдата. Сквозь тяжёлый дух смерти, что шёл от тела, явственно пробивался живительный аромат пищи. Внимательно оглядевшись по сторонам, зверёк юркнул внутрь ранца и устроил шумную возню. В следующее мгновение он опрометью понёсся прочь, унося в зубах кусок ржаного сухаря. Увы, для маленького лесного обитателя сухарь оказался слишком тяжёл и вскоре выпал. Устроившись в безопасности, дарованной родным дуплом, бурундук высунул наружу смешную мордочку и сердито застрекотал, адресуя недовольство тем, кто спугнул его, лишив завтрака.
Невольных обидчиков зверька оказалось двое. Оба – гренадерского роста и в форме русской императорской гвардии. У одного мундир выглядел побогаче, с золотом, у другого – попроще. Этот другой вёл под уздцы пару осёдланных коней. Первый – командир лейб-гвардии Финляндского полка полковник Максим Константинович Крыжановский, второй – его денщик Ильюшка, взятый в услужение исключительно за звучную фамилию Курволяйнен.
- Вашвысбродь, – в который уже раз скулил Ильюшка, – не пора ли назад, а то своих долго догонять придётся. Наверняка, они уж упылили далече. Приказ об отступлении, чай, ещё ночью доставили из гаупт-квартиры![5]
Речь денщика, исковерканная на манер говора простолюдинов, несколько смягчалась иноземным акцентом. Финн по рождению, он и имя раньше имел басурманское[6] – Тойво, да два года назад крестился в православие аккурат на Ильин день.
Крыжановский словно и не слышал ничего и никого. Увидав в траве очередного зелёного солдата, он бросился к нему и прижался ухом к груди, надеясь уловить слабое биение жизни. Увы, тщетно!
«Боже мой, – думал Максим, – Сколько же всего полегло моих людей? Да, полк выстоял, не сплоховал! Да, ни один неприятельский вояка так и не смог преступить линию финляндцев! Но какова цена! Не слишком ли она высока?»
Память услужливо явила картину самой первой потери. То было вчера, около десяти утра. Скорым маршем гвардейцы шли на помощь князю Багратиону, чья армия, истекая кровью, стойко держала левый фланг русской обороны. Максим обернулся тогда в седле и гаркнул, подбадривая солдат:
- А ну, бл..ди, пошевеливайся веселей! – следует сказать, что «бл..ди» было одним из любимых словечек Крыжановского. Нижние чины к обращению такому давно привыкли и не обижались на полкового командира, поскольку знали: это он не со зла, а для остроты словца.
И тут из строя, уронив ружьё, выпал один из егерей. К своему ужасу Максим осознал, что тому осколком сорвало лоб, и он руками хватается за обнажённый мозг. Полк сомкнул шеренгу и не остановился. Только раздался, сейчас уж и не вспомнишь чей, голос:
- Не прикажете ли приколоть?
А другой ответил:
- Вынесите-ка его в кустарник, ребята!
Потом были ещё павшие. И много[7]. Почти всех их Максим когда-то набирал в полк лично, разъезжая по Гатчинской, Стрельнинской, Красносельской и Ораниенбаумской волостям, принадлежавшим семье Его Императорского Величества. Старался брать людей не по рекрутскому набору, а непременно по желанию. Благо, в любимейший государев полк, созданный им на собственные средства по примеру петровских потешных частей, охотников вступить хватало.
Многие были финны - лютеранского вероисповедания, да вдобавок плохо изъясняющиеся по-русски. Только среди красносельцев встречалось немало коренных русаков, каковые до службы, словно венецианские гондольеры, промышляли увеселительным катанием праздного люда на лодках да песнями. Из доморощенных невских гондольеров потом получился преизрядный полковой хор, лучший в гвардии. Эх, где теперь этот хор? Почти весь полёг на смертном поле! Что скажет император Александр, узнав о страшных потерях? Неужели станет винить его, командира, в том, что не уберёг людей?
Последняя мысль кольнула весьма болезненно…
…Пятнадцатилетним юнцом, поступив в кадетский корпус, Максим, после его окончания десять лет служил во флотских частях. А после, в 1807 году, получил под командование батальон Императорской милиции. Дело своё молодой командир знал исправно, и уже на другой год его солдаты отличились в последней из Северных войн[8]. После победы в ней Российская Империя приросла Финляндией. И, чтоб увековечить сие историческое присоединение, Александр I повелел переформировать батальон Крыжановского в лейб-гвардии Финляндский полк трёхбатальонного состава.
Богатырского сложения, темноволосый с пышными бакенбардами и томной, сводящей с ума молоденьких девиц полуулыбкой, полковник Крыжановский к своим 35 годам являлся типичным образчиком гвардейского офицера. То есть, совершеннейше не годился для мирной жизни.
Зато знал и умел всё, что только может пригодиться на поле брани. И это касалось не только искусства стратегии и тактики, но и личных умений. Прекрасный наездник-вольтижёр, он великолепно управлялся со стрелковым оружием, будь то пистолет или ружьё; мог, случись, такая надобность, выпалить из пушки, плавал и нырял как кит, подолгу задерживая дыхание под водой. Особенное же искусство демонстрировал во владении холодным оружием. Сабли, шпаги, эспадроны и прочую жалящую сталь любил со всей возможной страстью.
В пропитанной потом льняной рубахе, узких брюках и с клинком в руке, Максим, бывало, часами фехтовал, доводя до изнеможения любого, кто по простоте своей соглашался составить ему компанию в тренировке. Пуще других доставалось, конечно же, верному оруженосцу Ильюшке, которого полковник, не жалея времени и сил, усердно учил разным премудростям ратного дела.
Само собой, служба в гвардии была всей жизнью Крыжановского, а полк – семьёй. По крайней мере, другой семьи после смерти родителей у него не было. От этого и происходило неспокойствие относительно дальнейшей карьеры. И от этого же с такой душевной болью воспринималась ужасная цена Бородинской славы…
…Не найдя в лесу уцелевших, полковник с денщиком вышли на опушку. Здесь тоже повсюду царила смерть. Курволяйнен, чьему нордическому темпераменту претила излишняя эмоциональность, прекрасно осознавал тщетность их предприятия. Ведь ещё вчера ночью всех раненых, кто подавал хоть малые признаки жизни, свезли в лазарет, для чего потребовались одна аптекарская фура и две телеги. Убитых частично перенесли в одно место, чтоб облегчить работу похоронной команде.
Вздохнув, денщик предпринял ещё одну попытку убедить полковника, который, с согбенными плечами, опущенной головой и влачащейся сзади шпагой продолжал упорно шагать в сторону неприятельских позиций.
- Вашвысбродь, не осталось никого в живых-то. Зря ходим. Не ровён час – на хренцузов нарвёмся.
- Замолчи, Илья! Нам непременно надо ещё подле деревни посмотреть. Там вчера кипело серьёзное дело, – полковой командир сдаваться не собирался, и Курволяйнену оставалось только подчиниться.
Сели на коней и поехали к деревне Семёновское.
Костлявая по Бородинскому полю погуляла на славу! Повеселилась и покуражилась в охотку! Куда ни глянь – всюду пышное разноцветье мундиров убитых. А кое-где над ними уже чернеют пятна слетевшегося на поживу воронья. Птиц пока мало – не проведали ещё о своём счастье. Теперь всей каркающей округе пищи до весны хватит - лишь бы никто не принялся хоронить…
Тягостное зрелище невольно заставило Максима тронуть коня шпорами. «Ильюшка прав, тысячу раз прав: здесь – царство мёртвых. Нечего в нём делать живым. Но… что такое, неужели кто-то зашевелился? Лежал всю ночь без памяти, да нынче вот очнулся? Нет, не то! Проклятые мародёры – вот это кто! Ни свет, ни заря уже орудуют».
Две фигуры в кожаных передниках и с инструментом склонились над конским трупом. Увидав русских, испуганно отпрянули. Крыжановский выдернул из-за пояса пистолеты, намереваясь пристрелить мерзавцев, но вовремя сообразил – то не мародёры-стервятники, а французский кузнец с подмастерьем за работой – подковы сдирают.
«Что ж, они в своём праве!» Пистолеты вернулись на место, и гвардейцы двинулись дальше.
Странное дело: на зелёное сукно мундира стали ложиться белые невесомые хлопья. «Неужели снег?! Но откуда ему быть в августе? Ах, нет - не снег! Это несёт пепел от догорающей со вчерашнего дня деревни. Одни головешки, поди, остались. Вот, дьявол, что же это я совсем раскис: невесть, какие вещи мерещатся – пепел от снега отличить не могу, – думал Максим. – Наверное, это оттого, что запретил себе ощущать здешние запахи - не то давно учуял бы гаревый смрад».
Покачав головой, он бросил денщику:
- Всё, пора возвращаться. Эх, может кто-нибудь, всё же, сумел своим ходом…
В этот момент у самого ближнего, бывшего некогда крестьянским подворьем пепелища, сквозь дым стала видна склонённая над чьим-то телом фигура. Не мародёр, точно: угловатая каска-рогатувка, золотые эполеты, двойные широкие лампасы на красных штанинах… Да это же польский улан - из тех, что воюют на стороне французов! И не простой, а целый генерал – лютый враг России! Вот так добыча! Спешившись и, сделав знак Ильюшке, чтоб держал лошадей, Максим быстро приблизился и, наставив пистолет, сказал по-французски:
- Лейб-гвардии Финляндского полка полковник Крыжановский. Сдавайтесь, сударь, вы - мой пленник!
Улан поднял полные скорби глаза. На закопчённых щеках отчётливо виднелись влажные дорожки.
«Да ведь он здесь по той же нужде, что и я! – сообразил Максим и, поддавшись сиюминутному импульсу, решил отпустить генерала. В изящном салюте дотронувшись стволом пистолета до козырька кивера, он учтиво произнёс:
- Простите, генерал! И примите соболезнования. Я тоже пытаюсь тут отыскать своих ребят. Поэтому понимаю ваши чувства и не вижу повода для вражды. Прощайте!
Поляк, однако, широты русской души не оценил. Ноздри его хищно раздулись, в лицо Максиму полетело шипящее ругательство: зайцем метнувшись за остов избы, генерал на ходу заверещал что-то на родном наречии.
Поняв, что тот созывает своих, Максим бросился к лошадям.
- Гони к лесу, братец! Але-ап, – вскочил в седло одним махом.
Из-за домов со свистом и гиканьем вылетело никак не меньше двух десятков улан, вооружённых пиками, украшенными флюгерами[9].
«Эх, предупреждал же когда-то закадычный дружок гусарский поручик Телятьев, что дурацкая сентиментальность губительна для военного человека! Увы, сам Телятьев не уберёг буйну голову от шведской пули! Царствие небесное лихому рубаке!»
Максим выстрелил: ближайшая из вражеских лошадей, взвившись на дыбы, рухнула, увлекая за собой всадника. Остальные смешались. Некоторые не смогли преодолеть внезапное препятствие и тоже полетели на землю, как на то и рассчитывал Крыжановский. Он развернул коня, выстрелом из второго пистолета вышиб из седла ещё одного улана, а затем, отбросив бесполезное теперь оружие, поскакал к лесу.
Далеко впереди виднелся несущийся во весь опор Курволяйнен. При каждом движении ягодицы денщика подпрыгивали, что выдавало в нём нерадивого наездника и мешало скачке.
- Вот, курва, – нагоняя Ильюшку, со злым весельем думал Крыжановский, – сколько ни учи чёрта нерусского, а толку – чуть. Ничего, до леса рукой подать - дотянем. Поляки следом вряд ли сунутся – побоятся засады. Только стервеца это не спасёт – дома до тех пор у меня будет галопировать, пока ж…у до костей не отполирует…
Сзади начали стрелять.
- Ну и болваны, – продолжал веселиться Максим, – палить на скаку по скачущему же противнику – только пули зря переводить. Не взять нас, выкусите!
И тут, о ужас, Ильюшка вдруг умерил галоп, перешёл на рысь, а потом и вовсе заставил коня гарцевать на месте. Поднял штуцер, прицелился и пальнул. Позади Максима послышался вопль и грохот падения.
- Что же он творит, олух! Теперь точно не уйти – придётся принимать неравный бой. Не бросать же дурака чухонского!
Вот и пригодятся нынче уроки всё того же незабвенного Мишеля Телятьева с его хитрыми кавалерийскими приёмчиками.
Невысокое ещё утреннее солнце, светящее в спину, гнало перед всадником горбатую тень. «То, что надо!», – решил Максим, выхватывая шпагу. Коня потихоньку начал придерживать. Вот к его тени присоединилась другая. То приближался уланский офицер, намного опередивший остальных преследователей. Ориентируясь по тени, Максим выждал нужный момент и стал командовать сам себе:
- Une! – и опрокинулся спиной на круп лошади. – Deux! – и прямым выпадом проткнул привставшего в стременах для сабельного замаха и от того совершенно открытого улана. – Trois! – и могучим движением перекинул пронзённого врага через голову лошади; выпрямился в седле, зловеще поигрывая в воздухе окровавленным клинком – Quatre![10]
- Пожалуйте, панове! Сейчас я вас ещё не так угощу!
Поляки, каковых оставалось ещё больше дюжины, вместо того, чтоб как свора собак на медведя, наброситься на русского, внезапно повернули коней и принялись удирать. Ну, что за вояки?!
Обернувшись, Максим понял, что их напугало. Стало также объяснимо и странное поведение денщика. Вернее, тот как раз действовал вполне разумно, а сам полковник зря рисковал, ввязавшись в рубку. Увлёкся созерцанием скачущих Ильюшкиных филеев, вот и не приметил такой упоительно отрадной картины: у дальнего пригорка, с замечательной чёткостью и слаженностью, разворачивался для атаки полуэскадрон гродненских гусар. Это был один из тех многочисленных ведетов[11], что по приказу Кутузова производили разведку местности и несли разорение французским тылам.
Благодаря небесного цвета форме, за которую их прозвали «голубыми гусарами», спутать гродненцев с кем-либо ещё не представлялось возможным. Тем более, что в этом же полку служил когда-то и Телятьев.
И ведь второй раз за день способствует спасению, покойничек! Может, это совпадение, но, вернее всего, старый друг с того света благодарит за заупокойные молебны, которые набожный Максим никогда не забывал заказывать.
Гусары стремительно понеслись вперёд. Поравнявшись с Крыжановским, они единодушным движением рванули сабли из ножен и грянули «ура», отдавая таким манером дань восхищения пехотному полковнику, показавшему себя ловким кавалеристом и заметным храбрецом.
Подозвав счастливого, с улыбкой во всю морду, денщика, Максим грозно насупил брови и сказал назидательно:
- Коль непреодолимые обстоятельства требуют того, чтоб показать неприятелю зад, то выглядеть это место должно гордо и красиво. А ты, что же, братец? Решил опозорить мундир финляндского гвардейца? Вот как надо держаться в седле, – и указал клинком вслед удаляющейся цепочке гродненцев.
- Так я, чай, не в кавалерии…
- Молчи, ничтожный, и благодари господ гусар за то, что избавят от тех, кто мог бы рассказать о твоём позоре!
И точно: нагнав неприятеля, «голубые гусары» быстро решили исход дела. Произошла небольшая заминка, и вот уже польские лошади с опустевшими сёдлами грустно бредут по полю, сокрушаясь о том, что не смогли унести от смерти хозяев.
Максим собрался, было, идти ловить давешнего генерала, но от этого шага отговорил вернувшийся командир гусарского отряда – корнет Шишкин. По его словам выходило, что большие массы французской кавалерии пришли в движение и сейчас направляются сюда, видимо, намереваясь преследовать отступающие русские части. С этими сведениями, собственно, отряд и возвращался из разведки, когда повстречал удирающих от поляков гвардейцев.
Позже, мчась с гусарами вдогонку отступающей кутузовской армии, полковник Крыжановский коротал время, размышляя над событиями минувшего утра. «Кто был тот officier général[12]?» Вообще-то, на ум приходило только одно имя: Юзеф Понятовский. По крайней мере, другие поляки, имевшие столь высокий чин во французской армии, совершенно не припоминались. Этот же - всегда на виду. Если догадка верна, тогда становилось понятным, почему вражескому генералу удалось избежать и гибели, и пленения. Невероятное везение Понятовского на поле боя вошло в легенду. Бонапарте, не раз указывая на него, отмечал, что главное качество для полководца – удачливость. Правда, и Максим в этот день тоже остался цел лишь благодаря счастливому случаю или заботам покойного товарища, так что везение получилось обоюдным. А что касается остального, то совершенно неясно, почему поляк не посчитал нужным ответить благородством на благородство. За это заплатил гибелью двух десятков своих людей. Мало ему, что ли, было тех, кого убило накануне? Уж кому-кому, а дворянину, в чьих жилах течёт кровь польских королей[13], следовало бы знать, что неучтивость обычно обходится слишком дорого.
Глава 2 Тарутинский лагерь
29 сентября (11 октября) 1812 г.
Калужская губерния. Укреплённый лагерь русской армии у села Тарутино.
К тому, что на войне часто снятся кошмары, Максим давно привык. Но обычно такие сны – лишь бледные тени пережитого наяву. К примеру, не раз грезилось, что снова летят на русские позиции полчища французских кирасир. Уже видны чёрные, широко раскрытые в крике рты всадников, и он командует:
- Каре против кавалерии!
Но никто неприятеля совершенно не замечает и, почему-то, не выполняет приказа. Офицеры смотрят молча, солдаты перекусывают, чем Бог послал. И Максим вдруг начинает понимать, что все они давно мертвы, что здесь те, кто сложил головы на полях сражений, и кого он лично записал в необратимые потери. Жуткое видение. Но, при пробуждении достаточно бывало перекреститься, шепнуть заветное: «Куда ночь – туда сон!», и – всё, отпустят покойники: занимайся покуда своими делами, полковник. Придёт время – свидимся, поговорим по душам…
А нынче вот - иное приснилось. Будто идёт он по зеленеющему полю - глядь, а то и не поле совсем, а стол для игры в штосс[14]. И сам он – уже не человек, а карточная фигура вроде рыцаря в блестящих доспехах и с зазубренным от многих битв мечом. Далеко впереди поднялась аж до самого неба пугающая башня со многими ярусами, увенчанная золотыми рогами. И от той башни быстро приближается скалящийся скелет с огромной косой. И некто смутный произносит:
- Ваш рыцарь бит, Жрица! Никак ему против смерти не устоять!
А в ответ – женский смех. Да такой приятный, какого в жизни никогда не услышишь. Словно звон колокольчиков. И голос, что твой лесной ручеёк:
- Ай-яй-яй, Гроссмейстер! Разве можно так ошибаться? Где вы видите рыцаря? Это ведь Колесница! Или вы саблю не признали?
Смотрит Максим, а в руке у него - не старый меч, а дивный, сияющий мягким лунным светом клинок.
Сзади слышится душераздирающий скрип, будто кто-то пытается открыть изнутри приколоченную крышку гроба. И откуда-то известно, что скрипит деревянная виселица, раскачиваемая пляшущим в петле. Но то – не танец смерти: наоборот, скелет с косой пятится от повешенного. Максим оборачивается, чтобы узнать, кто таков сей нежданный помощник, но позади – никого!..
…Проснулся, и сообразить не может – где это он? Грязноватая горенка, в подслеповатое окошко пробивается тусклый дневной свет… Ах, да, это же штабная изба – одна из ещё оставшихся в деревне Тарутино после того, как большинство строений по брёвнышкам растащили для строительства укреплений.
Сон совершенно не желал выходить из головы: застрял в ней наглухо - так, что и не прогонишь.
«Наваждение какое-то, – подумал Максим, – кто те невидимые мужчина и женщина?» В том, что парочка игроков существует на самом деле, никаких сомнений не оставалось: иначе откуда эдакая невероятная яркость впечатлений и откуда взялась башня со скелетом? Никогда в прошлом ничего подобного видеть бравому гвардейскому полковнику не приходилось. Из каких таких мест сей мрачный образ? Тут же от голоса-ручейка пришёл ответ:
- Из будущего, конечно!
Максим помотал головой и окончательно проснулся. Сильно мучила изжога. Это оттого, что в последнее время из-за сытого лагерного безделья образовалась привычка сразу после обеда соснуть часок-другой. Теперь вот приходилось маяться с нарушенным пищеварением!
- Илья! – позвал он громко. Услыхав, что внизу завозились, спросил с надеждой:
- А что, нет ли простокваши?
- Никак нет, – ответила изба заспанно, – не прикажете ли шампанского или ананасов, что после вчерашнего охвицерского собрания остались?
- Нет, ананасы мне сейчас – хуже отравы! – скривился Максим.
- Так, может, я на базар сбегаю за простоквашей? Живо обернусь!
- Уж лучше сам пройдусь - оно для здоровья пользительней, – полковник, кряхтя, обул начищенные заботливым денщиком сапоги и принялся застёгивать мундир. Ильюшка тут же появился, неся офицерский шарф[15], шпагу и парадную шляпу-двууголку:
- Когда прикажете накрывать ужин, вашвысбродь?
- Пожалуй, не стоит. Я в трактире допоздна задержусь. Только с самоваром изволь уж расстараться, – отворил дверь и вышел на свет божий.
Русский лагерь видом напоминал муравейник: военные, штатские, духовенство, маркитанты[16], мастеровой люд, крестьяне, – кого здесь только не было! Посередине раскинулся богатый рынок: товары со всех южных и центральных губерний – выбирай, чего душа пожелает! Поговаривали, немалая часть того добра, что выложено на прилавки, добыта мародёрством и разбоем. По крайней мере, жалобы на солдатские бесчинства поступали от местных жителей постоянно. Но, по военному времени, кто ж его разберёт – взято ли в бою у неприятеля или отнято силой у соотечественника?
Гвардейская пехотная дивизия, в которую входил и Финляндский полк, с того дня, как оставили Москву и стали отступать дальше, всё время состояла при ставке Главнокомандующего. Поэтому в каких-либо стычках с неприятелем не участвовала и для фуражирских задач не привлекалась. Гвардейцы по округе не шастали и были лишены возможности озорничать. Сидели мирно, наслаждаясь перерывом в боях.
Надолго ли передышка? Этот вопрос мучил всех. Часто бывая по делам службы в Главной квартире, что с недавних пор переехала в соседнюю деревню Леташевку, Максим видел, что высшее руководство никак не может прийти к единому мнению относительно планов на дальнейшую кампанию. Генералитет распался на две противоборствующие партии. Одна, во главе с Беннигсеном[17], Милорадовичем[18] и примкнувшим к ним Ермоловым[19], решительно негодовала по поводу прежних решений Кутузова – сдачи неприятелю огромных территорий, оставления Первопрестольной и бегства аж сюда, к Тарутину. Сейчас эта партия требовала прекратить бездействие и немедленно атаковать присутствующий поблизости авангард неприятельской армии, возглавляемый неаполитанским королём Мюратом[20].
Партия вторая – кутузовская – держалась другого мнения: французский зверь очень силён. Нужно, прежде чем нападать, создать ему такие условия, чтобы он отощал да запаршивел. Пусть все эти саксонцы, итальянцы, испанцы и прочие народы, последовавшие за Наполеоном только потому, что на его стороне – сила, увидят обратное. Пусть познают голод и лишения, пусть падёж возьмёт их лошадей, пусть солдат гложет постоянный страх, когда за каждым деревом чудится казак с пикой, а за каждым кустом – партизан с вилами.
Собственно говоря, разногласия подобного рода в ставке бывали и раньше, но в последнее время они обострились до крайней степени. Дошло до того, что Барклай де Толли, испробовав все возможные способы побудить Кутузова к решительности, в сердцах взял да и покинул армию, сославшись на болезнь. Хотя в этом отъезде немалую роль сыграли угрызения совести за поданный в Филях совет – оставить Москву, а также испорченные отношения с Великим князем Константином.
У Крыжановского тоже существовал собственный взгляд на военную ситуацию. О, как порой хотелось, чтобы кто-нибудь в главном штабе спросил его мнения на сей счёт!
Раньше Максим, не задумываясь, поддержал бы немедленную драку. В самом деле, куда это годится – бегать от неприятеля!? Уж добегались до того, что половина России-матушки под французом. Но, после памятной прогулки по Бородинскому полю, когда бродил и заглядывал в глаза тем, кто теперь сам, являясь во снах, норовит заглянуть в глаза ему, полковник поостыл и стал мудрее.
Ведь что получается: Бонапартэ, когда вторгся со своей Великой армией в Отечество, с большим усердием и кровожадностью стремился к генеральному сражению, а нынче вдруг утих. Недавно прислал к Кутузову парламентёра[21] с предложениями мира. С чего бы? А с того, что, как утверждают пленные французы, мало в означенной Великой армии осталось охотников драться. Солдаты мечтают об одном: живыми вернуться домой. Уже сейчас весь их рацион – лишь пареная рожь да конская падаль. А впереди грядёт ещё зима с морозами!
То ли дело – русская армия! Изобилие имеет такое, что некоторые от ананасов нос воротят. Лошади – и те забыли иной корм, кроме овса. Каждый день к Тарутину со всех концов подходят подкрепления. Моральный дух высок как никогда. Бойцы, стоит лишь заговорить с ними, задают один и тот же вопрос: «Когда, наконец, будем бить супостата?»
При таких делах любому понятно, что неприятельское вторжение себя исчерпало. У засевшего в Москве Императора французов почти не осталось вариантов. Заключить сейчас мир для него – наилучший исход. Только кто же ему доставит такую радость?
В юности Максим читал, что предки славян – скифы, придумали хитрый способ ведения войны. В прямое столкновение с неприятелем они не вступали, а бросали или сжигали свои поселения, нарочно растягивая неприятельские коммуникации. И потом, когда враг слабел от похода да недостаточного снабжения, наскакивали конницей, по кусочкам уничтожая его армию. Амбиции многих завоевателей легли костьми в скифских степях. Видимо, светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов, мудрейший старец, взял на вооружение именно такую тактику. Посылаемые им казачьи рейды – ну, чем не скифы!? Так что, никакого мира сейчас быть не может! Осталось лишь подождать, когда Бонапартэ решит показать нос из Первопрестольной и сделает какой-нибудь шаг - свой первый шаг к погибели.
Увы, если у начальства и было желание выслушивать рассуждения Крыжановского, то это желание оно, начальство, держало при себе. Зато проявляло… ну, скажем так, некоторую несообразительность. Взять того же генерала Ермолова. Человек чести, храбрец и умница… Отчего не прекращает он докучать фельдмаршалу Кутузову идеями широкомасштабных сражений? На что ему лишняя кровь? Видимо, фельдмаршал уже отчаялся вразумить генерала. Когда тот однажды за ужином с жаром принялся что-то доказывать, Михаил Илларионович в ответ ласково промурлыкал:
- А что, Алексей Петрович, не положить ли вам котлетку? Не отказывайтесь, голубчик[22], прошу вас, давайте тарелочку: свежайшая совершенно, телятинка.
Ермолов покраснел, отошёл к окну, и ну скрипеть пером. Не иначе, приохотился пачкать мемуарными записями дневник. А может, даже, жалобу Государю на старика измыслил сочинить. Осерчал, сразу видно.
Светлейший, глядя на него, вдруг вздохнул и спрашивает:
- Скажите, генерал, часто ли вам снятся сны?
На что Ермолов, холодно:
- Нет, изволите ли знать, ваше высокопревосходительство! Сплю как младенец!
Кутузов выслушал его, а потом, тихо и непонятно для присутствующих, молвил:
- А мне, стоит лишь вздремнуть, сразу… Из-за того проклятая бессонница и происходит…
…За размышлениями да воспоминаниями Максим не заметил, как минул рынок и оказался у дверей питейного дома. Над дверью красовалась неровная вывеска: «Счастливый драгун». Уж неизвестно, о каком таком драгуне шла речь, но хозяин заведения родился точно человеком счастливым. Ещё бы, ведь его «Драгуну» повезло оказаться на ближайшие три уезда единственным действующим трактиром! Остальные до поры закрыли, чтобы не разлагали мораль армии. От такого решения губернского начальства на хозяина стали сыпаться неимоверные блага. Захудалой деревенской корчме, что с момента основания, к слову сказать, никакого названия не имела, и иметь-то не могла, потому как служила местом, где упивался лишь форменный сброд, нынче оказалась уготована высокая судьба – послужить временным пристанищем для военной элиты Российской Империи. Теперь здесь стали бывать по большей части штаб-офицеры[23], иногда захаживали даже генеральские чины. В новых условиях без названия существовать уже никак не полагалось, вот и появилась шутовская вывеска. Мало того, трактирщик получил возможность торговать из-под полы втридорога пойлом. У нижних-то чинов в нём тоже есть нужда, и нужда, ох, какая громадная! А появляться в офицерском присутствии солдатам, понятное дело, никакого соизволения нету. Так что, повезло человеку так, как везёт в жизни немногим.
Угодливую физиономию этого самого человека, что торчала за стойкой, Максим обнаружил сразу же, лишь только его окружило прокурено-многоголосое нутро трактира.
- Подай-ка кувшин простокваши, любезный, – немедленно развеял алчные чаяния доброго кабатчика полковник.
Вообще-то, искомый продукт проще было приобрести на рынке, как это предлагал Курволяйнен. Но разве к лицу блестящему гвардейскому офицеру, подобно кухарке, таскаться на людях со жбаном, куда налито вовсе не доброе вино или чего покрепче, а кислое молоко. Не объяснять же каждому про изжогу и внезапно появившееся желание прогуляться. В трактире – дело другое: тут можно сесть в сторонке и спокойно доставить обожжённому желудку удовольствие. Это Максим тут же и сделал, а затем, утерев губы платком и сняв шляпу, стал обозревать общество.
Народу было немного: некоторые сидели незаметно, тихо беседуя; иные играли; но одна компания выделялась и количеством собравшихся, и тем шумом, что они производили. Там Максим сразу углядел финляндский мундир. Понятно, то полковник Александр Жерве, командир третьего батальона. Намедни бедняга вернулся из Касимова, где лечил раненую в Бородинском сражении ногу, и сразу получил письмо из Петербурга с известием о скоропостижной кончине сестры. Письмо, как это часто случается на войне, искало адресата два месяца. Соответственно, ни на похороны, ни на девять дней, ни даже на сорок Жерве домой не поспел. По такому случаю Максим сам приказал ему пойти и напиться с горя. Этот приказ батальонный командир исполнил в точности, и сейчас спал, тяжело уронив подбородок на грудь.
Крыжановский устроился рядом. Пока решал, стоит ли возвращать Жерве из мира грёз, невольно обратил внимание на происходящее вокруг.
Душою той большой и громогласной компании, рядом с которой теперь оказался Максим, был несусветнейшего вида субъект: лет тридцати, среднего роста, сам одет в партикулярное[24], однако причёска и бакенбарды – на зависть любому кавалергарду. Лицо тёмное подобно цыганскому, губы красные, чувственные, а налитые кровью глаза горят неугасимым яростным огнём. В зубах коптит пенковая трубка с длиннющим чубуком, в холёных ладонях порхает колода карт, а на столе перед ним дымится пуншевая чаша.
Личность эту Крыжановский уже встречал раньше – то был Фёдор Иванович Толстой, прозванный Американцем. Граф с репутацией висельника, разжалованный офицер Преображенского полка, записной дуэлянт, на чьём счету числилось около десятка погубленных жизней. Поговаривали, что сей Американец водится с тёмными и погаными людишками, с каковыми особе дворянского звания знаться никак непозволительно. А вот Крыжановского граф не знал, потому что обстоятельства их единственной встречи знакомству не способствовали.
Случилось это однажды летом. Как-то, пребывая в своём имении, Максим со скуки принялся волочиться за соседской барышней, Машенькой Сливкиной. И весьма успешно, надо сказать. Ведь не бывает на свете таких барышень, чтоб могли устоять против гвардейского мундиру. В тот день они с Машенькой отправились на прогулку. Вначале скакали на лошадях, а потом решили покататься на лодке по озеру.
Лодочник неспешно работал вёслами, Машенька обмахивалась веером, склонив голову на плечо Максиму, он нашёптывал в бархатное ушко что-то эдакое, французское, как вдруг идиллию прервали самым неприличным образом. Небольшая группа офицеров, что стояла на высоком обрывистом берегу, и каковую Максим приметил ещё раньше, стала вести себя странно. Какие-то двое, словно презренные содомиты, обняли друг друга и прыгнули с обрыва в воду. А остальные и в ус себе не дуют – смотрят на это с полнейшим равнодушием.
От падения тел в воду немедленно образовался столб брызг. Несколько капель попало Машеньке на платье. Девушка вскрикнула и отстранилась, а Максим пришёл относительно прыгунов в неописуемую ярость. Он встал в раскачивающейся лодке и принялся перебирать в уме любимые выражения, пытаясь отыскать такое, чтобы оно, с одной стороны, не слишком оскорбляло девичий слух, а с другой – хоть отчасти давало верную оценку выходке ныряльщиков.
Нырнувшие долго не показывались. Минуло минуты три, но поверхность озера всё ещё оставалась безмятежной. Тогда Максим, уже не выбирая выражений, выругался и, как был одетый, бросился в воду. Справа от себя, у самого дна, приметил облако ила, очевидно поднятое погрузившимися безумцами. Там и обнаружил обоих, вцепившихся друг в друга намертво.
«В таком виде их вытаскивать, пожалуй, будет сподручнее, нежели поодиночке», – решил он тогда и бесцеремонно схватил ближайшего за волосы. Как мог быстро, поднялся на поверхность и, загребая одной рукой, поплыл к недалёкому берегу. На мелководье дал волю чувствам: принялся трясти безжизненные тела и хлестать по хладным щекам.
Когда подбежали друзья утопленников, всё разъяснилось. Оказалось, что это некий способ дуэли. Придумал его один из утопших – морской офицер, фамилию которого Максим теперь уж и не помнил. Условие было таково: кто первый разожмёт объятия, тот проиграл и должен принести противнику извинения. Если же никто объятий так и не разожмёт, то победа достанется выжившему. Морской офицер знал, что противник совершенно не умеет плавать, потому, будучи вызванным, установил выгодные для себя правила.[25] Иные способы поединка моряку просто не оставляли шансов, потому что сразиться предстояло с наипервейшим бретёром[26] Империи – графом Фёдором Толстым-Американцем.
Некоторое время спустя Максим через третьи руки узнал, что морской офицер всё-таки умер, а Толстого удалось откачать.
К счастью, Машенька тогда совершенно не рассердилась на грубые слова…
…Сидя теперь в Тарутинском трактире около пьяного Жерве и поглядывая на некогда спасённого им графа, полковник вдруг осознал, что с самого обеда пребывает либо в мечтах о будущем, либо в думах о былом и никак не может попасть в ногу с настоящим временем. «На войне, определенно, так витать в облаках не пристало, пусть даже во время затишья». Эта мысль весьма позабавила Максима, и он дал себе слово – в ближайшее время с действительностью более не расставаться.
Глава 3 Повелитель аборигенов
29 сентября (11 октября) 1812 г.
Калужская губерния. Укреплённый лагерь русской армии у села Тарутино.
Тусклая трактирная действительность, с которой твёрдо решил подружиться доблестный командир Финляндского полка, не замедлила поблизости от него породить громкий возглас глубоко нетрезвого человека:
- Друг Теодор! – вскричал, обращаясь к Толстому, какой-то гренадерский майор, – от имени всех присутствующих прошу тебя: расскажи нам ту знаменитую историю, из-за которой тебя прозвали Американцем. А то столько ходит разн…разноречивых слухов, что и не знаешь – каким верить, а каким – нет, – майор чувственно икнул и отвесил поклон.
- Господа, право, она не стоит вашего внимания, – скромно опустив глаза, тихо молвил Толстой, – давайте лучше продолжим игру. Мне так не хватало карточных баталий, пока у себя в имении залечивал рану, коей отметил француз при баталии Бородинской.
Ловкими изящными движениями, граф принялся тасовать колоду.
- Нет-нет, никаких карт! Помилуй, Теодор, уважь интерес общества! – вытянув губы трубочкой, распинался майор. – Господа, поддержите меня, право слово!
Вокруг послышалось хмельное:
- История! История! Да здравствует история!
- Хорошо, но предупреждаю сразу, – нахмурился Американец, – повествование будет о событиях столь невероятных, что такое не снилось ни вам, господа, ни вашим знакомым. Иные дурьи головы, нынче покойные, позволяли себе сомневаться в моей правдивости, а я ведь таких вещей терпеть не могу! Поэтому прошу присутствующих, для их же собственного блага, всяческое недоверие держать при себе и никоим образом его вслух не высказывать. Это – обязательное условие, иначе не стану говорить.
- Согласны! – таков был общий ответ.
Толстой со вздохом отложил карты, проверил, не потухла ли трубка и, подняв глаза к потолку, начал повествование:
- Как вам, должно быть, известно, в году одна тысяча восемьсот третьем мне посчастливилось участвовать в первом российском кругосветном путешествии. Попал я туда потому, что был включён в посольство Резанова, направлявшееся в Японию. С первых же дней плавания наш капитан Крузенштерн меня невзлюбил: придирался к малейшей оплошности, шагу невозможно было ступить, чтобы не наткнуться на его колючий недобрый взгляд. Впрочем, говоря по правде, я платил ему тою же монетой. Мы ведь – антиподы. Он – Иван Федорович, я – Фёдор Иванович. Знаете, дело между нами даже дошло до своеобразного соревнования: кто кому более испортит жизнь.
- Бьюсь об заклад, Теодор, что ты в этом деле преуспел гораздо усерднее, нежели душка-Крузенштерн, – хохоча, воскликнул давешний майор.
- Не преувеличивай, Вернер - счёт был «фифти-фифти», – Толстой глотнул пуншу из чаши и продолжил. – К тому же, соревнование вносило немалое оживление в безрадостное корабельное существование. Поверьте, други мои, на свете нет ничего более скучного, чем кругосветное плавание. Chaque jour[27] одно и то же: дурная пища, вонь немытых тел, унылая океанская стихия да изнуряющая качка.
- А как же неведомые страны, туземцы и прочая экзотика? – воскликнул кто-то.
- Ну, да - это, действительно, давало некоторое разнообразие. Вот, помню, кинули мы якорь у острова Нука-Гива, что в Вашингтоновском архипелаге[28]. Почти сразу наша «Надежда» оказалась окружена большим количеством обнажённых женщин, каковые незаметно подобрались вплавь и стали предлагать разнообразные южные плоды. Знаете, что учинил этот ваш душка-Крузенштерн? Приказал ни под каким видом не пускать нагих дев на борт, и матросы стали отпихивать их баграми да вёслами. А мы ведь к тому времени уже много месяцев находились в море и были лишены женской ласки.
- Неужели так и не удалось расстараться насчёт дикарок? – спросил, подмигивая, настырный майор Вернер.
- Отчего же не удалось? – плутовато улыбнулся Толстой. – Всё устроилось le mieux possible[29]. Мне, по крайней мере, грех жаловаться. Даже вышло хорошенько проучить Ивана-капитана. А дело было вот как. На другой день на «Надежду» пожаловал туземный король Танега Кеттонове с большой свитой. В свите той был даже англичанин, которого каким-то ветром занесло на остров. Там он жил уже седьмой год с туземной женой. Крузенштерн принялся заискивать перед королём, выражения разные разбрасывать, вроде: «ваше величество, это большая честь для всех нас…». Ей богу, даже колени перед тем диким чучелом преклонил! Часы ему серебряные подарил, вполне исправные. А я возьми, да и спроси через англичанина: за какие такие заслуги Танега стал королём? Их туземное величество с большим пафосом мне и отвечает: мол, королём жители острова выбирают самого сильного мужчину, с самым большим достоинством.
- С самым большим – чем? – весело переспросили из аудитории.
- Да-да, господа, вы нисколько не ошибаетесь, – продолжал рассказчик, – именно об этой штуке и идёт речь. По местным обычаям, после смерти короля женщины острова выбирают ему преемника. Нужно сказать, что меня Бог статью не обидел, и я решился спросить, а не позволяют ли обычаи каким-то образом оспорить королевский титул? Танега рассмеялся и говорит: пожалуйста, извольте, коли не шутите. Было бы сказано! Ближе к ночи я взял шлюпку и тайно отправился на остров. Le rite s'est trouvé pas trop agréable[30]: Мы с королём стояли обнажённые в свете факелов, а островитянки подходили, смотрели, щупали и выражали своё мнение. Во время этого действа отметил я одну особенность: чем моложе женщины, тем меньше времени они тратили на изучение нашей анатомии, между тем как старшие проявляли больший интерес. Две старых ведьмы вообще так вошли в раж, что минут двадцать от нас не отходили, а потом как давай тягать друг друга за космы: видимо, не сошлись во мнении. Совершенно непонятная мужскому уму особенность, не правда ли, господа?
Ответом был единодушный смех присутствующих. Максим Крыжановский смеялся громче всех. Его здорово зацепила искромётная история, в которой причудливо переплетались правда и вымысел.
- Так вот, да будет вам известно, что абсолютным победителем соревнования признали вашего покорного слугу, – искренне убеждал собравшихся Американец, – собственно, это с самого начала было понятно. Танега сник ещё тогда, когда я только скинул панталоны. Мог бы и без боя признать поражение: женщин ведь в таких делах ещё никому одурачить не удавалось. А он, убогий, непонятно на что надеялся. Вот так я стал королём дикого острова Нука-Гива. Тут же выяснилось, что к королевскому титулу полагаются немалые привилегии. Во-первых, на тело предстояло нанести особые почётные татуировки, а во вторых, что вполне понятно, никто на острове не имел права ослушаться королевских указаний. Представляете – никто! Ни один мужчина, ни одна женщина…
- И сколько же местных красавиц удостоились чести? – дурным голосом спросил некоторое время назад пробудившийся Жерве.
- Ах, сударь, двадцать, – последовал «скромный» ответ, на что Жерве недоверчиво цыкнул.
Толстой сделал эффектную паузу и продолжил:
- Но это за два дня… Когда же нужда в женском обществе меня оставила, стал я думать, как использовать своё королевское положение в соревновании с Крузенштерном. И, таки-придумал! Вернувшись на «Надежду», я стал вести себя скромнее обычного. О приключившемся на острове, конечно, молчал. Когда же спрашивали о татуировках, что теперь покрывали всё моё тело, неизменно отвечал, что это просто для красоты и экзотики. Но вот, на наш корабль снова пожаловал Танега Кеттонове. Следуя моим указаниям, он продолжал изображать из себя королевскую особу. Крузенштерн же, ничего не подозревая, в этот раз был особенно любезен с дикарём. Как только он не расшаркивался, каких поклонов не отвешивал, каких заверений в дружбе не высказывал! Вдоволь насмотревшись на эту картину, ваш покорный слуга решил, что настал его черёд появиться на сцене. Тотчас я вышел и подал команду: «Танега! К ноге!» Бывший король немедленно встал на четвереньки, приблизился ко мне и стал вилять задом на манер собаки, которую подозвал хозяин. Да так искусно, что стало понятно: в нём погиб великий комедиант. А я взял трость, бросил её за борт и крикнул: «Пиль, апорт»! Туземец ринулся в воду, достал трость и, держа в зубах, принёс мне. За это я потрепал его по щеке и наградил куском сухаря. Можете представить себе физиономию нашего дражайшего капитана, который перед этим спектаклем выражал человеку-собаке всяческое почтение, причём на глазах у подчинённых!
- Так вот за какую проделку вас, граф, высадили на необитаемом острове! – сквозь громогласный хохот честной компании решительно пробился доселе молчавший пожилой подполковник-артиллерист.
- Нет, не за эту, – ответил Толстой, пустив в потолок пару колец дыма. – Да, к тому же, не высадили, а бессовестно обманули и бросили… Позвольте, а откуда вам вообще известно о том, что меня куда-то высаживали?
Артиллерийский подполковник ответил смиренно:
- Фамилия моя – Беллинсгаузен, может, слыхали? Родственник мой вместе с вами плавал на «Надежде» мичманом. От него и наслышан про ваши художества.
- А, Фаддей[31]! Мы с ним были весьма дружны одно время. Но он оказался более привязан к Крузенштерну, нежели ко мне.
- Неужели, Фёдор, ты сотворил нечто более каверзное, чем выходка с дикарями? - хихикнул Вернер.
- Да нет, знаешь ли, сотворил я всего лишь сущую безделицу. И то – в ответ на дурное поведение Крузенштерна. Он ведь, вместо того, чтобы оценить шутку с Танегой и от души над ней посмеяться, стал мелочно и неуклюже мне мстить. То, используя своё положение, безо всякого повода накажет гауптвахтой, то не разрешит сойти на берег в очередном порту, как это произошло в Бразилии.
- А что же ваш непосредственный начальник, граф Резанов - почему он никак не вмешался и не прекратил распрю? – заинтересованно спросил Крыжановский.
Толстой внимательно посмотрел на Максима и стал объяснять:
- Резанов – сущий мизерабль. Совершенно устранился от событий. Почти не покидал каюты. И это несмотря на то, что имел на руках высочайший указ, каковым предписывалось именно ему осуществлять всё руководство кругосветной экспедицией. Иногда только выйдет на люди и давай раздавать глупые распоряжения. Крузенштерна это бесило пуще, нежели мои кунштюки. В конце концов, он так насел на Резанова, что тот попросту стал бояться капитана, никак ему не переча. Последний же полностью узурпировал власть.
Толстой допил свой пунш, помолчал некоторое время, как бы вспоминая былое, а потом вернулся к повествованию:
- Ну, так вот, на «Надежде» с нами плыла обезьяна - самка породы орангутанг, принадлежавшая Крузенштерну. Весёлое, право, существо - не чета хозяину. А уж как была переимчива! Бывало, утащит мою трубку и давай меня же копировать. Как я набиваю табак, как чиркаю огнивом, как пускаю дым. Ну, просто умора! Должен сказать, что мы сильно привязались друг к другу. Раз взял я чистый лист бумаги и начал писать. Обезьяна долго наблюдала, а потом захотела попробовать того же. И стала криками и жестами требовать перо. Я отвёл её в каюту хозяина, когда тот был в отсутствии и дал письменные принадлежности. Поверьте, господа, моя подружка потрудилась на славу: исписала весь шканцевый[32] журнал и кипу прочих важных бумаг. После этой невинной шалости Крузенштерн совершенно взбесился и приказал нас обоих сплавить на «Неву», к Лисянскому. И как только догадался, чьих это рук дело? С тех пор мы с Наташкой, так я назвал славное животное, стали неразлучны до самой её кончины. А Лисянский, видимо, по наущению Крузенштерна, когда однажды пристали к безлюдному берегу, коварно предложил прогуляться, а сам, как только я покинул борт, быстренько поднял паруса и был таков. Мне оставалось лишь помахать вослед шляпой. Так мы с Наташкой оказались одни-одинёшеньки на заброшенном острове в Русской Америке, где нам было уготовано множество невероятных приключений. Но об этом расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас позвольте закончить. Глотка пересохла, а чаша пуста. К тому же, как вы помните, господа, меня преследует неистребимое желание сообразить банк. Думаю, теперь никто не станет возражать, – Толстой потянулся к отложенной на время колоде карт, а другие присутствующие стали живо обсуждать услышанное…
- Постойте, граф, только один вопрос! – подал голос Александр Жерве, который в процессе повествования то просыпался, то снова засыпал. – Смотрите, что получается: боевой опыт у нас с вами примерно одинаковый, ведь оба при Бородине получили ранения в ногу, оба, не вылечившись до конца, поспешили вернуться в армию, но у меня нет вашего опыта по женской части, вот и интересуюсь одной вещью.
- Какой же? – доброжелательно спросил Американец.
- А кто на пробу оказался лучше: дикарки – подданные вашего островного величества, или обезьяна Наташка? – довольный своей пьяной находчивостью, Жерве откинул со лба промокшие от пота волосы и весело захохотал.
Вокруг воцарилась мёртвая тишина. Толстой, прикрыв глаза, молча переваривал услышанное.
Максим понял, что произошло ужасное.
- Сашка! Пьяница! Тебе нельзя бывать в приличном обществе, а ну, убирайся с глаз долой! – с нарочитой сердитостью вскричал он, отчаянно пытаясь исправить положение. А затем встал так, чтоб заслонить Жерве и обратился к оскорблённому Толстому:
- Сударь, со всей приличествующей случаю искренностью приношу извинения за безобразное поведение моего офицера. В этом я тоже виновен, так как сам ему приказал напиться.
Американец не произнёс ни слова, и это молчание воодушевило Максима на дальнейшие объяснения:
- Жерве получил известие о смерти горячо любимой сестры, оттого-то и пьян, что в таком состоянии легче переносится боль утраты.
- Милостивый государь, я вас не знаю, и знать не хочу. Не вы нанесли мне оскорбление, не вам и извиняться. Отойдите в сторону или становитесь секундантом и принимайте вызов, – в глазах Толстого полыхали языки адского пламени.
- Завтра Жерве протрезвеет и публично принесёт извинения, обещаю, – не оставлял попыток кончить всё миром Максим.
- Его извинения мне тоже без надобности!
- Так какого же дьявола вам угодно? – вскричал раздосадованный Крыжановский.
- Мне, милостивый государь, угодно, собственно, всего лишь осознание того факта, что среди живых нет ни одного человека, который мог бы заявить, что ему случалось оскорбить Толстого. Такое осознание тешило меня до сегодняшнего дня, и я хочу восстановить «статус кво».
- Граф, нынче война! – вмешался подполковник Беллинсгаузен. – Следовательно, собственные интересы должно подчинять интересам Отечества. В армии опытных офицеров – с гулькин нос, какие могут быть поединки! То-то француз обрадуется, когда узнает, что вы здесь его работу делаете.
- Вот и хорошо, вот и славненько! – с весёлой беззаботностью ответил Толстой. – Всем только лучше сделается. И мне – allégresse[33], и французу, и господину оскорбителю, который наверняка мечтает воссоединиться с любимой сестрицей. Отчего заминка?
- Вы про Отечество забыли, господин граф, – напомнил подполковник, – в этом заминка!
- Господа, кто из вас не осведомлён, что я с младых ногтей преданно и рьяно служу Отечеству? – грозно спросил Американец. – Не я ли, не щадя живота своего, с несколькими казаками удерживал целый полк шведов при Иденсальме[34]? Не я ли, как только началось французское нашествие, одним из первых вступил в ополчение, хоть мог спокойно отсиживаться в имении? И, наконец, кто, как не я, получил пулю в ногу при Бородино, когда les troupes[35] Понятовского внезапно обрушились на нас, обойдя с фланга?
Граф вскочил и яростно закончил:
- Отечество мне немного задолжало за службу! Я хочу получить плату немедленно! Вон моя плата, – вытянутый палец Толстого указал на мирно уснувшего Жерве. – И плевать на любые смягчающие обстоятельства. Сегодня прощу обвинение в скотской любви, высказанное без малейших на то оснований, comme ça[36], ради забавы, а завтра любой пьянчуга, забавляясь, станет подходить и хлестать меня по щекам! А господа-доброхоты наперебой станут объяснять всё непреодолимыми обстоятельствами!
Толстой взял со стола трубку, выколотил её об сапог, засунул в карман и обратился к майору:
- Вернер, не откажи в любезности - будь моим секундантом.
Тот, соглашаясь, щёлкнул каблуками и изобразил поклон, дёрнув подбородком.
- Господин Толстой! Вы, кажется, изволили заявить, что среди живущих на свете нет никого, кому доводилось прежде хлестать вас по щекам? – громко и отчётливо произнёс Крыжановский. – Так вот, у меня есть основания утверждать, что это соответствует действительности ещё меньше, чем ваша туземная история!
Американец повернулся, подошёл вплотную и тяжело уставился в то место на мундире полковника, где у того красовался орден Святого Владимира. Затем граф медленно поднял глаза и посмотрел на Максима снизу вверх.
- Потрудитесь объясниться, сударь, а то в стремлении защитить приятеля вы переходите всяческие границы. Более того, у меня даже начинают возникать сомнения в вашем здравом рассудке.
- Господа! – обратился Максим к присутствующим. – С полной ответственностью заявляю, что мне известно имя человека, несколько лет назад отхлеставшего по щекам графа Фёдора Толстого, прозванного Американцем. И тот человек не только живёт и здравствует, но даже присутствует в этой комнате.
Толстой посерел лицом, дрожащими пальцами взял со стола бутылку вина и жадно припал к горлышку. Когда бутылка опустела, он грохнул её об пол. В гробовой тишине звук получился как от выстрела.
- Должен сознаться, сударь, не имею чести знать вашего имени, что вам удалось отвлечь моё внимание от жалкой фигуры пьяницы и заинтересовать собственной персоной. Я жду!
- Очень хорошо, граф. Но прежде, чем продолжать, мне необходимо удостовериться вот в чём: узнав имя отхлеставшего вас и, получив доказательство истинности сказанного, прекратите ли вы тогда бросаться как бешеный пёс на несчастного Жерве?
- Вот ещё! Я зашёл в этот le cabaret[37] для того, чтобы спокойно скоротать вечерок за картами в компании добрых собутыльников. Вместо этого, безо всякого повода, на меня набрасываются все, кому не лень, и подвергают жутчайшим, неслыханным ранее, оскорблениям… Могу обещать одно: Жерве я убью позже. Вначале же дождусь, когда вы закончите свою мистификацию и вызову на поединок вас. Нет, не так, чёрт возьми! Зачем выслушивать всякий вздор! – Толстой, что есть силы, стукнул по столу кулаком. – Милостивый государь, я немедленно вызываю вас! Извольте выбрать оружие и назвать условия!
- Постойте, граф, – подал голос Беллинсгаузен, – не нужно спешить. А то может создаться впечатление, что вы кровно заинтересованы в том, чтобы полковник молчал.
- Пусть говорит, мне нечего скрывать! Но вызов уже сделан, и отменять его я не собираюсь ни при каких обстоятельствах, клянусь честью!
Взоры присутствующих обратились к Крыжановскому. Тот пожал плечами и без утайки поведал обстоятельства спасения Толстого со дня озера.
- Помещик Крыжановский!!! – вскричал Американец, проводя рукой по лицу, – человек, которого я никогда не видел, и кого доселе не представилось случая отблагодарить за спасение от верной смерти. О, что за фатальное совпадение!
- Полковник Крыжановский, – поправил его Максим, – к вашим услугам.
- Ах, сударь, зачем же вы не назвали себя сразу! Да зная, кто передо мной, я с радостью подарил бы вам этого Жерве! А что прикажете делать теперь, когда мною принесена порука честью в том, что ни при каких обстоятельствах не отменю поединка? – Толстой опустился на лавку.
И тут ему послышался голос. Очень приятный женский голос, произнесший только одно слово: «Судьба!»
Граф начал озираться по сторонам, но в трактире ни одной женщины не оказалось. Стряхнув наваждение, он решительно заявил:
- Вот что, когда встанем у барьера, свой выстрел я направлю в воздух, а вы поступайте, как заблагорассудится.
- Какой смысл был называть себя, – хмыкнул Максим, – сами же не хотели меня знать. Ничего, впредь будет вам наука: станете наперёд думать, а потом уж делать вызовы. Что касается стрельбы в воздух, то, по всему видно, что человек вы порывистый и непостоянный. Сегодня можете быть во власти благородных чувств, а завтра уже смотреть на вещи по-иному. К тому же, поскольку выбор оружия за мной, не стану я выбирать пистолеты. Не жалую их, знаете ли…
Нужно сказать, что своей беспардонностью Фёдор Толстой привёл Максима в сильное раздражение. Больше всего возмущало нежелание графа считаться с чем-либо, кроме собственных интересов. Из-за этого у полковника появилось настоятельное желание преподать наглецу урок. Холодно и отстранённо он стал взвешивать шансы. Толстой – прекрасный фехтовальщик, по крайней мере, так о нём отзывался Севербрик[38]. Но вот об искусстве самого Севербрика Максим был не лучшего мнения.
- Граф, что предпочитаете: сабли, шпаги или палаши?
Толстой отмахнулся и произнёс нараспев: – Не в воздух стану целить я, но в собственный висок. Иначе честь не уберечь: судьба!
- Право, это чистое ребячество! – возмутился Беллинсгаузен. Любому ясно: вышло недоразумение. Причина для ненависти, коей был ослеплён Фёдор Иванович, растаяла в воздухе. Не пора ли вам, господа, пожать руки и подумать о более важных вещах. Надеюсь, вы ещё помните о той беде, что нависла над Россией-матушкой? А, коли кровь разыгралась в жилах, взяли бы, да совершили какой-нибудь геройский поступок, столь же опасный как дуэль. И честь сохранится, и польза выйдет…
- К примеру, можно прогуляться в Москву и нанести визит господину Буонапартэ? Захватить его тёпленьким, связать полотенцами и привезти пред светлы очи светлейшего князя Михаила Илларионовича, – предложил кто-то из присутствующих.
- Не подходит! Бонапартия охраняет старая гвардия. Сквозь её штыки никто не пробьётся, – с деланным интересом поддержал говорившего подполковник Беллинсгаузен.
«Вот хитрецы, хотят увести разговор в сторону от дуэли», – усмехнулся про себя Максим. И тут внезапно его осенила весьма занятная идея.
- Прошу внимания! – вскричал Крыжановский. Ставлю всех в известность, что вызов графа мной принимается. Следуя правилам, объявляю условия поединка. Подполковник прав: до императора французов никак не добраться. Проще уж стреляться через платок: так, по крайней мере, один из двоих останется жив. Но в Москве ведь нынче гостит великое множество врагов Отечества. Вы, Толстой, кажется, упоминали некоего Понятовского как косвенного виновника своего ранения? Не скрою: у меня к этому господину тоже есть приватный разговор…, – Американец вскочил с лавки и с надеждой уставился в глаза Максиму. Тот продолжил. – Предлагаю сейчас же отправиться в Москву и предпринять всё возможное для умерщвления князя Юзефа Понятовского. Спор между нами будет считаться законченным со смертью означенного князя или же со смертью одного из нас. Оружие – на усмотрение сторон. Остальное оговорят секунданты.
Со стороны Толстого таковым, как уже известно, сделался Вернер, со стороны Крыжановского вызвался Беллинсгаузен.
- Максим Константинович! – с чувством молвил Американец. – Ранее вы спасли мне жизнь, теперь же спасаете честь. Надеюсь, что судьба представит шанс выплатить сей долг. К тому же, мне дан хороший урок. Господа! – обернулся он к присутствующим. – Торжественно обещаю, что à l'avenir[39] не стану устраивать дуэли, не выяснив прежде душевной ценности противника, чтоб не лишить ненароком жизни человека достойного.
В этот момент Жерве, неловко повернувшись во сне, столкнул со стола винную бутылку. Хлопок от разбитого стекла, как и в предыдущий раз, снова напомнил звук выстрела.
Глава 4 Честь sub judice[40]
29-30 сентября (11-12) октября 1812 г.
Калужская губерния.
Никаких планов по осуществлению задуманного дуэлянты решили не строить, а положиться на удачу. Натуре Американца совершеннейшим образом претили всяческие планы, а Максим обладал достаточным военным опытом, чтобы усвоить абсолютную истину: всякий план хорош до первой встречи с неприятелем.
Однако же, будучи людьми, привычными к батальному делу, оба хорошо понимали всю степень опасности затеянного предприятия. Пусть их дуэль начиналась, словно причудливая шутка судьбы, но отступить без урона для чести теперь уж не представлялось возможным. А значит, оставалось со всей серьёзностью подготовиться к делу, и этим уменьшить ущерб от тех неприятных сюрпризов, каковые наверняка во множестве таило грядущее.
Условившись встретиться у Максима, поединщики на время разошлись по своим надобностям. Крыжановский сходил на аудиенцию к непосредственному начальнику и давнему приятелю генерал-майору Карлу Ивановичу Бистрому[41], у которого испросил соизволения отлучиться на три дня для улаживания дела чести. Затем посетил расположение полка, отдал необходимые распоряжения и вернулся на квартиру.
В освещенной лучинами горенке пыль поднималась столбом – то кашляющий Максим с остервенением раскидывал в углу рухлядь, доставшуюся в наследство от прежних хозяев. Он уже переоделся, и теперь был в партикулярном платье и тяжёлом плаще с пелериной. Сапоги со шпорами, впрочем, остались прежними.
- Илья! – крикнул он. – Илья, будь любезен, мать твою! Явись, где ты запропал, курва!!!
Приоткрылась дверь, из проема жалобно отозвались:
- Туточки мы, ваше высокоблагородие, подле самоварчика колдуем! – испуганный солдатушка в кои-то веки полностью выговорил положенное полковнику титулование.
Максим хмыкнул и много спокойнее проворчал:
- Ты, никак, опять решил от воров сабельку прятать?
- А как иначе-то? – удивился Ильюшка. – Утянут ведь, тати окаянные! Я ее на ночь и положил сюды!
- «Сюды», – передразнил Максим. – Давай, теперь, сам копайся! – добавил он, отступая от кучи хламья.
Денщик принялся разбрасывать подушки. Пух и перья радостно взметнулись под потолок. Рыжеватая макушка замелькала в белёсой круговерти, словно песчаный островок в штормовом море, что тут же заметил вошедший в комнату Толстой.
- Прекратите, – сказал Максим и скривил губы, как от зубной боли.
- Он – поляк, и не пускает мишурою пыль в глаза! – захохотал Толстой. – Зато вот пылью затравить – это запросто!
- Прекратите, – повторил Максим. – Не терплю гусарщины! К тому же, Илья – финн! Польский – я!
Толстой нисколько не смутился:
- Я, ваша милость, слышал вас, но мне не верится, простите! Впрочем, давайте кончим первую дуэль, потом продолжим пикировку!
- Готово, вашвысбродь! – обратил к присутствующим бледное лицо Ильюшка.
- Поди прочь, чухонец! – гаркнул Максим. И видно было, что полковнику дорогого стоило проводить денщика столь «мягким» словцом.
- Сколько чувства, сколько ласки! – осклабился Толстой, но взгляд его уткнулся в спину Крыжановскому – тот уже прошел в угол и склонился над внушительного вида ящиком. Постучал по скобам, выругался, в итоге в сердцах пнул короб, и тот отворился.
- То-то же! – победоносно резюмировал Максим.
Толстой за его спиной иронично воскликнул:
- О, célèbre coffre[42]! Мне, определенно, нужен такой же! Хотя бы на память о славных днях сих! Ведь вы сможете это устроить, не так ли?
- Сундук как сундук, – пожал плечами Крыжановский.
В дорожном чемодане, который Толстой обозвал сундуком, не особо погрешив против истины, хранилось нечто блестящее и абсолютно прекрасное.
Полушутя-полусерьезно, Максим с трепетом поднял верхний клинок. Оружие идеально легло в руку. Слегка поведя кистью, полковник перевел его из нижнего положения в верхнее.
- А что, граф, может, не следовало нам создавать все эти сложности с экспедицией за Понятовским в Москву? Взяли бы, да и решили вопрос поединком на саблях, – Крыжановский встал в позицию, сделал молниеносный выпад и продолжил:
- Нынче, в Отечестве, правда, такое оружие не модно. Записные дуэлянты вроде вас предпочитают пистолеты, но что мешает двум благородным господам создать прецедент?
- Неужели вы этим деретесь? – изумился Толстой, едва стряхнув с себя восхищение, вызванное сияющей пестротой эфеса и прямыми благородными линиями клинка.
- Очень редко, – ответил Максим медленно, – он у меня для особых случаев! И для особенных господ! Таких, что всюду сыплют французскими словечками да неуместными стихами!
- Ecoutez[43], – закричал Толстой, смеясь. – Ужель судьбою суждено мне пасть от той руки, что дружески пожать мечтаю?
В глазах Крыжановского мелькнуло нечто, словно по зеленому сукну, прокатились гранёные игральные кости. Он мрачно обронил:
- Кто может знать свою судьбу?! – И явил пред взором Американца второй клинок – фамильную саблю, перешедшую по наследству от отца.
«Иранский шашмир или турецкий клыч, – моментально определил граф, несмотря на всю свою буффонаду[44] неплохо разбирающийся в холодном оружии. - Нет, пожалуй, все-таки шашмир: клинок чуть массивнее и тяжелее, чем у клыча, хотя более узкий, с плавным изгибом. Сабля для рубки и для укола. Optima! В верхней части рукоять отогнута под прямым углом, британцы называют такие levée».
- Семнадцатый век, не так ли?
- Точно! – воскликнул с удивлением Максим. – Клинок выкован из дамаска, и это действительно позапрошлый век. Но эфес и ножны заменены пять лет назад Буте. Отец сделал ему заказ за год до своей кончины.
Хозяин Версальской оружейной мануфактуры, чьё имя упомянул нынешний владелец сабли, почти превзошёл безымянного мастера семнадцатого века. Золочёную рукоять украшали эмаль и рубины, навершием гарды служила голова грифона с сапфировыми глазами. На крыже[45] красовалась латинская надпись: «Pro fidem et honor![46]»
Максим прикрыл глаза и вспомнил слова отца, сказанные при вручении сабли:
- От «крыжа» пошла наша фамилия. И, коли не будешь знать, как поступить - прочти то, что на нём написано.
С тех пор прекрасное оружие уже успело отведать крови. Иногда Максиму казалось, будто оно само кидается на врага и с тихой грустной трелью сносит головы. Тяжелая верхняя часть клинка, так называемая елмань – маленькая хитрость, подсмотренная у турок, многажды доказывала эффективность в бою. Шведские каски и кирасы разбивались тяжелой елманью. Французского же тонкого послевкусия клинок пока ещё не знал.
- Вы, я вижу, тоже не с пустыми руками отправляетесь в путь-дорогу? – отвлёкся от любимой сабли Максим.
На прихлопнутую крышку сундука вспрыгнул не удостоенный прежде внимания графский саквояж. Его содержимое, как и следовало ожидать, безупречно соответствовало вздорному духу и опасному образу жизни Американца. Каких только изрыгающих пули приспособлений там не было!
- Да у меня так, по мелочи, – объяснил Федор. – Самые любопытные экземпляры в багаж не влезали!
Из саквояжа на свет появились: безотказный кремневый пистолет, родившийся в парижской мастерской, принадлежащей семье Ле Паж, и еще один – весьма похожий, но чуть более облегченный образец; цельнометаллический шотландский пистолет работы Мардоха Дунского года эдак одна тысяча восьмисотого; морской британский, напоминающий «пищалку», прозванную на родине «пушкой королевы Анны»; пара-тройка безынтересных и незамысловатых казнозарядных пистолетов и двуствольный кремневый, чрезвычайно крупного калибра – Максим взглянул на клеймо – «Лондон, Дюрс Эгг». Все перечисленные экземпляры представляли примерно половину содержимого саквояжа.
«Тяжёлая, однако, сумочка», – подумал Крыжановский.
- Что же, mon ami! – вздохнул Толстой, внимательно наблюдавший за реакцией полковника. – Вижу, впечатления на вас я не произвел!
- Ни одного имени русского, – поморщился Крыжановский. – Лишь немцы поганые!
- Да ну? – изумился Толстой. – То-то я гляжу, в вашем coffre собраны исключително московские да тульские заводы!
Крыжановский только собрался возмутиться, но тут последовало еще более невежественное замечание.
- И вообще, – нарочно хмыкнул Толстой. – Вы что, помешались на саблях? Самое достойное оружие, можно подумать!
Недовольно прищурив глаз – еще бы! Коснулись любимого предмета! – Крыжановский сказал, как пропел:
- А вы прикáжете ворочать теми ужасными шпагами, что одарило нас командование? Или убивать на расстоянии, зная, что от пули нет защиты?
Глаза Толстого зло сверкнули – бретер в его нутре был едва ли слабее дворянина.
- Вы намекаете на ваш девиз? – спросил он. – Honor, дорогой друг, позволяет мне одинаково легко бить человеку в лицо кулаком, колоть шпагой или стрелять из пистоля! И разница лишь в том, что в Империи пистоли традиционны! Как вы, наверное, знаете, вызовщиком почти всегда являюсь я сам! Значит, оружие выбирает мой визави[47]! Значит…
… Значит, – перебил его Максим, – примите подарок, уж не побрезгуйте, граф. Мало ли, пистолет откажет. А клинок – никогда! С этими словами он протянул Американцу ту замечательную саблю, что первой появилась из дорожного чемодана.
Граф принял её, одарил Максима искрой во взгляде и, раскрыв свой саквояж, сказал просто:
- Выбирайте.
Полковник взял себе оба «ле пажа».
- Простите, mon ami! – сказал граф, улыбаясь и прижимая руку к сердцу. – Я запомню: Le autel et l'honneur !!
- La religion[48]! – поправил Крыжановский.
На пороге Толстой сказал: «Как вам угодно!», и оба вышли под набухшее дождем вечернее небо.
Через дорогу они сразу же приметили известного своими пьяными штуками генерал-майора Семенова, поддерживаемого в устойчивом положении усилиями ординарца. Последний, безусый ещё мальчишка, что есть сил пытался не пускать начальника в земляную избёнку, где, как было известно Максиму, квартировала семья маркитанта. Генерал зычно ревел и ломился в бревенчатую дверь, натурально походя на медведя – неуклюжего до времени. Дверь не поддавалась – видимо изнутри подперли чем-то тяжёлым.
Завидев вышедших на крыльцо дуэлянтов, Семёнов тут же оставил избу и стал радостно размахивать в воздухе ручищами, чем ещё больше напомнил косолапого. Адъютант облегчённо вздохнул.
Толстой поморщился и тихо обратился к Максиму:
- Теперь его превосходительство будет говорить глупости, а моё сиятельство станет отвечать. Прошу вас, полковник, не придавайте этому значения!
- Что же вы, Василий Игнатьевич, – много громче обратился Толстой к подошедшим, – все еще не отправились к madam douce?
- Mon ami Fedoras! – вскричал генерал радостно, а Толстой зло шепнул: «Сам ты «федорас»!»
- Mon ami Fedoras! – повторил бригадир и прослезился.
Он безуспешно пытался схватить руку Толстого, но тот ловко уклонялся, делая вид, будто указывает дорогу. Куда дорогу и зачем, несущественно.
- Граф! – тихо сказал Крыжановский, – если он вам сейчас скажет какую-нибудь колкость, не смейте и думать, чтобы сделать вызов!
Толстой отвлекся, а генерал, воспользовавшись этим, поймал его ладонь.
- Ешута!
Ординарец испуганно вздрогнул.
- Ешута! – заорал генерал громче прежнего. – Граф! Требую окончания историйки!
- Давайте в следующий раз! – ответил Толстой, высвободил, наконец, руку и кисло возразил:
- Окончания попойки, а не историйки вы требуете!
- Позвольте, граф! – запротестовал Семёнов. – Анекдот хорош концом! Без концовки – это и не анекдот вовсе!
- Ну, хорошо, monsieur, – ядовито прошипел Толстой и открыл, было, рот, чтоб окончить историю.
- Граф!
Толстой закрыл рот.
- Граф, – повторил Крыжановский, – смею предположить, с прошлого раза финал истории изменился?
- Да, полковник, – смиренно ответил Американец, хотя блеск в глазах отвергал малейшее смирение, и повернулся к Семёнову.
- Право, генерал, уже пора домой! Какое вам дело до госпожи Ешуты? Ну, лежала и лежала[49] – таких красавиц всегда было вдосталь еще со времен Александра Великого!
- Или раньше, – пробормотал бригадир.
- Конечно, раньше! – кивнул Толстой. – Пойдемте, я провожу вас! Эй, прапорщик! – махнул он ординарцу, – Ну-ка, подставляй плечико!
Крыжановский остался дожидаться посреди улицы.
- Куда-то денщик ваш помчался, – пробормотал возвратившийся Толстой, – право слово – чистый заяц, только пятки мелькали.
- Илья? – удивился Максим. – Вот уж не знаю! Куда бы ему направиться? Обычно сиднем сидит в избе, добро сторожит.
Толстой сделал вид, что задумался.
- Куда бы вы пошли, граф, – продолжал Максим, – если бы были лакеем, а ворчливый барин убрался посреди ночи? Куда?
- О, mon ami! – хохотнул Толстой. – По-моему, ваш отрок слишком молод для этого!
Хотя Крыжановский и говорил, что не терпит гусарщины, но не удержался – улыбнулся: уж слишком забавное зрелище представилось – денщик в борделе! Смеющиеся женщины, мятые гусарские доломаны[50], небрежно сваленные на диван, дым над биваком – видно аж в столицах, и посреди этого разгула – Ильюшка-отрок. Зрелище – нелепее представить сложно!
- Вряд ли, граф, – сказал Максим. – Однако рад, что вы не заподозрили в моем человеке филёра!
- Как бы не так, сто к одному, что он, шельма, подслушивал под дверью, – без обиняков заявил Толстой.
- И верно, – смутился полковник. – С него станется…
Было около трёх часов утра, когда они дошли до конюшни и вывели лошадей. Конюх спал у ворот в обнимку с пустым кувшином.
Сытые и истосковавшиеся по скачке кони пошли резвой рысью, и вскоре лагерь русской армии скрылся в вечерней мгле. Совершив большой крюк, чтоб оставить в стороне французские позиции, дуэлянты выехали на Калужскую дорогу.
- Максим Константинович! – нарушил молчание Толстой. – Верно, князь Понятовский сейчас спокойно почивает себе, и невдомёк болезному, что мы с вами отправились по его грешную душу. Кстати, если не секрет: что у вас там вышло с этим благородным господином?
Крыжановский поведал Американцу драматические подробности встречи на Бородинском поле, а затем добавил:
- Ежели честно, у меня нет серьёзных претензий к генералу. Не в нём, собственно, дело. Просто в трактире сложилась весьма щекотливая ситуация: либо нам предстояло драться друг с другом, либо найти постороннего противника. Имя Понятовского всплыло из-за вашего ранения. Ну и Отечеству от устранения князя польза может выйти немалая. Ибо сей человек – злобный и последовательный ненавистник всего того, что мило сердцу русского человека.
- Пожалуй, соглашусь, – воскликнул Толстой, – Понятовский – враг несноснее самого Бонапарта. Так что цель выбрана весьма верная и оттого, пожалуй, даже скучная. Но остальное… В моей непутёвой жизни бывали разные дуэли, нынешняя же - их всех пуще выходит. Экий вы, однако, выдумщик, Максим Константинович. Будьте благонадёжны, о наших приключениях станут говорить. И ещё как станут!
- Если будет кому о них рассказать…
- Верите, – словно не слыша собеседника, продолжил граф, – не могу отделаться от странного ощущения: будто не мы по своей воле затеяли сие безумное предприятие, но нами распорядилась судьба… Словно карты так легли!
Максим сильно вздрогнул, а его лошадь испуганно фыркнула, но Американец того не заметил: он откинулся на луку седла и смежил веки.
Не сказать, чтобы Крыжановского сильно раздражала манера Толстого держаться в седле, но она определенно смущала. Граф едет, прикрыв глаза, и голову держит так, будто ненароком задремал, только корпус отклонён странно… Нельзя так сидеть – и всё! Вот, чёрт, – понял, наконец, Максим, – положение идеально для того, чтоб быстро выхватить это его чудо-ружье.
Укороченный карабин о семи стволах, притороченный к седлу Американца и любовно укрытый полунагалищем[51], словно пойманный в силок горностай, томился в ожидании свободы. Немногим довелось повидать (а кто видал, те не скажут) «ружье залпового огня» Джеймса Уилсона, правда, слегка исправленное неким мастеровым. «Слегка» в понимании Толстого значило, что от старого ружья остались лишь сами стволы, курок да замок, а все остальное постепенно заменили. Вот и получилось, что оружие, выдававшее семь пуль за один залп, превратилось в карабин, способный стрелять поочередно или попарно. Если Толстой не врет, конечно. А он не врет. И пусть славят его негодяем и безжалостным убийцей, но что-то подсказывало полковнику: старый-новый знакомый хоть и обладает изрядной долей цинизма, все же - человек достойный.
- Граф, позвольте вопрос, – начал Максим, когда они покрыли уже порядочное расстояние.
- Прошу вас, mon colonel.
- Скажите, Фёдор Иванович, велика ли, по-вашему, разница между дуэлью и убийством? Мне, к примеру, представляется, что это - один грех.
- Знаете, полковник, – стал отвечать Толстой после паузы. – Едва судьба делает entrechat[52], как многое начинает терять значение. Всё идёт по накатанной, да так, что и не свернёшь: выбор оружия, секунданты и прочее. Думаете, я рад? Поверьте, это тяжело… Нет, я не о грузе совести! Тяжело другое: сама мысль, что именно ты ответствен за жизнь другого человека и волен оборвать её или оставить… И решение должно принимать быстро, иначе оборвут твою собственную жизнь.
- Знаете, – продолжил Толстой, не отрывая взгляда от луки седла. – Знаете, а ведь это неправда про меня и обезьяну… Слух распустил, конечно, не ваш Жерве – эта свинья лишь повторил чужую придумку. Узнать бы, чью…
Карканье над головой заставило спутников посмотреть вверх. На фоне черноты, готовой разразиться ливнем, кружили десятки, а может, и сотни ещё более тёмных теней.
- Право, полковник, я благодарен за откровенность. Другой бы, молча, держал за пазухой камень на мой счёт, улыбался притворно, но ваша душа – честная и светлая, что клинок фамильной сабли, – сказал Толстой серьезно, опять закрыл глаза, откинулся немного назад и застыл, переживая напряжение не в меру разоткровенничавшегося молодого позёра.
Кони шли медленно, противное чавканье грязи отсчитывало расстояние.
- Я искренне рад, Максим Константинович, – снова заговорил Толстой, – рад, что вы не спешите осуждать меня. Уверен, что в прошлом вашем не было ничего ужасного или демонически несправедливого, но все же…
Крыжановский оглянулся на спутника.
- И все же, вы не обвиняете, – Толстой покачал головой. – Это странно.
- Вы хотели сказать, что это la bizarrerie[53]? – спросил Крыжановский.
- Да уж, – усмехнулся Толстой. – Если вы, mon colonel, переходите на французский, значит, душу начинает бередить не меньше моего!
- Может, оно и так, – кивнул Максим. – А если вы уже пять минут как не ерничаете, значит, скоро наступит конец света!
Тут же, словно дождавшись этих слов, вверху разверзлись хляби небесные, и на путешественников обрушился ужасающий ливень. Одежда быстро промокла и перестала служить защитой от холода и влаги. Ноги лошадей увязали теперь по самые бабки. Путь стал казаться грязным и проклятым. Хотелось поскорее добраться хоть до какого-нибудь места.
Глава 5 Проклятое село
30 сентября (12) октября 1812 г.
Безлюдное сельцо с утерянным названием в пятидесяти верстах от Москвы.
Очень и очень нескоро показалось придорожное село. Дождь прекратился, и острые рассветные лучи, пробившись в прорехи между тучами, косили вздымающиеся клубы тумана.
- J'ai un brouillard sur les yeux[54], – меланхолично пробормотал Толстой, кутаясь в плащ.
Когда приблизились к первым постройкам, Максим обратился к графу, который утверждал, что здешние места ему знакомы:
- Что за селение?
- Кто его разберёт? – ответил Фёдор беспечно. Крыжановский долго вертел потрёпанную карту, а затем молвил неуверенно:
- Вороново, вроде бы… Нет, не то. На карте сие место не обозначено.
Под копытами лошадей загрохотал деревянный настил моста через речушку, что текла на дне широкого оврага и делила деревню на две части. Верховые натянули поводья и остановились, настороженно оглядываясь. Беспокоило то, что вокруг – ни души, но ведь крестьяне обычно просыпаются ни свет, ни заря, стало быть, им уже пора появиться.
- Бабы-дети не орут, собаки не лают…, – процедил Толстой, – нет тут никого – всё живое разбежалось.
- Здесь могут быть французы! – напомнил Максим.
- Будет вам! Если и стоят в селе враги, то лишь небольшой отряд. Иначе в утренней тиши мы бы их уже услышали, – щёлкнул пальцами Толстой.
Ветер донёс запах пожарища. Казалось, огонь слегка затронул одну-единственную избу на краю деревни. Но, стоило только приблизиться, и картина прояснилась. Не изба это была, а церковь! А край деревни оказался её центром - просто, половина домов сгорела до основания.
Шагах в пятидесяти впереди раздался залихватский свист, а вслед за ним – пьяный хохот. Крыжановский рванул spornstreichs[55], как это прежде называл Мишель Телятьев. Звон подков служил полковнику кличем, внимание же всецело переключилось на руку, привычно выхватившую саблю.
За почерневшей, с завалившейся стеной церквушкой, шла забава. Встав кругом, человек пять мужиков в разномастной и драной одежонке швыряли друг другу почти бездыханного священника. В одном подряснике, простоволосого, с разметавшейся седенькой косицей и жиденькой бородёнкой.
- Ответствуй, поп, куды схоронил церковное серебро! – рычал какой-то рыжий детина.
- Не убоись тело убивающих, а устрашись на душу посягнувших, – тонко голосил несчастный батюшка.
Когда Крыжановский на всём скаку вылетел из-за угла, мужичьё замерло, а Максим с удивлением понял, что рядом нет Толстого.
«Где же ты, чёрт цыганский? Ни в жизнь не поверю, что…! Кто угодно, но не ты! Столько смертей повидать, чтоб теперь хамов испугаться!»
В толпу он врубился отчаянно и широко замахал саблей, не думая отводить чужие удары. Через минуту в живых остался лишь рыжий молодчик с медной серьгой в ухе, да батюшка, что кулем осел в углу.
Рыжий вынул из сапога багинет[56].
- Псина, душу вышибу! – сквозь зубы шикнул полковник.
Он замахнулся, но рука дрогнула, потому что сзади послышался злобный разноголосый рёв. Сабля завершила движение неровно: кусок щеки и ухо рыжего вместе с серьгой упали под копыта лошади.
Из незаметного, спрятанного в досках подпола выбирались разбойники (сомнений в том, кто это такие, теперь, не оставалось). Не меньше десятка, в руках – вилы, переделанные для боя косы остриями вверх, пара шпаг, попавших в лапы явно незаконно. Ни ружьишка, ни пистоля.
Лихие люди встали полукольцом, и вырваться Максиму можно было только тем же путем, каким пришел. «Ах, черт возьми!»
- Подлые fourrageures! – звонкий молодой голос раскрылся голубым куполом над черным пепелищем. – Прошу сложить оружие и сымать портки! Нынче великодушные господа будут вас пороть! Верно я решил, mon colonel?!
- Вполне верно, друг мой, – ответил Крыжановский облегчённо. От сердца отлегло: «Не ушел, не ушел, Американец! Тут он, вот стоит! Просто позицию для стрельбы выбирал, добрый король дикарей!»
Разбойники опешили. И прежде, чем успели на что-то решиться, грянули выстрелы. Семиствольный зверь проснулся и ринулся на охоту. Семь раз пули вкусили мясца, и семь тел бездыханными рухнули наземь. На ногах оставалось теперь только трое разбойников, да рыжий, ползая, пытался отыскать отрубленное ухо. Видно, дорожил серьгой.
- Не стреляйте, граф – позвольте прежде допросить этих бл…ей! – крикнул полковник и, глянув ненароком в сторону, обомлел: поодаль, у стены, лежали трупы - мужчина, три женщины и ребёнок.
- Ваши милости, не губите, Христа ради! – завыл, пресмыкаясь, рыжий. – Бес нас попутал, окаянных!
Остальные разбойники пали на колени и принялись вторить своему предводителю:
- Бес попутал!
Максим спрыгнул на землю и чеканной походкой двинулся к разбойникам.
- Чьих будете, трупоеды?
- Парчизаны мы… – проблеял рыжий.
- Кто-кто? – зло переспросил Крыжановский.
- Percnoptère[57], – невинно подсказал Толстой.
- Какие же вы партизаны!? Нехристи вы, коль посмели церковь спалить и поднять руку на батюшку! А этих несчастных - за что? – Максим указал на убитых крестьян.
Разбойники замолчали и потупились.
- Ну, что ж, придётся учинить кригсрехт[58]. Граф, у вас есть возражения? – полковник оглянулся на Толстого. Тот нарочито медленно заканчивал перезаряжать карабин. Эти действия содержали вполне однозначный ответ.
- Во исполнение приказа Главнокомандующего объединённой русской армией его высокопревосходительства генерал-фельдмаршала Голенищева-Кутузова сих разбойников и осквернителей святынь, пойманных на месте преступления, надлежит покарать смертью, – произнося эти безжалостные слова, Максим смотрел поверх голов осуждённых.
Рыжий зарычал:
- А ты, барин, сам кто таков будешь, что приговоры берёшься выносить?
- Офицер, дворянин…просто русский человек!
- Мало кровушки народной попили, проклятые, – кликушествовал рыжий. - Ничё-ничё, скоро хранцузы до вас доберутся, сатрапы! – голос бандита окреп и стал зловещим, – грядёт уже инператор Наполеон и несёт в Рассею волю вольную, свободу от рабских цепей. И восстанет простой люд, и прокричит славу освободителю, и скинет иго кровососов…
- Вон из церкви, твари, не оскверняйте смрадом освящённую землю, – Максим стукнул рыжего саблей плашмя, а затем брезгливо отёр лезвие о пожухлую траву.
Разбойники гуськом потянулись с церковного подворья.
- Разбегайся, робяты! – внезапно взвизгнул рыжий, и прыгнул на забор. На нём и повис, получив в спину цельный[59] выстрел от Американца.
За остальными пули тоже гонялись недолго.
«Все кончено… Все… кончено…» – вяло думал Максим. После лихой рубки и последующей расправы с негодяями мысли его вязли и текли еле-еле. Он не замечал, что уже минуту пялится на то, что при жизни было крестьянским дитём. Толстому же давно следовало окликнуть компаньона, но он сам пребывал в похожем состоянии. Только глядел не на останки несчастных, а поверх пожарища – на искрящееся мокрое солнце.
«Хорошо, что этих maraudeures оказалось немного! Иначе мы бы лежали разделанные и поджаренные не хуже вашей смаженины!» - подумал граф.
- Спасибо, добрые люди, – послышался голос священника. Был он теперь на ногах и смотрел с неподдельной благодарностью. – Я – отец Ксенофонт, пастырь местного прихода.
- А где же ваша паства, святой отец? – поинтересовался Толстой. – Отчего население не стало противиться разбойникам? Шайка-то оказалась малочисленной…
- Кто противился, тех убили. Уж седьмица минула как эти упыри пьют нашу кровушку. Жители в большинстве ушли из здешних мест, а Ходышевы, – святой отец кивнул на перебитую семью, – прятались у меня, в подполе…
Сокрушаясь, батюшка покачал седой головой, а затем продолжил:
- Храм и другие дома разбойники ещё третьего дня спалили, в отместку за то, что я оклады с икон и утварь им не выдал. А сегодня снова нагрянули, проклятые, и давай меня пытать: куда, дескать, подевал серебро. А маленький Никитка в подполе возьми и заплачь… Ивана сразу порешили, а над бабами ещё глумились. А потом и мальца… багинетом… чтоб прекратил кричать, – из глаз священника покатились слёзы.
- Послушайте, отче Ксенофонт, а откуда взялась та ересь, которую нёс рыжий мерзавец, будто Наполеон дарует волю-свободу? – спросил Крыжановский.
- Это Федька-ирод – тот, рыжий! Из дезертиров он. Появился в деревне, собрал таких же, как сам – без царя в голове, и давай народ смущать, против помещика местного настраивать. А он-то, помещик Сильвестров, душа-человек, в ополчении воюет. Его усадьбу разграбили первой. А ересь Федькина – от Антихриста. Федька – он ведь пришёл из французского плена, отпущенный.
- Наполеоне Бонапарте, что ли, Антихрист? – подал голос Толстой.
- Сын мой, вижу, что ты духовно слеп. Даже не спрашиваю, когда в последний раз посещал Храм Господень и когда слышал проповедь, – с суровостью ответствовал отец Ксенофонт. – Да будет тебе известно, что Православная церковь ещё пять лет назад с амвона провозгласила Наполеона не Антихристом, но предтечей его. Сегодня же об этом говорят повсеместно: Наполеон – Зверь о семи головах, на коих начертаны имена богохульные. И о десяти рогах, облечённый великой властию, как о нём написано в Откровении святого Иоанна Богослова. Наполеон – первый Зверь, что ведёт за собой другого зверя – того, чьё число 666. Ты бы хоть иногда голову задирал, да на небо поглядывал, раб Божий. А то не возьму в толк, как вышло не приметить вверху хвостатой звезды[60]. Сие ведь прямое знамение антихристова пришествия.
Американец ухмыльнулся, бросил взгляд на Крыжановского и снова спросил священника:
- А кто же тогда сам Антихрист?
- Того не ведаю, – опустил глаза священник. – Личность его пока сокрыта от мира. Если верить Откровению, это – некто тайный, действующий через первого Зверя и имеющий власть вместе с ним. Сдаётся мне, что Антихрист разносит идеи, выплавленные в адском горниле кровавой французской революции. Теперь эти идеи каким-то непостижимым образом оказались здесь, в центре России-матушки, на устах непутёвого крестьянского сына Федьки. И ведь не стал, вражина, каяться перед смертию - значит, не узрит теперь царствия небесного. Сам так выбрал, – отец Ксенофонт вздохнул и перекрестился.
- Не в Антихристе тут дело, и не в разбойнике, перед смертью нераскаявшемся, а в крепостном праве, – убеждённо заявил Американец, – крепостное право есть гнуснейший пережиток прошлого, совершенно неуместный в наш просвещённый девятнадцатый век. И пока сей пережиток будет существовать, речи о свободе легко сумеют отыскать путь к умам тёмных крестьян.
- А путь к этой свободе непременно должен быть усеян детскими трупами и сожжёнными церквями! – добавил Максим, продевая ногу в стремя.
- Куда вы теперь, отче? – грустно спросил он, оказавшись в седле.
- Не знаю, думаю, раз господь внял моим молитвам и в минуту смертельной опасности послал избавителей в вашем лице, то и дальше не позволит пропасть.
- Знаете, что? Отправляйтесь-ка в Тарутино: там наш кампамент[61], – предложил Максим. – Думаю, вам работа найдётся – очень много пришло молодых необстрелянных солдат, нуждающихся в укреплении духа. Ведь предстоят бои. Отправляйтесь, же, отче, подсобите полковым священникам!
- А что, и то – дело! Здесь меня ничто не держит. На дальнем подворье у разбойников – прекрасная тройка, запряжённая в помещичью коляску, да ещё телеги: будет, на чём доехать!
- Поезжайте прямо по дороге. Вёрст через тридцать сверните и двигайтесь просёлками к Калуге, чтоб не попасться французам. А там уж вас окликнут с наших аванпостов, – посоветовал Крыжановский.
- Так и сделаю, вот только погружу церковную утварь и, помолившись, тронусь.
- Может, помочь с погрузкой? – любезно предложил Американец.
- Пожалуй, не утруждайтесь, – усмехнулся отец Ксенофонт. – А вы сами-то, господа, куда путь держите?
Граф вскочил в седло, усмирил загарцевавшего было скакуна, и крикнул весело:
- В самое логово Антихриста, – ровный красивый палец указал на северо-восток, туда, где лежала растерзанная неприятелем Москва.
Когда всадники отъехали, отец Ксенофонт осенил их удаляющиеся спины крестным знамением и тихо сказал:
- Храни вас Господь!
Постоял, но вдруг спохватился и запричитал:
- Вот дурья голова - даже имён не спросил, за кого молиться-то…
Глава 6 О несомненном превосходстве тонкой поэзии над жирной колбасой
30 сентября (12) октября 1812 г.
Старая Калужская дорога.
Больше в сёлах Максим с Фёдором решили не показываться - объезжали их десятой дорогой. Это увеличивало путь, зато хранило от случайностей. Под вечер встали биваком.
Небо выстрелило первыми звездами. Скудный рассеянный свет молодой луны навевал дрёму. Тихо было вокруг, лишь лес один шумел: верхушки деревьев колотились друг о дружку, осыпая листву. У самой земли её подхватывал и шуршащим скопищем носил, кружа, шалый ветер. Опускающаяся тьма не мешала свободно дышать. Начинающего засыпать Толстого более не волновала необходимость проникновения в захваченную неприятелем первопрестольную столицу. Пропала и дорога, таящая неведомые опасности. Во всем мире остались лишь казённо пахнущее армейское одеяло, уютный костерок, мерным потрескиванием отсчитывающий последние минуты сумерек, да звёздное небо. Граф вобрал его счастливым взором, и со сладостным вздохом позволил себе провалиться в забытье.
Его безмятежному взору предстала величественная картина: прекрасная птица-ночь неслась по небу, широко раскинув крылья, горящие мириадами искр. Далекие, далекие солнца Коперника, что были теми искрами, двигались по тропе, неведомой никому чужому. Ничтожная фигурка Фёдора меньше всего была уместна в высоких чертогах. Чёрная птица, возмущённая присутствием человека, попыталась поглотить пришлого. Но не тут-то было: он упёрся руками и ногами, не давая клюву захлопнуться. Человек дрожал, извивался от напряжения, но борьбу постепенно выигрывал. Птица клекотала и мотала головой. Звезды мелькали, заливая исполинские тулово и крылья.
Гигантская птица парила над пустотой, именуемой Вселенной, в которой рождались и умирали люди. По их мрачным фигурам время от времени пробегала искра. Короткая вспышка всколыхивала тень и пропадала. Толстой насчитал одиннадцать человеческих фигур.
Птица летела дальше.
Фёдор осторожно перетек с клюва на затылок. Цепко ухватившись за светящиеся перья, он выглянул вперед. Там разминался от долгого неподвижного стояния великан в тунике, чью талию перетягивал пояс, мерцающий гроздьями звёздных изумрудов. К ногам колосса, обутым в крылатые сандалии, жался могучий рыжий пёс с телом, подобным львиному, но человечьей головой. Толстой, заворожённый драгоценным сиянием изумрудов, потянулся к ним, однако, убоявшись грозного стража, одёрнул руку. Пёс же не зарычал, а отчего-то улыбнулся. И в той улыбке содержалась такая жгучая тайна, что Фёдору захотелось соприкоснуться с нею, а не лететь дальше. Он оставил птичий затылок и полетел вниз, проваливаясь сквозь небосвод. Воды Эридан сомкнулись над головой. Плавать граф не умел и начал тонуть. Но тут послышался лязг, и понеслась к утопающему боевая колесница, запряженная огнедышащими скакунами. Чья-то мощная рука, закованная в латы, больно ухватила за волосы и повлекла прочь из воды. Спасённый граф пожелал устроиться подле возницы и предаться покою. Но не тут-то было: места в колеснице хватало лишь для одного. Тогда граф полетел рядом.
Нет ничего странного в том, что человек свободно летает во сне. Странно, когда проплывающая внизу земля до самого горизонта затянута в зеленое сукно, да еще стоит вверх тормашками. Хотя тотчас оказалось, что это не земля тормашками вверх, а он, граф, подвешен за ногу.
Фёдор стал злиться на то, что не получалось освободиться от пут, и за то, что чувствовал, как приливает кровь к голове… За то, что сон постепенно переставал быть сном.
- Отпустите меня! – свирепо прогнусавил граф. – Клянусь честью, лучше будет меня отпустить! И тогда, быть может, я не пристрелю вас как собак, а дам шанс оборониться!
Тишина. Гнетущая тишина кругом. Ничто не напоминает о жизни – все будто умерло, задохнулось. Но вот сумрачная даль породила смутный силуэт в ниспадающей одежде, который взял в руку зажженный фонарь и двинулся к графу. Приблизившись, неясный человек сотворил бессовестную штуку: широко размахнувшись, метнул фонарь в Толстого. На лету фонарь превратился в рдеющую комету. Немыслимо изогнувшись, граф увернулся от напасти. Зелёная земля пошла волнами от разочарованного стона безликого штукаря.
Комета вновь ринулась к Толстому. Тот встретил хвостатую бестию отборной бранью. Комета завертелась волчком и сгинула. Граф заорал от радости, но тут же умолк, увидев метателя комет прямо перед собой. Тот молча смотрел на Фёдора из-под капюшона. А потом, вдоволь наглядевшись, но, так и не издав ни звука, отошел в сторону и пропал.
Из-за горизонта вынырнула алая тень – она мчалась, будто за ней гонится черт. Вблизи тень сама оказалась чертом, вернее, чертёнком – чумазым мальчонкой в яркой, но грязноватой одежонке. Чёрные глаза, выдающийся нос, задорные рожки и кудрявые волосы. Словом, сущий бесёнок или некто, ряженый под такового. Малец взрыл землю перед подвешенным графом и заплясал камаринского. Метнулся, подпрыгнул, рванул путы так, что Фёдору обожгло лодыжку, и верёвки разлетелись. Американец рухнул на зелёное сукно и расшиб спину. Хотел, было, вскочить на ноги, но почувствовал на плечах горячую хватку. Его подняли в воздух и опять перевернули, стали трясти – из загашников Толстого вылетели пара припрятанных тузов, форма для отливки пуль, табакерка-картуз[62] и потрепанная облигация. Затем демонёнок отшвырнул графа, с восторженным воплем вспрыгнул сверху и давай понукать: «Пошла, родимая! Но-о-о! Но-о-о!» Ответная ругань Американца смутила небо.
Золотой росчерк прошил свинцовые облака и, прямиком попав в мелкого беса, отбросил его от графа. Снова зыбью пошло зеленое сукно. Тщившегося подняться Фёдора опрокинуло, и он повторно прочувствовал хребтом твердь. Вдали послышался хрип загнанных лошадей, удары колесных обручей по валунам и чей-то вопль.
А ряженый человечек выплясывал вокруг и, то и дело подскакивая к графу, хохотал в лицо. Затем вдруг завис в воздухе, перевернулся вверх тормашками и схватил за грудки: «Куда смотришь, чужак! Предупреждали же, чтобы не пялился!» Ухватив за бакенбарды, он принялся кружить Толстого. Американец размахнулся и, что было духу, саданул по глумливой рожице. Та умылась кровью, и руки выпустили Толстого – граф удовлётворённо проехался по неспокойному зелёному сукну, будто козырная карта, побившая фоску[63]. Наверху дохнуло лёгким ветерком и зазвенело хрусталём:
- Гроссмейстер, играйте честно! Это сдано не вам!
- Посмотрим, – сказал, отступая, давешний метатель комет, – посмотрим!
Отвратительный мальчишка стал проваливаться в грунт. Тот поглотил поганца, рыгнул сыто и утих. Всё эфемерное, наконец, уходило, и мир вновь обретал опору.
Лёгкий ночной морозец, что прохватил мокрую от пота одежду, быстро привёл Толстого в чувство. Сизый парок от участившегося хриплого дыхания завесил от взора звёзды, с которых граф только что воротился.
- Что, приснился кошмар? – пытливо спросил немногим ранее проснувшийся Максим.
- Кошмар, говоришь? – Толстой усмехнулся. – Да нет, больше похоже на бред безумца. Столько всего привиделось, что впору убояться дома скорби. Только ты не проси рассказывать. Всё равно не смогу передать смысла, хоть я рассказчик и неплохой.
Продолжив путь, компаньоны вскоре увидали во тьме жёлтый огонёк. То светилось окно кордегардии[64] на французской сторожевой заставе. Караульный, по виду обычный армеут[65], спокойно дремал, облокотившись о полосатый шлагбаум, умудряясь при этом не выпускать из рук длинного ружья с примкнутым штыком.
Фёдор подъехал вплотную и, развернув лошадь, вознамерился пнуть часового ногой. Но Максим жестом остановил графа и громко прочистил горло.
- Стой! Кто идёт? – голос француза сорвался на петушиный крик.
- Спиш-ш-шь, опозоренный сын волчицы?! – грозно зашипел на него полковник. – Благодари судьбу, что мы не казаки, а то уже извивался бы на пике, словно таракан на булавке. Ничего, сейчас вызовем из караулки сержанта, он тебе живо объяснит, чем кошмарная явь отличается от сладкого сна на посту.
Часовой съежился и прошептал:
- Не губите, добрые господа, весь день без еды, вот и сморило от слабости…
- Весь день, говоришь? – показательно смягчил тон Максим, а затем, порывшись в седельной сумке, вынул увесистое кольцо свиной колбасы. Раздумчиво, словно, не замечая алчно горящих глаз француза, покачал груз в руке и лениво уронил вниз. До земли колбаса не долетела, и русские тут же услыхали звериное чавканье.
- Эй, малый! – хохотнул Толстой. – Ты прежде дай проехать, а угощаться будешь позже.
Шлагбаум взлетел вверх так, что чуть не вылетел из пазов, подорожные минули заставу надменно, как и подобает победителям, постовой же козырнул на прощание. На миг в глазах солдата мелькнула благодарность, а потом всем его вниманием завладела упоительно вкусная, влекущая чесночным ароматом снедь.
- Послушай, Максимус, – лишь только застава скрылась из виду, фамильярно обратился к спутнику Фёдор, – а много ли ещё колбасы осталось?
- Что, тоже аппетит разыгрался, друг…Теодорус?
- Да нет, я иное подумал. Может, следовало вместо смертоносного оружия побольше запастись колбасой и прочей провизией. Глядишь, всю французскую армию бы одолели, – высказав это соображение, Толстой замолчал, но вдруг хлопнул себя по ляжке:
- Слушай, Максимус, всё не идёт из головы тот сон. Вроде уже и позабыл, что там привиделось, но осталось странное ощущение, будто сон - вещий! Да нет же, глупости, чур меня! Ранее уже случалось похожее дело. Помню, довелось на Алеутских островах гостить у добрейшего племени индейцев-калошей. Раз закончился у меня табачок, ну, я и позаимствовал толику у местного шамана. Кто ж его знал, что он туда ядовитых грибов добавляет. Лишь закурил я ядрёной смеси, как тут же привиделось чудное. Да такое яркое, такое радостное… Правда, потом желудок наизнанку вывернуло и долго рвало жёлтой слизью. О-о! Кажется, понимаю, в чём причина нынешнего курьёзного сна! Я ведь перед отъездом купил у хозяина «Драгуна» флягу горькой настойки. А в дороге опустошил её до донца. Видимо в настойке была отрава. Как вернусь, первым делом отхлещу прощелыгу-трактирщика плетью.
- Не загадывай наперёд. Столько с тобой разного может приключиться, что кабатчик пока может спать спокойно, – вздохнул Крыжановский.
- Твоя правда, Максимушка, загадывать наперёд – зряшное дело. Я ведь приехал в Тарутино, собираясь вступить в отряд моего доброго друга Дениса Давыдова. Того в лагере не оказалось, вот я и зашёл в трактир мерзавца-отравителя, чтоб в картишки перекинуться. А далее – вон как вышло… И еду нынче пленником честного слова подле тебя, направляясь прямиком в неизведанное грядущее.
- Это который же Давыдов? Не гусарский ли подполковник, знакомый мне по Финляндии как славный и смелый малый? Тот, что в нынешнюю кампанию придумал поднять мужиков против французов?
- Он самый! Поверь, нет на свете другого, столь же достойного человека! А какие стихи пишет! Вот, послушай, к примеру, что Денис сочинил обо мне в прошлом году:
Толстой молчит! – неужто пьян? Неужто вновь закуролесил? Нет, мой любезный грубиян Туза бы Дризену отвесил. Давно б о Дризене читал; И битый исключен из списков - Так, видно, он не получал Толстого ловких зубочистков. Так, видно, мой Толстой не пьян.- О чём это? У тебя, Фёдор, что-то вышло с Дризеном из морского кадетского корпуса? – поинтересовался, зевая, Максим.
- Расскажу как-нибудь в другой раз, в более уместной обстановке. Нынче же сия чарующая ночь располагает к предметам исключительно лирическим. Как тебе такое? – Американец встал в стременах и заорал во всю глотку:
Au fond de leur palais leur majesté terrible Affecte à leurs sujets de se rendre invisible, Et la mort est le prix de tout audacieux Qui sans être appelé se présente à leurs yeux[66]!- Поправь, граф, но сдается, что мы больше не одни! – перейдя, также, на французский, негромко сказал Максим.
- Доброй ночи, господа! – от ближайшей рощицы на дорогу выезжали всадники, числом в чёртову дюжину. Хвостатые драгунские каски, кавалерийские карабины и иное бряцающее железо, какового не разглядеть в темноте, явно указывали на то, что компания подобралась весьма серьёзная. Четвёрка впереди – определённо офицеры, остальные – солдаты.
«Скверно, очень скверно, – подумал Максим, – этих за колбасу не купишь, а случись заварушка, пожалуй, легко не одолеешь». Толстой же предпочел не размышлять. Совершенно развязным тоном он потребовал от французов назвать пароль.
- Ранее для истых патриотов старой доброй Франции, паролем был девиз «Да здравствует король!», но вот уже почти два десятка лет минуло с той поры, как лишились права на жизнь не только девиз, но и его монархическое величество, – с трагичным спокойствием ответил немолодой драгун, что прежде желал доброй ночи.
- Пусть будет так, – в тон сказал Толстой. И хоть мы с …э-э-э… гражданином не разделяем роялистских убеждений, но, по крайней мере, теперь есть ясность, что перед нами – не вражеские лазутчики, а товарищи по оружию.
- Что будем делать? – спросил он шёпотом у полковника.
- Импровизировать, – ответил Максим, – наши и их жизни нынче расположились на кончике твоего языка.
- Вполне согласен, – удовлетворенно оскалился Толстой.
- Господа! – крикнул он встречным. – Не знаю ваших имен, но искренне верю в вашу, господа, понятливость! Ибо мы возвращаемся из весьма важной поездки, цель которой не имеем права открыть никому, кроме пославшего нас.
Блеф графа удался как нельзя лучше. Французы приняли их с Максимом за своих и наперебой принялись представляться.
Седой драгун, что первым вступил в разговор, отрекомендовался Николя Трюбле. Следом назвался ладный, среднего роста, с приятным лицом: – Франсуа Аруа де Тер. Третий офицер попросил звать его Редан. Подполковник Кериак, – представился четвёртый.
Крыжановский обвел названых пытливым взглядом. Французы явно ожидали ответных рекомендаций.
- Мое имя Аскольд, – обезоруживающе улыбнулся Толстой. Вернее при свете дня улыбка, может, и смотрелась бы не оскалом, а именно улыбкой – но здесь, на ночном тракте – увы и ах!
- Аскольд Распутный, а это мой компаньон – Дир Гордый!
- Господа, – кашлянул тот, что назвался Аруа де Тер. – Кажется ли вам уместным скрывать имена, коль мы назвались?
- Погоди, Франсуа, – прервал Кериак, и Редан шумно поддержал последнего. – Я, как будто, догадываюсь о причинах скрытности этих господ!
- Не ослышался ли я, – обратился Кериак к Толстому, то есть к Аскольду Распутному. – Вы назвали спутника компаньоном? Значит ли это, что вами движет вендетта?
- Совершенно верно, сударь, – наконец подал голос Крыжановский. Сарказма в голосе Максима хватило бы, чтоб взбеленить столетних туров, – у нас именно то, что вы назвали вендеттой!
Французы, однако, сарказма не распознали или не придали ему значения.
- Тогда всё разъясняется, – кивнул Кериак, – Справедливости ради скажу, что из нас тоже лишь двое назвались своими истинными именами!
- Я заметил, – сказал Фёдор.
- Да?
- Конечно! И поверьте, высоко оценил вашу деликатность. Наверняка, услышав как некто, глухой ночью, посреди чужой и холодной страны декламирует бессмертного Расина, вы решили сделать этому неизвестному соотечественнику приятное, назвавшись именами, звучащими усладой для любого истинного ценителя поэзии.
Аруа де Тер и Николя Трюбле[67] учтиво поклонились Толстому. А тот весело глянул на Максима и коротким жестом очень удачно изобразил, как голодный армеут алчно поглощает колбасу.
- Ваша невероятная догадливость, господин Аскольд, должно быть, открыла и причину, побудившую моих друзей надеть личину? – спросил Кериак.
- Могу лишь предположить, что один у другого потребовал сатисфакции, – подумав лишь мгновение, сказал Толстой.
- И вы пожелали удалиться из города, – подхватил Крыжановский, – чтоб уйти из-под надзора «маленького капрала»[68]!
- Который лишился последнего ума! – плюнул на землю Кериак.
- Ого! – подумал Максим, – а я ведь молодчина, раз сумел угадать настроение лягушатников. Однако дела их императора действительно плохи, ежели в армии не скрывают подобных настроений.
- Который был победителем и отцом своим подданных! – невесело поддержал товарища Редан.
- Вы хотели сказать, кто принудил французов быть счастливыми! – бросил совершенно невинную фразу Толстой. Драгуны встретили эти слова возгласами одобрения.
Максим, не имевший привычки гоняться за литературными новинками, совершенно не уловил тонкой словесной дуэли[69], произошедшей между завсегдатаями Елисейских полей и Толстым. Впрочем, как и все остальные дуэли с участием графа, нынешняя закончилась его полной победой.
Со свойственной беспардонностью, Толстой тут же воспользовался плодами достигнутой победы:
- Боюсь показаться бестактным, друзья мои, но всё же, позвольте осведомиться – в чём суть разногласий, толкнувших вас к… смертельной вражде?
Американец чуть не сказал «к барьеру», чем, несомненно, вызвал бы подозрения у французов. Ведь их обычаи, в отличие от русских, диктовали поединки с использованием холодного оружия.
- Этот твердолобый не желает меня слушать! – легко признал право Фёдора задавать подобные вопросы Трюбле.
- Я – сам хозяин собственной судьбы, а ты – глупец, – мгновенно среагировал де Тер.
Американец переводил взгляд с одного на другого:
- Мне думается, ваши тезки были миролюбивее, и несколько…
- Но они не были братьями, – хохотнул Редан, однако закашлялся под взглядами спутников. Редан выглядел младшим в компании и, несомненно, находился под влиянием остальных.
- Прошу простить, господа, – извинился граф. – Мы стали невольными свидетелями чужой драмы и, видимо, не имеем права злоупотреблять столь щедрым терпением. Разрешите откланяться.
Однако Крыжановский, справедливо рассудивший, что легковерные драгуны при своём возвращении в Москву могут послужить идеальной ширмой для их с графом предприятия, принялся напрашиваться в присутствующие на дуэли, объясняя подобный интерес любовью к фехтованию. Неподдельная искренность слов Максима в данном случае сделала с возражениями французов то же, что делает атака мастера шпаги с защитой новичка. И вскоре дуэлянты русские, присоединившись к дуэлянтам французским, неспешно двинулись к чахлой рощице, где нёс свои невеликие воды Сухой ручей. Именно это место определили секунданты для поединка между братьями.
- Разве это видано, чтоб кровные братья устраивали между собой дуэли, – размышлял Толстой.
Словно прочитав его мысли, Аруа де Тер воскликнул:
- Мы будет рубиться насмерть, господа! Слово чести!
- Пусть меня заберёт дьявол, – глухо отозвался Трюмбле, – если я пощажу этого худшего из сыновей лучшей на свете матери!
Глава 7 Каин и Авель скрещивают шпаги
1 (13) октября 1812 г.
Поблизости от Москвы.
Возможно, Максиму так казалось, но подполковник Кериак, ехавший впереди всех, будто специально придерживал лошадь, пытаясь тем самым замедлить общее движение. Крыжановский нагнал Толстого, держащегося в группе вторым, и молча кивнул в сторону французского подполковника.
- Пустое, – ответил Американец беспечно. – Будь желание, они напали бы еще на тракте. Да и что же вы никак не уверуете в мою способность располагать к себе людей!
- Напомните, граф, – с кривой ухмылкой поддел компаньона Максим, – сколько у вас случилось дуэлей?
Толстой усмехнулся, но ответить не успел – с ними поравнялся Редан.
- Господа, а где вы стоите в Москве? – простодушно начал он. – Хотелось бы знать, придётся ли ещё встретиться?
Теперь уже и Фёдору поведение французов стало казаться странным. Неприятельскими лазутчиками их с Максимом никто не полагает, это точно, зачем же посылать Редана с наивным вопросом? То, что молодой офицер послан одним из братьев-дуэлянтов, не вызывало сомнений.
- Не думайте о встречах, – таинственно прошептал Американец, – почти наверняка по возвращении мы будем вынуждены оставить столицу варваров, чтобы снова углубиться в их дикую страну. И когда вернёмся, да и вернёмся ли вообще – сие неведомо.
На лице Редана явно читался неудовлетворённый интерес, но его отвлёк прислушивавшийся к беседе Аруа де Тер.
- Хватит! – обратился он к Редану, при этом ослепительно улыбаясь новым знакомым. – По моему мнению, неуместно спрашивать о таком наших… друзей. Тем более, я начинаю догадываться, с кем мы имеем дело, – продолжил он, заискивающе заглядывая в глаза Толстому.
По спине Крыжановского прошелся неприятный холодок, Толстой не выдал себя ничем. Тонкий блеф был столь же свойственен его натуре как высокий полёт – птице. Передёргивать в карты, граф, впрочем, тоже умел отменно.
- Да неужели, дорогой друг? – голос Толстого звенел удалью. – Предупреждаю, если откроете нашу тайну – мне придется вас убить!
Крыжановскому опять стало нехорошо – нет, он нисколько не пугался драки с французами, но Толстой представлялся ему ярмарочным канатоходцем, что балансирует на сплетённой из словес проволоке над торговыми рядами подозрений и лавками недомолвок. Чудилось, что снизу таращатся вонючие базарные питухи, грозят кулаками и яростно плюются. А Максим, подолгу задумываясь над каждым шагом, вынужден помалкивать, не в силах помочь импровизирующему товарищу.
Тем не менее, «убийственная» шутка Толстого вызвала смех французов. Максим подумал, что большинство сплетен о Толстом-Американце, пожалуй, не выдумано. Умеет этот сорвиголова и паяц располагать к себе людей, ох, как умеет!
- Любезный Аскольд, – пробормотал не до конца справившийся с приступом смеха Редан, – а отчего ваш друг столь угрюм и молчалив? Неужели ему непривычны простые светские беседы? Создаётся впечатление, что господина Дира интересуют исключительно дуэльные дела?
Максиму показалось, что в листве ухнула ночная птица, но этот звук исходил от Аруа де Тера.
- Ну, что не так! Я же не придумываю! – воскликнул Редан, будучи напуганным угрожающим видом младшего из братьев.
- Оставь в покое этих господ, наглец! У тебя нет, и не может быть с ними дел! Убирайся к моему жалкому братцу и больше не путайся под ногами! – прошипел де Тер.
Толстой оглянулся вслед отставшему Редану и был совершенно поражён, встретившись взглядом с Николя Трюбле. Такую жгучую ненависть обычно приберегают для смертельных врагов.
«Да что же это делается? Видит нас впервые, но… смотрит так, словно подозревает в изнасиловании той самой, упомянутой ранее, лучшей на свете матери! А второй братец, наоборот – любезничает и заискивает. Совершенно непонятно!» – терялся в догадках граф. И тут его осенило: «Братья – просто сумасшедшие. У них бред. Оттого и мнят себя великими мыслителями прошлых лет. Определённо, эти двое от тягостных военных лишений утратили рассудок, а остальные просто конвоируют их подальше от расположения войск, чтоб безумными речами и выходками не наводили унынья на солдат. Вот и отыскалось объяснение смертельной вражде. Следовательно, дуэль – лишь плод больного воображения безумцев».
Опыта общения с таковыми Толстой не имел. Потому решил скрыть свою догадку и просто стал отвечать Редану, коего в скорбные рассудком пока не записывал:
- Мой друг – поляк. И, если вы ещё не заметили, дружище, все поляки обычно имеют лица задумчивые, а помыслы скрытные!
Французы восприняли слова графа так, будто тот выдал им величайший секрет. То обстоятельство, что Максим – поляк, казалось, полностью удовлетворило прежний интерес к личностям Аскольда и Дира.
Наблюдая понимающие кивки и поджатые губы всей четвёрки, Американец передёрнул плечами:
«Да они что – все здесь больны? Ну, нет, наверное, Кериак с Реданом подыгрывают безумцам. Следует отметить, что это не может продолжаться слишком долго».
Навстречу отряду из тьмы выплыла узкая прогалина. Кериак спешился, провел рукой по морде лошади и прислушался. Солдаты стали зажигать принесённые с собой фонари, чей свет дерзко оспорил повсеместное владычество ночи. Рядом угадывалось узкое русло ручья, а дальше простирался густой кустарник. Драгуны воткнули в землю палки с подвешенными фонарями, от чего образовался широкий световой полукруг, а затем принялись утаптывать и без того твёрдую от заморозков почву. Де Теру зачем-то вздумалось обходить пустырь, придирчиво пинать камни и заглядывать под кусты.
- Ужель ты ищешь горшок с золотом? – насмешливо крикнул Трюбле. -Лезешь под деревья, будто под конец радуги! Отойди, несчастный! В эту пору тебе не разглядеть и кончика собственного носа, не то, что зарытых сокровищ!
Пылая лицом, Франсуа де Тер вернулся к группе. На ходу расстегивая камзол, он снял фалдовую накидку и перекинул через руку – так поступали в старые времена, когда у фехтовальщиков сохранялась манера «щит и меч», а как раз щита-то под рукой не оказывалось. Затем сделал показной выпад, закрылся левой с плащом, скептически скривился и бросил накидку на седло.
Толстой досадливо щёлкнул пальцами: «Дуэль – занятие для умных людей, не следует ли уже мнимым секундантам прекратить спектакль и отобрать у безумцев оружие!»
Де Тер снял и тут же откинул в сторону шпажные ножны, а на их место закрепил короткий старомодный кинжал – дагу. И опять никто не возражал.
Толстой предоставил событиям идти своим чередом, и молча встал рядом с Крыжановским, который, скрестив руки на груди, с интересом наблюдал за происходящим. Зловещий скрип качнувшегося дерева приветствовал дуэлянтов, уже вставших визави[70].
Шпага седого драгуна имела странный клинок: чрезвычайно узкое окончание и сверх меры широкую пяту. Насколько помнил Фёдор – такая шпага получила известность как колихемарде.
У его же брата была так называемая «траурная шпага»[71].
- Если фат плюет на фатум, то и без фата будет в яме! – проговорил Толстой и, пока дуэлянты занимали позицию, шёпотом поделился с Максимом сомнениями по поводу психического здоровья братьев. Крыжановский в ответ постарался объяснить Американцу, что, как бы то ни было, лягушатники необходимы им в качестве прикрытия для проникновения в Москву. Остальное же – их личное дело. Но граф лишь хмыкнул, давая понять, что его не убеждают слова «помешанного на острых железках».
Оружие дуэлянтов имело неодинаковую длину. Клинок господина Трюбле на три пяди превосходил клинок противника. Однако де Тер в левой руке держал дагу. И, если приложить ее к шпаге, то в сумме выходила та же длина, что у шпаги брата. По-своему равные условия!
«Почему никто не останавливает безумцев? Могло ли быть так, что их помешательства секунданты просто не замечают?» – размышлял Толстой. – Тогда приходилось признать, что Николя и Франсуа утратили разум буквально недавно, ибо болезнь быстро выдала бы себя… Нет, не клеится. Может, вся четвёрка скорбна умом? Тоже сомнительно».
Ситуаций, когда происходящее не имеет нормальных объяснений и не поддаётся контролю, граф очень не любил. Но сейчас, несомненно, присутствовала именно такая ситуация. Толстой-Американец, человек, коему некогда женщины предлагали себя лишь оттого, что он первый в свете дуэлянт, более того, человек, сделавший дуэли смыслом жизни, нынче стоял под деревом рядом с вызванным им противником, которого совершенно не собирался убивать и наблюдал за дуэлью, которую желал бы прекратить. Хозяин ли он теперь собственной судьбе? Иль, как в последнем сне – лишь карта, брошенная на зелёное сукно?
И тут графу припомнился услышанный в тарутинском трактире таинственный голос, произнесший: «Судьба»! А ведь с этого всё и началось! Создавалось впечатление, что кто-то могущественный решил взять Фёдора и без его воли использовать в качестве тёмной карты в некой большой игре. В таком случае, карте решительно невозможно знать ни замысла игрока, ни собственной судьбы, сколько бы ни пыталась угадывать. Значит, не стоит забивать голову! Придёт время – всё само разъяснится, – такой ответ дал себе Американец и успокоился.
- Да начнут они, наконец?! – громко и нетерпеливо сказал рядом с графом Крыжановский.
И дуэлянты начали. Витиеватым росчерком рванули воздух шпаги, но в полете не встретились. Секунда. Всего лишь секунда понадобилась, чтоб отметить старательных безумцев двумя ранами – по одной на брата.
Крыжановский подался вперёд и своим видом напомнил Толстому гурмана, которому подали на обед любимое блюдо.
«Сумасшествие заразно», – подумал, глядя на него, Фёдор.
Тем временем братья, обменявшись молниеносными выпадами, замерли спина к спине. Плечо младшего при этом обагрилось новой кровью. Он зарычал, и прежде, чем секунданты сказали: «Le premier!», юрко выкинул руку с дагой назад и сравнял счёт.
Спорщики разошлись. Трюбле зажимал разорванную кинжалом кожу на боку.
В голове Толстого скользнула циничная мысль о благости традиции – снимать верхнюю одежду перед поединком чести. Во-первых, кровь была бы видна лучше. Во-вторых, окровавленная одежда не липла бы и не сковывала движений.
А братья снова обменялись уколами. И ранило только де Тера. Трюмбле же ушел от клинка чистым.
Опять разошлись, встали на восемь шагов. Толстому привиделось, что они достают пистоли, и… Братья медленно шли друг к другу. Де Тер споткнулся, вскрикнул, упал на колено. Его противник, однако, вперёд не бросился, а остановился, отсалютовал шпагой и насмешливо справился о здоровье упавшего. Тот заскрежетал зубами и, перестав притворяться, легко поднялся на ноги и встал в позицию.
- Браво! – крикнул Трюмбле Крыжановский.
Толстой подобную уловку уже видывал в Русской Америке у желтолицых азиатов. Были те азиаты далеко не мастера-искусники, а простые моряки с потрёпанной джонки. Двое повздорили из-за бабы. Из-за русской, между прочим. Один другого как раз и поймал на мнимое падение. А потом на лоскутки порезал, железку в сторону кинул и подступил гоголем к нашим промысловым людям: кормите, мол, меня, поите! Девку ведите: куда запропастилась?! Ну, зверобои и привели ему… гарпуном под вздох. Выгребная яма наутро проглотила обоих задир и не поморщилась. Хотя у тех азиатов движения были непонятные! Не нашенские, одним словом – ни одного лишнего!
Братья тоже по-басурмански дерутся. Почему-то не так, как учил их соотечественник Севербрик. У того манера боя напоминала скерцо, а у братьев представляется бравурным маршем. Шаг! Укол! Шаг! И еще укол, и снова шаг! Ага, ритм слегка сбивается – шпага, метившая в лицо, но достать не должная, неожиданно достает! И уродует Франсуа де Тера. Рвет губу, скулу, висок – кажется, что на лице младшего брата открылся еще один рот – только не поперек, а вдоль.
Редан облегчённо провозгласил «La deuxième[72]!» и не двинулся с места, когда Кериак и военный лекарь метнулись к шатающемуся де Теру. Трюбле опустил шпагу и тоже сделал шаг к брату, но тот зло прокричал, зажимая рукой щёку:
- Сейчас не получилось, в другой раз буду проворнее. Береги отныне спину и чутко спи, братец!
Лекарь весьма проворно приложил к ране Франсуа корпию и обмотал его голову бинтами, отчего та приобрела совершенно забавный вид: сущее осиное гнездо с одним злобным глазом и хищным ртом. Остальные раны де Тера оказались менее серьёзны. А Николя Трюбле вообще отделался царапинами.
Отстранив врача, пытавшегося усадить его на лошадь, де Тер с немалым трудом приблизился к Крыжановскому, схватил его запястье холодной от потери крови рукой и заговорщицким голосом спросил:
- Скажите, сударь, как я держался?
- Достойно, – хрипло ответил Максим.
- Могу ли я рассчитывать на то, что именно это мнение будет доведено до сведения генерала? – продолжил де Тер.
Максим растерялся, не зная что сказать, но его молчание де Тер расценил по-своему:
- Оставьте этот маскарад для недругов, сударь. Немудрено догадаться, что генерал решил получить зримые свидетельства того, что я добросовестно прошёл назначенное испытание. За тем и прислал вас с компаньоном… Ну перестаньте же разыгрывать непонимание. Генерал – поляк, вы – тоже, чего же более?
Крыжановский, хоть и насторожился при упоминании генерала-поляка, но всё же решил не испытывать судьбу и уйти от опасной темы:
- Рана слишком ослабила вас, она требует отдыха!
- Тем не менее, проклятая рана не сможет мне помешать… Передайте, что Франсуа Белье явится на инициацию в предполуденный час, как и назначено!
- Помните ли вы, куда должно явиться? – строгим голосом спросил незаметно возникший Толстой, который подслушал весь разговор, моментально сориентировался, что братья – никакие не сумасшедшие, а в основе их вражды лежит некая тайна, связанная с польским генералом и с ходу занялся любимым делом – принялся блефовать.
- Всё помню, да и карта со мной, – уверенно похлопал себя по карману отринувший, наконец, мнимое имя Франсуа Белье.
- Тогда более ни слова, – Толстой приложил палец к губам и кивнул на приближающегося к ним лекаря.
- Вы совершенно правы, господин Аскольд, – шёпотом ответил простак-Франсуа, – этот врачеватель хорошо знает своё дело, но вижу я его впервые. Он может быть как обычным лекарем, подвизающимся при госпитале, в котором стоят остатки нашего полка, так и человеком Николя.
Подошедший лекарь твёрдо взял раненого под руку и заявил:
- Ваш противник с секундантом не стали дожидаться и уехали. Нам тоже пора, так как крайне необходимо осмотреть раны в нормальной обстановке.
- Да-да, время не ждёт, – в тон заявил Толстой и, подхватив Франсуа Белье под другую руку, помог ему подняться в седло.
Максим Крыжановский решил предоставить раненого с его скользкими вопросами Толстому, а сам поскакал вперёд. Увы, полковника тут же окликнул Кериак.
- Я наблюдал за вами, сударь, во время поединка и убедился, что зрелище вас увлекло, – молвил он, лишь только Максим очутился рядом. – А Франсуа, определённо, молодец! Кремень! Правда, парень не сумел до конца выполнить задуманное и проткнуть братца. Но я вообще полагал, что после двух-трёх парадов и эскапад эти двое опустят шпаги и со слезами заключат друг друга в объятия. Потому, собственно, и предложил драться на «une-deix», чтоб бой закончился не сразу! – Кериак усмехнулся, а Крыжановского заметно передернуло от неприязни к собеседнику.
- Николя ещё спорил со мной, – не замечая реакции Максима, словно убеждая самого себя, продолжал Кериак, – заявлял, что хорошо знает брата, насмехался, да так, знаете ли, тонко, гаденько. О, Николя Белье умеет! Это тот, что назвался Трюбле, – спохватился подполковник и, глянув на Максима, закончил, – и тот, что бросил младшего брата на берегу вонючей речки с растерзанной рожей. – Подбородок француза понесло вперед, рот расплылся в довольной улыбке. Ещё бы, выставил недруга в дурном свете.
Максиму вдруг захотелось влепить собеседнику оплеуху. От греха подальше натянул узду, чтоб отстать, но Кериак не позволил:
- А вы ловко развязали нам язык разглагольствованиями о «маленьком капрале» – теперь-то уж поздно открещиваться! Ничего не поделаешь, сразу не признали в вас людей Ордена. И можете не прикидываться, хватит – это утомительно! Мы же в вашей власти, стоит уронить слово и нас утопят в Яузе! Лужа та еще, но если заранее офицера покромсать по швам на мундире, авось из воды не будет вы-выглядывать!
«Что это ещё за орден такой, если одно лишь упоминание о нём заставляет мерзавца заикаться от страха? – мысленно встрепенулся Максим. – Наверняка, речь о тех же таинственных вещах, намёки на которые делал младший Белье. Как бы ловчее выведать? Искушённый Американец сейчас стал бы задавать разные хитрые вопросы, но где он – Американец? Известно, где! Прилепился к изуродованному дуэлянту, словно к собственной невесте! Ну и пусть себе! К ничтожным трусам вроде Кериака не слова следует обращать, а иные средства!».
Максим привстал в стременах, протянул руку, грубо схватил подполковника за лацканы, приблизил к себе и зарычал:
- Что вам известно об Ордене? – рука полковника ощутила трепет французского офицера.
- Я ничего не знаю!… Нет, знаю, но то же, что и все, не более, уверяю вас! А остальное – лишь догадки. Посудите сами: француз и поляк, облечённые тайной миссией, как бы случайно встречают нас ночью в глухом месте перед дуэлью… Поймите, как своему секунданту Франсуа поведал мне, что таково последнее испытание перед вступлением в Орден. Но вы не извольте беспокоиться, я нем как рыба…
- Рыба, что плавает в Яузе?
Подполковник Кериак затрепетал ещё сильнее, а потом из глаз его полились слёзы:
- За что! Я ведь с испанской кампании верой и правдой служу Императору!
Максим отпустил француза:
- Истерика, сударь, идет мужчине еще меньше, чем похоть – женщине! Потому примите совет: поменьше лезьте в разные тайные интриги, а оставайтесь честным офицером. Возможно, это и не продлит вам жизнь, ибо война, но несомненно сохранит честь. Ко мне же более не приближайтесь и на пушечный выстрел!
Лицо Кериака прояснилось, он недоверчиво глянул на Максима, а потом кинул быстрый взгляд вперёд: не заметили ли солдаты позора своего командира? Убедившись в обратном, приосанился и поспешил оставить полковника одного.
Крыжановский покачал ему вослед головой: этот вряд ли будет долго переживать бесчестье. Не видел никто – значит, ничего и не случилось. Слава Богу, теперь хоть удастся отдохнуть от несносного негодяя. Нового тот ничего не скажет, а остальное слушать – увольте!
Тракт ощутимо расширился и приобрёл каменную утоптанность. Впереди показались сонмы огней – то в Живодёрной слободе жгли костры французские солдаты. Правда, при приближении у обоих русских возникли серьёзные сомнения в том, что перед ними действительно представители самой цивилизованной из европейских наций[73]. Казалось, под стенами Москвы, как в стародавние времена, снова стоит войско крымского хана Казы-Гирея. Куда подевалась военная форма французов? Люди у костров надели на себя вещи, которые, скорее всего, украли с живописных московских базаров: одни щеголяли в польских плащах, другие – в высоких шапках персов, баскаков или калмыков. Были тут ряженые в татар, казаков и даже китайцев. Сущий Вавилон!
«А что офицеры? Неужели не видят бесчинства солдат? – мысленно вознегодовал Максим и тут же получил для себя исчерпывающий ответ. Человек, что отделился от костра, вышел на дорогу и завязал оживлённый разговор с подполковником Кериаком, несомненно, имел офицерское звание. Об этом свидетельствовали шляпа и шпага. Однако вместо шинели на нем красовалась купеческая, драгоценных соболей, шуба, поверх которой был намотан рулон кашемировой ткани. Француз нетвёрдо держался на ногах, в одной руке сжимая расписную деревянную ложку, а другой прижимая к груди небольшой бочонок.
- Истинно говорю вам: старая столица варваров полна скрытых сокровищ. Вроде бы сгорело и унесено всё подчистую, но каждый раз моим славным солдатам удаётся отыскать нечто новенькое! Вот, попробуйте… – офицер, не скупясь, зачерпнул из бочонка и поднёс ложку Кериаку.
- У-у-у! – распробовав угощение, зачмокал губами подполковник. – Очень вкусно. Похоже на забродившее варенье.
- Так и есть, драгоценный мой, так и есть! – возликовал владелец бочонка. –Поверьте, божественный нектар! После пятой ложки чувствуешь себя просто… одухотворённым. И плесени оказалось совсем немного. У меня ещё припасено два, подобных этому, чудесных бочонка. Было три, но один я выменял на шубу, – захмелевший шубоносец неуклюже попытался покружиться вокруг себя, демонстрируя обновку, но не удержался на ногах и сел на землю.
- Если есть достойный товар, можем и с вами совершить взаимовыгодную сделку, – ничуть не смутившись падением и, даже не пробуя подняться, закончил офицер.
- Соболя чудо как хороши! – завистливо заметил Кериак. – Но – увы, я нынче нищ как клошар[74] и не могу предложить ничего достойного.
Максим, наблюдавший разыгравшееся перед ним действо, испытал смешанные чувства, среди которых преобладали негодование и недоумение. Законодатели мод и манер, благородные французы на глазах превращались в воров и хамов. Какая же сила над ними поработала?
«Алчность – вот что это за сила! – сам себе ответил Максим. – Алчность неуёмная и безнаказанная! Хотя последнее свойство, вскорости, надо бы исправить!» Он почесал об эфес сабли начавшую зудеть ладонь и сплюнул на землю горечь, которую чувствовал во рту от всех мерзостей, увиденных нынешней ночью.
Ночь, меж тем, заканчивалась. Равно подходила к концу и утомительная дорога: за гранёными столпами Калужской заставы путешественников встречала звонница надвратной церкви Донского монастыря.
Глава 8 Красное и чёрное
1 (13) октября 1812 г.
Москва.
Фёдор Толстой любил Москву. Всякий раз, наезжая сюда из имения, он испытывал душевный подъём и радость от предвкушения грядущих встреч и событий. Нынче же подобные чувства не рождались в сердце. Вроде бы всё вокруг близко и знакомо: и вытянувшийся на несколько вёрст пустырь, что норовит засыпать пылью глаза, и Нескучный сад, роняющий листву, и знакомая до боли Калужская улица, по одну сторону которой раскинулись богатые дома, а по другую громоздятся плохонькие строения. На месте и будоражащая воспоминания знаменитая карусель Апраксина, в каковой Фёдору так хотелось участвовать, да дядька не пускал[75].
Но нынче это чужая Москва! Словно женщина, побывавшая в руках насильника, она стала другой. Она молчит: уж не слышно людского голоса и смеха. У неё другой взгляд: теперь черны и слепы окна. И запах другой: тянет палёным. То – вездесущая вонь войны, неизменно бьющая в нос во всяком месте, где прокатилась смерть.
Петербуржцу Крыжановскому тоже больно, но не так, как Толстому.
- Ну, наконец, доехали, – слабым голосом провозгласил Франсуа Белье и стал спускаться с лошади. – Хвала графу Лористону[76], разумно определившему нам для постоя госпиталь, не затронутый пожаром. Там есть всё необходимое для лечения.
Раненый тронул Американца за плечо и выразил надежду на скорую встречу. А затем, опираясь на руку врача, двинулся по направлению к «величественному монументу благотворительности» князя Голицына[77]. Кериак с солдатами скрылись в здании ещё раньше.
- Ну, и что ты, Фёдор, полагаешь об этом Ордене и прочих таинственных глупостях? – спросил Крыжановский, лишь только они с Толстым остались одни.
- Да уж, настоящая загадка. Вначале думал, что французы скудны рассудком, но ошибся. Орден, инициация… Похоже на масонские штучки, – неуверенно ответил Американец.
- Отнюдь! Могу с уверенностью сказать, что ни к какому масонству услышанное отношения не имеет, – возразил Крыжановский. – Идёт сей вывод от реакции Кериака. Стоило разговору коснуться таинственного Ордена, как это ничтожество не на шутку испугался. Масонов же в Европе не боится никто. Да и тайным обществом они зовут себя лишь для проформы: ну, кому не известны имена наших доморощенных масонов? Членство в ложе не мешает им, однако, крепко бить французов. Сам светлейший князь Михайла Илларионович Кутузов в молодости состоял в масонах. А Беннигсен! Да большего, чем он, патриота во всём Отечестве не сыскать.
- Пожалуй, соглашусь относительно Ордена, – заявил Толстой. – Тут ты прав: это не масоны, а нечто более вредоносное. Да и Главнокомандующий наш, как известно, давно утратил интерес к подобным шалостям. Но насчёт Беннигсена лелею иную точку зрения. Почтеннейший Леонтий Леонтьевич снискал славу горячего и упорного сторонника генерального сражения с французом. А не к тому же стремится и Бонапарте?
От столь неожиданной и наглой извращённости ума Максим просто опешил и не нашёлся с ответом. Фёдор же предпочёл не дразнить собеседника дальнейшими нападками на уважаемого генерала, и попытался повернуть разговор к иному:
- Как бы то ни было, друг Максимус, у нас на руках нет ничего стоящего, кроме догадок. Вот доберёмся до пресловутого «генерала-поляка», его и попросим любезно всё разъяснить.
- А меня ты какого дьявола выставил поляком? – возопил не остывший от спора Крыжановский, лишь только граф неосторожным словом напомнил о своей возмутительной импровизации. – А ну, как на аванпостах повстречались бы истинные ляхи? Я же на их языке не связал бы и двух слов! У меня польская кровь лишь в третьем поколении!
- Кто знал, – пожал плечами Толстой, – да, собственно, ты и без встречи с поляками чуть не провалил всё дело. Впредь следи за лицом, оно у тебя – как раскрытая книга. Хорошо, что французы попались не умеющие читать таких книг.
- Да, уж! Ни в лазутчики, ни в комедианты я точно не гожусь, за полным отсутствием таланта, – насупился Максим.
- Ну, будет, будет! Смертельно хочется спать, а у нас дело не кончено! – граф зевнул, широко раскрыв бесстыдный рот. – Предлагаю тебе вот что: у меня в Лоскутном ряду верные людишки имеются. Они всю подноготную расскажут – что по Москве делается, и где какой французский военачальник стоит. А понадобится, так и проведут, куда попросим. Тайными путями.
Максим усмехнулся и тронул шпорой измученного коня. Полковник не стал спрашивать, о каких таких «людишках» зашла речь. Репутация Толстого – штука известная и позволяет судить о знакомствах графа ничуть не хуже, нежели некоторые физиономии – о внутренних переживаниях своих обладателей.
У Калужских ворот путешественников ждал чудовищный удар. Они, конечно, слышали о бушевавших в городе пожарах, о разрушениях и грабежах, но к увиденному оказались не готовы. Дальше Москвы не существовало. Москва умерла. Казалось, она сама наложила на себя руки, чтоб, если и достаться насильнику, то только убитой.
Страшное красное солнце встало и осветило унылую картину: Замоскворечье выгорело полностью. Насколько хватало глаз, простирались чёрные руины с высоко торчащими трубами. Кругом были видны груды хлама, вытащенного из домов, да так и брошенного посреди улицы. Вздувшийся, зловонный конский труп загромоздил вход в некогда белую, а теперь будто подёрнутую траурным крепом церковь. Тишина стояла полная. Видимо, чувствуя свою неуместность, звуки просто не желали здесь рождаться.
Остолбеневшие от открывшегося вида, Максим и Фёдор не сразу заметили, что неподалёку от них, также молча и неподвижно, как и они сами, застыл человек в плаще и шляпе французского офицера.
- Господа! – тихо сказал незнакомец, приблизившись. – Посмотрите, в какие мрачные краски облечена действительность. Красное солнце и чёрное пепелище! О, смогу ли я со временем позабыть эти два ужасных цвета? Или они станут преследовать меня в кошмарах?
Первым желанием обоих русских было заколоть говорившего. За то, что тот посмел осквернить постигшую их скорбную печаль французской речью, а сам, наверное, повинен в случившейся трагедии. Но незнакомец имел такое измождённое болезненное лицо и такие несчастные, лишённые злобности глаза, что рука не поднималась нанести роковой удар. Этот человек не мог жечь и убивать – он вообще не годился для войны. И ему сейчас было плохо.
- Анри Мари Бейль[78] из интендантского ведомства, – представился француз и, не дождавшись ответа, продолжил:
- Вижу, господа, ваши лошади, хоть и подустали с дороги, но столь упитанны и сильны, что подобных им нет даже в конюшне моего кузена – маршала Дарю[79]. Вы ведь не французы, не так ли?
- Мы – русские! – спокойно ответил Максим.
- Я так и подумал. Но что вы здесь делаете?
- А ты что? – вступил в разговор Толстой.
- Верно, – опустив голову и отступая на шаг, сказал Бейль, – вы у себя дома, лишние здесь мы. Весь поход – ужасная ошибка. Поистине, в России удача оставила Императора французов.
- Ошибка? – Толстой повёл вокруг себя рукой. – Вот это ты называешь ошибкой? Уверяю, заплатить придётся сполна.
- Пусть так, – легко согласился французский интендант. Смерти я не боюсь, всё равно хотел стреляться. Из-за неё, из-за Мелани. Когда этот ваш русский дикарь, Барков, увёз мою любовь из Марселя в Москву, я чуть с ума не сошёл. Хотел не просто вернуть её, но отвоевать мечом. Потому и попросился в армию… Господа! Может быть, вы знаете, где искать Мелани Гербер?
- Постой, Анри Мари! – почесал небритый подбородок Толстой – Мелани Баркову, бывшую актрису, я знаю. Ты про эту, что ли? Так она, как и все, уехала из Москвы в Петербург. С чего ты взялся её тут искать?
- Вы всё равно не поверите. Хотя – какая разница?.. Три дня тому я слёг от свирепого поноса. Вначале варварская болезнь поразила всех слуг, а потом и меня самого. В горячечном бреду мне явилась Мелани и сказала, чтоб я не умирал и тогда она вернётся. И вот я встал на ноги и сразу же отправился на поиски любви.
- Привыкли есть жаб и прочую мерзость, оттого и понос, что желудок отказывается принимать иную пищу, – презрительно бросил Максим.
Толстой же добавил:
- Нечего сказать, хорош! Зад от туалета оторвать не может, но в голове – одни бабы! Настоящий француз! Ну, да ладно, мы тебе помогли, по крайней мере, не будешь более тешиться глупыми иллюзиями насчёт своей Мелани. Окажи и ты нам небольшую услугу, Анри Мари.
- С радостью, – ответил погрустневший француз.
- Мы направляемся к генералу Понятовскому. Не подскажешь ли, где искать сего достойного господина?
- Отчего же не подсказать, если мне это известно. Прежде князь Юзеф находился при особе Императора. Но вчера поспешно собрался, и в ночь отправился. Куда – не знаю! Может, к своему корпусу, что входит в обсервационную[80] армию Неаполитанского короля? Но к чему тогда поспешность? В общем, нет его в Москве! – произнося эти слова, Бейль даже немного порозовел. Ещё бы, не прибегая ко лжи, сумел отплатить русским за любезность их же монетой: теперь поиски Понятовского получили столь же определённое направление, что и поиски беглянки Мелани.
Оставив несчастного француза, путешественники двинулись дальше. Улицы города узнавались с трудом. Глядя на укоризненные лики святых, что сквозь копоть проступили на стене одного из сожжённых храмов, Максим вспомнил сельскую церквушку отца Ксенофонта. Здесь всё то же самое. Только масштаб несоизмеримо больше. Федька-Ирод был лишь подмастерьем, в Москве же потрудилась рука мастера.
Французские мародёры ли отличились, иль русские разбойники, сработал ли план генерал-губернатора Ростопчина или город занялся от взорванных по приказу Кутузова военных складов? О том гадать – зря время тратить. Непреложно одно: первопрестольная столица России жила и здравствовала до нашествия Наполеона и погибла от его прикосновения. От прикосновения Зверя, как сказал бы отец Ксенофонт.
Течение мыслей Максима внезапно прервал разочарованный возглас Толстого. Крыжановский вскинул взгляд и увидел то, что заставило графа кричать. Вдоль улицы, на обгоревших деревьях и фонарных столбах во множестве висели трупы. Некоторые были свежие, иные – изрядно тронутые разложением. Судя по одежде, большинство при жизни являлись русскими, но были и солдаты неприятельской армии. У каждого на груди красовалась табличка с надписью на неуверенном русском: «Поджыгатель Москвы».
- Что, граф, знакомых увидал? А нет ли среди повешенных тех «верных людишек», к которым мы держим путь? – спросил Максим.
- Всё так! Они самые и есть! Подумать только, французам удалось сделать то, чего не смог ни один полицейский чин в Москве. Представляешь, Максимус, они поймали и казнили Мишку Меченого. Хотя тот в последние годы обленился, особо не скрывался, а лишь подкармливал мздой кого надо. Видать, подрастерял былую прыть, вот и не сумел в нужный момент протиснуть гузнище[81] в нору.
- Который Мишка? – прищурился Крыжановский. Ему не раз приходилось слышать о знаменитом воре.
- Вон тот – кормилец воронов.
С мёртвой безглазой головы того, кого Американец назвал Мишкой Меченым, лениво поднялась чёрная птица и перелетела на другоё тело.
- Вполне честная смерть! – заметил Толстой и, уловив недоумённый взгляд спутника, пояснил. – Для Меченого и ему подобных кончить жизнь в петле – всё равно как для тебя – умереть в бою, размахивая любимой саблей.
- А тебе, граф, какая смерть мила? – поинтересовался Максим, поспешно крестясь.
- Не поверишь, хотел бы испустить дух в собственной постели, окружённый родственниками. И, чтоб непременно исповедаться и причаститься… Но, не станем отвлекаться: Мишка был нашей главной ниточкой, ведущей к Понятовскому. Встречных-поперечных засран…в спрашивать более не вижу смысла – хватило одного. Остаётся единственное решение: вернуться к господину Белье-младшему и вытряхнуть из его уродливой рожи сведения о местонахождении Понятовского, – граф помедлил и закончил досадливо, – эх, зря я не выудил из кармана этого мнимого Вольтера карту, о которой тот проговорился. Глядишь, сейчас бы она нам пригодилась.
Максим тоскливо вздохнул, посмотрел на компаньона и заметил:
- Даст Бог, станешь рассказывать по кабакам о наших похождениях, этот момент непременно упусти. А то слушатели, не ровён час, начнут хвататься за карманы и проверять, на месте ли их табакерки.
В ответ Американец выкинул одну из тех штук, за какие молвою был наречён человеком диким и туземным: посреди мёртвого и поруганного города раздался громкий молодой хохот.
Глава 9 Явление зверя
1 (13) октября 1812 г.
Москва.
Возвращение в уцелевшие кварталы показало, что там теперь не безлюдно. Проснувшиеся французы заполонили улицы и сновали по своим делам.
Максим и Фёдор особо не таились. Правда, полковник счёл возможным выразить некоторую опаску относительно того, что, Анри Бейль мог поднять тревогу. Но Толстой лучился безмятежностью. По мнению графа выходило, что несчастный интендант настолько удручён духовными и телесными страданиями, что ему не до того.
У ворот Голицынской больницы бросилась в глаза роскошная крытая коляска с обгорелым верхом. Запряжённая в экипаж изголодавшаяся, полудохлая кляча благородных кровей тоже вполне соответствовала общей картине светской жизни захватчиков в мёртвой Москве.
Помня слова наблюдательного Бейля о бросающейся в глаза сытости их собственных лошадей, русские решили привязать оных за углом, подальше от клячи, чтоб не создавать опасных контрастов. Для этого пришлось пройтись пешком, но зато удалось избежать досадной встречи со знакомым лекарем – тем самым, что после дуэли пользовал раненого Франсуа. Лекарь как раз спустился по лестнице и уселся в недоеденную огнём коляску, каковая немедленно тронулась с места. Бедная лошадь из последних сил влекла экипаж – предчувствуя близкую кончину, она жалобно ржала.
- Судьба за нас! – заявил, глядя вслед, Толстой. – Теперь никто не помешает побеседовать по душам с малышом Франсуа. Если не считать, конечно, господина Кериака. Но его, как я понимаю, ты Максимус, легко отвлечёшь светской беседой.
Максим сердито поглядел на графа, но отвечать не стал: пусть, мол, себе издевается, коль ему от того легче живётся.
Внутри больничного корпуса, всюду, исключая лишь лестничные марши, вповалку лежали раненые. К удивлению компаньонов, кроме французской речи до них донеслась и русская. Была ли здесь причиной благодатная больничная атмосфера или что-то другое, но воины обеих противостоящих армий сдружились. Безрукие и безногие инвалиды более не чувствовали враждебности и не винили друг друга за причинённые в бою увечья. В общем гомоне проступали обрывки разговоров:
- Moscou n'existe plus pour nous — tout est devore par les flammes[82].
- Жаль, никто не догадался тушить огонь молоком только что отелившейся коровы. Сие есть самое верное средство, чтоб пожар не перекинулся на соседние постройки.
- Брехня! Следовало бросить в полымя камень яхонт, Это бы всё погасило. Сам же камень остался бы в целости…
Поиски Франсуа Белье не заняли много времени. Тот расположился в отдельной комнате, где, судя по обстановке, до нашествия, помещались больничные прачки. Теперь же сюда втащили койку. На ней и сидел забинтованный драгун: в одном сапоге, стеная от боли, он пытался натянуть второй.
Первым делом Толстой быстро прошёл в противоположный конец прачечной, где приметил ещё одну дверь, приоткрыл её, убедился, что там всего лишь кладовка, наполненная грязным бельём, и с лучезарной улыбкой обернулся к раненому. Максим тем временем опёрся спиной о косяк, перекрывая единственный выход, и скрестил руки на груди.
- О, как это любезно господа, что вы не оставляете меня перед столь важным шагом, – вскричал Белье гнусавым голосом, не прекращая при том борьбу с непослушным сапогом. – Но позвольте заверить, что я чувствую в себе достаточно сил, и уже почти собрался…
- Знаем, знаем, – ласково промурлыкал Толстой. – Вы, друг мой, несомненно доказали что обладаете могучей силой воли. Но необходимо убедиться в том, что телесные муки не затронули ваш разум…Таков приказ генерала. Поэтому прошу повторить всё, что надлежит делать. И оставьте, наконец, в покое злосчастный сапог.
«Что за кунштюк затеял Американец?» – недоумённо подумал Максим. – Не антимонии разводить надо, а отнять у болвана карту – и дело с концом».
- Извольте же! – Белье закрыл глаз, и стал заученно излагать:
- Подойти к калитке, ответить на тайный знак стража, предать себя в руки Ордена…
- Вот видите, Франсуа, как вы беспечны, – перебил Толстой, – только представьте реакцию стража, если случайно ошибётесь с ответом.
- Я не ошибусь, – заверил Белье и сотворил в воздухе следующее: вытянул вперёд руку, словно отодвигая от себя преграду, а затем коснулся тыльной стороной ладони того места, где под бинтами угадывался лоб.
- Хорошо, продолжайте, – не прекращал мучить раненого Американец.
- Когда члены капитула станут задавать вопросы, я должен буду говорить истинную правду, и ничего кроме правды. И так до тех пор, пока мне не позволят узреть свет свободы, и из неофитов я не перейду в полноправные эзотерики, – ответ Франсуа закончил умильным жестом – сложил руки молитвенной лодочкой.
- И последнее! Нам нужно удостовериться в том, что вы действительно готовы полностью вверить себя в руки Ордена, – с этими словами Толстой взял из груды белья несколько полотенец, связал из них подобие верёвки и подступил к Франсуа, который успел снова заняться сапогом.
- Что это значит! – оторопел Белье. – Вы… вы не…, – он метнулся к своей шпаге, но железные руки полковника Крыжановского мягко помешали такому развитию событий. Тут же ловкие пальцы Толстого запихнули в рот незадачливого неофита полотенце. Через две минуты Франсуа оказался раздет до исподнего, спеленат, подобно младенцу и водружён на кровать.
- Ага, есть! – торжествующе вскричал Американец, отбрасывая в сторону распотрошённый мундирный сюртук драгуна, и потрясая сложенной картой.
Единственной пометкой, присутствующей на карте, оказался аккуратный кружок, заключающий в себе некий небольшой участок в левом нижнем углу.
- Как же, как же! Усадьба Трубецких в Хамовниках! Сие место мне хорошо известно! – Толстой заметался по комнате, явно будучи одержим какой-то идеей.
Максим понял, что зерно подаренного им прошлой ночью пожелания «импровизировать», из которого граф взрастил большое ветвистое дерево с вычурными цветами, нынче готово вступить в новый жизненный цикл и уронить на землю тяжёлый налитой плод. Это и произошло.
- Максимус! Мне в голову пришла замечательная идея! – решительно заявил Американец. – Как тебе понравится, ежели я, скрыв лицо бинтами, отправлюсь на сборище таинственного ордена вместо нашего дорогого Белье. Посмотри, на руках все козыри: схожесть фигур, необходимые знания…
Услыхав слова графа, несчастный Франсуа стал мычать и метаться на кровати.
- …А главное – незаурядный талант, – окончание фразы Толстой произнёс гнусавым голосом, очень точно копируя Белье.
Крыжановский, однако, не высказал должного энтузиазма. Идея показалась ему абсурдной и лишённой малейшей надежды на успех. Но Толстой совершенно не желал воспринимать разумных доводов и стоял на своём:
- Помилуй, Максим, у нас ведь с тобой дуэль, а не военная операция! Следовательно, нет никакой необходимости действовать сообща. Пусть каждый поступает сообразно собственному замыслу. А там поглядим, на чьей стороне фортуна!
Крыжановский понял, что дальнейшие споры и препирательства бессмысленны. Кроме того, совершенно разъяснился вопрос: за что именно Толстого в своё время изгнали из гвардии? Вот за эти самые необузданность и неспособность к совместным действиям.
Диспозиция получилась совершенно немудрёная: Американец, надев личину Белье-младшего, к одиннадцати часам дня открыто отправится на сборище ордена в усадьбу Трубецких. Максим же, проберётся туда тайно. А далее оба, действуя по обстановке, станут искать Понятовского.
Времени почти не оставалось, поэтому компаньоны рьяно взялись за дело. Для начала, сняли с Франсуа бинты, которые Крыжановский тут же стал очень аккуратно наматывать на голову Толстого, стараясь сделать так, чтоб кровавое пятно на каждом последующем витке совпадало с таким же пятном на витке предыдущем. Когда «осиное гнездо» полностью перекочевало на «свежую» голову, а её владелец надел на себя французский мундир и принялся сражаться с непослушным сапогом, точно так же, как это недавно делал Франсуа, Максиму на миг показалось, что графа вдруг не стало, а на его месте очутился Белье-младший. Эффект подкреплялся тем, что настоящий Белье, лишённый повязок, совершенно не ассоциировался с собою прежним.
Освобождённое лицо его представляло безобразное зрелище. Рану лекарь заштопал конским волосом и обильно намазал вонючей, лоснящейся мазью. Левая щека налилась цветом спелого граната и отекла настолько, что глаз лишился возможности открываться. Видимо, отёком объяснялась и появившаяся с недавнего времени гнусавость голоса. К тому же, потеря свободы движения и речи дурно отразилась на характере несчастного: вёл он себя буйно, порождая множество ненужных движений и неприятных звуков. Пришлось определить француза в кладовку и забросать тюками грязного белья.
Толстой прислушался – не слишком ли слышна из кладовки возня и весело объявил по-русски:
- У меня родился потрясающий каламбур! Вот послушай! О где же, где же наш Белье? В зловонном скрылся он белье! Выживет – его счастье, а нет – туда и дорога!
С тем и отправились. К облегчению компаньонов, Крымский мост не пострадал от пожара. Потому добрались до Хамовников без задержек и приключений. В Кавалерийских казармах, что составляли суть и главную достопримечательность здешних мест, во множестве квартировали французы. Однако это не помешало Толстому открыто заявиться на казарменный двор и отвести в конюшню обеих лошадей. В качестве платы за постой граф выдал конюху остатки колбасы Максима и большое зелёное яблоко. Плохо ли, хорошо ли, но таким образом оказалась решена задача сохранности лошадей: пусть уж лучше вражьи полчища преграждают доступ к ним, нежели будут брошены без присмотра с риском быть украденными.
Дальше пошли порознь. Максим отстал, прислонился к какому-то забору и краем глаза стал наблюдать за компаньоном, приближающимся к небольшой калитке в ажурной ограде, за которой скрывался обширный парк. Навстречу мнимому Белье вышел польский солдат и вытянул вперёд ладонь, преграждая путь. Толстой, перенятым у Франсуа жестом, также вытянул перед собой ладонь, а затем её тыльной стороной коснулся лба. Однако поляку этого оказалось недостаточно. На плохом французском он потребовал, чтобы пришелец снял бинты и показал лицо.
Максим ругнулся про себя: упрямый Американец своей дурацкой склонностью к театральщине погубил всё дело.
Но тут рядом с поляком возникла чья-то тень, и раздался смутно знакомый голос:
- Нет необходимости снимать повязку. Я узнаю собственную работу, – голос принадлежал давешнему лекарю. Часовой немедленно послушался и пропустил Толстого. За ряженым графом внутрь последовал и тот, кто, в свою очередь, рядил себя в одежды армейского врача.
«Ну-ну! Пока фортуна благоволит к этому чёртову комедианту!» – ухмыльнулся про себя Максим. – Хорошо ещё, что его не обыскали, а то бы весьма озадачились. Но каков подлый докторишка – изумительный прощелыга! Наверное, обладает немалым весом в тайном обществе».
Полковник отлепился от забора и неспешной походкой направился вдоль улицы. Зайдя за угол, он остановился, спокойно огляделся по сторонам, а затем в два молниеносных приёма перемахнул через ограду. Там оказалась рыхлая земля, поэтому особого шума прыжок не произвёл. Тем не менее, Максим ещё некоторое время таился за кустами, приглядываясь и прислушиваясь к окружающему миру. Но всё было тихо.
«Есть ещё порох в пороховницах!» – похвалил он себя и стал, крадучись, пробираться к дому, чей силуэт виднелся сквозь порядком утратившие листву деревья.
Парк являл прекрасный образчик садового искусства и свидетельствовал о весьма недурном вкусе хозяев усадьбы. Чудилось, всё вокруг специально создано для романтического времяпрепровождения: и тенистые аллеи, что, несомненно, хранят воспоминания о прогулках влюблённых; и увитая диким виноградом изящная ротонда, что тихим шёпотом убеждает в тщетности поисков иного – лучшего – приюта для поцелуев; и горбатый мосток, что перекинулся через населённый кувшинками пруд (о, сколько томных вздохов и пламенных признаний слышали те кувшинки!). В наполненном золотой осенью раю невозможной кажется сама мысль о том, что всего лишь в паре кварталов отсюда начинается адское пожарище.
Соответствовал окружающему великолепию и красивый двухэтажный особняк, увенчанный громадным бельведером[83].
Стараясь не шуршать листвой под ногами, Максим приблизился к дому, укрылся за древесным стволом и приступил к наблюдениям. Увы, увиденное не внушало оптимизма. При ближайшем рассмотрении дом напоминал улей, переполненный злыми пчёлами. В открытых окнах обоих этажей слышалось гудение голосов, и сновали чьи-то тени. Людно было и на крыльце, где всех визитёров встречали польские солдаты, как две капли воды похожие на стражника, виденного у калитки. Визитёры же продолжали и продолжали умножаться. В мундирах и в статском, но неизменно при оружии.
«Сколько же их набралось? Уж точно, не меньше пятидесяти! – думал Максим пробираясь кустами на задний двор. – И на кой понадобилось изобретать чудные правила дуэли? Взяли бы, да обменялись с графом парой ударов шпагами, подобно братьям Белье. Так, чтоб не до смерти. Покрасовались бы недельки две с повязками, да и забыли, к чёрту, об этом деле. Так нет же, в странствующие палладины потянуло. Эх, правильно говорил в своё время Мишель Телятьев: вредное это увлечение – рыцарские романы. Следовало читать что-нибудь современное».
Одна из боковых стен оказалась глухой, что позволило Максиму незаметно для находящихся внутри подобраться к дому. Тыльная стена обрадовала ещё больше, потому что на втором этаже имела балкон, весь увитый побегами плюща. Словно перенесённый с шекспировских страниц, этот балкон, казалось, приглашал юных любовников воссоединиться со своими прелестными пассиями.
Максим помедлил, собираясь с духом, затем мысленно поблагодарил всех ветрениц из рода Трубецких, а также их благородных возлюбленных за оставленную лазейку, тщательно проверил – как закреплено оружие и решительно ухватился за толстый побег плюща, ползущий вверх. Плющ немедленно издал негодующий треск, потому что здоровенный, не чурающийся обильных застолий гвардеец в боевой экипировке намного превосходил весом любого из тех, кому в прошлом случалось пользоваться услугами гостеприимного растения. К счастью, стебель обладал выдающейся крепостью, а полковник такою же сноровкой. И вскоре пыльный носок офицерского ботфорта отыскал для себя основательную опору в виде балконного ограждения.
«Пожалуй, сегодня фортуна любит нас обоих с графом, – решил Крыжановский, когда выяснилось что в довершение прочих удачных стечений дверь балкона не заперта, а примыкающая к нему комната пуста. Пуста, но обитаема, о чём свидетельствовал царящий там неряшливый беспорядок.
Меж тем, две вещи к беспорядку отношения не имели, а аккуратно сложенные, мирно соседствовали на покрывале неразобранной кровати. То были роскошный мундир кирасирского полковника и ряса с капюшоном, подобная тем, что носят католические монахи. Только эта ряса была не из грубой ткани, а из нежного шёлка и цвет имела необычный – ярко-алый.
Максим осмотрелся. Предстояло решить, что делать дальше. В этот момент за дверью послышались тяжёлые шаги, звон шпор и голоса. Он только и успел, что выхватить саблю и встать спиной к стене, когда раздался скрип давно несмазанных петель, и в брюхо упёрлась отворившаяся дверь. Кто-то остановился на пороге, продолжая неоконченный разговор:
- …Да, сударь, я прекрасно понимаю важность привезённого послания, поэтому отдал его лично мэтру Августусу! Он сейчас как раз читает. Вас же пока прошу расположиться в соседней комнате.
Звенящие шпоры удалились дальше по коридору, а обладатель тяжёлой походки вошёл и склонился над кроватью, оказавшись спиной к Максиму. Тот отвёл руку для удара, но медлил, потому что завозмущалось всё естество: только не в спину, только не безоружного. Понимал, что перед ним враг, да не такой никчемный, как страдалец Анри Бейль, а враг настоящий. Понимал, что в его ситуации всякое рыцарство просто смешно. Понимал, что когда кирасир обернётся, то наступит конец «фортуниной любови». Всё прекрасно понимал, но ничего с собой поделать не мог.
Кирасир обернулся. Но, вопреки ожиданиям, не стал звать на помощь, а резво перескочил кровать и, оказавшись у противоположной стены, вытащил из-под подушки пистолет. Но тот ещё взводить надо, и нацеливать, и жать крючок. А Максимова сабля – уже тут как тут. Раз и два – крест накрест. Пистолет упал на пол, хорошо, что при этом не пальнул, а лишь звякнул. Тут же сверху на него рухнуло и тело хозяина. Что ж, приятно было иметь дело с воином, а не с горлопаном.
Труп кирасира удачно уместился под кроватью, правда, крови натекло много – пришлось набросать сверху подушек. Максим оглядел дело своих рук и мрачно кивнул: всё вышло тихо, быстро, а главное – без урону для чести.
Тихо открыв дверь в коридор, он услышал голоса, доносившиеся из соседней комнаты.
- Наконец-то добрые вести! – говорил кто-то возбуждённо. – Но покажите же скорее, где это находится?
Послышался шорох бумаги и другой голос произнёс:
- Вот здесь, в глухом лесу, недалеко от деревни Шаболово. А это – смолокурня, где стоит генерал с отрядом. Сегодня ночью всё решится.
- О, я не сомкну глаз. А к утру жду результата, – заявил первый голос с такой надеждой, словно его обладателю после смертного приговора кто-то посулил помилование.
В этот момент внизу позвонили в колокольчик и крикнули:
- Без четверти полдень!
Первый голос, прежде наполненный надеждой, обрёл деловитость и торопливо закончил:
- Прошу вас немного задержаться с отъездом. Через час я освобожусь и черкну генералу пару строк. Вы же пока поешьте и выпейте с дороги.
Максим поспешил спрятаться в комнату с балконом. Там он дождался, когда стихнут удаляющиеся шаги говорившего и, вернувшись в коридор, заглянул в приоткрытую дверь соседнего помещения.
Как и следовало ожидать, оставшийся там человек оказался польским уланом. Он спокойно сидел в кресле, положив ногу на ногу, и от нечего делать раскручивал пальцем колёсико шпоры.
«Посланец Понятовского! А самого генерала-поляка нет ни здесь, в доме, ни вообще в Москве. И находится он где-то у чёрта на куличках – в какой-то смолокурне! – расстроился Максим. – Вот что значит понадеяться на благосклонность фортуны, каковая есть девка гулящая, глумливая и любящая забавляться. А все лазейки и прочие мелкие удачи, от которых происходила ложная надежда на близкое и удачное завершение дела – не более, чем уловки подлой насмешницы».
Теперь Максим совершенно не имел понятия, что делать дальше. Он снова вернулся в комнату с балконом и стал думать:
«Напасть на улана? Или тихо выбраться из проклятого дома-улья тем же путём, каким здесь оказался? Но как быть с графом?» – Взгляд непроизвольно остановился на алой рясе. Тотчас в голову незваной гостьей постучалась мыслишка: «Надень меня».
«Неужели помешанный на театральщине Американец заразил своим сумасшествием?» – полковник прошёлся по комнате из угла в угол и вернулся на прежнее место. Иных идей не появилось, так что пришлось примириться с неприятной перспективой. Но с оговоркой: только ежели удастся спрятать под рясой саблю и пистолеты так, чтоб не выглядывали.
Ряса оказалась весьма обширных размеров. Настолько обширных, что это позволило прекрасно скрыть всё оружие. Покрой сапог и рост, правда, могли выдать, но тут уж ничего не попишешь: и ниже не сделаешься и обувку с трупа снимать не станешь.
Максим набросил на голову капюшон, критически осмотрел себя в зеркало и плюнул в сердцах: «Чистая Commedia dell'arte[84]. Толстой в образе Арлекина уже блещет на сцене, а нынче ещё и Капитан готовится к дебютному выходу».
С полагающейся начинающему актёру опаской он покинул, наконец, своё убежище и, спустившись по лестнице, поспел как раз к началу спектакля: по всему дому хлопали двери, выпуская на свет множество ряженых в такие же, как у Максима, алые рясы. Все направлялись на первый этаж и собирались в обширном помещении, очевидно служившем хозяевам усадьбы бальной залой.
Сейчас окна в зале были плотно зашторены, а посредине из полумрака выступало странное сооружение. По виду, оно напоминало уступчатую пирамиду, забранную чёрной тканью. Входящие выстраивались вдоль стен и замирали в молчании. Сие построение напомнило полковнику обычное «каре», только солдаты в нём были обращены лицом не наружу, а внутрь. Он тоже занял свободное место и стал ожидать дальнейших событий.
Долго ждать не пришлось. Зазвенел колокольчик и сильный голос произнёс:
- Достопочтенный мэтр Августус, Гроссмейстер Башни.
В залу вошёл некто в длиннополой алой мантии и бронзовом шлеме с личиной, наподобие тех, что носили в древней Элладе. Такой шлем мог бы быть у Александра Великого. Поднявшись, мэтр Августус уселся на самом верху пирамиды. Присутствующие встретили появление вошедшего гулом, а Максим насторожился, ибо титул «гроссмейстер» живо напомнил ему давешний сон, что привиделся в Тарутино перед самой встречей с Толстым.
Снова зазвенел колокольчик:
- Досточтимый Капитул Башни.
Пять человек прошли к пирамиде и заняли места на её предпоследнем уступе.
И в третий раз зазвонил колокольчик:
- Мэтр Януарий, Ментор Ордена со своим неофитом.
В первом из двоих вошедших Максим угадал лекаря, вторым же был Американец, изображавший Франсуа Белье. Граф имел на себе не алую рясу, как остальные присутствующие, а прежний, «одолженный» у Франсуа драгунский мундир. Руки его были связаны верёвками, а на голову надет холщовый мешок. При виде плачевного состояния «неофита» Максим ухмыльнулся: «Пожалуй, болван Белье не много потерял, оставшись в больничной кладовке».
Короткое замешательство произошло у трибуны, перед которой поставили Толстого: человек с трона на вершине пирамиды неуловимо соскользнул к ее подножию.
- Братья! – прокатился голос под куполом. – Свободные граждане Великой Империи прошлого и грядущего! – Разговоры смолкли, воздух накалился – так продолжалось мгновение, а затем три десятка легких вытолкнули с четким ритмом:
- Vita – sine – libertate – nihil[85]!
- В дни собраний и иные определенные времена каждой четверти года да читается сие постановление в присутствии всех братьев – эзотериков и «ищущих»! – глухо зазвучал из-под шлема голос Гроссмейстера. – Primus: каждый брат, который приемлется и вписывается в сей Орден, свято хранит три обета: обет свободы от морали времени своего, времени прошлого и будущего; свободы от церкви дня сего, а также прошлого и будущего; свободы от семьи, от общества и законов добровольных рабов. Secundus: за идеалы Ордена да стоит твердо; да придерживается всегда Высшей справедливости; свободных да освобождает от рабских оков; надевающих кандалы да умерщвляет. Нарушители же сего правила да подвергаются временному и вечному наказанию. Tertius: должно помнить, что свободные могут оказаться среди любых вероучений, потому брат должен иметь всегда глаза и уши раскрытыми для учеников Аристотеля. Quartus…
Высокие, почти в два локтя, перья на шлеме, напоминающие рога, раскачивались в такт словам. Богоборческие заповеди текли медленно… quintus, sextus, septimus, но алые мантии не шевелились, из-под некоторых капюшонов даже слышались вторящие гроссмейстеру голоса.
Багряный свет залил штору позади пирамиды, на авансцене остался лишь Ментор. Мэтр Август неуловимо быстро взошёл на вершину строения. Одновременно с потолка упал солнечный луч, выхватив искусно нарисованный на полу треугольник с замысловатой криптограммой.
«Видимо, свет направляется какой-то хитроумной оптикой», – решил Максим.
Человек с колокольчиком, закутанный, как и остальные, в алую рясу, вышел из мрака и, остановившись посредине, сказал:
- Полдень!
Ментор откашлялся и произнес что-то на странном гортанном наречии, подобного которому Максим не слышал – зала повторила. По-видимому, приветствие или клятву-заповедь.
Ритуал инициации начался.
- Да будет известно досточтимым присутствующим, что, по поручению достопочтенного Гроссмейстера я незримо наблюдал за неофитом во время прохождения положенных испытаний, – сказал ментор по-французски. – По этому делу могу засвидетельствовать следующее. Испытание первое неофит прошёл с честью. Он открыто отрёкся от злого бога, заявив о выходе из лона католической церкви. При этом остался твёрд и не поддался на увещевания единокровного старшего брата, каковой ранее являлся монахом-иезуитом и весьма разбирается в вопросах религии. Кроме того, рекомый старший брат имел на испытуемого весьма большое влияние, ибо, после смерти родителей, опекал его с самого детства. Таким образом отмечаю, что испытание показало высокую стойкость неофита. То же самое можно сказать и о втором испытании. В течение десяти дней испытуемый терпеливо выхаживал в госпитале раненого русского солдата по имени Федька, внушая тому идеи Башни. Результатом явилось то, что русский, прежде называвший себя добрым христианином, лишь только набрался сил, немедленно осквернил церковь своей веры, помочившись на алтарь. Это достижение показало большое упорство и терпение неофита в стремлении к результату. А также его способность нести истину в массы.
При этих словах Максим мысленно пожелал поганцу Белье сдохнуть в зловонной кладовке.
- Испытание третье оказалось самым тяжёлым, – продолжал мэтр Януарий, – я уже упоминал о той большой зависимости, которую от старшего брата имел испытуемый. Тем не менее, он, следуя указаниям нашего уважаемого генерала, вызвал брата на дуэль и пролил его кровь. Сам неофит при этом также пострадал, получив серьёзную рану, изуродовавшую ему лицо. Последнее испытание показало исключительную способность испытуемого к самоотречению и самопожертвованию во имя идеи.
- Благодарю вас, Ментор, – кивнул гроссмейстер. – Видимо, генерал не ошибся, рекомендуя нам неофита. Но, прежде чем приступить к голосованию, должен спросить: есть ли у присутствующих возражения против вступления нового члена в Орден?
- Есть! – веско объявил Ментор.
Зала ответила удивлённым шёпотом.
- Но это не относится к пройденным испытаниям. Свидетельствую о преступной доверчивости неофита, граничащей с предательством, – делая ударение на каждом слове, заявил мэтр Януарий. – То, о чём говорю, обнаружилось во время дуэли со старшим братом. Откуда ни возьмись, из темноты появились двое неизвестных, каковые неумело и бесталанно попытались изобразить из себя членов нашего Ордена. Неофит же не сумел распознать шпионов и стал говорить с ними о делах…
Со всех сторон послышалось грозное жужжание растревоженного улья:
- Nemo regulas, seu contitutiones nostras, externis communicabit.[86]
«Вот и конец комедии! – отрешённо подумал Максим, по осанке отыскивая взглядом в толпе военных. – Глупый Американец! Не выйдет у него помереть в собственной постели. Мне же всё верно напророчил: в сражении, с саблей в руке… Что же, чему быть – того не миновать. Первым делом – проткнуть проклятого Гроссмейстера, затем освободить Толстого и начать рубить поганый капитул. Пистолеты – напоследок…»
- Достопочтенное собрание! – через мешковину послышался гнусавый и одновременно жалобный голос мнимого Белье. – Осмелюсь попросить соизволения оправдаться. Ибо владею сведениями, дающими такую надежду…
- Неслыханная дерзость! Как он посмел нарушить молчание! – жужжание улья усилилось… Nemo regulas…
- Пусть говорит! – объявил гроссмейстер, и жужжание немедленно стихло.
- После того, как достойный ментор зашил мне рану и облегчил страдания, он покинул больницу. Этим воспользовались те два мерзавца, которые выдавали себя за посланцев Ордена. Они пришли и сказали, что инициация отменена из-за моего болезненного состояния. Но я почувствовал подвох и сумел распознать в чужаках дружков моего брата. Его учителями ведь были отцы-иезуиты, вот он и испробовал на мне приём из их арсенала. Сожалею, что раны не позволили действовать быстро. Лишь только я бросился к шпаге, как оба проходимца поспешно ретировались без ущерба для себя, – эти слова ряженый граф сопровождал вполне сносной игрой. Максим мог бы поклясться, что видит перед собой человека, испытывающего невыносимые физические страдания и с трудом держащегося на ногах.
Целую минуту зала молчала, а затем гроссмейстер спросил:
- Мэтр Януарий, правда ли, что перед инициацией вы бросили ищущего одного?
Ментор не ответил. Казалось, он сделался ниже ростом.
- Благодаря вашей беспечности, – продолжил гроссмейстер, – появились затруднения с вынесением вердикта. Ибо нет надёжного источника, способного подтвердить или опровергнуть дерзкое заявление ищущего. Капитулу нужно время, чтоб посовещаться, в связи с чем объявляется перерыв. Испытуемый может дожидаться решения в «комнате для размышлений».
«Отцовская сабля с девизом неоднократно доказывала, что инструмент она – острый и точный. Но даже такому тщательному и заботливому человеку как Илья Курволяйнен не наточить дамасский клинок до остроты языка графа Толстого, – ликовал Максим, покидая залу. – А мне никакими фехтовальными упражнениями не достичь той замечательной точности, коей, несомненно, обладает графский язык».
Так называемая «комната для размышлений», где находился Американец, никем не охранялась. Удивляться постоянному везению уже надоело, поэтому Максим просто вошёл внутрь. Длинным и красочным рассказом о собственных похождениях и о трупе под кроватью, каковой вот-вот обнаружат, утомлять Толстого не стал, а коротко и доходчиво объяснил, что пора за кулисы. Федор молча выслушал и кивнул, ругнувшись:
- Как языческое кладбище! Никогда не доводилось бывать на неосвященном погосте, полковник? Очень похожее ощущение!
Вскоре две фигуры, несколько потрепав пока ещё буйную, но с первыми намётками осенней плеши шевелюру плюща, незаметно покинули дом-улей и спешно двинулись в глубину парка.
Одни глаза всё же заметили сие трудноуловимое движение. Обладатель цепких глаз стоял у окна на втором этаже. Откинутый алый капюшон открывал большую лобастую голову, привыкшую совсем к другому убору – известной всей Европе чёрной «двурогой» шляпе. Угрюмо и властно глядя в спины бегущих, человек размышлял:
«Вот он – знак судьбы! Знак, который прямо отвечает на мучительный вопрос: «Что делать?». Нужно бежать из проклятого города московитов, и бежать как можно скорее. Решение об этом объявлю сегодня же. Посмотрим, как отреагируют маршалы».
Глава 10 Утиная охота или бигос[87] по-финляндски
1 (13) октября 1812 г.
Просёлочная дорога поблизости от Москвы.
Оставив позади разлагающийся труп Великого города, в чьих жилах пульсировала чужая – злая – сила, компаньоны расположились у развилки дорог и битый час поджидали генеральского посланца – польского улана.
Дело двигалось к вечеру. Солнце угадывалось по светлому пятну в ожирелых тучах, что надвинулись с севера, грозя опрокинуть на голову ушат холодной воды.
После визита в дом-улей Крыжановский чувствовал себя словно зараженным… даже в мысли не хотелось пускать грязное слово! …проказой.
- Чёрт побери, граф, ты уверен, что это – единственная дорога на Шаболово? – нетерпеливо проронил он, запахивая ворот плаща.
- Иной отродясь не было! – Толстой вынул изо рта изгрызенный трубочный чубук и, одарив плевком дорожную пыль, меланхолично заметил:
- Думаю, достопочтенным господам из сатанинского Ордена нынче куда веселее нашего. Наверное, уже обнаружили под кроватью твой гостинец, а возможно, достали из кладовки и моего персонажа. Представляешь, какая в Ордене ловля блох? В этом вижу причину задержки гонца.
Со стороны Москвы показались два всадника.
Максиму почему-то вспомнилось Святое Писание. Всадники Апокалипсиса! Два из четырёх: Война и Голод. Война идёт первой. Она прошагала с барабанным боем по Европе. Следом явился Голод. Явился – и сразу предъявил счёт захватчикам.
Блеск в глазах Крыжановского заставил Толстого посмотреть на дорогу:
- Уланы!
Два выстрела из семиствольного карабина прозвучали почти одновременно. Первый всадник сразу полетел на землю, а другой ещё некоторое время раскачивался в седле и лишь потом рухнул. Американец, опустив чудо-оружие, двинулся к убитым.
- Не понимаю, вроде у них одинаковые дырки посреди лба. Отчего же этот покинул мир немедленно, а другой раздумывал? Какая сила заставляет цепляться за жизнь лишние мгновения?
Полковник про себя подумал: «Всё правильно. Война должна сгинуть первой, а Голод – ещё продержаться немного. Но и он обречён». Вслух же осведомился:
- Может, прежде следовало вступить в разговор, а, Теодорус?
- Ни к чему! Полагаю, неприятели после наших с тобой похождений уже не столь доверчивы. Кроме того, всё хорошо в меру. Я чувствую совершенное удовлетворение всяческими разговорами. Можно сказать, французские прононсы намозолили язык и нёбо, а ведь ещё предстоит объясняться в этой твоей смолокурне. Так что нынче захотелось немного пострелять, – граф с силой загнал шомпол в ствол карабина.
- А комедь с переодеваниями? Этого действа тебе хватило, или всё же наденешь чужое? – подняв с земли четырёхугольную уланку, Максим протянул её Фёдору. Тот весело засмеялся:
- Батюшка много рассказывал о… об одном немецком бароне на русской службе – любителе носить треуголки! О! Как я жалел, когда, возмужав и выйдя в свет, узнал, что треугольный фасон вышел из моды! Что касается четырёх углов, то такая форма хороша для нужника, но не для шляпы. Предлагаю взять себе только лошадей, ну и то, что найдём в сумках.
В седельной сумке обнаружились тугой конверт и карта.
Печать разломилась с вкусным треском, на полковника пахнуло воском. Письмо внутри испещряли мелкие сухие французские закорючки:
«Генерал!
Сим удостоверяю, что послание ваше получено.
Известие радостное и своевременное. Позвольте засвидетельствовать мою благодарность. Надеюсь, на этот раз у Вас не выйдет промаха, ибо время не терпит. Маленький капрал совсем пал духом и совершает одну глупость за другой. С каждым днем он все больше выходит из-под моего контроля. А в последнее время стал искать мира с русским царём. Отправил в Петербург уже три послания. Капитул обеспокоен, что понятно. Найдите Книгу! Найдите ее и доставьте мне!
Помните, в случае провала, я заберу вас с собой, генерал!
Мэтр Август, Гроссмейстер Ордена Башни».
- Ничего непонятно! – покачал головой Максим. – Таинственная и могущественная организация этот Орден. Хорошо, что мы вовремя унесли ноги.
- Плевать на орденские тайны – сейчас не до них. Более чем стрелять, хочется есть. – Толстой принялся разворачивать карту. – Вот оно – место! Недаром мы дожидались поляков! Теперь не придётся блуждать по лесу. Веришь, не раз бывал в Шаболово, но ни о какой смолокурне слыхом не слыхивал. Что оно такое – смолокурня? Мне представляется миниатюрная копия геенны огненной, где варят смолу…хотя, в таком случае была бы смоловарня.
- На месте разберёмся, – зевая, заявил Крыжановский и сунул ногу в стремя. Всадники тронулись в путь, не забыв вдобавок к собственным лошадям, прихватить ещё и трофейных.
До захода светлоокого Гелиоса осталось немного – пламенная колесница приближалась к краю мира. Но солнценосному богу сквозь тучи не разглядеть землю, откуда на него с интересом посматривает не ведающий промаха стрелок.
Светлое пятно, переваливающееся по барашкам крутых туч, напомнило Толстому отяжелевшую откормленную утку. В руки попросилось ружье – осенью селезни набирают жирка и становятся настоящим деликатесом. В животе заурчало, Фёдор сглотнул слюну:
- Надеюсь, нам сегодня не придётся почивать без ужина! Как считаешь?
- Не трави душу! – застонал Максим. – Я, как и ты, мало ел и спал! Лучше скажи, что за название у села – «Шаболово»? Как прикажешь именовать здешних баб?
- А местная барыня Екатерина Ивановна Козицкая именно так их обычно и зовёт - шаболды. Жаль, что добрую даму из родных пенатов выгнала война, а не то бы мы с тобой устроились на ночь по-царски. – Американец мечтательно прикрыл глаза, но тут же встрепенулся:
- Похоже, приехали! Ежели верить карте, надо свернуть направо…ага, вот и тропинка…правда не разберёшь, сколько ещё до смоло… как бишь её.
В сумраке проступило небольшое приземистое строение. От него отломилась крысиного цвета глыба и загородила тропинку. Часовой был высок, смотрел на всадников, почти не задирая головы, руки держал под серым плащом.
- Мы от гроссмейстера. Везём послание генералу! – крикнул Толстой.
Часовой вскинул руки ладонями вверх. Затем пальцами начертил в воздухе круг, а внутри его – ущербный крест, в форме буквы «Т».
Максим оглянулся на спутника – Толстой зло пялился на серого. Он совершенно упустил из виду, что в обиходе Ордена могут использоваться знаки, отличные от того, который выдал доверчивый Франсуа Белье.
Лицо серого расплылось в блаженной улыбке. К оружию метнулись одновременно, но Американец успел раньше.
Пуля, выпущенная почитай что в упор, разворотила часовому полголовы. Сила выстрела откинула тело, а пистолет, уже вынутый из-под плаща, крутясь, пролетел по дуге и стукнул в колено лошадь Толстого. Животное взвилось на дыбы, и это спасло графу жизнь, потому что из кустов ударили выстрелы: часовой оказался не один. Крепко ударившись спиной о землю, Фёдор едва успел откатиться в сторону, когда сверху рухнул бьющийся в агонии конь. Пули прошили ему навылет шею.
Крыжановский зря времени не терял. Выпалив по кустам с двух рук, он соскочил на землю и бросился врукопашную.
Противников оказалось двое: выстрелы им нисколько не повредили. При приближении полковника оба бросили перезаряжать ружья, выхватили шпаги и стали в позицию. Максим, зевнув, пружинисто пошёл вперёд. Сабля, «неумело» зажатая в кулаке, болталась где-то на уровне колен.
Люди Ордена атаковали одновременно. Гвардеец подался в сторону и парировал так, что отбитая шпага одного врага пропорола плечо другому. Тот выругался по-польски.
Улыбка Максима приобрела жёсткость. Он несколько кривил душой, утверждая, что не может связать на языке предков и двух слов:
- Suko jedna![88]
Опешив, поляки на долю секунды утратили бдительность, за что тут же поплатились жизнью: сапфировый глаз грифона на рукояти дамасского клинка сверкнул два раза – неотразимо и смертоносно.
Вся схватка, доказавшая, что бранные слова весьма полезны на поле брани, продлилась едва ли больше времени, чем понадобилось для чистки сабли от крови. Удовлетворившись достигнутым, Максим собрал ружья врагов и пробрался к примеченной ранее большой поленнице, каковая обеспечивала вполне надёжную защиту от свинца.
Тем временем Толстой, прячась за лошадиным трупом, обозревал дом. Находящиеся там не могли не слышать выстрелов. Значит, вскоре, проявят интерес.
На тёмном фасаде проступил дверной проём – видимо, внутри убрали с лампы колпак или дрова в очаге вспыхнули особенно ярко. Лишь только мелькнула тень – нет, меньше чем тень, фантом – граф выстрелил. В ответ донёсся отчаянный всхлип и звук падения. Тотчас погас свет, и началась пальба. Свинцовые градины засвистели вокруг и стали толкаться в конскую тушу.
«Как же их много! – удивился Толстой – Однако не верится, что все до одного столь бездарно разрядили ружья. Наверняка парочка стрелков поджидает простака». Он снял плащ, надел на хлыст и поднял вверх. Уловка не подействовала, поскольку либо враги попались опытные, либо граф ошибался.
Ждать разъяснений не пришлось: в отдалении фыркнул один из тех коней, что привели с собой компаньоны, а смолокурня немедленно озарилась вспышками выстрелов. Несчастное животное жалобно заржало, умирая. Спокойно пожав плечами – «хочешь жить – умей вовремя убраться» – граф покинул открытое место. Наступившая тьма заботливо укрыла его полой плаща.
Появился он подле поленницы совершенно неожиданно для Максима. Тот даже вскинул ружьё.
- Потише, потише! Или ты решил разом кончить нашу дуэль? Так надо было ещё в Тарутино! – скороговоркой произнёс Американец, устраиваясь рядом. – Как думаешь, сколько их засело в доме?
- Человек пятнадцать или двадцать… Судя по числу выстрелов.
- Многовато, но плевать! Я ведь упоминал о том, что снедаем желанием пострелять! К тому же господа, засевшие в доме, мешают осуществлению и иных помыслов, а именно – поесть и выспаться. Да и вообще – лошади частью убиты, а частью разбежались. Как прикажешь добираться домой?
Максим промолчал. Он давно понял, что редкая из речей графа требует от собеседника ответа: Фёдор любит говорить для себя.
Толстой взял увесистое полено и с силой метнул в стену.
- Эй, друзья мои, немедленно отвечайте – за что так ненавидите лошадей? Уверяю вас, лошадь – доброе и полезное животное!
Дом хранил молчание, но, по-видимому, руководствуясь иным, нежели Крыжановский, резоном.
- Эх, подсветить бы чем, а ещё лучше – выкурить, – мечтательно продолжил Толстой. – Тогда бы я их – как стаю уток…
- Мы на смолокурне. Неужели тут не сыщется, чем выкуривать? – подсказал Максим, который некоторое время назад учуял слабый скипидарный запах.
- Ты прав, светлая головушка, а я, видимо, уснул умом, ежели простых вещей не разумею, – Толстой хлопнул себя по лбу и попытался приподняться над поленницей.
Громыхнуло, и пуля расколола бревно рядом.
- Вперёд ходу нет, только назад, – заметил граф, выдёргивая длинную острую щепку, пронзившую плечо. – Так давай же порыщем в округе!
Оказавшись под защитой деревьев, для чего пришлось отмерять изрядную дистанцию на брюхе, они принялись выискивать источник скипидарного запаха. Темнота надёжно укрывала от взора стрелков, но за эту услугу требовала обильную мзду в виде шишек и синяков. Ни Максим, ни Фёдор не думали скупиться. Более того, всякий раз, напоровшись на пень или сучок, они ещё добавляли от щедрот своих толику отборных заковыристых ругательств.
Наконец наткнулись на полуразвалившуюся сараюшку, где в беспорядке содержались многие бочки, бочонки, бутыли и бутылки. Когда откупоренные пробки стали выпускать наружу один чарующий аромат за другим – спирта, дёгтя, смолы и уже знакомый – скипидарный, компаньоны возликовали.
Переливая жидкости и обмакивая в них тряпьё, найденное тут же, Американец радовался как ребёнок – пританцовывал, блестел глазами и во множестве сыпал острыми словесами. Смысл риторики сводился к одному: «Ордену придётся держать ответ за сожженную Москву».
Однако Максим не позволил таланту развернуться во всю ширь. Сославшись на то обстоятельство, что война – это именно его ремесло, полковник настоял на простом и неинтересном плане. Графу предлагалось учинить фейерверк у той стены, что выходила к поленнице, тем самым приковав к себе внимание неприятеля. В это время Максим, подобравшись с противоположной стороны, забросит в окна огненные бутылки. А далее последует «утиная охота».
Чёрный абрис смолокурни хранил настороженное молчание, когда из-за поленницы вылетел и разбился о стену объёмистый стеклянный сосуд. Следом полетел ком полыхающего тряпья. Огненная вспышка озарила дом и окружающую его поляну.
- Эй, там! Не найдётся ли у вас молока только что отелившейся коровы? Говорят, верное средство при пожаре! – заорал во всю глотку Американец. – А камень яхонт? Что, тоже нету? Ну, тогда ничего не попишешь, пожалуйте наружу…
По поленнице начали стрелять, но это нисколько не мешало графу свободно излагать идеи:
- …Хотя нет, лучше немного потомитесь в огне. Предпочитаю, чтоб подстреленные утки падали к моим ногам уже в отменно прожаренном виде.
На другом конце поляны, что обрывалась глубоким оврагом, Крыжановский готовился совершить рывок к дому. Задача осложнялась тем, что проклятая смолокурня имела окна по всему периметру. Но гвардейцу ли бояться пуль? Наскоро помолившись и зажав в кулаках две скипидарные бутылки с тлеющими фитилями, он рванулся вперёд. Полы плаща развернулись от бега. Подошвы легко касались земли. В голове прочно засел образ объятого пламенем Понятовского.
Интуитивно Максим почувствовал момент, когда грянет выстрел. И не ошибся. Но на миг раньше сапог провалился в огненную яму, исторгнувшую сноп искр. Полковник покатился по земле, а пуля разочарованно просвистела над головой.
«Видимо, в этих ямах и выкуривается из поленьев смола – пришла догадка. – Хорошо, что попал только одной ногой, а иначе бы отведал адского пламени!»
Быстро вскочив, он присмотрелся: даже в темноте подземные пустоты от тверди можно было отличить по серому пеплу и курящемуся лёгкому дымку. Дальше пришлось бежать, петляя и прыгая. Свинец царапнул бедро, но Максим уже достиг стены. Подобравшись к чёрному провалу окна, он метнул внутрь обе бутылки. Полыхнуло, что надо! Тут же из окна высунулась кисть с пистолем и слепо зашарила, отыскивая цель. Хищно свистнул дамаск, и пистоль упал в подставленную ладонь Максима.
- Премного благодарен! Может, в хозяйстве ещё что ненужное есть? Тогда не скупитесь, господа! – крикнул он, отлепляя от пистолетной рукояти кровоточащий обрубок.
Смолокурня ответила безумным воем. Из окна вывалился некто в тлеющей одежде. Зажав осиротевшее предплечье уцелевшей рукой, совершенно не разбирая дороги, он ринулся прочь. И тотчас угодил в адскую яму – жадный язык пламени плотоядно загудел, слизнув человека и шибанув в нос запахом скипидара. Увы, сгинувший никак не походил на Понятовского.
«Первая утица покинула гнездовье. А что же остальные?». Словно подслушав мысли полковника, лениво взбрехнул семиствольный зверюга Толстого. Взбрехнул, а затем залился радостным лаем. Многие ль птицы долетят до леса к тому времени, как граф разрядит все игрушки? Дичь, однако, попалась зубастая – на Американца огрызалась частыми выстрелами.
«Не угомонили бы чёрта цыганского!» – обеспокоился Максим, спеша на помощь.
Из-за угла горящего дома навстречу вылетели четверо с ружьями. Видно не ожидали, что столкнутся нос к носу с врагом, потому оружия не подымали. А зря! Недаром Мишель Телятьев утверждал, что главное дело в бою – постоянная готовность к неожиданностям. Максим с ходу застрелил одного из трофейного пистолета, затем выхватил графский подарок – «ле паж». Действовал весьма проворно, но, уже начиная понимать, что не сможет справиться со всеми разом – кто-то обязательно успеет пальнуть…
«Ле паж» дёрнулся в руке, отхаркивая пулю. Тряпичной куклой ударился о стену убитый. Но… вот уже смотрит в брюхо полковнику чёрное ружейное дуло, суля скорую встречу с гусарским поручиком, что при жизни щеголял в голубом ментике и любил расточать премудрости.
- Ах, чёрт побери!
О чудо! Зов Крыжановского услышали. Услышали, и не преминули откликнуться: некий чёрный, в козлином мехе, явившись со стороны огненных ям, вонзил в бок вражескому стрелку вилы.
- Хрясь!
Максим стал как вкопанный и, забыв обо всём, давай креститься: «Верно, то не смоляные ямы, а короткая дорога в преисподнюю! И её обитателям пришлась по вкусу однорукая жертва. За то и благодарят».
- А-а-а! – дурным голосом заревел оставшийся приспешник Ордена, кидаясь прямиком к огненным ловушкам. Через мгновение его неистовый визг разнесся над лесом, долетая, видать, и до деревни с чудным названием Шаболово.
Максим огляделся вокруг – бес с вилами пропал, как и не было. Рассказать кому – не поверят в небылицу. Ежели, конечно, не обладать талантом Американца. Кстати, сей великий рассказчик, похоже, пресытился не только разговорами, но и стрельбой. Не слыхать его! Жив ли ещё, храбрый король дикарей?
Толстой оказался жив, но весьма близок к иному уделу. Арсенал, содержащийся в саквояже, он потратил не зря: поляну во множестве устилали убитые. Но врагов оставалось не менее десятка. Шестеро наседали на графа, который, отбиваясь саблей, медленно отступал к лесу. Двое, не торопясь, перезаряжали ружья, а ещё двое были верхом, и в них Максим немедленно признал недостающих всадников Апокалипсиса – Революцию и Смерть.
Революция на белом коне целилась в Толстого из ружья, а Смерть – молодой уланский полковник с красивым, бледным лицом – участия в происходящем не принимала, ожидая своего часа.
Помощь Крыжановского оказалась весьма кстати – выстрел из второго «ле паж» положил конец Революции до того, как та успела расправиться с графом.
- Финляндцы, вперёд! Руби бл…й в капусту! – рявкнул Максим, бросаясь на врага.
С этим кличем он хаживал в рукопашную на шведов у Гернефорса и у Бородина на французов. Но тогда за спиной мерно маршировали плотные шеренги гвардейцев, каковые, на возглас командира отвечали дружным «ура». Нынче же, позади на многие вёрсты, простиралась равнодушная пустота.
Но что это? Возможно ли такое? Из лесу донеслось зычное «ура!» Пусть малолюдное, но родное – финляндское. Тут же громоподобно ударили штуцера. Людей Ордена как ветром сдуло. Застучали, удаляясь копыта, и всё стихло вокруг. Толстой присел у дерева. В свете пожарища было заметно, как от дыхания тяжело вздымается его грудь.
- Дядя Леонтий, ты, что ли? А Илья там с тобой? – громко спросил у тишины Крыжановский.
Послышался треск кустов – из лесу вышли трое. Глядя на них, Американец захохотал, а потом молвил:
- В последнее время у меня появилось стойкое ощущение, что некто играет нами, словно картами. Не знаю, кто тот игрок, и какова его цель, но могу сказать твёрдо: нынче он прикупил. А в прикупе – два валета и вот это, – граф кивнул на подошедших.
Среди них заметно выделялся солдат-финляндец невероятного роста с бочкообразной грудью, пышными усами и проседью в волосах. Егерский штуцер в огромных ручищах смотрелся детской свистулькой. Это был фланговый гренадер из третьего батальона – Леонтий Коренной. Дядька Леонтий, как его звали все. В солдатской среде богатырь пользовался непререкаемым авторитетом – весь полк бегал к нему за советом или за разрешением спорных дел. Из-за могучего плеча с опаской выглядывала физиономия Курволяйнена – а ну, как полковой начальник осерчает за недозволенное появление.
Наибольший же интерес вызывала фигура третьего. Увидав его, Максим нервно сглотнул: человека с ног до головы покрывала копоть. Из одежды он имел на себе латаные портки, такую же рубаху, лыковые лапти и безрукавку козьего меха. Опирался на здоровенные вилы с окровавленными остриями.
Глава 11 Встречи с чудом
1 (13) октября 1812 г.
Лесной массив близ села Шаболово.
Радостно и споро пылала смолокурня. В воздухе ощущался тошнотворный смрад горящей плоти. Невзирая на это, Толстой дышал с наслаждением: победа в бою редко пахнет иначе. Враг повержен, жизнь продолжается – чего же боле?
- А что, граф, Понятовского не видал? – как сквозь толщу воды донёсся вопрос Крыжановского.
Американец ответил отрицательным жестом. Устал. Вот так бы сидел, привалившись спиной к дереву, до страшного суда.
- Похоже, генерала-поляка здесь не было и в помине! За кем же мы тогда гонялись, чёрт побери?! – выругавшись, Максим осёкся и бросил взгляд на человека с вилами.
- Осмелюсь доложить, вашвысбродь, – басовито загудел дядька Леонтий, – главный у супостатов – уланский полковник, бледный такой, который удрал, сталбыть.
- Это я и сам заметил. Ты, братец, лучше поведай историю вашего с Ильёй чудесного появления, – голос полковника приобрёл строгость.
- Дык, прибёг энтот оголтелый чухонец! Буркалы – в алтын! Грит, ихвысродь обрекли себя на верную кончину, изволив отправиться чуть ли не самого Бонапартия ловить! Я померковал туды-сюды, ну, и смекнул: надобно итить на выручку полковому командиру. Токмо без лишнего шуму – дело-то, чай, секретное, коль вашвысбродь никого из робят с собой не прихватили.
- Вот так, вдвоём, ни у кого не испросив соизволения? А ежели б мы разминулись? Кригсрехт за дезертирство не милует! – заметил Максим.
- Никак нет, вашвысбродь! – рявкнул Коренной. – Отделённый командир дал согласие. Токмо я ему правды не сказал, а наплёл, будто к зазнобе в Малоярославец надоть смотаться за самогоном. Угостить посулил…
- Где таких смекалистых солдат берёшь, полковник? – весело спросил Толстой.
- Гвардейцы! – пожал плечами Максим.
- А нас как отыскали? – поинтересовался Американец.
- Мы, ваша милость, попа в деревне встретили. Худой – кожа да кости, бородёнка козлиная. Да вы его, небось, помните – отцом Ксенофонтом кличут, – продолжил дядька Леонтий. – Глядим, в деревне кругом мертвецы, а батюшка могилку копает. Ну, подсобили малость, он и поведал, что вы направились Анчихриста воевать. А ещё посоветовал: коли тьма застанет, переночевать у доброго и богомольного человека Димитрия Бузырёва, бывшего суворовского солдата. Чай, его смолокурня стоить на отшибе, супостату тама неча делать. Вот так и получилось, сталбыть.
- Токмо он никакой не добрый, этот смолокур, – подал голос осмелевший Ильюшка. – Бранчлив изрядно. Принять-то нас принял, но руганью извёл. Живёт один, вот и рехнулся с ума. Когда ляхи пожаловали, мы быстренько в лес сиганули, а оне коней побрали. Куды было итить? Так и мёрзли в кустах, пока вас, вашвысбродь, не услыхали! Тут уж не оплошали – ответили, как положено…
Илья, может, и дальше продолжал бы рассказывать, но помешал горестный крик. Исходил он от смолокура Бузырёва.
- Ах, чавой наделали, окаянные! – стенал бывший суворовец, мечась перед смоляной ямой, жаром пышущей в ночь. – Ах, ты ж, нелёгкая! Дом спалили! Все поземки трупяками завалили! А кажите мне, господа бла-а-агародные, ужель иначе не придумалось? Вона как рубили басурманов! Отвели б в кусточки и пошинковали тама! Нета же! Прямо тута стали! У, курва!
- Ты говори, подлец[89], да не заговаривайся! – прикрикнул граф Толстой на мужика. Но того уже несло…
- Сначала притопали турки эти, что ляхами заделались! – как никельарфа[90] верещал смолокур. – Пожрали все! Ограбили! Но неприятелям простительно! А тут свои, это же надоть придумать! А коли кто к вам до усадьбы придеть, садик засереть и дом пожгеть! Что скажете? Недовольны, видать, будете, вашвысбродь?
- Не заткнешься – на осине повешу!
Ветеран подавился и замолк, испугано таращась на графа.
- Нечего играть блаженного, – не сбавляя холода в тоне, продолжил Толстой. – По глазам вижу – не безумен! Зол, напуган, но не помешан!
- Оставь, Фёдор, я ему жизнью обязан, – вмешался Крыжановский.
Смолокур, глядя в землю, тихо заскулил:
- Не губите, вашвысбродь! Робят обихаживал, – кивнул на солдат, – от отца Ксенофонта пришли! Рад им был! Потом ляхи пожаловали! Тут ещё в округе цыгане рыщуть. В самой чащобе. Чавой им тама надобно – неведомо! Давно один я. Отвык уж от людского духа, жилища лишился в одну ночь, вот и сболтнул лишнего. Уж не серчайте на старого солдата. Я Отечеству верой и правдой двадцать пять лет…
Очень хотелось Толстому напомнить бывшему солдату, что идет война и, как говорится: A la guerre comme…
- Человече, не блажи! – воскликнул Крыжановский, завидев как ветеран беззвучно ревет. От зрелища такого полковнику стало не по себе. Он сунул руку в карман.
- Прими за беспокойство, – звякнул призывно кошелем. Но этим делу не помог – Бузырёв пал на землю и заревел пуще прежнего.
Положение спас дядька Леонтий. Гренадер подскочил к смолокуру и рыкнул:
- Забыл, что ль службу, солдатушка? Али «сержант Палкин» давно не захаживал? Так можно напомнить!
Суворовец икнул и сел.
- Что за непотребство, – успокаивающе забалагурил дядька Леонтий, поднимая старика. – Чаво ты себя позоришь? Двадцать с лишком отишачил! Брусверст исползал, пузо ободрал, поди! Давай-давай, батя!
Увещевания стихли. Коренной поймал брошенный Максимом кошель и сунул смолокуру за пазуху
Вся сцена, сдобренная удушливой гарью и жареным мясным духом, вызвала у Крыжановского рвотный позыв.
- Кушать уже не хочется, – сказал он кисло.
- Может, поспать изволите? Перину взбить? – хохотнул Толстой.
- В лесу спать будем. Отъедем версты на три и встанем биваком. Там и отужинаем. Илья – человек хозяйственный, у него в ранце обязательно найдётся, чем накрыть стол.
- А то как же, вашвысбродь! – немедленно отозвался денщик. – И сальце, и яички, и хлебушко. И рану вашу, чем попользовать, захватил …
- Ладно, братцы, подите лошадей ловить. Нужно убираться, а то не ровён час – неприятель вернётся, – приказал Максим.
Когда солдаты скрылись за деревьями, Толстой спросил:
- Что будем делать с дуэлью, Максимус? След Понятовского окончательно потерян.
- Вернёмся в кампамент. Касаемо остального… Ты сам заметил, что нами играет судьба. Подождём, когда будет сделан следующий ход…
- В яблочко! Придерживаюсь той же позиции! – поклонился Толстой.
Из лесу вынеслись три лошади, следом появились взъерошенные Ильюшка и Коренной.
- Разбежались по округе, собаки. Но одну, кажись, ещё можно споймать! – запыхавшись, объявил Курволяйнен и, плюнув, снова скрылся меж деревьями.
Коренной припал к кобылей голове как пьяница к чарке, и – ну приговаривать да наглаживать. Грубые ладони солдата порхали по шее животного, не давая свободы и успокаивая одновременно. Под дворянами кони стригли ушами, фыркали и рыли землю копытами, Леонтий же сел на совершенно смирную кобылу.
Ильюшка вернулся верхом на чистокровном английском рысаке. Максим поморщился – смотрится смешно, когда под денщиком конь, на каких ездят лишь военачальники. Успокоил себя тем, что в иных походах солдаты уходили с пепелищ богаче королей. Так было во все времена.
«Пришел Иософат и народ его забирать добычу, и нашли во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу; так велика была она!»[91]
Бросив последний взгляд на поле боя, Максим остолбенел: над одним из трупов присела на корточки маленькая фигурка. Не разберёшь – карлик или мальчонка! Повернув голову к отъезжающим, человечек посмотрел пристально, будто запоминая. Затем вскочил, зло стукнул ногой убитого и кузнечиком метнулся в кусты.
Крыжановский зажмурил глаза и помотал головой – многовато наваждений за один вечер. Решил никому не говорить об увиденном: авось, само разъяснится как с Бузырёвым. А нет, так и шут с ним – мало ли на свете чудес! Может, то леший почтил своим присутствием.
Скоро тронулись; смолокур так и не показался на глаза – попрощаться не получилось.
В новой компании не заметили, как отъехали от пожарища версты на две. Дым в воздухе уже не ощущался. Начался сплошь густой лес, деревья жались вплотную к дороге, делая самую неумелую засаду удачной.
Стоило об этом подумать, как со всех сторон обступили мрачные вооружённые люди.
По виду – бродяги. Самые обыкновенные оборванцы, волей войны снаряженные разномастным оружием, похожие на тех, что повстречались в проклятой деревне. Одно отличие от Федькиной банды – пара старых мушкетов, на взгляд Толстого, неспособных произвести выстрел и после массового жертвоприношения богу войны. Какой-то длинный, как оглобля, выставил перед собой вилы с засохшими комками навоза; у остальных – топоры да старые палаши; у последнего – самого матёрого – допотопный пистолет и отличный палаш.
- Пошли прочь, вражье племя! Устал я нынче! – сказал Американец, компетентно оглядывая с коня пеших. – Типичные дикари! Во всех концах света одинаковы, черти!
Он недобро посмотрел на человека с пистолетом, которого, приняв за вожака, решил вышибать первым.
Максим реагировал на нежданное препятствие менее сдержанно. Матерные идиомы посыпались на головы встречных частым горохом. Суть сказанного сводилась к двум вещам. Во-первых, полковник выражал недовольство тем, что из-за подлого сброда, что, воспользовавшись военным лихолетьем, повылазил из щелей, невозможно стало путешествовать по дорогам. Во-вторых, его интересовало, что, собственно, подлому сброду нужно.
- Най кушавэ, рай! – подал голос вожак. – Не ругайся, барин!
Сознание выхватило из смутных очертаний полуночных бродяг незамеченные ранее детали: у всех черные как смоль бороды и гривы, широкие брови, яркие глаза, будто обведенные грифелем: черная сердцевина в снежно-белом блюдце; одеты аляповато, слишком ярко для мужчин, у вожака грудь украшает блестящая цепочка от часов. И у всех – шляпы.
- Аме… Мы цыгане, баре, – подтвердил наблюдения полковника бродяга. – Не сброд, не воры мы! Не лихие люди! Добры цыгане, баре!
- Что же «добрые цыгане» делают на дороге ночью? – спросил Максим тем же тоном, каким минуту назад смешивал бродяг с грязью.
- Аракхавэ, – признал цыган право господ спрашивать. – Караул, барин! Мы караул! От злых гажё[92]!
Цыгане не проявляли враждебности, и Американец позволил себе сменить позу. Крыжановский тоже немного расслабился. Тут из-за спины предводителя выглянул малолетний чертенок – тот самый, что у смолокурни принят был за лешего. Глянул и снова спрятался. Максим усмехнулся – леших на свете не бывает. Не тот уже возраст, чтоб продолжать верить в разные чудеса, но всякий раз в голову лезет чертовщина.
- Вы пойдете с нами, баре? – осторожно спросил предводитель, коего у кочевого племени принято величать – «баро». – Мы – люди бедные, но принять знатных гостей сумеем. Накормим, почивать уложим.
- Вашвысбродь, – обратился Ильюшка к полковнику. – Мы же не станем ночевать у цыган?
- Отчего же?
- Дядька Леонтий сказывал, оне так заворожеють, что забудем, куды шли и откудова!
- В самом деле? – деланно удивился Крыжановский, поворачиваясь к Коренному. Гренадер смотрел в сторону, показывая, что ни в коей мере не интересуется разговорами. Видать, много чего наплел денщику.
- Поехали, Максимус! Сей исход предпочтительнее, нежели бивак в холодном лесу, – требовательно заявил Толстой.
- Отчего же не поехать, – согласился Максим. Тут же и голодный желудок урчанием подтвердил слова.
- Едемте, баре! – еще раз позвал цыган.
- Едем-едем! – откликнулся Толстой, зябко заворачиваясь в плащ. – Ведите!
До табора оказалось недалеко, и вот уже путешественников окружают пёстрые шатры и кибитки, что встали вокруг большого, ярко пылающего костра. Сопровождающие молча растворились в ночи. Только баро остался рядом.
Сразу же выяснилось, что в таборе никто не спит. Женщины, дети и старики – те, кого обычно именуют гражданским населением – все занимаются делами, возвращения соплеменников и появления гостей будто не замечают.
Максим поймал взгляд немолодой толстой цыганки. Страх! Лютый безмерный ужас засел глубоко в зрачках женщины. Кого или чего она боится?
- Чует моё сердце – худо дело. Колдуны оне здеся все, – зашептал возле уха Ильюшка, кивая на группу людей, примостившихся у костра.
Там сидели две бабки и брюхастый дед. Последний, вероятно, и вызвал у денщика нехорошее предчувствие. Опрятная седая шевелюра и такая же борода. На шее – грубо раскрашенное ожерелье из глиняных катышков. Одет в цыганское, но отчего-то не похож на остальных. Главное же – взгляд! Такой мог бы быть у архиерея – мудрый, властный, отеческий и совершенно бесстрашный.
- Доброй туме, витязо! – обратился старик по-цыгански, но тут же поправился, как до него делали другие: – Здравствуйте, добры молодцы! Добро пожаловать к нашему очагу. Сейчас поужинаем, чем Бог послал. Я здешний фэрмэкэтори, знахарь. Лехом Мрузом кличут. Ай, командир, да ты, никак, ранен, – углядев окровавленную штанину Максима, всплеснул руками дед. – Сейчас мы тебе поможем. – Еленик, непата[93]! Скорее неси сюда мои причиндалы!
Из шатра появилась девушка.
Сердца полковника и графа много претерпели за последние дни и ни разу не давали сбоя. Но тут споткнулись и прозевали пару тактов. В краткий миг, пока не бились сердца, помыслы обоих унеслись одинаково далеко – к идиллическим пейзажам Эмпирей и прекрасным гуриям с пышными бедрами, маленькими грудками и одним ликом на всех – лицом цыганской красавицы. Однако же стоило моргнуть, и страна Аркадия рассыпалась прахом. Вместе с ней рухнули и небеса – девушка отдала знахарю ларчик из красного дерева и вернулась к себе.
- Кто это? – хрипло прошептал Фёдор Толстой.
- Внучка моя, барин, Елена, – с достоинством ответил Лех Мруз.
«После всех мнимых чудес – вот оно, настоящее чудо!» – решил Крыжановский.
Более бесцеремонный в таких вещах Толстой поклялся найти прелестницу.
«Сегодня же! Ой, как кости-то ломит! Ну ладно – завтра! Завтра же утром!»
- Заголяй ляжку, командир! – не терпящим возражений тоном приказал Мруз. Полковник не посмел ослушаться. Тотчас старухи принесли чан с кипятком, и знахарь принялся за дело. Промыв рану, он намазал её зелёным, пахнущим базиликом составом, и наложил повязку. Максим почувствовал облегчение, с удивлением понимая, что старый цыган показал куда большее лекарское искусство, нежели орденский врач, пользовавший недоброй памяти младшего Белье.
- Вот и всё, командир, теперь надо покушать, поспать и будешь как новенький, – удовлетворённо объявил знахарь. А Курволяйнен себе под нос буркнул:
- Как бы не отравил, богомерзкий колдун.
Короткие, холёные руки баро выдали пару звонких хлопков. Под пологом, натянутым меж высокими телегами, засуетились женщины в цветастых платьях, собирая нехитрую, судя по доносившимся запахам, снедь. Стоило русским попробовать незнакомую кухню, как они изменили мнение. Даже Ильюшка умолк, набив обе щеки чем-то, напоминающем солянку.
Толстой завязал оживлённый разговор с баро, которого, оказалось, зовут Виорел Аким. На любопытствующего Американца посыпались названия поглощаемых блюд: шах ттулярдо, паприкаш, сарми. Непонятно, но красиво. И вкусно. Когда же он перевёл разговор на внучку знахаря, Виорел Аким надулся как индюк. Только то и удалось выведать, что красавица не замужем.
Застолье кончилось неожиданно. Мгновение назад Крыжановский пил вино с Лехом Мрузом, а вот уже лежит в кибитке на теплом мешке с сеном и глядит в небо через дырку в пологе. А ещё через минуту спит, словно убитый.
Верный Илья, взяв штуцер, устроился рядом – охранять сон господина. Да так и уснул, обняв оружие. Толстой в соседней кибитке поворочался немного на соломе – всё же не графское ложе, колет сквозь одежду то тут, то там – да и захрапел блаженно. Коренной тягостно вздохнул и потащился обходить табор – кроме него, более некому стало нести караул.
Фёдор проснулся под утро. Снилось, будто был с вчерашней красавицей, но рядом дрых лишь незнакомый цыган, от которого несло прелой пшеницей.
Граф выбрался из кибитки, поёжился от холода и сырости. Край земли забрезжил авророй. В голове поселилась необычайная ясность – различался даже звук капель, падающих с веток. Капельки со скрежетом стекали по тонкой коре и с душераздирающим свистом неслись к земле. Удар же звучал подобно громовому раскату! Дивное чувство продлилось недолго – солнце всплыло над лесом вполовину, когда голова пришла к согласию с туловищем, решив более не блажить. Толстой вздохнул с облегчением, огляделся.
На жердине у костра восседала старуха в неопрятной даже для цыганки одежде и с глазами юродивой.
- Ха-ха-ха! – закаркала бабка, прыгнув с жердины на край ближайшей телеги.
Американец перевел взгляд на шатёр прекрасной Елены. «Шатёр, – подумал он, – Как пошло! Ей подобает особняк в стиле русского барокко, какой приглянулся ещё до войны на Сретенке. И который он тогда, к счастью, не купил».
- Со, витязо?! – завизжала старуха. – Как спалось-то, витязо?! Кибитка – не карета, барин! Жювки замучали?! Вошики-вошики!
- А туды не гляди, не гляди, говорю! – прикрикнула бабка, проследив за взглядом Американца. – Все одно, барко, не выйдет ни ча! Еленик страх как хороша! Да я покраше была! – зыкнула старуха и, с почти слышимым скрипом, вильнула бедрами. – И ни в жисть не пошла б с гажё! Хоть горы златые тулил бы! Не пошла б и арэс! Не гляди, тебе говорят! По лицу твоему, барко, ходит человек в черной кэпеняго[94]! Вижу-вижу! Не прячь человека!
- Как тебя зовут, бабушка? – спросил Толстой, вежливо отвечая на истеричный крик.
- Зовут-то?! – взвизгнула старуха, прищурив заплывшие глаза. – Давно уж никто не зовет, барко! Раньше, бывало-то, подходит кырдо к городу… Чего таращишься, барко? Табор, говорю, подходит к городу! Курш, ух, глухой витязо! А болтают-то, болтают, ко старости люди глухеют!
Хоть и поднадоела старая графу, он переступил с ноги на ногу – настроился слушать. Вдруг карга поведает что интересное.
- Ан не дурак, дило! Не дурак! – сказала бабка и вдосталь посмеялась над непонятным словом. – Не! Сразу видать – не дурак, барко! Чячес-чячес! Правильно, говорю, шявмо! Правильно отвертался от шатра Елениного! Мурш Аким тоже зря зенки пялит и вздыхает! Не пустит она егой-то! Да он всё одно ума не слушает! Уж больно люба девочка Акиму! Камавет май-бу трайи[95]! Со, барин? А нет, не понял и ладь, не важно, сталбыть!
Непонятное «камавает май-бу трайи» явно сулило небывалые сложности в завоевании молодой цыганки, что разозлило и раззадорило Фёдора.
- Най тристо-о-ов, витязо! Не кручинься, добрый молодец! – проскрипела сказочная баба Яга и, подскочив, ухватила графа за рукав.
- Пособлю я тебе! Не лыбься, дилорро! Еще не знамо, кому хужее буде!
Взяла Американца за руку, поднесла открытую ладонь к крючковатому носу, поводила им туда-сюда и отпустила.
- Да-а-а… – протянула старуха. – Со кэрэл-пе, рромэниюшки!
Неожиданно резво подпрыгнула, ухватила Толстого за лацканы и пригнула к земле.
- Не думай, витязо, – зашипела, неприятно заплевывая ухо, – когда станет худо такмо, со света белого не взвидете! Друг твой, вортако, смотрит на сабийу свою! А ты, барко, кудыть смотришь? На шатёр?! – выкрикнула она последнее слово.
- Най, барко! – продолжала хрипеть Яга. – Смотри не на шатёр! Смотри анде ди, барко! Курш, дило! В душу себе гляди, говорю! И читай тамо!
Бабка замолкла, посмотрела через голову Толстого, закряхтела с сожалением:
- Ман бушював… у, курш! Зовут меня Ляля! Такмо и говори «баба Ляля», шявмо! – сказала и поскакала резво по лагерю. Граф проводил её обескураженным взглядом.
- Выспался, друг Теодорус? – спросил подошедший Крыжановский.
- Доброе утро, полковник, – задумчиво откликнулся Толстой.
- Чем это вчера нас кормили, граф? – поинтересовался Максим, меж тем тоже глядя на шатёр, где вечером скрылась знахарева внучка.
- Ежели речь о тяжести в животе, то это скорее оттого, что весь вчерашний день мы постились, а ночью оскоромились. Помню, шёл я голый, босый и простоволосый по Святой Руси из Петрова града, что на Камчатке в Петров же град на Неве. Добрался до Читы и купил себе голубцов на то золотишко, которое намыл по дороге. Вот это, доложу я тебе, было пиршество. Не в том смысле, что ело много народа! Щ-щ-щас! Никого не пустил! Сам съел! И баранью ногу в придачу – даже мозг из костей высосал – не хуже собаки! Молод я был и не знал, что после голода обильная еда – отрава! Плохо было потом. Сейчас вот вспомнилось, – Толстой зачарованно улыбнулся воспоминаниям.
Улыбнувшись в ответ, Максим пошел умываться к кадке с водой, примеченной у кибитки. Ледяная вода заставила фыркать и отдуваться, да так, что не сразу обратил внимание на истошные вопли Курволяйнена.
- Вашвысбродь! – еще издалека начал кричать денщик. – Вашвысбродь!
Крыжановский успел вытереться рушником, когда Ильюшка приблизился.
- Там кобыла ваша, ваш-ваш-выс-родие, та самая, которая Мазурка!
Максим захлопал глазами: «Любимая лошадь, каковая пропала ещё под Можайском. Быть того не может, чтоб теперь отыскалась. Обознался денщик! Разве что – очередное чудо!»
Не смея надеяться, он широко зашагал вслед за Ильёй. Парень не ошибся: это действительно была Мазурка – гнедая орловка[96] без единого пятнышка, за которую Максим когда-то отдал месячное жалованье, вestia, отличающаяся не только редкостной сообразительностью, но и вздорным характером. Стоит стреноженная, лениво пережёвывая сено. И ведь не попала под шальную пулю, не досталась на ужин французскому гурману. Наоборот, сама отъела бока – аж лоснятся.
- Что, рай, по нраву лошадка?
Максим повернулся на голос. Позади стоял высокий цыган с торчащими вперёд зубами и волчьими голодными глазами. Ухо украшала серебряная серьга, надёжно убеждающая, что её владелец – не оборотень.
- Самому нравится, не продам ни за какие лове, – с блудливой улыбкой продолжил зубастый.
Без Мазурки полковник покидать табор не собирался. Но не станешь же обижать небогатых, но хлебосольных людей, отняв лошадь силой. Лучше поговорить об этом с баро или со стариком Мрузом.
- Ай, погоди, ррусыцко кэтана[97]! – закричал цыган, как только увидал, что Крыжановский собрался уходить. – Хотел себе кобылу оставить, но вижу, тебе она больше подходит. Баро мануш, большой ты человек! Конь тоже должен быть подходящий!
Максим понял, что цыган не отказывается продавать Мазурку, а просто набивает цену. Ничего не попишешь, приходилось покупать одну и ту же лошадь во второй раз. Увы, нынче денег не было – все пошли в пользу Димитрия Бузырёва. Можно было спросить у Толстого, но Крыжановский терпеть не мог влезать в долги.
- А из чего ты рассудил, человече, что кобыла мне подходит? Смирная она. Только и годится, чтоб отроков верховой езде учить. Какой интерес в такой покупке?
Прежде Крыжановский как только не обзывал Мазурку, каковая, справедливости ради следует отметить, характером вполне заслуживала нелестных эпитетов. Но – «смирная»?! Хорошо, что не слышит.
Видимо, и продавец не остался в неведении относительно норова лошади, потому что всячески принялся возражать. Рефлекторно при этом почёсывал место пониже спины, очевидно, немало претерпевшее от злой кобылы.
- Что ты, что ты! У ней кровь благородная, горячая. Не кобыла, а йаг-огонь. С места сразу летит как балвал-ветер. Чужих не подпускает, кусается…
- Ладно, цыган, хватит нахваливать товар. Сколько хочешь за гнедую?
- Совсем немного, барин. Того коника[98], что под тобой, и пятьдесят целковых сверху, – наглость цыгана границ не знала.
- Хорошо, – сдался Максим, – заплачу твою цену, но при условии, что не обманываешь, и кобыла того стоит.
- Спроси, кого хочешь – любой скажет: Петко Бежан самый честный человек в кырдо. Его каждый обмануть норовит, он же – никогда.
- А ежели я сейчас подойду, оседлаю твою огонь-кобылу, преспокойно усядусь, а она не то, что не укусит, а ещё и на колени встанет и поклонится?
- Шутишь, барин! – зубы сребролюбивого оборотня обнажились так, что стали видны дёсна.
- Не сумею – заплачу твою цену, а коль сумею – возьмёшь поляка и того англичанина, что под денщиком. А про деньги забудешь.
- Будь по-твоему! – кинул шляпу на землю цыган.
Мазурка ещё издали признала хозяина и впала в буйство. Петко по-своему истолковал поведение лошади и злорадно рассмеялся вслед Максиму. Тот подошёл к кобыле, бросил ей на спину седло и рванул верёвку-путаницу.
- Что, ж…а, соскучилась по плётке? – спросил ласково в самое ухо.
На него взглянул большой лиловый глаз с белым ободком, а на длинной реснице повисла слеза. Кончив седлать, Максим, издеваясь над алчным продавцом, заставил лошадь опуститься на колени. Только после этого закинул ногу в седло. Мазурка радостно подняла привычный груз и смирно пошла шагом, кланяясь на все стороны.
- Ррусыцко фэрмекетори! – в ужасе закричал Бежан.
- Никакой он не колдун, Петко! Просто ты ему сейчас его же собственную лошадь продал! – красавица Елена стояла и заразительно хохотала.
Максим чуть было не вывалился из седла. Но не красота цыганки поразила бравого гвардейца – голос и смех были те самые, из сна про башню.
Соскочив на землю, он устремился к девушке. Но дорогу преградил Еленин дед – Лех Мруз.
- Позволь нашему табору следовать за армией, командир!
- Господин полковник, – поправил цыгана Крыжановский, с сожалением глядя, как таинственная Елена скрывается между кибиток.
- Позволь нам следовать за армией, господин полковник! – терпеливо повторил старик, всё так же заступая дорогу.
Максим посмотрел ему в глаза и спросил:
- Ордена боишься?
Знахарь выдержал взгляд и смиренно ответил:
- Не знаю, о чём ты,…господин полковник. Я злых гажё боюсь. Теперь таких много стало. Из-за войны. Кто-то напал на табор баро Земела Зурало и всех там вырезал. Ни стариков, ни детей не пожалел. И от баро Гоца давно нет вестей. Мы все боимся. Ты же видел, как у нас мало мужчин. Кто защитит? Только на ррусыцко кэтана надежда. Просим всего лишь, чтоб ты, господин полковник, сказал своим – пусть цыган от себя не гонят. От нас польза будет. Ковачи мы хорошие. Вдруг ишто, котёл прохудится – заклепаем. А нужно – так и новый ишто справим. Лошадку подкуём так, что век подковы не сносит. А ежели заболеет лошадка – кто лучше цыгана полечит? – Мруз любовно похлопал по крупу Мазурку. – А ещё песнями и плясками на отдыхе развлечём…
Максим старику не верил совершенно. Только какое это имело значение, ежели появлялась возможность не расставаться с Еленой, иметь её подле себя! Конечно, он согласился.
Толстой поджидал Елену недалеко от шатра. И, как только девушка появилась, шагнул навстречу.
- Отчего сторонишься меня, свет очей? Посмотри, что тут есть для тебя, – проворковал ласково. Ладонь графа раскрылась, и на ней блеснуло золотое колечко с бирюзой.
Красавица едва слышно вздохнула и грустно сказала:
- Зря стараешься, касатик, разная у нас судьба. Я-то наперёд знаю. Но тебя разве убедишь?
Елена скрылась в шатре, а Фёдор так и остался стоять с вытянутой рукой. «Судьба!» Никаких сомнений не оставалось. Это слово…, этот голос он слышал в вонючем трактире «Счастливый драгун».
Глава 12 Цыганское счастье
2- 4 (14-16) октября 1812 г.
Калужская губерния
В непростом характере Мазурки обнаружились новые причуды. Теперь она явно ощущала себя, ни много ни мало, королевой окружающего мира. Высоко поднятый хвост и презрительно оттопыренная губа уверяли, что лошадка терпит седока исключительно в силу хорошего воспитания, ну, и отчасти, потакая собственному капризу.
Самомнению кобылы способствовали и пылкие взгляды, которые кидал на неё неприметный конь Толстого, доставшийся тому от улан и прозванный попросту Конягой. Со своей стороны Мазурка оставалась безучастной к случайному спутнику, а в случайности такой компании она не сомневалась. Ведь как бы не был глуп ее вновь обретённый хозяин, он же должен понимать, что лошадь поистине королевских кровей не может долго путешествовать рядом с каким-то Конягой. От одной мысли о возможности подобной партии девушке…, то есть кобыле сделалось дурно: она пару раз споткнулась на ровном месте, получила перчаткой по голове и вынужденно распрощалась со вздорными мыслями.
Взамен красавца английских кровей, каковой пошёл в уплату за Мазурку, «добрые цыгане» безвозмездно выдали Ильюшке Курволяйнену замену. Сколько лет прожил на свете тот скакун, наверное, не помнила даже баба Ляля. Животное было худое, облезшее, с бельмами на обоих глазах, да вдобавок страдало от какой-то внутренней болезни, дающей повышенное газообразование. Причина, по которой цыгане держали у себя этакое чудовище, осталась непонятной.
Зато Толстому конь неожиданно понравился. Фёдор нарёк несчастного зверя Пегасом, заявил, что тот вдохновляет его на стихосложение и, как только компания тронулась в обратный путь, принялся беспрерывно портить дорогу дурными стишками, подтверждая истину: какова муза, таковы и вирши.
Графа хватило вёрст на пятнадцать, потом вдохновение кончилось. Пегас протянул дольше, но, подъезжая к Тарутино, всё же не выдержал тягот дальней дороги и околел. Этим сделал Ильюшке немалое одолжение – появись тот в лагере верхом на ужасной скотине, тотчас стал бы посмешищем для всего полка. А так, ничего, возвратились с Коренным на одной лошади, словно рыцари-тамплиеры из крестового похода.
К удовлетворению Крыжановского, его трёхдневная отлучка совершенно не вызвала в лагере интереса. Генерал Бистром вяло поинтересовался, чем обернулось дело чести. Максим ответил неопределённо, на том и покончили. Батальонные начальники нарочно вели себя так, словно полковой командир вообще никуда и не уезжал. Только Жерве старался не попадаться на глаза, а ежели не получалось – краснел как девица. Но что с него возьмёшь?
Для порядку Крыжановский учинил полковой смотр. Солдаты выглядели сытыми и бодрыми, амуницию имели подогнанную, а ружья держали в чистоте.
В общем, всё оказалось столь обыденно, что уже на следующий день дорожные приключения начали представляться далёкими, будто случились с кем-то другим. Только Фёдор Толстой мог засвидетельствовать обратное. Естественно, граф ни в какие партизаны не пошёл, а остался в ополчении и поселился у Максима.
Между компаньонами произошёл разговор, в результате которого получились интересные выводы. Во-первых, посланный Орденом уланский отряд охотился в лесу ни за кем иным как за их новыми знакомцами – цыганами. Во-вторых, цыгане владеют некой, невероятно важной для Ордена, тайной. В-третьих, непонятной оставалась роль в произошедших событиях генерала Понятовского, которого, несмотря на небывалую неуловимость, предстояло искать дальше.
Таинственный клубок договорились распутывать вместе. Ниточка вела в цыганский табор, и друзья-дуэлянты немедленно туда отправились, стоило лишь появиться знакомым кибиткам.
Приход цыган в окрестности военного лагеря вызвал в одуревшем от серых армейских будней офицерском обществе нешуточный интерес. По такому случаю за друзьями-дуэлянтами увязалась большая компания, среди которой особо выделялась примечательная фигура генерала Семёнова.
- Балаган при расположении войск! – довольно ревел генерал. – Господа, вашей затее цены нет. Почему раньше никто не додумался до такого!
- Чует моё сердце – шуму сей гость нынче наделает немало, – тихо сказал Максим Американцу.
- Лех Мруз искал близости с армией? – пожал плечами Фёдор. – Так пускай получает искомое общество! Не каждому табору выпадала подобная честь – принимать у себя генерала. Да ещё человека изысканных манер и блестящего собеседника.
Навстречу гостям гурьбой вывалили обитатели «острова отдохновения», как шутя назвал табор Толстой. Мужчины играли на скрипках, женщины пели и танцевали, создавая экзотическими нарядами красочную круговерть.
Офицеры закричали «виват», и сразу же были уведены цыганками к огромному пёстрому ковру, разостланному на земле посреди табора. Туда же потянулись и денщики, нагруженные корзинами с провизией и вином. Захлопали пробки, возвещая начало веселья.
Максим и Фёдор вертели головами, надеясь увидать внучку знахаря. Но девушка не показывалась.
- Эх! – досадливо вздохнул Толстой и, махнув рукой, переключился на происходящее. Ухватив жареную куриную ногу, он мечтательно заметил:
- Смотрю на этих вольных людей и думаю: каково оно – быть цыганом? Меня ведь ещё с детства причисляли к сему народу. Вначале звали цыганёнком, потом чёртом цыганским. А как оно на самом деле? Представляется, что полная свобода – есть великое счастье. Стало быть, цыгане – самые счастливые люди на свете.
- Что за счастье в кочевой жизни и нецивилизованности? Хотя, пускай сей вопрос рассудит человек бесхитростный. – Максим подозвал денщика и обратился к его угодливо склонённой голове:
- Задачка тебе, Ильюшка. У семьи твоей нет крова. У тебя ремесла нет, и детишкам счету нет. Куда не пристанешь, грозят повесить за конокрадство…
- Бог с вами, вашвысбродь! – воскликнул Илья, с перепугу забыв, что, прервав полковника, можно запросто получить подзатыльник. – Чем провинился?!
- Тише, паря! – успокоил Максим. Его сиятельство предположил, что цыгане – самые счастливые люди на свете. Я и хотел проверить. Ясно?
Во взгляде денщика появилась осмысленность, задумчивость, а затем радость понимания.
- Как есть – счастливые! – сказал Илья и замялся, увидев, что ответом не угодил хозяину.
- Ну?!
- Цыгане, – сделав ударение на первом слоге, продолжил денщик, – собаки оне, конечно, и колдуны – вона какого лошака мне подсунули. Но ежели я сам стал бы цыганом, то радостнее бы меня никто не ходил! Не жил бы радостнее никто! Потому, вашвысбродь, что цыгане ходють, где хотять. В армею их не бреють, на работы не гонють! Да и друг от дружки не отличають по причине излишней волосатости и бородатости. Сталбыть, судея не дождется воровайку до второго пришествия, прости Господи!
- Ты что ж, курва, воровать собрался?! – засмеялся Крыжановский.
- Да нет же, вашвысбродь! – возразил Ильюшка. – Сами ж говорили, кабы я цыганом стал! А сталбыть, и воровал бы тогда, коней уводил, кур тащил!
- Я тебе покажу, кур-р-рва! – захохотал пуще прежнего Максим. – Кур он воровать будет! У-у-у!
- Экий, Максим Константиныч, денщик у тебя говорливый! – вмешался генерал Семёнов, который некоторое время прислушивался к разговору. – Прямо не денщик, а мыслитель! Ломоносов! Да что там Ломоносов – Аристотель, мать его! Свободу ему подавай! А шпицрутенов, ваша премудрость, не желаете?
От такого Ильюшка побледнел как полотно и вобрал голову в плечи.
- Иногда, Василий Игнатьевич, в полемике полезно выслушать мнение простого народа, – возразил Крыжановский, ободряюще подмигнув Илье.
- Не вижу смысла полемизировать! – зарычал Семёнов. – Целый народ веками живёт, словно крысы – там украдут, здесь ухватят объедков – тем и счастливы! Бессмысленное существование, никаких высоких целей и устремлений. Одно только примиряет меня с цыганами – песни да танцы у них зажигательные. Хорошо идут под добрую чарку…
- Не скажите, генерал! Что-то упоительное и пьянящее есть в абсолютной свободе, ежели всяк её вожделеет? – кивнув на Ильюшку и вытирая рот платком, возразил Толстой. – Счастье? Интересно, можно ли прикоснуться к счастью? Не родиться с ним, а именно прикоснуться?
- Ну-у, Федорас, тебе видней, лучше тебя в дикарях никто не разбирается, – ехидно пророкотал Семёнов.
- Антипатия к цыганам и прочим племенам, живущим в согласии с матушкой-природой, идёт не от мудрости, а прежде всего – от высокомерия и непонимания, – продолжил Американец. – Да-да, Василий Игнатьевич, вас это касается как никого другого.
При этих словах воспитанный Илья Курволяйнен убрался куда подальше от спорщиков.
- Суть ваших воззрений вполне понятна, – голос Американца стал подобен рыку Семёнова. – Они, курвы, коней воруют! Они, курвы, колдовством да ворожбой промышляют! Они, курвы, оброк через раз платят! Они, курвы, кибитками дороги бьют! Словом, греховоды знатные! Выходит, духу их не должно быть на русской земле! Отчего же тогда, генерал, вы сейчас в таборе?
- М-да… – только и вымолвил Семенов.
- В завершение полемики могу сказать – это настоящее счастье, когда твой дом – весь мир! О, mon general! Это – грандиознейшее чувство! Лежать на вершине невысокого сплющенного холма в краях, где даже холмы зовут по-своему – ува-алы… – почти любовно протянул Толстой. – И вот, лежа на вершине увала, ты смотришь в небо! Но грандиозно не небо! Небо, наоборот, одиозно! Им так часто бьют по голове попы и клирики, что, хочешь-не хочешь – начнёшь воротить нос! Нет, молчи, полковник, знаю твою религиозность! Я для того и вспомнил о небе, чтобы сказать: лежа в неизведанной дали, глядя вверх, думаешь не о Боге, а о том, как много же ты ещё не видел в жизни!
Толстой мечтательно запустил пальцы в картуз с табаком и принялся набивать трубку.
- Ах, зачем я не цыган, отчего я верноподданный величайшей Империи в мире! Может быть, я хотел не этого, господи! Почему не мог я родиться среди индейцев в далекой, несбыточной и дикой Америке? И бродить по бескрайним просторам…
- Ежели ты, друг мой, взялся петь оды бродяжничеству, тогда среди твоих кумиров должны быть Каин-убивец и Агасфер – вечный жид? – решил остудить пыл компаньона Крыжановский.
Толстой заметно поморщился.
- Господь иногда выбирает странные наказания… Но согласен – это повод задуматься! Цыганское счастье! Faute de mieux![99]
Скрипка заиграла нечто венгерское, зажигательное и перед гостями появился цыган, ведущий на верёвке медведя. Нет, не медведя, а медведицу в короткой юбке, платке и с медными серьгами в ушах. Зверюга кокетливо выплясывала, кружась вокруг себя и забавно порыкивала.
- Где они её прятали в прошлый раз? – удивлённо воскликнул Толстой. – Нечего сказать – хороша! Совершенно подходящая пара нашему дорогому Василию Игнатьевичу.
Максим хорошо приложился к глиняной кружке. Но на душе не полегчало – какое, к чёрту, веселье без Елены! Графа упрашивать не понадобилось, и оба отправились на поиски девушки. Увы, в таборе её не оказалось.
Далеко за деревьями послышался знакомый серебристый смех. Тихо ступая, чтобы не спугнуть красавицу, Максим с Фёдором пошли на звук и углубились в густой еловый бор.
Елена стояла в центре небольшой поляны. Наперекор всяким законам и обычаям, девушка облачилась в мужской кожаный костюм. Куда подевались цыганские цветастые юбки? Где серебряные монеты, украшающие волосы? Где нескончаемые бирюльки, нанизанные на веревочки-ниточки? И что, наконец, делает в маленькой руке длинный витой кнут?
Напротив врос землю Виорел Аким. Он надел явно парадный наряд: дорогие сапоги с широкой голенью, хлопающей при ходьбе, изабратовые[100] штаны и такая же куртка, на голове – молдавская шапка, что зовется не то «кэчула», не то «кахула». Кнут в руке и у него.
Ни Максим, ни Фёдор не успели сказать ни слова – кнуты со свистом взлетели вверх.
- Цыганский поединок! – едва слышно выдохнул Крыжановский. – Слышал, у сего племени не зазорно поднимать руку на женщин.
- Поединок – ненастоящий! – так же тихо ответил Толстой, рукой останавливая негодующий порыв товарища. – Вождь влюблён и не станет бить всерьёз. Но чем же он ей не угодил?
Граф ошибся. Цыгане бились по-настоящему. «Вождь», как прозвал его Фёдор, выбрал тактику выжидания. Ведь что такое разгневанная женщина? Стихия! Абсолютно неуправляемая и нисколько не считающаяся с ущербом! Нужно переждать первый порыв и брать голыми руками. Всё так, всё верно! Только отчего-то прошла первая буря, но девушка в мужском одеянии, похожая на фурию, не растеряла внутреннего огня! За первой бурей прокатилась вторая, потом и третья!
Одежда Акима изрядно пострадала, кое-где на ней проступила кровь. Мужчина еле держался на ногах. Елена же получила раз по плечу – больше до неё дотянуться не получилось.
Перекрученные жилы плетей хлопали в воздухе. Виорел Аким постарался наверстать упущенное, подскочить и свалить противницу. Ничего из этого не вышло, зато кнут Елены ещё раз хорошенько прошёлся по плечам противника.
Толстой довольно ухмыльнулся про себя: «Определённо, не люб вождь молодухе!»
На завершающих ударах, когда стало ясно, что, несмотря на логику мироздания мужчина проиграл, Толстой стянул перчатки и убрал за пояс.
Кнут смирно повис на плече девушки, глаза гневно вскинулись на непрошенных свидетелей, когда Американец, выйдя из-за дерева, громко зааплодировал. Битый и опозоренный вождь попятился, а затем бросился напролом в чащобу. Американец проводил его насмешливым взглядом и громко сказал:
- В прошлый раз не удалось отрекомендоваться, мадемуазель! Позвольте исправить оплошность. Граф Толстой Фёдор Иванович!
- Крыжановский Максим Константинович, из дворян полтавской губернии! – слегка поклонился Максим. – Полковник лейб-гвардии Финляндского полка!
Два соперника стояли рядом в схожих позах, девушка переводила недовольный взгляд с одного на другого.
- Очень приятно! – поклонилась она. – Я – Елена, цыганка и гадалка! Иных титулов не припомню.
Глаза Фёдора чуть сузились, Максим протестующе дернул плечом, будто отгоняя мнимую мошку.
- Вижу-вижу! – засмеялась девушка, теряя последние черты гневной фурии. – Честные! По крайней мере, ты, барин! – указала она на Максима. – А друг твой – что же? – чёрные бездонные глаза обратились к Фёдору. – Много в нём всякого. Добрых советов слушать не любит, получает за это от судьбы по загривку. Ну, да ничего, с годами образумится. Не нужно за мной идти, баре! Сама позову, коль понадобится.
Девушка ушла, слегка задев локтем еловую лапу. А компаньоны остались стоять, глядя как зачарованные на качающуюся ветку. На ноги – словно путы наложили. Хочется кинуться за девушкой, но нет никакой возможности.
Толстой первым стряхнул оцепенение и хрипло сказал:
- Надеюсь, Василию Игнатьевичу с медведицей удалось добиться большего успеха.
«Е-ле-на! Имя по вкусу как… пряность, доставленная из столицы Поднебесной Империи в сирийский Гиерополь, а оттуда, собственно, в Рим. Драгоценная пряность, спрятанная в рулонах никчемного шёлка. И правда – кому тот шёлк нужен, когда рядом такая ценность?! Е-ле-на! Или как там говорила безумная старуха – Еленик? Мда, похоже на название камня или цветка! На конце ставится незаметный звук «К» и ву-а-ля! Уже не величественная Елена, а шкодливая и своенравная Еленик! Удивительно!» – так думал Толстой–Американец, отнюдь не собираясь оставлять красавицу в покое. «Не получилось в лоб – ничего, попробуем иное».
- А что, Максимус, не нанести ли нам визит вежливости старому шаману? Что-то я его не приметил за столом. А так хочется поговорить по душам, – Американец без всяких церемоний подошёл к шатру Леха Мруза и отдёрнул кошму, закрывающую вход.
Знахарь находился внутри. Его объёмистый зад торчал из-под армейской походной койки. Старик что-то там перебирал, но, услыхав посторонний шум, недовольно закряхтел, лязгнул железом и с трудом поднялся на ноги. Максим успел заметить под кроватью край окованного сундука прежде, чем Мруз опустил покрывало.
- Здравствуй, дедушка! – ласково проворковал Толстой. – Вот, решили зайти проведать, здоровьицем поинтересоваться.
- И вам доброй туме, баре! – поклонился знахарь. – Как себя чувствует…э…господин полковник, рана не беспокоит?
- Твоими молитвами, старик, заживает, как на собаке, – благодарно кивнул Максим.
Лех Мруз улыбнулся понимающе и спросил:
- Вещует мне сердце, что дуй витязо ко мне не о здоровье говорить пришли.
- Верно, дедушка, не врёт твоё сердце! Ты ведь колдун, не так ли? – Толстой прикоснулся к глиняному ожерелью на шее старика. – Такие побрякушки я только у колдунов Нового Света и видывал. – Так погадай нам на судьбу!
- Не к тому человеку обратились, баре, – развёл руками Мруз. – Не колдун я, а знахарь. Ежели по части травок… Человеку там помочь, иль скотине – это пожалуйста. А гаданием у нас женщины занимаются. Ни одна в таборе вам не откажет.
- Увы, – подражая жесту цыгана, развёл руками Американец, – внучка твоя напрочь отказывает. А она ведь – лучшая из всех.
- Так вы же к ней не ради гадания приставали, – тут же нашёлся знахарь.
- Именно так, – выступил вперёд Максим. – Намерения наши более честные, нежели интерес к ворожбе. Хороша твоя внучка! И возраст у ней – впору сватов засылать. Может, ты не заметил, старик, но мы с графом – женихи не из последних. Или Елену для принца заморского бережёшь?
- Не принято в нашем народе девушек за гажё отдавать, – в который раз развёл руками Лех Мруз, – только за своих.
- Врёшь, старик! – рявкнул Максим, – баро Виорел Аким тоже получил от ворот поворот. А он среди вашего племени наипервейший будет.
- Правильно девочка этого малахольного кнутом поучила! – запальчиво выкрикнул старик и осёкся.
На него смотрели две пары глаз, ожидающих объяснения – как узнал то, чего видеть не мог?
- Всё ловчишь, дедушка, за болванов нас держишь! – укоризненно произнёс Толстой. – Что за тайны скрываешь? Или по-прежнему станешь утверждать, что судьбу прозревать не умеешь?
Лех Мруз сел на койку. Хотел, было, по обыкновению, развести руками, но не стал. Тон старика изменился, в нём появилась твёрдость, не терпящая возражений:
- Будь по-вашему, приезжайте в следующий раз – обещаю всё рассказать, о чём спросите. Судьбу же прозреть не мудрено – вон она, в дверь стучится.
Максим с Федором обернулись. Кошма отдёрнулась и впустила внутрь запыхавшегося Ильюшку!
- Насилу нашёл…вашвысбродь… Там дело затевается…все уже побёгли обратно в лагерь…велено подыматься на супостата!
Максим молча бросился к выходу. Толстой на миг задержался.
- Мы ещё вернёмся, цыган! – сказал он и поспешил догнать товарища.
Лех Мруз вышел из шатра, вдохнул полную грудь воздуха и стал смотреть вслед бегущим. Мудрый архиерейский взгляд человека, умеющего угадывать судьбу, постепенно наполнился грустью и обречённостью.
Глава 13 Неприятель порадовал, да свои генералы огорчили
4 (16) октября 1812 г.
Калужская губерния.
В неказистой избёнке, что гордо именовалась Главной квартирой русской армии, стояла духота от пышущей жаром печки, но его высокопревосходительство генерал-фельдмаршал Голенищев-Кутузов всё равно зябко кутался в наброшенную на плечи шинель и беспрерывно потирал узловатые артритные пальцы. Главнокомандующий изволил гневаться. Таким командиры не видели его давно.
- Неслыханно, господа! Закушались! Разложились! Потеряли всякий стыд! – Кутузов так перенапряг горло, что пришлось бороться с приступом кашля. Вдоволь похаркав в платок, он обратился к Беннигсену:
- Леонтий Леонтьевич, голубчик, скажите на милость, зачем понадобилось во всеуслышание заверять, будто армия готова к завтрашнему наступлению? Благо, Господь сподобил меня лично проверить сие утверждение. Объехал лагерь – и что же? Отправлялся в войска, а попал в бордель! – на этом слове светлейший попытался сделать ударение, но вышло по-стариковски визгливо. – Да-да, бордель! И нечего воротить нос! Начальники – в отсутствии! Люди – брошены, болтаются пьяные! Не солдаты, а воровская шайка! Спрашиваю – кто такие? Оказывается – ополченцы. О подготовке к выступлению – слыхом не слыхивали! Где командир? Отвечают – в цыганском таборе развлекается! И что вы думаете? Появляется через полчаса сущий аспид с бессовестными гулящими глазами, представляется графом Фёдором Толстым, а от самого водкой разит за версту. Да что там водкой – мятежом! Якобинским переворотом! Где Остерман-Толстой?
Кутузов обвёл единственным глазом горницу и, уцепив среди присутствующих высокого, близоруко щурившегося генерала, обратился к нему, смягчив тон:
- Нечего сказать, Александр Иванович, родственничек ваш хоро-о-ош! Ну, да ничего, я ему семь суток гауптвахты объявил. Пускай посидит. Может, образумится.
- Ваше высокопревосходительство, ополченцы не по моему ведомству. То люди Ермолова, – возразил Остерман-Толстой.
- Вот как? – разыграл удивление главнокомандующий. – А где же дражайший Алексей Петрович? Отчего я его не вижу? Уж не захворал ли, а может, ранен, или того хуже, – Кутузов перекрестился, – убит?
- Ваше высокопревосходительство, – взял слово генерал-квартирмейстер Толь, – диспозиция завтрашнего выступления готовилась в строжайшей тайне. Алексей Петрович не был оповещён…, – генерал замялся.
- И?! – подтолкнул Кутузов.
- И, будучи в неведении, уехал на званый обед. А без него вскрыть пакет с приказом о выступлении не решились, – глядя в пол, тоскливо закончил Толь.
- Вот!!! – шёпотом сказал Кутузов и погрозил пальцем. – Вот то, о чём я говорил!!!
Главнокомандующий покраснел как рак. Казалось, его сейчас хватит удар.
- Приказ о выступлении даже не поступал в войска! Лучшие генералы подают дурной пример! Как прикажете воевать?! Полагаете, вашу нераспорядительность солдаты исправят обычной своей доблестью?! Хотите завалить завтра окрестные поля и леса русскими трупами?!
Кутузов тяжело опустился на табурет, прикрыл глаза и так застыл.
Полковнику Крыжановскому, который, наряду с командирами других гвардейских полков присутствовал на совещании, на миг показалось, что фельдмаршал уснул и вот-вот должен раздаться храп. Но полководец открыл глаза и сказал устало:
- Утреннюю атаку на неаполитанского короля приказываю отложить! Срок выступления переношу на один день. Это время прошу употребить на подготовку войск и доведение их до должного состояния. Все действия согласовать до мелочей. Генералам и офицерам без служебной надобности отлучаться из расположения частей строжайше запрещаю, под страхом трибунала… И сыщите же, наконец, Ермолова!
Генералы пытались возражать – мол, отклад – не в лад. Но Кутузов непреклонно стоял на своём.
Расходились затемно. Все понимали, что учинённый разнос, независимо от того, какие фамилии назывались, в полной мере касается только одного человека – генерала Беннигсена. Именно тот правдами и неправдами добивался от главнокомандующего разрешения на атаку французского авангарда. Кутузов был против, вот и решил выставить крепко нелюбимого им начальника штаба в дурном свете, чтоб в будущем иметь возможность свалить на него вину, ежели исход сражения окажется неудачным.
Финляндский полк этой ночью нёс караул по охране Главной квартиры, поэтому Максим задержался для обхода постов, а когда возвращался, нос к носу столкнулся с Кутузовым. Видимо, военачальник решился покинуть жарко натопленное помещение ради вечернего моциона.
- Иди спать, полковник, – распорядился Кутузов, зевая. – Насладись последней спокойной ночью. Иди-иди, – остановил он попытавшегося возразить Максима, – никакой угрозы для моей особы не существует, гвардейская охрана – это так, для важности.
- Ваше высокопревосходительство, как можно быть уверенным в собственной неуязвимости? Всякое может случиться! – вставил-таки слово Крыжановский.
- Эх, молодо-зелено! Гляди, полковник! – Кутузов сдёрнул с лица чёрную матерчатую повязку, закрывающую правую глазницу. – В семьдесят четвёртом под Алуштой турецкая пуля вошла в левый висок и вышла у правого глаза. Говаривали – не жилец, но я – выжил. Молод был тогда, почитай, лет на пять моложе тебя. Ни в какие чудеса не верил. Исцеление относил к случайности, а не к Божьему промыслу. И Господь, чтоб убедить меня, недостойного, в обратном, – фельдмаршал возвёл оставшееся око к небесам, – проявил особую настойчивость. Видишь шрам на щеке? Случилось это в Очакове по истечении четырнадцати лет после первого ранения. Пуля вошла здесь и вылетела в затылок. Знаешь, что сказал лекарь, который мною занимался? Его слова оказалось мудрено позабыть. Вот они: «Надобно думать, что провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая смертельна[101]». С тех пор долгие годы я оставался в неведении относительно предназначения, ради которого высшими силами сохранена сия никчемная жизнь. Даже при Аустерлице, когда в третий раз ранило в лицо, вот он – шрам, не знал я своей судьбы. А потом началось антихристово нашествие. И нынче твёрдо понимаю смысл существования: покуда не изгоню нечисть из пределов Отечества, жизнь моя вне опасности. А после того уж недолго останется… Так что иди, полковник и будь уверен – к особе Главнокомандующего приставлена самая что ни на есть высшая охрана.
Губы невесть по какой причине разоткровенничавшегося военачальника зашептали молитву. Максим стоял и боролся с искушением проявить ответную откровенность и рассказать, что упомянутый антихрист – не абстракция, а реально существующая сила, именующая себя Орденом Башни. Но тут вспомнилось, с каким гневом Кутузов отзывался о виновнике московских похождений – Фёдоре Толстом, и совершенно расхотелось начинать повествование, где пришлось бы упоминать имя арестованного графа.
Когда дверь избы скрипнула, закрываясь за фельдмаршалом, Крыжановский, как и положено отменному служаке, не посмел ослушаться приказа, и отправился спать.
Утро началось с того, с чего и положено начинаться в армии утру, следующему непосредственно после начальственного нагоняя – с муштры.
Максим взял в помощники Леонтия Коренного и занялся необстрелянными солдатами, пришедшими с рекрутским пополнением. Но зарядил сильный дождь, и занятия пришлось прекратить. Полковник, однако, не пожелал оставить подчинённых в покое, а велел, невзирая на непогоду, копать ямы для устройства бань. Может, в его жилах и бродила польская кровь, но обычай русских идти в бой чисто вымытыми Максим чтил твёрдо.
Диспозиция будущего сражения, разработанная Беннигсеном и Толем, предписывала войскам на рассвете внезапно атаковать позиции французов. При этом на правом фланге казачья конница генерала Орлова-Денисова[102] должна была обойти неприятеля и отрезать тому путь к отступлению.
В семь часов вечера корпуса переправились через реку Нару и начали движение с таким расчётом, чтоб к утру поспеть в назначенные для них места. Влажная после дождя земля способствовала скрытному передвижению больших людских масс. Всем было приказано идти в молчании, не стучать ружьями и не курить.
Гвардию Кутузов оставил подле себя – в резерве. Лишь с наступлением темноты он приказал углубиться в лес и там, не зажигая костров, ждать рассвета.
Сам остановился в крошечном домике на краю деревни Гранищево и всю ночь не сомкнул глаз. То неподвижно сидел, нахохлившись, в складном парусиновом кресле, то молился в одиночестве, то выходил наружу и бродил, заговаривая с солдатами и офицерами. К шести часам, когда стало светать, волнение полководца достигло пика.
- Почему они не атакуют? Пора бы уже начаться пальбе!
Подлежащие атаке неприятельские позиции находились всего в двух верстах впереди, и, начнись канонада, её тотчас стало бы слышно. Увы, в округе царила тишина. Изнывающий от нетерпения Кутузов отправил за новостями посыльных. Но прежде, чем те вернулись, началось.
На правом фланге громыхнуло, и посыпалась дробь ружейных выстрелов. С большим опозданием донесся грохот пушек и по центру. Наконец стали приходить известия о ходе сражения.
Первым прискакал казачий урядник от Орлова-Денисова. Выпучив глаза, постоянно сбиваясь на ор, казак доложил, что неприятель совершенно не ждал нападения, пришёл в полное замешательство и, побросав пушки, удирает во все лопатки. Мюрат ранен в руку и спасся лишь благодаря тому, что казаки, прекратив преследование, бросились грабить его лагерь.
- Что же вы, братцы? – укоризненно осведомился Главнокомандующий.
- Дык, вашвысокпревосходительство, у хренцуза столько добра оказалось, что робята не удержались. А там уж пошло-поехало, – урядник смотрел честно и открыто, производя впечатление человека удалого и героического.
- Немедленно передай графу Орлову, чтоб возобновил преследование и кровь из носу отрезал основным силам неприятеля путь к отступлению, – приказал Кутузов.
Казак умчался, оставив после себя стойкое ощущение, будто спешит он не к графу с приказом от главнокомандующего, а к французскому обозу с надеждой, что товарищи оставили, чем поживиться.
Не все новости оказались столь бравурными. Милорадович поздно начал движение и до сей поры ещё не вступал в баталию. Часть корпуса Остермана-Толстого заблудилась в ночном лесу, из-за чего тоже не поспела к сроку. Такая задержка позволила французам наскоро подготовиться к нападению, и лишь только на опушке леса показались русские колонны, по ним ударили пушки. Наши батареи, превосходя числом неприятельские, подавили их огонь. Но от прямого попадания ядра погиб командир второго корпуса генерал Карл Фёдорович Багговут. Практически везде супостат отступал, но отдельные его части оказывали ожесточённое сопротивление. Особенно яростно дрались поляки Понятовского.
Услыхав знакомое имя, Крыжановский воспылал надеждой на возможную встречу с генералом. А вдруг Главнокомандующий решит бросить на поляков гвардию? Но Кутузов решил иначе.
- Ах, ты ж, пропасть! – запричитал старый фельдмаршал, как только разрозненные сведения позволили составить общую картину. – Всё, как я и полагал – славно задумано, да худо сработано. Внезапность, на которую делался расчёт, потеряна. Теперь неприятель непременно постарается перегруппироваться и устроить нам бойню. Во всём виноват этот рыжий Беннигсен! Немедленно прекратить атаку и отозвать войска. На сегодня войны довольно.
Ординарцы вскочили на коней и помчались доносить до адресатов приказ Главнокомандующего.
- Милорадовича ко мне пришлите! – крикнул им вслед Кутузов тоном, не предвещавшим генералу ничего хорошего. – Отправляюсь в бывший лагерь неаполитанского короля. Пускай туда жалует.
Неприятельский лагерь являл собой картину полнейшего разорения. Казаки поживились на славу. Что не забрали, то побили и растерзали. Иррегулярное войско – каков с них спрос! Тем не менее, кое-что осталось нетронутым – к примеру, съестные припасы на кухне его величества. Большая палатка Мюрата лежала пустая, опрокинутая и истоптанная лошадьми. Но рядом, возле медного котла, на вощёной бумаге кто-то разложил дюжину свежих лягушек, две ободранные кошачьи тушки и конскую ногу с копытом. Первым указанные ингредиенты обнаружил любопытный Илья Курволяйнен. И тут же громко завозмущался:
- Вот же, морды басурманские! Ничем не брезгуют! Не ровён час, мертвяков жрать начнут! А там уж и до живых недалеко! Дайся только им в плен – мигом попадёшь как кур в ощип!
Максим, конечно, знал, что французские кулинары – весьма смелые экспериментаторы. Но отчего-то не верилось, что кошатина – подходящее блюдо для королевского стола. Сопровождавшие полковника штаб-офицеры дружно шутили по поводу увиденного.
Кутузов тем временем обнаружил куда больший повод для негодования, нежели странные изыски неприятельских поваров. Главнокомандующий стоял невдалеке от финляндцев, и, глядя снизу вверх, неприязненно беседовал с восседающим на великолепной лошади франтоватым Милорадовичем.
- Ах, Михаил Андреевич, голубчик вы мой! Правильно сделали, что не стали нападать на приятеля своего Мюрата[103]. Он -то позволил нам невозбранно уйти из Москвы, отчего же нынче не проявить ответную любезность? Похвально! Похвально!
Во время этой тирады лицо Милорадовича последовательно меняло цвет, по странной случайности повторяя окраску щегольского шарфа, повязанного вокруг шеи. Генерал вначале покраснел, затем позеленел и, в конце концов, достиг восхитительного померанцевого оттенка.
- А вот и главный виновник сегодняшнего триумфа, – радостно вскричал Кутузов, издали приметив скачущего к ним Беннигсена.
Подъехавший генерал искривил рот в улыбке и жёлчно осведомился – отчего остановлено наступление?
- Помилуйте, Леонтий Леонтьевич. Я посчитал невозможным допустить какое-либо отклонение от вашей блестяще задуманной диспозиции. Судите сами: изначально всё пошло не так: атака в центре и на левом фланге запоздала. На правом фланге обходной манёвр не удался. Француз, правда, сегодня ведёт себя отменно, послушно впадает в панику и разбегается. Но дальнейшее развитие событий непредсказуемо. Потому полагаю верным остановиться на достигнутом, каковое трактую не иначе, как викторию. Уверен, Государь вас наградит[104].
Только сейчас Кутузов заметил, что у начальника Главного штаба по ноге струится кровь. Тотчас были созваны лекари, которые, несмотря на сопротивление, уложили Беннигсена в носилки.
Кто-то несмело тронул Максима за рукав, заставив отвлечься от генеральской беседы. Перед ним стояла кричаще одетая девушка, с искажённым от страха лицом.
- Господин офицер, – обратилась она по-французски, – можем ли мы просить об одолжении?
«Мы?» – Максим огляделся. Подле пёстрой палатки сгрудилась небольшая группа женщин. Они опасливо косились на солдат, что во множестве сновали поблизости, но, будучи занятыми добычей трофеев, пока не обращали на женщин внимания.
- О, куртизанки! Надо полагать, французики весело проводили время, – развязно объявил Жерве, но осёкся, лишь только полковой командир посмотрел в его сторону.
- Что вам угодно, сударыня? – осведомился Максим.
- Скажите правду, какая судьба нас ожидает? – в глазах бедняжки блеснули слёзы.
- Вас накормят, – полковник учтиво поклонился и кивнул офицерам, чтоб те позаботились о дамах.
В Тарутино армия возвращалась под барабанный бой. Потери убитыми составили не более 200 человек. Французы потеряли вдесятеро больше[105]. Удалось захватить 36 пушек, множество пленных и трофеев. Глаза новобранцев горели радостью – нет ничего более благотворного для морального духа, чем вид бегущего неприятеля.
Утром, прихватив бутылку вина и кое-что из съестного, Максим отправился на гауптвахту – проведать Толстого. Узилищем тому служил пустой дровяной сарай. Дверь запоров не имела. Кроме совести, иной охраны дворянину не полагалось.
Фёдор «томился за решёткой» со свойственным ему азартом. Перед графом на колоде восседал обнажённый человек, чьё естество прикрывали лишь польская рогатувка да пышные усы. Этого усача Толстой с оттягом щёлкал по носу игральными картами, сопровождая действо французским счётом. Увидав Максима, граф немедленно прекратил экзекуцию и с криком: «Сher ami, veuillez agréer mes sincères salutations!»[106], полез обниматься.
- Максимус, ты как всегда спасаешь меня от скуки! Ну, не томи, рассказывай – чем закончилось сражение!
- Мы незнакомы с сим господином.
- Pardonnez-moi cet oubli![107]- хлопнул себя по лбу Американец и принялся исправлять оплошность.
Усатый оказался польским перебежчиком – подхорунжим Жванеком. Ещё накануне сражения он явился к русским и пообещал помочь захватить в плен самого Мюрата. Жванеку не поверили и, не зная, что делать с ним дальше (с одной стороны – не пленный, а с другой – уж не шпион ли?) определили на гауптвахту под присмотр к Американцу. Вот они вдвоём и коротали время за картами.
- Хороший человек – пан Жванек, да игрок никудышный, – отрекомендовал перебежчика Толстой. – Я у него одежду уже три раза выигрывал, да назад возвращал, чтоб было, на что снова играть.
- Держи, пан, – в четвёртый раз отдавая выигрыш, заявил граф. – Только не обессудь – кисет себе оставлю. Такая жалость, потерял где-то картуз с табаком. Когда в таборе на поляне сидели – был, а потом хватился – нет картуза.
Поляк с достоинством оделся и обратился по-русски:
- Пусть ясновельможный пан Крыжановский не думает, что Гжегож Жванек есть предатель. Гжегож Жванек шёл воевать за Речь Посполиту и за Господа. У нас многие думали, Бонапарт восстановит польское государство. Но Император обманул ожидания. Ради чего осталось воевать? Господь – на стороне русского Государя. За Бонапарта – только дьявол.
- Это он про Орден Башни, – объяснил Толстой.
- Страшные люди! – подтвердил Жванек шёпотом.
- А почему в Ордене так много поляков? – поинтересовался Максим.
- То есть традиция. Где-то в Польше стоит страшный Красный замок, и в нём обитает дьявол. Охраняют замок всегда только поляки. Так сказывал пан Зборовский. О, тот пан любил поговорить, пока был жив! Потом его выловили в реке.
- Хватит про Орден, панове! – остановил беседу Толстой. – Ты, Максимус, обещал рассказать о сражении. Кроме того, не мешало бы подкрепить силы добрым глотком вина.
Пока узники отдавали дань вину и закускам, полковник в мажорных тонах рассказал о замечательной победе русских и позорном бегстве неприятеля.
- Всё-таки, я оказался прав! – прокомментировал повествование Американец. – Эх, не приемлют люди правды! Даже самые выдающиеся люди!
- О чём это ты? – не понял Максим.
- Получается, Главнокомандующий меня на hauptwache за правду упрятал. За истинную правду! – Фёдор возмущённо надул губы – Когда он напустился, мол, ополченцы – ужасны видом, я и ответил: раз сам «Великий дедушка»[108] сих бравых людей устрашился, то неприятель побежит и подавно, и ведь не соврал же!
Глава 14 Штыки и пушки Малого Ярославца
11-12 (23-24) октября 1812 г.
Окрестности уездного города Малый Ярославец.
Получив известие о поражении Мюрата в бою при Тарутино, Наполеон более не колебался. Приказав взорвать Кремль, он покинул Москву и направился к Калуге. Кутузов двинул русскую армию навстречу неприятелю.
Финляндский полк оставлял лагерь одним из последних. Уже минул полдень, когда прискакал посыльный с приказом сниматься.
Солдаты бросали бараки, тушили костры, собирали нехитрый скарб и грузили его в обоз, а затем спешно занимали место в строю. Молодые необстрелянные новобранцы испытывали понятное волнение относительно будущего. Они напряжённо заглядывали в лица старших товарищей, надеясь отыскать в сурово насупленных бровях и грозно торчащих усах душевное успокоение.
Выйдя на размытую ливнями дорогу, войска начали походный марш. Где-то впереди, в рядах преображенцев, родилась песня: то был всем известный «Журавель» – шутливая перекличка между полками. Чаще всего, пехотинцы старались поддеть кавалеристов и наоборот:
Соберемтесь-ка, друзья, Да споем про журавля! Жура-жура-журавушка мой, Жура-жура-журавушка молодой! Начнем с первых мы полков - С кавалергардов-дураков. Кавалергарды – дураки Подпирают потолки.Кавалергардский полк, не делая паузы, нашёл, что ответить:
Тонно чешется по-женски Первый полк Преображенский. А семеновские рожи На кули овса похожи.Тут же грянули финляндцы:
Лейб-гусары пьют одно Лишь шампанское вино. Тащит ментик на базар - Это гродненский гусар.Ответ от гусар пришёл незамедлительно:
А какой полк самый бл..ский? То лейб-гвардии Финляндский.Максим Крыжановский, что чинно подбоченясь в седле, держался сбоку от походных колонн, захохотал в голос, услыхав последнюю дразнилку. Верно подмечено – не в бровь, а в глаз. Нечего было ему, полковому командиру, постоянно употреблять в адрес подчинённых бранные словечки. Теперь «какой полк самый б…ский?» надолго прицепится. Солдаты тоже смеялись.
А песня летела дальше. И твёрже становилась поступь бойцов, и решительнее делались их лица. И разрозненные человеческие массы становились единым существом – армией. Армия ритмично ступала в ногу. Армия вдыхала и выдыхала одновременно. Армия хотела одного и того же: растоптать и уничтожить неприятеля.
Ранее и Крыжановского обязательно подчинил бы и сделал частью себя огромный армейский организм. Нынче же полковником владела сила иная: Максим Константинович страстно влюбился. Влюбился так, как никогда доселе. Картинная поза и нарочито весёлый смех служили лишь ширмой для истинных чувств. Елена, прекрасная цыганка, полностью захватила всё существо, не оставив места ни для чего другого в жизни. Поразительное дело: Максим мог до мельчайших подробностей припомнить лицо любого знакомого или любой знакомой, но только не лицо прелестной Елены. Пленительный образ девушки ускользал из памяти, оставляя лишь лёгкий, сладостный след.
А ещё больно колола ревность: ведь цыганский барон Виорел Аким своего точно не упустит, да и от дикаря Толстого всякого можно ожидать, честь простой цыганки Фёдору никакая не преграда.
«К чёрту всё! Скорее бы вернуться в табор и быть подле неё!» – Максим нетерпеливо заёрзал в седле. Его настроение немедленно почувствовала вздорная кобыла Мазурка и пустилась бы вскачь, не усмири её всадник железной рукой.
- Что, Максим Константинович, небось, соскучился по настоящему батальному делу, – по-своему истолковал нетерпеливую возню Крыжановского тихо приблизившийся сзади генерал Бистром. – Теперь уж недолго ждать: получены верные сведения от Сеславина[109] и от других, что неприятель нынче встал лагерем у Боровска и занял Малый Ярославец. Ночью передохнём, а завтра, помолившись, пойдём да испачкаем штыки французскими кишечками, – в боях генералу повредило челюсть, оттого говорил он, шепелявя и пришёптывая.
Максим хотел, было, устыдиться неуместных и несвоевременных любовных мыслей, но ничего не получилось. Равно как не вышло и заставить себя думать о подготовке к сражению. Помыслы возвращались только к одному предмету – всё к тому же…
К ночи, когда соорудили бивак, любовная лихорадка лишь усилилась. Полковника бросало то в чувственный жар, то в озноб ревности. Он бродил между кострами и невпопад отвечал на попытки заговорить с ним. Солдаты дивились: какая такая «безобразия» сделалась с их командиром? Лишь верный Ильюшка догадывался, в чём дело.
- Околдовала, проклятая ведьма, – жаловался он дядьке Коренному, – приворожила злокозненная цыганюра.
Леонтий же улыбался, сверкая жёлтыми крепкими зубами из-под пышных усов, да успокаивал молодого приятеля:
- Это только оголтеому бабеннику[110], что бабёнок за скотину держит, нормальные людские чуйства неведомы. А их высокоблагородие – мужчина с чистым и сильным норовом. И нутряные чуйства у них, понятное дело, должны быть чистые и сильные. Так что – нетути туточки никакого колдовства. А что есть, прозывается не колдовством и не ворожбой, а амуром.
- Нешто мы без понятия, – не унимался Ильюшка, – али амурных дел ранее не видывали? Вона, когда на ентую треклятую войну собиралися, барышня Марья Прокофьевна, с которой у Максим Константиныча шашни случились, вся в слезах выбежала прощаться, а их высокоблагородие уже вскочили на Мазурку и в седле обретаются. И народу на дворе видимо-невидимо. Барышня огляделась вокруг, покраснела, что твоё солнышко, а потом запечатлела нежнейший поцелуй на морде Мазурки. Их высокоблагородие пообещали по такому случаю беречь лошадь пуще зеницы ока. А потом, под Можайском, я, грешным делом, не доглядел, зловредная кобыла взяла и удрала от меня по случаю течки…
- Ты, Илья, никак рехнулся! Я тебе про амуры, а ты мне про течную кобылу! При чём тут кобыла? – возмутился ильюшкиной дури Коренной.
- А при том, – назидательно поднял палец Курволяйнен, – что за потерю Мазурки, на чьей морде хранился драгоценный прощальный поцелуй барышни Марьи Прокофьевны, Максим Константиныч по справедливости обязаны были отхлестать меня, никчемного, арапником, а оне только выругались изрядно по матушке и велели подать другого коня. Ну, я быстренько споймал ничейного, из-под убитого хренцуза…
- И как их высокоблагородие подле себя такого дуралея терпит, – пристыдил денщика дядька Леонтий, – и неча от моих слов морду воротить. Дуралей ты и есть, коли разницы меж обычными шашнями и благородным амуром не видишь. Ладно, давай на боковую, завтра день, чай, предстоит серьёзный. – Коренной покряхтел, устраиваясь, и через минуту уже зычно храпел, а ещё через пару минут к могучим гренадерским раскатам присоединились Ильюшкины рулады. Солдатскому сну на свете существует мало помех.
Максим же всю ночь не сомкнул глаз – сидел у костра, уткнув подбородок в колени, и смотрел на огонь, пока его, разогретого спереди и озябшего со спины, не потревожил генерал Бистром. Карл Иванович вынул из костра ветку и принялся расчерчивать ею пепел:
- Диспозиция, значится, следующая: шестому корпусу Дохтурова[111] приказано отбить у неприятеля Малый Ярославец. Нам же велено в драку не лезть, а, оставив позади себя деревню Немцово[112], укрепиться на новой Калужской дороге и не допускать прорыва французов вглубь России, поставив предел их нападению. Вперёд Бонапарту ходу нет, только назад, в те губернии, каковым он уже успел учинить разорение. Такова задумка генерал-фельдмаршала.
Максим вздохнул и понимающе кивнул.
- Ничего не поделаешь, дружище, гвардия – главная мощь армии, – продолжил Бистром, – и силу эту надобно беречь. И в бой бросать не всякий раз, а лишь в самый переломный момент, когда решается исход сражения, а может, висит на волоске судьба всей войны. Так что Малый Ярославец возьмут простые пехотные полки, – генерал испытующе посмотрел на полковника и продолжил с некоторой робостью в голосе, – мой младший брат Адам со своим 33-им Егерским наверняка окажется в самом пекле. Эх, что-то неспокойно на сердце за Адама…
- Слушай, Карл Иванович, – предложил Крыжановский, – а почему бы мне прямо сейчас не съездить к передовой на рекогносцировку? К тому времени, как ты с бригадою подойдёшь к Немцово, составлю подробную диспозицию – где соорудить редуты, где поставить батареи… Заодно и за Бистромом 2-м пригляжу, чтоб горячку не порол.
Бистрома 1-го долго упрашивать не пришлось, и вскоре Максим отправился в путь, прихватив с собой верных Леонтия и Илью, а также необходимую для инженерных расчётов команду Морского гвардейского экипажа, состоящую из мичмана Михаила Лермонтова[113] и четырёх матросов.
Гвардейский экипаж был Максиму родным. Эту часть два года назад ему поручил сформировать из экипажей императорских яхт лично Цесаревич. Сие поручение исполнилось наилучшим образом, и моряки с тех пор полковника Крыжановского почитали за отца-основателя и любили не ничуть не меньше, чем финляндцы.
По выезду на тракт тотчас оказалось, что, несмотря на раннее утро, путь полностью забит беженцами. Жители Боровска, Малоярославца и ближних сёл, оставив жилища, спешили укрыться на востоке и шли всю ночь. Повозки со скарбом создали большие заторы. От ругани возниц, заполошных бабьих криков и скотского мычания окрест стоял тягостный шум.
«Решительно, сие столпотворение изрядно затруднит продвижение армии» – лавируя в людском море, с досадой думал Крыжановский.
Вдруг какой-то растрёпанный старик в крестьянской одежде, с совершенно безумными глазами, схватил лошадь полковника за уздечку и закричал:
- Ваша милость, батюшка-заступник! Оборони от проклятого Анчихриста! Ты, ваша милость, не сумлевайся, – старик замахал руками, – Бонапартий – сущий анчихрист и есть. Где прошли его полчища, землица умерла и не станет уж родить! Умерла землица-то!
Полковника поразило отсутствие укора в искренней просьбе крестьянина. А ведь мог бы и попенять служивым. Небось, намедни ещё, заставив домочадцев потуже затянуть кушаки, возил в Калугу провизию на прокорм армии.
- Не бывать дальше … э-э… Антихристу! Здесь его остановим! – молвил Максим охрипшим голосом, а затем добавил, глядя в землю, – ты уж прости, старче, что кров твой не уберегли…
Крестьянин отпустил уздечку. Но, всё же, ещё раз крикнул вдогонку своё:
- Умерла землица-то!
Крыжановский выбрался на обочину и поскакал вдоль деревьев. Странная вещь пришла ему в голову: совершенно безграмотный и бесхитростный мужик, тем не менее, сумел распознать в неприятельском нашествии сатанинскую силу. Вряд ли сей вывод явился плодом иных доказательств, нежели слова приходского священника, явление небесной кометы, да поведение земли-кормилицы. В то же время самому Максиму немалого труда стоило вытолкнуть из себя слово «антихрист». И это – несмотря на зримые свидетельства существования такового, полученные во время подсмотренного богоборческого ритуала. Что же мешает признать очевидное? Неужели всё дело в образованности, каковая порождает скепсис? Получается, что так оно и есть! Просвещённое общество, снисходительно называющее легендой библейские истины, тем не менее, легко готово верить любым словам тех, кто именует себя учёными, и кто, подобно Вольтеру, утверждает, будто ни Бога, ни дьявола не существует. При этом совершенно упускается из виду то обстоятельство, что сами учёные постоянно порождают сонмы заблуждений, противоречат друг другу и наперебой спешат опровергнуть взгляды собственных учителей. «Я знаю, что я ничего не знаю», – так сказал ученейший Сократ тысячи лет назад. И ничего с тех пор не изменилось!
Естественным образом мысли Максима перешли к поиску разгадки таинственных событий, участниками которых довелось стать им с графом. А затем его снова захватили помыслы о цыганке-чаровнице. Елена – суть величайшая тайна! И она же – ключ ко всем тайнам!
У Спас-Загорья пришлось переправляться вброд через реку Протву, так как беженцы сожгли за собой мост, дабы затруднить продвижение французам.
Внезапно громыхнул пушечный выстрел. Затем ещё, и ещё. И вот уже десятки орудий учинили ожесточённую канонаду. Наступившее утро принесло густой как каша туман, в котором скрадывались очертания окружающих предметов, а звуки меняли направление. Казалось, пушечная пальба идёт со всех сторон.
- Началось! Ну, наконец-то! – азартно крикнул Максим и пришпорил Мазурку. За ним, нисколько не отставая, последовал остальной отряд. Дорога стала уходить вверх. Неожиданно всадники вылетели на вершину пологой горки, где расположилась русская артиллерийская позиция.
Туману явно не хватило силёнок, чтоб добраться до этого места, потому обзор получился знатный. Вон он, Малый Ярославец – как на ладони: городок дворов в двести, раскинувшийся на высоком, изрезанном оврагами правом берегу тихой речки Лужи. Тут же прилепился небольшой, обнесённый белым каменным забором, монастырь. С противоположного берега через хлипкий мост лезут французы. А в самом городе кипит жаркая схватка – поднимаются белые пороховые дымы и чёрные дымы пожарищ.
- Максим Константинович! Какими судьбами? – от пушек к Крыжановскому спешил подполковник Беллинсгаузен, энергично утирая белой тряпицей закопчённое лицо.
Максим искренне обрадовался встрече. Своего секунданта он не встречал со дня памятной дуэли. Пожав друг другу руки, офицеры принялись обмениваться сведениями. Узнав, что Кутузов с главными силами на подходе, Беллинсгаузен заметно воспрял духом. Непрестанно потирая руки, он стал рисовать Крыжановскому картину боя:
- На том берегу Лужи стоит принц Евгений Богарне[114] со всем неприятельским авангардом. У нас же ему противостоит корпус Дохтурова. Ещё с нами Меллер–Закамельский[115] и Платов, но они в деле участвовать не могут: кавалерия на узких городских улицах бесполезна. Принц Евгений тоже пока не смог ввести много войск в Малый Ярославец. Это оттого, что местный городничий, молодчина, расстарался – накануне появления француза велел сжечь единственный мост через Лужу. Нынче, правда, супостат изловчился, кое-как исправил повреждения моста и прёт через реку аки безумный. Да ещё несколько его батальонов ранее сумело перебраться по узкому гребню мельничной плотины. Так что всей нашей артиллерии приказано бить неустанно по мосту и плотине. А у меня орудия, право, хороши! Полупудовые единороги[116]! Вот только кончу пристрелку и изрядно огорчу неприятеля.
Батарея дала нестройный залп, Беллинсгаузен глянул в подзорную трубу и разочарованно запричитал:
- Сущее наказание! Снова даром сожгли порох! – прытко, как молодой, он подскочил к подчинённому капитану и стал что-то с жаром тому объяснять, тыкая пальцем в диоптр[117]. Капитан согласно кивал, не вынимая при этом изо рта курящейся трубки.
Максим несколько раз сглотнул, пытаясь восстановить слух после залпа, а затем потребовал у денщика подать и себе зрительную трубу.
- А в самом городе что же? – спросил он возвратившегося Беллинсгаузена.
- Поутру 33-ий егерский ударил в штыки на неприятеля и гнал того до самого монастыря. Но, после наведения моста, французы отбили город. Наши егеря, получив подкрепление людьми и лёгкими орудиями, укрепились в Спасской слободе и оттуда пальбой беспокоят лягушатников. – Беллинсгаузен снова приник к подзорной трубе и стал водить ею из стороны в сторону. Губы подполковника беззвучно шевелились. То ли седовласый артиллерист производил в уме сложные баллистические расчёты, то ли ругался про себя, на чём свет стоит.
Крыжановский тоже вскинул подзорную трубу и стал высматривать Адама Бистрома. Английское, хорошего качества стекло не подвело, и вскоре командир егерского полка обнаружился живёхонек, правда, с рукой на перевязи. Ранение, однако, не мешало Бистрому-младшему руководить боем. Его солдаты вели беглый огонь, не позволяя противнику подняться в атаку.
С деревянной церквушки, что перстом, указующим в небо, торчала посреди слободы, ударил колокол. Звон его полился над сражающимся городом. В окуляр трубы Максим рассмотрел звонаря. Молодой монашек с испуганным лицом что есть сил колотил в набат. Эх, ведь снимут юнца вражеские стрелки! Как есть, снимут!
- Оставаясь вашим секундантом, полковник, соответственно нахожусь в нетерпении относительно результатов затеянной с Толстым дуэли, – не отрываясь от подзорной трубы, обронил Беллинсгаузен.
Максим, особо не вдаваясь в подробности, объяснил, что дуэль не кончена.
- Не кончена, говорите? – с недоброй усмешкой переспросил подполковник. – Ну, так минут эдак через пять-десять закончится всенепременно. Благоволите взглянуть…
Крыжановский уже и сам увидел то, на что обращал его внимание секундант: под колокольный звон, с развевающимися знамёнами, в город входила русская линейная[118] пехота. Возглавляли её трое – все хорошие знакомые Максима: большой и косолапый генерал Семёнов, изящный граф Толстой-Американец и тщедушный отец Ксенофонт. Семёнов вышагивал, заложив руки за спину и куря сигару. Шпага генерала не покидала ножен. Толстой, напротив, держал в поднятой руке обнажённую саблю – ту самую, что подарил Максим. Точно таким же образом нёс воздетый крест отец Ксенофонт. Солдатские ряды шли прусским шагом, держа ружья на плече.
- Вчера, изволите ли видеть, – комментировал происходящее Беллинсгаузен, – генерал Семёнов во всеуслышание заявил Ермолову: коль тот ему доверит штурм, он возьмёт город без единого выстрела. Чистой штыковой атакой. И вот, полюбуйтесь, слово своё Семёнов держит. Но какого лешего рядом с генералом делает ваш Американец, коему надлежит быть с ополчением, одному дьяволу известно. Равно мне никогда не доводилось видеть, чтоб священники впереди солдат шли в бой. Но батюшкой, как я понимаю, руководит иная сила, нежели Толстым.
Что такое чистая штыковая, объяснять Максиму надобности не было. Солдатам в таких случаях велят ружья не заряжать, держать их на плече с примкнутыми штыками, «ура» не кричать, идти молча, парадным шагом. Сблизившись на короткую дистанцию с противником, брать ружья наизготовку и бить штыком. Чисто русская тактика.
«А что же неприятель?» – Максим перевёл взор левее. За двухэтажной бревенчатой постройкой он увидел немалое скопление французов. В окнах здания тоже обнаруживалось движение. Прежде, чем их достанут русские штыки, враги успеют дать не менее двух залпов, а затем спокойно отступят к другому укрытию.
Беллинсгаузен совершенно прав: жить троице героев оставалось не более пяти минут. Со смертью Толстого затянувшаяся дуэль окончится и не будет более опасного соперника в любви. Последнюю мысль Крыжановский додумывал, уже хватая Беллинсгаузена за плечо.
- Фридрих Иванович! Прикажи развернуть пушки и дать залп по засевшему неприятелю! Не медли, дружище, время уходит!
Подполковник посмотрел в глаза Максиму, прищурился, кивнул и стал отдавать распоряжения обслуге двух крайних орудий.
Максиму казалось, что солдаты ворочают ганшпигами[119] неимоверно долго. Когда же, наконец, единороги глянули в верном направлении, он бросился к ним и принялся колдовать подле квадранта[120]. Артиллерийский капитан оборотил к Беллинсгаузену недоумевающее лицо и молча указал чубуком трубки на Максима. Подполковник пожал плечами, состроил гримасу и тоже без слов отмахнулся: пускай, мол.
В это самое время в Малом Ярославце французские стрелки высыпали из-за здания, встали цепью и дали залп по наступающей русской пехоте. В первой шеренге многие упали. Повалился на землю и отец Ксенофонт. Но тут же встал, выпрямился, поддерживаемый графом Толстым и снова поднял перед собой крест. Лицо батюшки залила кровь, но держался он твёрдо. Французы спрятались в укрытие. Следующий их залп будет почти в упор.
Покончив с наведением обоих орудий, Крыжановский медленно, будто боясь неосторожным движением сбить прицел, отступил на шаг, нащупал воткнутый в землю фитильный пальник[121] и благоговейно поднёс его к запалу. Единорог с грохотом отправил тяжёлую, сыплющую искрами бомбу в адский полёт. Вслед за первым бронзовым монстром натужно ухнул его собрат. Максим жадно приник к подзорной трубе и успел увидеть, как деревянная постройка, укрывавшая неприятельских стрелков, вздрогнула от прямого попадания двух бомб и грузно осела, превратившись в аморфную груду брёвен. Выбирающиеся из-под руин французы тут же стали напарываться на оказавшиеся теперь рядом русские штыки. В гуще сражающихся на миг мелькнул Толстой. Он поставил ногу на грудь поверженного врага и выдернул из неё крепко засевшую саблю. Тут же графа поглотила круговерть рукопашного боя и, как ни всматривался Максим, знакомой ладной фигуры более не примечал.
- Гонят! Гонят супостата! Истребляют до полного изничтожения! К самому монастырю докатились! Ура! Город теперь наш! – Беллинсгаузен, подбросил в воздух шляпу, поймал её и одарил Максима светлым старческим взглядом. – Да ты просто бог войны, замечательный мой человек!
Неразговорчивый капитан реагировал иначе: взглянув на результаты выстрелов Крыжановского, он оторопело раскрыл рот, от чего дымящаяся трубка выпала и угодила прямёхонько за отворот ботфорта. Тотчас капитан из человека степенного и молчаливого превратился в другого – бешено танцующего на одной ноге и неистово выкрикивающего ругательства.
А над округой всё нёсся и нёсся теперь уж не тревожный набат, но малиновый перезвон.
У Максима немного отлегло от сердца: Бог даст, поживут ещё на свете храбрый Американец сотоварищи. Что до собственной небывалой меткости, то она не показалась полковнику удивительной. Просто появилось ещё одно звено в цепи невероятных событий, совпадений и удач, из каковых стала состоять его некогда тривиальная офицерская судьба после знакомства с Толстым.
Хотел, было, предложить услуги в наведении батареи для стрельбы по мосту, но артиллеристы с гордостью отказались: где это видано, чтоб непрофессионал, пусть он хоть трижды гвардеец, учил их уму-разуму. Действительно, сами сумели-таки пристреляться. И вскоре от моста остались лишь плывущие по течению щепки, за которые отчаянно цеплялись утопающие французы.
- Знай наших! – ребячливо жестикулируя, радовался Беллинсгаузен, – теперь дождёмся, когда неприятель снова восстановит мост, запустит в город очередную порцию горе-вояк, после чего повторим урок. А те, кто успеет перебраться, всецело окажутся в лапах его медвежьего превосходительства, генерала Семёнова. Уж он-то болезных подерёт хорошенечко, со всей душою. Так что, покуда старый барон Беллинсгаузен способен палить из пушек, никакого успеху французу не видать.
Максим собирался откланяться, но чувственный монолог подполковника остановил сие намерение. «Уж больно старик недооценивает врага. Французы – не дураки, чтоб слепо переть в столь незамысловато расставленные сети. Значит, они попытаются каким-либо образом подавить огонь русской артиллерии, а уж потом возобновят атаки на город», – Крыжановский огляделся на местности. Будь он неприятельским военачальником, первым делом выдвинул бы дальнобойные орудия и стал палить по русским батареям. Но это – полумера. Надёжнее выслать отряды, каковые могли бы скрытно подобраться к вражеским пушкам. Рельеф тому благоприятствует – сплошные овраги. Особенно легко добраться до слободы, где засели егеря Бистрома с конно-артиллерийской батареей. Сюда посложнее, но при определённой сноровке…
- А что, Фридрих Иванович, охранение у тебя присутствует?
- А как же, голуба! Рота мушкетер! – беспечно ответил подполковник. – Сказать по чести, я тех мушкетер услал на северный склон, чтоб не путались под ногами.
- У кого, позволь поинтересоваться, чтоб не путались под ногами? У неприятеля, что ли, реши он проследовать во-о-н тем оврагом до подножья холма?
Беллинсгаузен посмотрел в указанном направлении и глаза его забегали тревожно:
- Ах, старый я осёл, уж стал выживать из последнего ума!
- После, после будешь укорять себя. А нынче – верни солдат, – поторопил Максим.
На поверку мушкетеры оказались резервной ротой Вильманстрандского пехотного полка. Капитан отсутствовал. Он, по свидетельству поручика, отстал в дороге из-за жесточайшего приступа подагры. Сам поручик две недели как пожаловал из Петербурга, никогда прежде в сражениях не участвовал, но страстно мечтал восполнить сей недостаток биографии. То же и солдаты. Среди них нюхали порох лишь двое седовласцев, проевших зубы на военной службе. Остальные прибыли с последним пополнением и вообще доселе не стреляли из ружей. Из всех военных умений могли лишь маршировать в ногу.
Глядя на «грозное воинство», Максим удручённо вздохнул. Однако же – делать нечего: коль грядёт супостат, отражать его придётся этим неумелым новобранцам. А потому, не сокрушаясь долго, полковник принялся за дело. Часть солдат поручил Коренному для обучения штыковому бою, другую часть отдал Курволяйнену – упражняться в стрельбе, чтоб хоть глаза при выстреле не зажмуривали. Самые же дремучие и непригодные к ратному делу сгодились Лермонтову при производстве фортификационных работ. Также во все стороны отправились дозорные – следить за местностью.
По прошествии короткого времени склоны холма, с вершины которого била по мосту батарея Беллинсгаузена, стали представлять собой живописное зрелище. Кругом во множестве появились засеки, рогатки[122] и волчьи ямы. Вспотевшие солдаты до изнеможения кололи штыками наспех изготовленные чучела, а иные палили почём зря по деревянным столбам. В промежутках между пушечными и ружейными залпами в воздухе слышалось:
- Делай раз, делай два…
- Заряжай, целься, пли…
Глядя на всё это, вильманстрандский поручик задался неким вопросом. Застенчиво пыхтя и переминаясь с ноги на ногу, он встал за спиной Крыжановского. Тот обернулся и спросил:
- Что у вас?
- Господин полковник, вам не кажется, что сей шум может отпугнуть от нас неприятеля?
Максим хотел ответить какой-нибудь шуткой, но за него ответ дали двое запыхавшихся солдат-дозорных:
- Французы… на конях приехали… много… все в хвостатых касках!
- Наверняка старые знакомцы – драгуны! Эти умеют сражаться как верхом, так и спешившись[123]! – высказал своё суждение Крыжановский.
Атака оказалась кавалерийской. Вне всякого сомнения, неприятель надеялся на всегдашнюю безалаберность русских и полагал, что его появление станет неожиданностью. Просчёт оказался смертельным. Лишь только показавшиеся французы стали кричать: «Vive l'Empereur![124]», Беллинсгаузен ударил картечью. Словно гребёнка, вычёсывающая блох из крестьянской бороды, прошлась картечь по кустарнику, где копошились всадники. Однако французов это не отрезвило, и они постарались одним стремительным броском преодолеть пологий подъём. Затея напоролась на немудрёные сооружения мичмана Лермонтова, каковые стали для лошадей поистине непреодолимой преградой. Пришлось драгунам спешиваться и растаскивать деревянные колья.
За этим занятием их застал второй, ещё более убийственный, картечный залп. Немало всадников лишилось своих коней, попав в ямы-ловушки. Тех же, кто, несмотря на все трудности, сумел достигнуть вершины холма, ожидало русское пехотное каре, стреляющее в упор…
Среди врагов Максим разглядел подполковника Кериака. Но этот ненавистник тут же пал, сражённый градом свинца.
- Бессмысленный был человечишка, – пожал плечами Максим, – но умер с честью, как солдат! Видимо, решил внять доброму совету, хоть и не полностью. Предупреждали же, чтоб не приближался на пушечный выстрел…
Вскоре всё закончилось. У русских полегло 9 человек, и 12 было ранено. Французские потери составили только убитыми больше сотни, да столько же ранеными. Пленных набралось с десяток. Среди них Максим увидел знакомого солдата – из тех, что памятной ночью сопровождали дуэлянтов.
- Братья Белье? – коротко спросил полковник, которого интересовала судьба новоявленных Каина и Авеля.
Напуганный француз объяснил, что оба офицера сразу после дуэли исчезли, и знать о себе более не давали. Дальше расспрашивать пленного не имело смысла, потому Максиму пришлось оставить тему исчезновения братьев открытой.
В Малом Ярославце тем временем неприятель также предпринял скрытую атаку. И с большим успехом: удалось вытеснить русских из Спасской слободы. На колокольне, среди верёвок, словно ласточка, запутавшаяся в силках, висел мёртвый монашек.
Максим отогнал от себя тревожные мысли о судьбе Бистрома, Толстого и остальных. Бой за батарею сильно измотал полковника, но оставалась несделанной рекогносцировка. Потому, распрощавшись с добрейшим Беллинсгаузеном, Крыжановский отбыл в сопровождении своего отряда к Немцово, что лежало на две с половиной версты южнее. Там он до самого подхода основных сил занимался разметкой будущих фортификационных сооружений.
Глубокой ночью сделалось известно, что в продолжение дня Малый Ярославец восемь раз переходил из рук в руки и, в конце концов, полностью сожжённый, остался за французами. Последнее обстоятельство, впрочем, важности не имело: армия Кутузова твёрдо встала полукольцом на укреплённых позициях, совершенно отрезав неприятелю путь вглубь Империи. У Наполеона не оставалось сил прорвать русскую оборону. И Наполеон отошёл. Впервые в жизни Император французов отступал перед лицом ожидавшего его неприятеля. Малый Ярославец, стяжав великую славу, стал последним русским городом, до которого докатилось нашествие Антихриста.
Глава 15
Rendez-vous
13 (25) октября 1812 г.
Позиции русских войск близ села Немцово в нескольких верстах от уездного города Малый Ярославец.
Как ни хороши городские квартиры, сделанные на манер европейских, но Максим всегда чувствовал нутряную тягу к чему-то иному. И вот теперь, сидя возле грубого стола в собранном за три часа бараке, с полом, на аршин утопленным в землю, оставалось молча признать преимущества практического ума над идеалистическим.
Полковника трясло в лихорадке, он изредка чихал, при этом всякий раз сипло ругаясь. Протва, будь она неладна! Мелкая – воробью топиться речка, каковую перемахнул вброд и даже не заметил, взяла да одарила жестокой простудой.
Совсем пришлось бы пропадать, кабы не забота верного Ильюшки. Вкусный чад готовящейся каши, что рвётся от котелка под застреху, горячая вода в кадке, приятно щиплющая босые ступни – это ли не возвращающий здоровье уют?
С благодарностью принимая суету денщика, Максим все-таки бесился – еще бы! – столько дней потеряно из-за гнева фельдмаршала! Потом случилось дело, и вот, казалось бы, препоны устранены, можно видеться с Еленой, но табор отчего-то задерживается. Не спешит Лех Мруз. Видно, не хочется старому расставаться со своими тайнами.
Зато одичавший под арестом Толстой терзаем несносными порывами.
Любовь чудесна и скромна, Корыстей ей не надо; За нас в огонь пойдет она – С ней Рай и в безднах Ада!Услыхав стихи Уильяма Блейка, положенные на пошлый мотивчик солдатской строевой, Максим поморщился – раньше Фёдор не шёл дальше декламации, нынче же потерял всяческое чувство меры и, о, ужас! – запел.
- Как же так, Максим Константинович?! – крикнул Толстой, врываясь в барак. – Угораздило же тебя!
Красный угол принял чуть насмешливый, но вполне учтивый поклон Американца.
- Не говори, дружище! – гнусаво рыкнул Крыжановский и, с трудом удержавшись от чиха, продолжил. – Отродясь так не хворал!
Толстой усмехнулся, доставая из-под полы бутыль с мутной красноватой жижей.
- Что это? – подозрительно поинтересовался больной.
- Водка с кайенским перцем, – таинственно подмигнул граф, – матушкин фамильный рецепт.
- Микстура, коей тебя пользовали во младенчестве?
- Пей, не разговаривай, – уверенно посоветовал Фёдор, поднося полковнику налитый до краёв лафитник.
Горестно вздохнув, тот глотнул жгучего зелья.
- Ай, молодец, витязо! – С цыганским придыханием возопил Толстой. – Смотри-ка, даже не поморщился.
«Это чтоб тебе на язык не попасться!» – подумал Максим, борясь с возгоревшимся внутри пламенем, вслух же осведомился:
- Ужель разочаровал, Теодорус?
С мягким шелестом поднялся парусиновый полог, впуская денщика. Торжественно и осторожно Ильюшка внёс обёрнутый полотенцем глиняный горшок. Из-под крышки вырывался густой пар.
- Картошечка, вашвысбродь! – провозгласил Курволяйнен. – Матушка завсегда из меня хворь ею выгоняла. Извольте прикрыть головочку полотенечком и подышать парком. Враз полегчает.
Поставив горшок на стол, денщик с глубокомысленным видом опустил палец в воду, что грела ноги полковника, и поспешил за очередной порцией кипятку.
Максим накрылся полотенцем и приник к горшку с картошкой. Граф же стал развлекать товарища повествованием о похождениях в Малом Ярославце.
- Я ведь не собирался идти в атаку. Это всё отец Ксенофонт! Стоило покинуть hauptwache, как сей одержимый пристал с нравоучениями. Я возьми и расскажи про Орден.
Полковник показал заинтересованное лицо из-под полотенца.
- Ты бы видел, Максимус, что сделалось с батюшкой, – Американец выпучил глаза. – Святой отец препоясал чресла и возжелал немедленно отправиться на битву с Антихристом. Пришлось идти в бой вместе с ним, не бросишь же старика. Ох, и славно повоевали, скажу я тебе! Гнали неприятеля так, что только пятки сверкали. Эх, кабы итальянцы не полезли…
Граф осёкся, потому что в бараке внезапно потемнело. То прибыл с визитом генерал Семёнов.
- Дай обниму, Максимушка! – радостно заревел генерал. – Я тут старого Беллинсгаузена повстречал. Живописал он мне твою меткость. Да, уж! Кланяйся в ножки, граф. Перед тобою спаситель наших душ.
Крыжановский накрылся полотенцем. Ему совершенно не улыбалось с заложенным носом пускаться в россказни. Зато Семёнов сделал это с превеликим удовольствием. Максиму осталось лишь добавить эпизод с гибелью Кериака.
- Совсем забыл, – вскричал граф. – Вернер ведь тоже сложил голову под Малым Ярославцем. Верите, господа, в моей практике такое впервые, чтоб секундант следовал на тот свет прежде кого-то из дуэлянтов. Что сей факт может означать?
- Очевидно, дуэль наша, Фёдор, становится смертельно скучной для её участников, – заявил Максим и оглушительно чихнул. – Видишь, правду говорю.
- Ой, я тоже позабыл кое-что… – генерал заговорщицки подмигнул и добыл из-за пазухи небольшую баночку толстого синего стекла. – Медвежий жир. Матушка-покойница говаривала, нет на свете лучшего растирания при простуде… Чего это вы, господа? Разве я сказал нечто смешное?
****
Время приближалось к полуночи, у входа в барак беспокойно слонялся Ильюшка, с одной стороны раздираемый чувством любви к хозяину, а с другой – робостью перед генералом Семёновым.
- Доложу я вам, господа, хорошо сидим! – меж тем вещал генерал. Он уже сгонял ординарца за выпивкой и совершенно не собирался покидать уютный барак.
Фёдор с Максимом беспокойно переглядывались: табор задерживается!
- А не поехать ли нам к цыганам? – будто прочитав мысли компаньонов, спросил Семёнов хмельным голосом.
- Какая замечательная мысль! – кивнул Толстой, а на удивленный взгляд Максима неопределенно пожал плечами. – Только сделаем это утром! Ночных вылазок с меня хватит! Заходите часов в девять, генерал! А сейчас – баиньки!
Управляться с Семёновым Толстой выучился мастерски, потому сумел выпроводить его превосходительство наружу и, в весьма смирном состоянии, передать на руки ординарцу, что дожидался подле солдатского костра.
- Едем сейчас! – крикнул Максим, как только граф вернулся. – Меня томят нехорошие предчувствия.
- Полно, mon colonel! Табор наверняка встал на ночлег. Неужели ты собираешься ворваться в шатёр и потревожить её сон? Что за дурные манеры? Да за такое и кнутом получить можно. Отправимся на рассвете, изволь к тому времени прийти в надлежащее состояние, чтоб не оскорблять даму беспрерывным чихом. Снадобий у тебя предостаточно.
Граф встал, отвесил церемонный поклон и отошёл в сторону, пропуская к полковнику денщика со жбаном кипятка.
Ночь не принесла успокоения. Оба влюблённых спали плохо и проснулись задолго до рассвета. Когда Американец заглянул к Крыжановскому, тот уже оделся и пил чай. Выглядел полковник вполне сносно.
- Я твоему гренадеру велел собираться! – сказал Толстой, поздоровавшись.
- Коренному? – спросил Максим. – Но зачем?
- На всякий случай. Вспомни про вчерашние предчувствия. Мне, кстати тоже не по себе.
Меньше, чем через четверть часа тронулись – ехали молча.
Дядька Леонтий, видимо, памятуя прошлую вылазку, в этот раз набил полный сидор[126] пуль, пороха и припасов.
Дорогу со всех сторон обступали изглоданные осенью деревья: лысые изогнутые стволы с раскинутыми ветвями походили на покосившиеся кресты, отбрасывая на светлое утро тяжелую сень.
Все кутались в шинели - околевшее сукно наждаком скребло кожу. Курволяйнен очень тихо жаловался на превратности судьбы, дядька Леонтий молчал, не отрывая глаз от дороги. Напряжение и скованность сквозили в каждом движении всадников.
Любовь корыстна и жадна! Покоя нас лишает, Все под себя гребет она – С ней Ад и в кущах Рая![127]Грустно пропел Толстой ни с того, ни с сего. Максим недоуменно оглянулся на друга.
Лес поредел, тракт неожиданно раздался вширь, заставив компаньонов рвануть поводья на себя.
Цыганский обоз загораживал проезд. Длинный состав кибиток замер на секунду, чтоб тут же продолжить путь. Передний возница соскочил по нужде в кусты, прочие же для тепла попрятались за пологи. Так показалось…
…Справа что-то извернулось и заворчало, взгляды метнулись к канаве.
Медведица с перебитым хребтом скребла когтистой лапой тележное колесо и едва слышно скулила. Клочья шерсти, жухлая трава и комья грязи мешались коричневой массой в широкой кровоточащей ране. Полные боли глаза умирающей зверюги смотрели на людей с удивлением, мол, их-то она хотела видеть меньше всего!
Река Хроноса натолкнулась на плотину, возведенную самоуверенным, но храбрым строителем. Секундная заминка и запруду смыло, не оставив и щепы. Время понеслось еще стремительнее, чем прежде. Теперь цветастые платья цыган служили своего рода маяками, позволяя убедиться – не ушел никто! Одних настигли цельные выстрелы неизвестных стрелков, других – неотвратимые сабельные удары верховых. А что били именно с лошади, для Максима раскрылось почти тут же. Не нужно быть полицейским, чтоб заметить, что все тела поражены либо в голову, либо сильным ударом развалены от плеча до пояса.
Оторопь взяла компаньонов. Коренной за спиной громко выдохнул ругательство. В мгновение вылетев из седел, Толстой и Крыжановский понеслись к самой дальней кибитке, безошибочно распознав нужную. Все прочее утеряло остроту.
Мимо попадаются убитые цыгане, пару раз – серые плащи нападавших, из-под телеги выглядывают мёртвые руки, сжимающие безжалостно растоптанную скрипку. По всей прогалине – трупы лошадей, посеченные пулями. Выломанные оглобли тыкаются в ноги бегущим. Американец с трудом сохраняет равновесие, споткнувшись о вырванный шкворень, но боли не чувствует – бежит, не останавливаясь.
Вот оно! Яркий полог с заплатками отметается в сторону, но внутри никого, только солнечные лучи бьют через десяток крохотных дырок.
Максим отпрянул, огляделся кругом и охнул. Следом за кибитку заглянул и Толстой – в паре шагов лежал знахарь Лех Мруз. Могучий сабельный удар снёс старику верхнюю часть головы вместе с мозгами.
«Кто же он – страшный искусник, сотворивший сие?» – потрясённо подумал Максим.
- Что, старый шаман! – Проговорил Американец зло. – Надеюсь, теперь ты доволен! Как же, обвёл гажё вокруг пальца. Приезжайте в следующий раз, отвечу на все вопросы! Вот мы и приехали! Так чего же ты молчишь, провидец?
Крыжановский шумно дышал, и в ровных вздохах присутствовало едва ли не больше злости, чем в гневной речи Толстого.
В стороне от дороги поднялась человеческая фигура и направилась к ним. Американец выхватил пистоль, а Максим положил руку на рукоять сабли. Восставший походил на мертвеца, по голове из-под шапки текла густая кровь, ноги подкашивались, грозя в любой момент подломиться.
- Райе! Райе! – послышался хриплый зов.
Толстой, первым узнавший в раненом Виорела Акима, поморщился и мысленно возмутился божьему промыслу: «Это же надо?! Из стольких людей оставить жизнь именно сопернику в любви?! Будто одного полковника мало?!»
Баро имел весьма жалкий вид, вся гордость ушла, лишь глаза по-прежнему изливали в мир непроглядную тьму. Голос не слушался, плавая от баса до фальцета:
- Ай, жюкляно шяве! Дарано кутари! У-у-у, курш! Полцыцко жюкли! Кэрав тукэ ме! – раненый выкрикивал непонятные проклятия и грозил небу.
Толстой встряхнул цыгана и спросил единственно важное:
- Где Елена?!
Вместо ответа Аким заплакал навзрыд.
- Елена! Елена где?! – с окаменевшим от горя лицом процедил Толстой. – Убили?
От этого короткого слова – «Убили?» – Максима бросило в холод. - Убили? Убили?
- Най! – покачал головой цыган. – Инкэ наймишто, рай! Еще хуже, барин! Сгинула Еленик! Камнем пропэдисавив андо пай баро!
Граф хотел задать еще несколько вопросов, но тут Аким что-то вспомнил и вскочил.
- Лада Вайда! Лада! Сундук, баре! – захрипел цыган и, шатаясь, поплёлся к повозке знахаря. Мимо тела старика он прошел равнодушно, словно не замечая. Разбирая вещи в кибитке, нудно принялся причитать: «Лада! Лада! Лада Вайда!»
- Не это ли ищешь, любезный? – окликнул его Американец и указал на старый сундук с оторванной крышкой, валяющийся поодаль.
- Драгэ Девла![128] – прошептал Аким и стек по борту телеги на землю. – Драгэ Девла!
Курволяйнен и Коренной стояли у лошадей с оружием наизготовку. Две пары глаз внимательно оглядывали лес, ожидая нападения в любую минуту. Посмотрев на них, стряхнул оцепенение и Максим.
- В погоню, граф! – сказал он ровно. – Брось этого несчастного, какой от него прок? Польские друзья должны умереть сегодня! А она…, она не должна узнать неволи. Иначе на кой ляд сдалась наша любовь! Вперед!
- Погоди, Максимус! – остановил друга Американец. – Вождь, хоть и лишившийся ума – единственный свидетель всего, что тут случилось. Быть может, мы не знаем чего-то важного! Чего-то, что сможет изменить не только наши планы, но и жизни! Мы даже не ведаем, в какую сторону ускакали враги. Где прикажешь искать?
Максим нетерпеливо пожал плечами: «Вчера граф тоже удерживал, вон, что из этого вышло!». Тем не менее, вслух говорить ничего не стал, ибо не видел смысла усугублять и без того сильную боль товарища. Американец же продолжил допрашивать Акима. Тот постепенно приходил в себя. И, по мере этого, начинал членораздельно говорить.
Цыгане собирались добраться до русских биваков ещё засветло. Но у одной из кибиток сломалась ось. С починкой пришлось изрядно повозиться – закончили лишь при свете факелов. И, как только продолжили путь, произошло нападение.
- Как они выглядели, баро? – Допытывался граф.
Аким закрыл глаза и кивнул:
- Насулимос[129]! Орден! Вы с ними уже встречались.
- А старого Мруза кто зарубил? Ты видел? – задал вопрос Крыжановский.
- Мартя! Смерть! Бледный такой. Они его зовут – генераль.
Максиму вспомнился уланский полковник, ушедший от пули у смолокурни. «Вот, значит, кто на самом деле таинственный генерал-поляк. А вовсе не Понятовский».
- Да, Максимус, выходит мы тогда, в Москве, обмишурились. Взяли неверный след и гонялись не за тем человеком, – подтвердил догадку Толстой. – Вот так дуэль у нас вышла!
- Теперь-то уж не ошибёмся! – сквозь зубы процедил полковник. – В какую сторону они направились? Говори, цыган!
Но Аким не ответил, а лишь схватился за окровавленную голову и горестно застонал.
- Ты сам-то как выжил, вождь? – с несвойственной теплотой в голосе спросил Толстой.
Виорел Аким стянул шапку-кэчулу и показал металлическую подкладку.
- Мартя бил крепко, но про это не знал.
- Вот черт хитрый! – восхитился граф. – Стало быть, кровь не от клинка, а от своей же железной шапки.
«Что же у этого Марти за удар? – на краткий миг Максим испытал нечто вроде неуверенности. Вспомнились слова из сна: ваш рыцарь бит, жрица, никак ему против смерти не устоять! Ну, это мы ещё посмотрим, баро ведь устоял!» – Максим решительно повёл плечами и сказал:
- Видать, Бог тебя полюбил, цыган! Раз ты в дорогу эту шапку напялил!
Вождь покачал раненой головой и скривился от боли.
- Вайда Мруз сказал мне: «Надень шапку! Холодно!»
- Мда… – протянул Толстой пораженно. Не соврал, старик. Неужели, и правда будущее прозревал? А чего ж себя не спас?
Вопросы Толстого ни к кому не обращались, на них никто и не ответил.
- Что в сундуке было? – спросил Крыжановский.
Глядя мутным, страдальческим взором перед собой, Аким ответил:
- Буфари вунжиря! – и поправился. – Великая цыганская Книга!
Полковник вздохнул и обернулся к графу.
- А я-то решил, что Pechbrennereifall[130] на время остановит людей Ордена! Ох, болван я, болван! С чего бы им, гнавшим цыган столько времени, взять и оставить затею, потеряв один отряд! Да у них этих отрядов, небось, как грязи…
- Не скажи, Максимус, – прервал Толстой. – Посвященных не может быть много! Тогда пропадет сам смысл избранничества!
- Однако в отряд не обязательно набирать первостатейных «эзотериков» – нужны лишь послушные исполнители!
- Тоже верно… – согласился Американец – Кроме того, ведь мы лишь теперь знаем наверняка, что это именно Орден охотился на цыган! Проклятый старик отнекивался до последнего! Как мы могли помочь?!
- Мы могли помочь! – убежденно сказал Крыжановский. – Мы могли охранить Елену!
Прислушивавшийся к разговору цыган после этих слов взвыл и рухнул в пыль.
- Прекрати, вождь! Прошу тебя! Обойдемся без твоего и моего скоморошества, – прикрикнул Толстой.
Но Виорел Аким не слушал, громко всхлипывал и сопел.
Внезапно почти обезглавленное тело Леха Мруза вздрогнуло, медленно приподнялось и село в луже крови. К ужасу присутствующих, рот старика отчётливо произнёс:
- Подойдите ближе, мне тяжело говорить!
Глава 16 Книга Судьбы
14 (26) октября 1812 г.
Разгромленный цыганский табор.
Никто не двинулся с места.
- Подойдите, мне многое нужно сказать, а силы уж на исходе! – повторил Лех Мруз.
Напряжением воли, Фёдор первым сумел преодолеть оцепенение и сделать несколько шагов по направлению к ожившему мертвецу. За графом последовали остальные.
- Не знаю, какая сила удерживает тебя на краю могилы, старик. Но, похоже, ты решил выполнить данное нам обещание. Надеюсь, хоть теперь не станешь темнить и, наконец скажешь, чёрт возьми, из-за чего проклятый Орден учинил сие бедствие? – широким жестом Толстой обвёл разорённый табор.
- Ради того, чтобы вы, витязо[131], узнали правду, моя ди[132], то есть душа, всё ещё цепляется за бренные останки, – голос Мруза был слаб и едва слышен. – Так легли карты, что именно вам выпало биться с Орденом. В незапамятные времена, когда о них впервые услышали мои амарэ дада[133], это были халдейские маги, прозывающиеся Алым Советом. Первородное зло, внушенное Еве змием-искусителем – их религия. Недостойный Нимрод-богоборец – их прародитель. Проклятый Господом Вавилон – их родина. Людская гордыня, неистребимое стремление глупцов к запретному – их питающая сила. Противление Божьему замыслу – их цель.
Слушатели по-разному воспринимали слова обезглавленного. Раненый Виорел полулежал, скорбно прикрыв глаза. Солдаты молчали, будучи всецело во власти мистического страха. Иногда, как по команде, оба осеняли себя крестным знамением. Полковник Крыжановский тоже испытывал оторопь. «Этого не может быть!» – повторял он про себя как заведённый.
А графа Толстого происходящее, напротив, казалось, забавляло. Он спокойно покуривал трубку и задорно поглядывал на изуродованное тело некогда благообразного старца. Тот продолжал:
- Но, обо всём по порядку. Начну с самого начала. После того, как Адам и Ева нарушили Божий запрет и были изгнаны, их потомки не пожелали усваивать сей урок и нисколько не постарались измениться. Они всё больше и больше погрязали в скверне. В конце концов, Господь раскаялся в том, что создал род людской и наслал Великий Потоп. Только Ноя, Сима, Хама и Иафета с жёнами пощадил…
- Сия история хорошо известна, – перебил Американец, – её нам в детстве втолковали так, что лишний раз слушать нет мочи. Мы с Максимусом люди образованные, потому прошу не останавливаться на подробностях, а то не ровён час, старик, ты покинешь мир живых, а самого важного сказать так и не успеешь.
Страшный говорящий скривил бескровные губы в подобии улыбки и продолжил:
- Не сомневаюсь, что, как люди образованные, вы слышали о древнем Египетском царстве, которое теперь, вот уже многие столетия погребено под песками. Да будет вам известно, что я и Елена, мы оба – потомки жрецов Египта и хранители сокровенных знаний великой, потерянной родины. Ваши учёные занимаются тем, что воруют у природы тайны или вырывают силой. Наши же знания – не украдены, но получены из рук божественного посланца – Тота, которого эллинам угодно именовать Гермесом Трисмегистом.
- Охотно верится! Если уж ожил человек, коему снесли сабельным ударом большую часть головы вместе с мозгами, то от чего бы не ожить и языческому богу, – вставил слово циничный Американец.
Лех Мруз, нисколько не смутившись, продолжал:
- Все допотопные науки, искусства и достижения, как вредные, так и полезные, оказались утерянными. Манушыканимос[134] начинало историю с чистого листа. Миссия Тота – Гермеса, трижды великого, заключалась в том, чтоб научить людей нужному и важному, и не допустить распространения скверны, приведшей к потопу.
- Говори понятнее, так, чтоб тебя можно было разобрать. А то сплошные «амадады» и «маношыкуниусы». И что это за скверна такая, про которую ты всё толкуешь? – опять перебил Толстой.
- Противление божьему замыслу – вот скверна. Наряду с прочими грехами, речь идёт о…, – старик помедлил, подбирая русские слова, – …волшебстве, астрологии, алхимии и иных подобных беззакониях. Я называю их беззакониями не случайно. Ежели цыган сведёт с крестьянского подворья коня, то это будет нарушение закона, установленного людьми. Цыгана могут поймать и наказать, а могут и не поймать. Если же волшебник начнёт летать по небу или алхимик превратит свинец в золото, то это уже будет нарушением не человеческих, но Божеских законов. В этом случае и вред больше, и наказание неотвратимо.
- Ха! – вскричал неуёмный Американец. – Всё точно! Помнится, во времена безмятежной кадетской юности довелось мне совершить полёт на воздушном шаре. Вот это, скажу я вам, судари мои, было беззаконие, так беззаконие. А когда кинулись меня наказывать, то я просто плюнул в глаза начальнику, полковнику Дризену. И дело между нами кончилось дуэлью. Помнишь, Максимус, я декламировал Денискины вирши и обещал поведать ту давнюю историю в более уместной обстановке? Так вот, после полёта на воздушном шаре, вернулся я в казарму, а Дризен мне давай нравоучения читать, дескать, не имел я без его соизволения…
Крыжановский слушать не стал, а так крепко сдавил предплечье графа, что тот вынужден был умолкнуть.
- Это – не беззаконие, – теперь в голосе умирающего явственно слышалась хрипота, из чего становилось ясным, что конец уже близок. – Воздушный шар поднимается вверх, будучи наполненным тёплым воздухом, а не посредством магии. Здесь лишь искусное использование законов природы, но не их нарушение. Но слушайте же дальше, а то действительно можно не успеть сказать всего.
- Египетское царство под присмотром Тота, трижды великого, создавалось как оплот закона, добра и справедливости на земле. Верховная власть принадлежала жречеству, которое правило, исходя из умственного превосходства и глубокой мудрости. Первые фараоны, пройдя инициацию, не допускали жестокости по отношению к простому народу. Деспоты же изгонялись.
Старик застонал, но, собравшись с силами, стал говорить дальше:
- Так было в Египте. Иное делалось в стране Сеннаар, позже получившей известность как Вавилония. Внук Хама, Нимрод, сказал, что сможет защитить народ, если Бог решит наслать новый потоп. И велел на равнине Сахн строить башню, чтоб она была выше любой горы и доходила до самого неба, куда бы не могли достать воды потопа. Господь, смешав языки строителей так, что те перестали понимать друг друга, не позволил свершить безумство, но с тех пор носители мятежного духа не оставляли попыток завершить задуманное. А гордый Нимрод, возомнивший себя равным богу, умер от простого укуса мухи.
- Зиккурат Этеменанки – таково название башни! В разные времена её то разрушали, то воззидали. Вся история Вавилона связана с этим символом богоборчества. На его строительство пошло восемьдесят пять миллионов кирпичей. Покоился он на высоком каменном основании и имел семь ярусов. Первый – цвета кало, чёрный, второй – красный, третий, четвёртый, пятый и шестой – белые. Седьмой же выложили бирюзовыми глазурованными плитками и увенчали золотыми рогами.
Услышав детальное описание дьявольского сооружения, Максим согласно кивнул. Давешний сон, где, помимо уступчатой рогатой башни присутствовала смерть с косой, скрипела виселица, и слышался голос прекрасной Елены, нынче полностью сливался с реальностью. Соответственно, полковника совершенно перестало беспокоить то обстоятельство, что у говорившего, мягко говоря, не достаёт некоторой части головы. Уж кого-кого, а мертвецов с ужасными ранениями в его сновидениях хватало.
- Вокруг зиккурата Этеменанки вырос зловещий храмовый город – Эсагила, отделённый от остального Вавилона высокой каменной стеной, – продолжал свой рассказ Лех Мруз. – За этой стеной творились чудовищные непотребства. Именно там, в Эсагиле, родились такие изобретения, как некромантия – вызов душ муло… мёртвых, сношение со злыми духами, человеческие жертвоприношения, чародейские заговоры на смерть, сглаз, мистика цифр, гороскопы. Упование на Бога, на молитву, халдеи отрицали полностью. И проповедовали веру лишь в собственные силы человека, уверяя, будто посредством постепенного добывания знаний люди, рано или поздно, низвергнут власть Бога и обретут собственную власть, подобную божественной.
- Постой, цыган, – не удержался от вопроса Максим, – как могло случиться такое, что потомки Ноя-праведника стали богоборцами? Неужели никто из вавилонян не увидел, что жрецы лгут?
- О, Ной и его семья были выходцами из злого допотопного мира. В их потомках проросли семена богоборчества. К тому же, Алый Совет придумал мэндро…, то есть, хитрый способ обмануть глубинную человеческую веру, ту, что дремлет до поры, но в трудные жизненные моменты даже самого закоренелого грешника побуждает творить молитвы. Народ получил ложных богов. Обычные природные силы и естественные человеческие страсти стали этими богами. Верховным божеством назвали Мардука. Зиккурат Этеменанки имел такое устройство, что нижние ярусы – храмы – посвящались низшим богам, верхний же этаж – Мардуку. В башню обычные люди не допускались. А каждый посвящённый эзотерик знал, что, взобравшись на последний ярус, он найдёт там не статую Мардука, не святилище его, но большое и просторное ложе, на которое не возбранялось возлечь. Таким образом, символизировалась идея о том, что, обретя власть над знаниями, стихиями и страстями, человек поднимется до небес и станет подобен Богу.
«Как мог мудрец с такими познаниями показаться мне простым необразованным цыганом? А Елена – она что, тоже никакая не цыганка?» – мысленно задался уместными вопросами Максим.
- Увы, – продолжал старик, – простые вавилоняне не были осведомлены об истине и поклонялись Мардуку – божеству, коего они никогда не видели, и коего никогда не существовало. Мерзкая эта ересь, окончательно подчинив себе Вавилон, стала распространяться по свету. Эзотерики, прошедшие школу Эсагилы, отправлялись затем в соседние страны — Элам, Мидию, Ассирию. Там они растлевали умы и постепенно брали верх над местной религией, насаждая язычество для большинства жителей и безбожие для властной верхушки. Везде, где обосновывались халдеи, вырастали ступенчатые зиккураты, подобные Вавилонскому, но меньших размеров. Если же какие-то народы противились новой вере, Вавилон посылал армию.
Старый Лех мучительно закашлялся, а потом долго ещё, страшно сипя, восстанавливал дыхание. И, лишь только это ему удалось, продолжил:
- Когда маги Алого Совета пришли в Египет, жрецы Серапиума, храма нашей веры, оказались идейно не готовы к противодействию. И вскоре на земле, слышавшей некогда шаги богоподобного Тота, поднялись, словно поганые грибы, всевозможные культы. Люди как безумные стали поклоняться барану – Хнуму, крокодилу – Себеку, шакалу – Упуауту, собакам, кошкам, даже навозным жукам. Фараоны, в чьи уши обильно потёк сладкий яд лести, больше не слушались голоса разума и, будучи одержимы гордыней, один за другим объявляли себя богами. Материальным символом их гордыни стало строительство гробниц. Каждый фараон старался затмить предшественника и возвести себе наиболее величественную усыпальницу. Додумались даже мрачные допотопные пирамиды переустраивать под погребальные нужды. Некогда единое и могучее Египетское царство распалось. Наверное, скверна, в конце концов, накрыла бы всю землю и навлекла на человечество новый потоп, если бы не благословенная прозорливость Трижды Великого и столько же раз благословенного Тота. Уходя в мир иной, а это случилось задолго до прихода вавилонян на землю Египта, Тот предвидел, во что могут вырасти семена зла, кои не смыло потопом, и создал тайное оружие. Это оружие Божественный посланец оставил жрецам Серапиума.
- Знаю, это сабля, чей клинок подобен лунному серпу. Я видел её во сне, – уверенно заявил Максим.
- Сабийа[135]? – удивился Мруз. – О нет, это не сабийа! Умоляю, не спрашивайте почему, но так заведено свыше, что зло всегда наступает, а добро вынуждено защищаться. Оружие Тота служит для защиты и применимо лишь тогда, когда зло переходит всякую грань и угрожает окончательным порабощением рода людского. В остальных случаях оно бездействует.
- Что же это за оружие такое?! – воскликнул Американец.
- Буфари вунжиря, то есть Книга судьбы, если по-русски! – торжественно провозгласил Лех Мруз. – За ней и гоняется Орден Башни.
- Весьма интересно! – продолжил гнуть свою линию граф. Всякие системы оружия повидал. Но книга? Сделай милость, мой покойный друг, открой тайну, как этой ужасной штукой сражаться, а то ведь нет ни малейшего представления. Не ровён час, кто-нибудь, – Толстой метнул лукавый взгляд в Максима, – возьмёт и выберет дуэль на этих ваших буфарях, он же меня прикончит как ягнёнка.
- Ррусыцко[136]! – не смог сдержать гнева Виорел Аким. – Ты говори, да не заговаривайся. Поимей уважение, а не то живо получишь шюри[137] в спину.
Фёдор обернулся и обнаружил, что цыганский барон сжимает в побелевших пальцах тусклый, как рыбья чешуя, короткий клинок. Того и гляди, порхнёт этот ножик в воздухе, да и угнездится промеж лопаток. Граф поёжился, нарочито испуганно поднял вверх обе руки, но дерзкие, непочтительные речи всё же решил до времени оставить. Это дало возможность Мрузу продолжать повествование. Старый жрец торопился, и слушатели едва успевали за ходом его мысли.
- Буфари вунжиря, известная также как Изначальная колода карт Тарот! Что же она такое? Книга, состоящая из семидесяти восьми драгоценных листов, на которых начертаны судьбы всего мира. Раскрывший книгу и проникший в её священную тайну, может провидеть грядущее. А ежели составлен заговор против промысла Божьего, Книга просыпается и становится не только средством предвидения, но и грозным оружием – с её помощью становится возможным вести рискованную игру, влияя на судьбы целых народов и отдельных людей.
Описание похищенного сокровища вызвало у Виорела Акима звериный вой. Мёртвец же продолжал, не останавливаясь:
- Раньше тоже бывали случаи, когда Книга подвергалась угрозе. Египетская жрица по имени Каранет, да будет она проклята до конца времён, в чьём ведении находилось толкование судьбы по изначальным картам Тарот, страстно влюбилась в молодого македонского царя Александра, завоевавшего Египет. Она знала, что её возлюбленный – игрушка в руках эзотериков и решила его спасти. Использовав Книгу Тота, Каранет изменила судьбу Александра Македонского и бежала из Серапиума в стан врагов. Увы, всё закончилось плачевно. Сама жрица погибла, македонец лишь на время сумел выбраться из-под опеки эзотериков, а эти последние узнали о существовании Книги Тота. К счастью, тогда моим предкам удалось спасти Буфари вунжиря. Но им пришлось навсегда покинуть Египет. Преследуемые по пятам македонской армией, Носители Книги уходили всё дальше и дальше на восток, унося с собой великую реликвию. В конце концов, дорога привела жрецов в Индию, где их приютило многочисленное племя цыган. Из-за тех изменений, которые совершила Каранет, остановить Александра Македонского удалось лишь тогда, когда он обосновался в Вавилоне и повелел восстановить зиккурат Этеменанки, разрушенный персами. Это решение полководца оказалось последней каплей… Александр, присвоивший себе статус Божьего сына, умер от простого комариного укуса. Вавилонскую башню с тех пор так никогда и не восстановили, а эзотерики создали тайный Орден Башни. О, башня превратилась просто в символ. Главная забота Ордена – охота за Книгой Тота, что служит непреодолимым препятствием для богоборцев.
- А как Книга определяет время, когда ей надлежит проснуться? – спросил Максим, воспользовавшись тем, что Мруз на время замолчал.
- Её пробуждает страж, Шепес–Анх. Страж сей нематериален, он представляет собой волю божественного Тота, которая постоянно незримо присутствует на земле и следит за равновесием. Разумом эта сила не обладает, только чтит границы дозволенного.
- К чему такие сложности, – отозвался Американец, который не умел долго хранить молчание, – не проще ли было сделать так, чтоб Книга всегда бодрствовала? Глядишь, удалось бы избежать множества бед…
- О, великий Тот хорошо изучил людскую природу. Стремление к запретному есть неотъемлемое качество любого из нас. Жрецы – не исключение. Доказательством тому служит предательство неразумной Каранет. А теперь услышьте, как при помощи Буфари вунжиря можно остановить победное шествие Вавилона. У халдеев во все времена существовала излюбленная тактика порабощения народов. Найдут какого-нибудь недовольного младшего сына из королевской династии или амбициозного военачальника и, при помощи убийств, интриг или других недостойных методов приводят его к власти. Далее немного лести, и вот уже готов очередной великий завоеватель, жаждущий объединения мира под своей рукой. На деле же получался лишь послушный исполнитель чужой воли. Много их было, таких, за прошедшие века, но ни один не выполнил задуманного. Ни один! При помощи Книги жрецы-хранители неизменно выигрывали. Правила игры просты: первый ход за фигурой, нарушившей равновесие. Тогда Книга вводит в игру тех, кто способен остановить нарушителя.
- Боже правый! Бонапартэ и Кутузов, – прошептал Максим.
- Правильно! – скривился в страшной улыбке Мруз. – Император и Фокусник. Воля и решительность одного против хитрой податливости другого. Но в игре участвуют не только эти двое. Есть и другие карты. Как великие арканы, так и те, что попроще, к примеру, валеты, – Мруз кивнул на Коренного с Курволяйненом.
- Вот почему дуэль изначально напоминала игру, – констатировал Фёдор. – Я ведь и в том, и в другом кое-что смыслю, потому всю дорогу чувствовал неладное.
- А мы с графом кто такие и кому противостоим? – спросил Максим.
- Колесница и Висельник, – немедленно отозвался Лех Мруз. – Ваши враги –Сила и Сумасшедший. А также Смерть.
- Почему трое? – в один голос выкрикнули компаньоны.
- Смерть была противником Жреца, то есть моим. Теперь она вольна выбрать другого, кто ей больше по вкусу. Остальных двоих не знаю, но могу сказать уверенно – встречи с ними вам не избежать.
- А Елена? – спросил Максим.
- Жрица противостоит самому Дьяволу[138]. Это – Гроссмейстер Ордена. Даже Император послушен его приказам.
- А зачем же Бонапарте совершил глупость, попав под дьявольское влияние – неужели не ведал, что творит? Не из-за этого ли он вторгся в Россию? – продолжил допытываться Максим, которому ещё в 1807 году довелось стоять в парадном строю русской гвардии при заключении Тильзитского мира[139] и наблюдать, как Наполеон всячески демонстрировал дружеские чувства по отношению к государю Александру Павловичу. Чего стоила, к примеру, публично брошенная тогда фраза о том, что он оставляет на карте Европы Пруссию лишь «en considération de l’empereur de Russie[140]».
- Мировое господство, – ответствовал Мруз. – Ради этой вожделенной цели Бонапартэ отдал себя в руки Ордена и посмел пойти против предначертания. Он долго колебался и взвешивал все «за» и «против» прежде, чем решиться на поход в Россию. Но эзотериков манил вожделенный приз – Вуфари вунжиря.
- Вы хотите сказать, что вся война – из-за проклятой книги!? – возмутился Толстой.
- Книга судьбы – самая весомая причина, но не единственная. Ваша страна для любого, кто мечтает о великих завоеваниях – как кость в горле, её победить сложнее всего. Но для Наполеона сложились благоприятные условия: мелкие враги уже поставлены на колени, а его империя достигла пика могущества. Ну и Гроссмейстер Ордена, само собой, заверил, что сможет добыть Книгу судьбы и тем решить исход игры. Для того врагу и понадобилась Елена, чтоб проникнуть в тайну изменения судьбы…
- Так что же ты, старик, нам всё время зубы заговариваешь, ведь её сейчас, наверное, подвергают пыткам, – встрепенулся Максим, – немедленно выкладывай, где искать!
- Успокойся, витязо! В любой момент Елена вольна лишить себя жизни, просто остановив сердце. И она сделает это, не раздумывая, прежде, чем физические страдания заставят выдать тайное знание. Эзотерики о том прекрасно осведомлены, потому пытки применять не станут. А убить себя Елена, без крайней нужды, не убьёт, поскольку после моей смерти она последняя, кто способен управиться с Книгой. Без Елены Книга перестанет существовать как сила, защищающая мир от страшного конца и превратится в пустышку. Со своей стороны, Гроссмейстер Ордена мог бы уничтожить Книгу, тем самым открыв эзотерикам запертый тысячелетиями путь к могуществу. Но он не станет спешить, а будет пытаться повлиять на ход игры и спасти обречённого Бонапарта, на которого потрачено слишком много сил и возложены слишком большие надежды. К тому же, велик соблазн научиться менять судьбу мира по собственному разумению. Нынче сложилась великая карточная партия: последняя из жрецов Египта против Гроссмейстера Вавилонского Ордена Башни. Витязо, знайте! Кроме вас, Елене надеяться не на кого!
При этих словах Крыжановский с Толстым почувствовали странно-знакомое. Максиму вдруг показалось, что на плечи тяжело лёг груз железных доспехов, а Фёдора неведомая сила вздёрнула вверх тормашками и подвесила болтаться за ногу. Через миг наваждение исчезло, будто и не было ничего.
- А что случится, ежели Елена проиграет? – спросил Толстой.
- Эзотерики перекроят мир по-своему, наперекор Господу. А дальше Бог решит судьбу человечества. Но я верю, что Жрица, с вашей помощью, выстоит. Ищите Красный Замок. Елена – там, в логове Ордена. Освободив свою любовь, вернёте и Вуфари вунжиря. – то было последнее, что сказал в земной жизни старый цыган Лех Мруз. Из груди его вышел тихий шелестящий вздох, после чего тело мягко осело и застыло неподвижно.
- Прощай, великий мудрец, – крикнул навзрыд Виорел Аким, – прости, что мой кырдо не сумел защитить тебя! Видит Бог, рромэнийа сделали всё, что могли, и отдали всё, что имели! – далее он стал кататься по земле и страстно причитать на своём языке. В горячих интонациях цыгана чудились не то клятвы, не то молитвы, а может – проклятия.
Американец некоторое время наблюдал эту картину, а потом заявил мечтательно:
- Жаль, здесь нет моего семейного лекаря, учёнейшего доктора Поппа с его теорией, будто душа человека обитает не где-нибудь, а именно в мозгу. Эх, надо было заключить с «клистирной трубкой» пари на сотню щелчков по лбу, что он заблуждается, а потом сунуть под нос нашего говорящего безголового мудреца. Щелчки бы из лекарской головы учёную дурь быстренько выбили!
Крыжановский рассудил иначе.
- Freluquet[141], – бросил он графу, а потом приказал денщику пройтись по табору и сыскать пару лопат. Своё намерение полковник объяснил так:
- Надо похоронить старика: пусть не по-христиански, ибо был он другой веры, но, всё же, с должным уважением.
- И обязательно вбить кол в сердце, чтоб более не вздумал оживать, – добавил остающийся верным себе Американец.
- Ты неправ, – возразил Максим, – думаю, поразительная живучесть цыгана объясняется не происками нечистой силы, но присущим старцу чувством долга. Помнится, в юности имел я слабость увлекаться чтением книг о рыцарских подвигах. Среди прочих историй сильнее всего запомнилась одна – о безголовом Дице. Истинность её не подлежит сомнению. Было это в средние века. Король Баварии Людвиг приговорил к смертной казни некоего Дица фон Шаунбурга с четырьмя ландскнехтами за то, что подняли восстание. Согласно рыцарской традиции, перед смертью Диц получил право на последнее желание. К величайшему удивлению короля, благородный Диц попросил поставить всех осуждённых в один ряд на расстоянии восьми шагов друг от друга и отрубить голову ему первому. Он пообещал, что начнет бежать без головы мимо кнехтов, причем те, кого он успеет пробежать, должны быть помилованы. Действительно, как только ударом топора палач снес ему голову, Диц вскочил на ноги и помчался мимо застывших в ужасе солдат. Только пробежав последнего из оных, он замертво рухнул на землю. Потрясенный король выполнил обещание и помиловал людей Дица.
- Экая аллегория, – засмеялся Толстой. – От твоего Дица его товарищам жизненная польза вышла. А от Мруза разве есть польза? Да и хвалёная мудрость, каковую приписывает старику сей оскудевший рассудком, – Американец кивнул в сторону Акима, который больше не голосил, а лежал лицом вниз и, в молчаливом исступлении, раз за разом бил в землю ножом, – тоже вызывает сомнения. Старик ведь, благодаря Книге, умел прозревать грядущее. Что же мешало ему взять и рассказать нам правду раньше? Да я бы попросту не пошёл с отцом Ксенофонтом к Малому Ярославцу, а, выпросив у тебя десяток-другой гренадер во главе с богатырём Коренным, засел с ними в таборе. И перебил к такой-то матери всех визитёров из пресловутого Ордена Вавилонской Башни, заодно с этим их, похожим на смерть, предводителем! А нынче что? Елена похищена, проклятая Книга в руках апокалипсического зверя. Вздорной истории про эзотериков и жрецов никто не поверит, вздумай мы её рассказать публично, так что помощи ждать неоткуда. Остались мы с тобой, Максимус, как некогда я и Наташка на острове, одни-одинёшеньки, противу вселенского зла. А, чтоб сразиться с тем злом, прежде ещё предстоит пробиться с боем через всю французскую армию.
Толстой покачался с носков на пятки и резюмировал:
- А виноват во всём – его безголовое мудрейшество, господин великий жрец, каковой лежит пред нами бесполезной кучей тряпья. Ну, что же, с паршивой овцы – хоть шерсти клок, – граф направился к мёртвому старику, сдёрнул с него присмотренное ранее аляповатое глиняное ожерелье и водрузил себе на шею. Максим мог бы поклясться, что при этом оставшуюся часть лица Мруза тронула довольная улыбка. Фёдор, же, занятый ожерельем, улыбки той не заметил.
ЧАСТЬ 2
Если, путь пpоpубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, -
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
Владимир Высоцкий «Баллада о борьбе»Глава 1 История из табакерки
5 (17) ноября 1812 г.
Село Доброе, близ города Красный Смоленской губернии
- Вашвысбродь! Вашвысбродь! – возбуждённо кричал Ильюшка Курволяйнен. Малый пытался бежать во всю прыть, но получалось из ряда вон: ноги вязли в рыхлом снегу. – Осмелюсь доложить, тама робята, как вы велели, согнали в кучу пленных хренцузов. А средь них антересный шаромыжник попался! Любо-дорого поглядеть! Как бы даже не целый маршал! У его и синяя палка с орлами имеется! Жезл! Отдавать отказывается напрочь, токмо плачет, словно баба. Дядька Леонтий сказал покудова шаромыжнику морду не бить, палку не отымать, а ждать вашего прихода.
Только что кончилось сражение. Крыжановский не успел толком отойти от боевого угара, кроме того, пребывал не в лучшем расположении духа из-за досадной утраты: вражеская пуля испортила кивер – чудо шляпного искусства, изготовленное мастерицами петербургского салона мадам Орси. Немудрено, что смысл колоритных Ильюшкиных выражений доходил до полковника с трудом.
- Что ещё за шаромыжник? Изъясняйся по-людски, чухонская твоя голова!
- Ну, как же, вашвысбродь. Басурмане, ежели при них оружие, наших обзывають соважами[142]. А токмо огребуть по хребту да сдадутся в плен, сразу по-иному начинають петь: шар ами, шар ами[143]. Сухари таким способом выклянчивають да водку. Отсюдова и пошло – шаромыжник. Таперича все так супостатов называють.
Максим повертел в руках уничтоженный кивер. Спереди, у репейка[144], пуля проделала лишь небольшую дырку, зато сзади разворотила так, что чинить нет смысла – проще заказать новый. Сокрушённо бранясь, он водрузил испоганенный головной убор на привычное место, вздёрнул полы шинели и поспешил через сугробы вслед за денщиком. Вдруг на самом деле солдатам удалось захватить кого-то из видных французских военачальников? Ничего удивительного в подобном казусе полковник не усматривал. «Великая армия» постепенно превращалась в орду небоеспособных людей, спешащих поменять голодную и холодную свободу на сытый плен. Почему же у неприятельских полководцев должна быть иная участь?
На пути от Малого Ярославца до Смоленска полчища захватчиков таяли, будто сало на сковородке. Поражение Наполеона представлялось теперь исключительно делом времени. Сбывались чаяния светлейшего князя Михайлы Илларионовича Кутузова. Фельдмаршал по пятам преследовал Зверя, нанося тому одно поражение за другим. Государь Александр, ранее неоднократно пенявший старику на недостаточную решимость и медлительность, нынче всячески демонстрировал полное благоволение. Об авторитете в армии «великого дедушки» и говорить не приходится – оный возрос многократно. Кто теперь решится возражать Главнокомандующему? Днём с огнём не сыскать на то охотников! Когда Кутузову вздумалось прекратить преследование и, повернув от Ельни на юг, фланговым маршем следовать параллельно отступающему неприятелю, никто из генералов даже не пикнул.
Дороги сильно замело снегом. Стояли морозы. Но Кутузов обязывал спешить. Замысел полководца состоял в том, чтоб, предварив Наполеона, встретить его у города Красный. Многие не выдерживали ускоренного темпа, отставали в пути. Иные замерзали насмерть.
Смысл принесённых жертв стал понятен лишь вчера, когда вышли, наконец, к старой Смоленской дороге. Сколько хватало глаз, по тракту медленно текла человеческая река. То был противник, корпус Евгения Богарне.
Рассматривая французов в подзорную трубу, Максим с удивлением осознал – тем не выстоять в сражении.
«Что сталось с пресловутым военным гением Наполеона? Даже капралу, каковым иногда называли этого человека, непозволительна подобная ошибка! Разве можно допускать столь изрядную растянутость колонн! Ведь теперь их не перестроить в боевые порядки. Определённо, грядёт массовое избиение лягушатников».
«Нет, пожалуй, рано записывать Бонапарте в болваны. Не оскудел он умом! – возразил себе полковник. – Решение имеет основание: крепкий мороз исключает бивачное расположение частей, следовательно, каждый французский корпус, выйдя из Смоленска, в конце дневного перехода должен прибыть в крупный населённый пункт для расположения на квартирах. Корпуса и идут один за другим. Наше появление – неожиданность. Чёрт возьми, слова мёртвого цыгана начинают сбываться: Фокусник бьёт Императора! Только не на зелёном сукне, а на заснеженных русских просторах».
Первым грянул на неприятеля нетерпеливый Милорадович. За день до подхода основных сил его авангард успел слегка потрепать Старую гвардию, но не смог удержать лучших солдат Европы – пропустил в город. Зато идущие следом за гвардией итальянцы принца Богарне сполна познали страшную силу удара русских. В разгроме пасынка Наполеона немалую роль сыграл генерал Семёнов, алчущий сатисфакции за Малый Ярославец. Увлёкшегося медведюшку пришлось оттаскивать от крепко изодранного неприятеля чуть ли не за уши.
- Что же это вы, милостивый государь мой, Василий Игнатьевич! Ни себя, ни солдат не жалеете! – с лукавой укоризной отчитал его Кутузов. – Громкая слава громкой же кровушкой оплачивается. Извольте проявить скромность и просто довольствуйтесь победой.
Черёд Финляндского полка наступил, когда к Красному подошёл корпус маршала Даву, и Наполеон, пытаясь спасти его от разгрома, бросил в бой Молодую гвардию. Финляндцы, засидевшиеся в резерве, лишь только прозвучал сигнал к атаке, с превеликим нетерпением ринулись на противника, в мгновение ока опрокинули его и на штыках ворвались в село Доброе. Восемь пушек, весь обоз «железного маршала[145]», а также множество пленных достались финляндцам и их боевым товарищам – лейб-егерям.
Пленные! Из этого источника Крыжановский и Толстой чаяли почерпнуть сведения о местонахождении штаб-квартиры Ордена Башни – таинственного Красного замка. Сколько же неприятельских вояк допрошено на долгом пути от Малого Ярославца? Сотни! Солдаты, офицеры, даже генералы! Увы, все усилия тщетны. Нельзя сказать, что никто не слыхал об Ордене. Французы охотно развязывали языки, но их рассказы не содержали ничего нового. Надежд оставалось всё меньше и меньше. Сердца наполнялись отчаянием…
…Ильюшка привёл Максима туда, где гвардейцы, ожидая дозволения расселяться по квартирам, жгли костры. Плотная толпа возбуждённо гоготала, время от времени порождая незамысловатые прибаутки:
- Антуанчик – дырявый кафтанчик!
- А что, Франсуажка? Тёплая сермяжка, небось, не тяжка?
При приближении полкового командира кто-то громко выкрикнул: «Сми-и-р-рна!» – финляндцы немедленно расступились и явили взору пленников, которые грелись у большого жаркого костра.
Несчастных оказалось много. Так много, что всем не хватало места у огня. Они вели друг с другом отчаянное сражение за живительное тепло. Слабых отталкивали и занимали освободившееся место.
Война ожесточила душу Крыжановского, и он равнодушно отнёсся к происходящему. В конце концов, французов никто не звал в Россию. А лишних дров, чтоб разводить дополнительные костры, нет.
- Ну-ка, братцы! Который здесь маршал? – нетерпеливо спросил Максим.
Солдаты со смехом выдернули из толпы пленных и поставили перед полковником отвратительного субъекта. В бабьем зипуне, поверх сапог – дерюга, лицо почернело от грязи. Максим брезгливо посторонился – от субъекта дурно пахло.
- О небо! Господин Дир! Будьте вы прокляты, ужасный человек! – заголосил француз, сжавшись в комок от страха.
Не без разочарования Максим признал в пленнике молодого Редана. Надежда на то, что попалась важная птица, могущая оказаться членом Ордена и способная указать место, где находится красный замок, умерла.
Редан оторопело рассматривал форму Крыжановского.
«Ну да, он ведь полагает меня самого – эмиссаром Ордена», – вспомнил тот и поспешил представиться настоящим именем.
Француз напрягся ещё больше. Чувствовалось – ни в грош не ставит правдивость услышанного, зато не сомневается в вездесущести и всемогуществе Ордена.
- Коль вам, господин Дир, кем бы вы ни были на самом деле, вздумалось сделаться русским полковником, так извольте насладиться плодами победы и примите жезл Луи Николя Даву[146]. Великий человек вверил регалию мне, своему никчемному адъютанту. В плену эту вещь не уберечь, солдаты отнимут, так что забирайте, – с этими словами французский офицер протянул Крыжановскому жезл.
Тот принял и внимательно рассмотрел трофей. Палка длиной в локоть, обтянутая синим бархатом, с россыпью золотых имперских орлов.
«Изящная вещица, Главнокомандующему определённо понравится. Может, даже, он сочтёт необходимым отправить жезл Государю», – подобная радужная перспектива отчасти примирила Максима с потерей кивера, но оставила нетронутой досаду на то, что пленник оказался не маршалом, а бесполезным адъютантом.
Он покосился на Редана, решая – стоит ли задавать ему вопросы или лучше оставить в покое, обратившись к другим пленным.
Француз с безучастным видом принялся набивать трубку. В глаза Крыжановскому бросился знакомый табачный картуз. Точь-в-точь такой, как был у графа Толстого. «Да нет же – это и есть картуз Толстого. Вон и вышитый бисером вензель: «Ф.Т.» Но как могла попасть к французу вещь, потерянная в цыганском таборе?! – сердце подпрыгнуло в груди. – Неужели щенок участвовал в нападении на цыган?!»
Не образы порубленных и пострелянных людей встали отчего-то перед внутренним взором Максима, а бессловесная медведица, в предсмертном удивлении скребущая колесо.
Прав был Толстой, тысячу раз прав, когда утверждал, что лицо Крыжановского можно читать подобно книге. Несчастный Редан представил тому убедительное доказательство: лишь миг потратил на чтение, а затем отпрыгнул так поспешно, что не удержался на ногах и упал в снег. Максим подобрал выпавший картуз, сунул под нос французу и спросил, сонно растягивая слова:
- Ты был в таборе?! Отвечай!
Интонация вопроса ещё больше напугала молодого офицера. Булькая горлом и непонимающе тряся головой, он попытался отползти подальше.
«Пожалуй, не стоит горячиться, так поганца не разговорить, да и, чего доброго, не сдержусь ещё, – вовремя остановился Максим. – Тут бы не помешали холодный рассудок да острый язык».
Подозвав к себе Илью, он распорядился:
- Ступай, отыщи его сиятельство господина графа. Передай, чтоб безотлагательно мчался сюда. Хотя, отставить, ничего не говори, просто передай ему это, – картуз перекочевал к денщику.
- Сей момент исполню, вашвысбродь. Только вы б лучше в горницу пожаловали, вчерась-то кашлять изволили, – принялся упрашивать Курволяйнен. – Не ровён час, простудитесь, как давеча под Малым Ярославцем. Квартирьеры ужо справную избёнку присмотрели. Вона стоить, чистенькая да светленькая. А что маленькая, так оно даже лучше – быстрее протопится. Может, прикажете, так я, прежде чем за их сиятельством отправляться, огонь разведу. В два счёта управлюсь.
- Не медли братец, веди скорее графа, он мне как воздух нужен. А с печкой сам разберусь.
Максим бережно взял Редана под руку и, как важную особу сопроводил внутрь той избы, что указал денщик. Там усадил француза за стол и занялся растопкой печи. Немудрёная эта процедура успокоила Крыжановского. К пленному он повернулся в полном присутствии духа.
Редан расценил произошедшую с полковником перемену как добрый знак и решился спросить, подобно куртизанке из лагеря Неаполитанского короля:
- Что меня ожидает?
Максим хмыкнул, отстегнул саблю, выложил на стол. Ответил честно, не таясь:
- Рубить тебя стану. На куски. Плевать, что пленник и не при оружии. Раньше бы не смог, антимонии стал разводить, а нынче – без зазрения совести.
Редан побледнел, но сумел сохранить твёрдость:
- Как пожелаете! Об одном прошу – объясните, за что? А то происходящее представляется каким-то дьявольским наваждением. Не припомню, чтоб в своей жизни совершил нечто, заслуживающее подобной участи. Неужели это всё из-за маршальского жезла?
- Вспомни цыганский табор! – рявкнул Крыжановский. – Вспомни, обезьяна!
- Ну, зачем же с таким очевидным пренебрежением поминать благородное животное, коему один из ваших ближайших знакомцев обязан жизнью? – послышалось из сеней. Дверь отворилась, и на пороге в клубах пара появился Фёдор Толстой.
Граф поочерёдно сбил снег с валенок, постучав ими о наличник, и посторонился, впуская остальных – отца Ксенофонта, Виорела Акима и Илью. В горнице сразу стало тесно и шумно.
- А что, Максимус, снова Понятовский нас обставил?! Бонапарте, как назло, определил польский корпус в авангард. Не поспели мы с тобой немного, не поспели! Князь Юзеф здесь раньше прошёл. Да, а за картуз тебе искреннее merci с поясным поклоном, – в тон валенкам, на графе красовались овчинный тулуп и треух. Одеяние сделало поклон неотличимым от мужичьего.
- Дражайший Аскольд! Ты не мне кланяйся, а нашему почтенному гостю. Господин Редан проделал трудный и опасный путь, чтоб вернуть тебе дорогую сердцу вещь. Но, думаю, сей…благородный человек сам поведает нам всю правду. Ты уж, сделай милость, расспроси его как следует, да со всей возможной страстью.
- Вот так сюрприз! Какая приятная встреча, господин Редан! Прекрасно выглядите. Чистый жених, хоть сейчас – под венец! – искренне обрадовался Толстой.
Пленный француз недоумённо и с опаской рассматривал поочерёдно каждого из вошедших.
- Мы не из Ордена, Редан! – грубо встряхнул его Максим! – Наоборот, здесь собрались люди, ненавидящие упомянутую организацию. Сейчас граф Толстой, известный тебе под именем Аскольда Распутного станет задавать вопросы. Постарайся отвечать на них внятно и исчерпывающе. Этим спасёшь себе жизнь. В противном случае заверяю, что, подобно античному авгуру[147], возьму на себя труд поискать нужные сведения в твоих выпущенных наружу кишках.
Редан несколько раз судорожно сглотнул и побледнел пуще прежнего.
- Откуда у тебя оказалась эта вещь? – вопрос исходил от Американца, но тон и голос, казалось, принадлежали его компаньону. Видя, какое сильное влияние Крыжановский имеет на пленного, граф, по обыкновению, сориентировался быстро.
На стол, рядом с саблей, лёг табачный картуз. Пленный пожал плечами:
- У вора отнял – мерзавец пытался утащить еду, а я его поймал.
- Та-а-к! – протянул Американец. – Что за вор, где и когда это случилось?
- Мальчишка. В Смоленске дело было, ночью забрался в окно. Я пошёл по нужде и случайно его заметил. Тихонечко двинулся следом и схватил, когда он муку из запасов господина маршала воровал.
Когда Толстой начал допрос, Максим затаил дыхание, надеясь услышать от пленного нечто важное. Сейчас же полковник с шумом выдохнул воздух: «Снова ложная надежда. По всему видно, Редан не кривит душой, и картуз попал к нему через третьи руки. Это означает, что вряд ли удастся проследить весь путь вещицы от цыганского табора до столешницы, на которой она нынче лежит».
Более терпеливый Толстой никакого разочарования не проявил, а спокойно продолжил расспросы:
- Что за мальчишка, как выглядел, куда подевался? Или мне из тебя ответы клещами вытягивать?
- Цыганского племени мальчишка был. Нос длинный, глаза злые, настырный и кусачий как комар. За палец больно тяпнул, – скороговоркой затараторил Редан.
Максим с Фёдором переглянулись: соответствующую описанию особу оба вспомнили сразу же. Ох, и живуча, оказывается, цыганская порода, у каждого, как у кошки – по девять жизней!
- И где сейчас означенный воришка? – спросил Максим.
- Этого уж не знаю: я его выгнал, только картуз себе забрал. А больше у него ничего и не было, – француз потупился, а Максим ясно осознал: врёт как сивый мерин.
С-ш-ш-шмяк! Рядом с внезапно опустевшими ножнами и злополучным картузом на стол упало отрубленное ухо. Редан недоверчиво уставился на него, медленно поднял руку к залитой кровью щеке и, осознав случившееся, тут же стал закатывать глаза.
Крыжановский, однако, не дал ему укрыться в спасительном обмороке, а, спихнув на пол, приставил окровавленный клинок к лицу, и сказал своим запоминающимся, пугающе-сонным голосом:
- Ты, видно, не расслышал вопроса, мой друг. Ну что же, спрошу ещё раз: где сейчас находится воришка?
- Всё скажу, прошу вас…, прошу вас…!
- Ох и силён ты, Максимушка, в анатомии, как я погляжу! Обещал кишки выпустить, ужель оных от ушей не отличаешь? – хохотнул Толстой, а отец Ксенофонт, напротив, принялся говорить о милосердии.
Вспышка гнева прошла, и Максиму сделалось совестно за свой поступок. Нехорошие вещи творит с человеком война. Расчувствовавшись, решил даже помочь пленнику подняться, но тот заполз под стол и давай оттуда, сквозь всхлипывания, облегчать душу.
Оказалось, не выгонял он цыганёнка, а, разозлившись за укушенный палец, попросту продал. Кому, Максим вначале не понял. Смысл слова anthropophage, которое француз использовал вместо более привычного cannibale, дошёл не сразу, а только после бурной реакции графа, заоравшего, что Европа, почитай, не дикая Америка, людоеда здесь встретишь разве что в сказках, следовательно, и называть его будет вернее – ogre[148]!
Пленный из-под стола стал убеждать, что говорит чистую правду:
- «Чёрные пионеры»! У принца Евгения их один полк, а у нас было аж три: двадцать первый, сто восьмой и сто одиннадцатый линейные. Все набраны из негров, мулатов и креолов – выходцев с Карибских островов. Теперь почти никого из них не осталось – человек семьдесят, не более. Главный там – Кристоф Лузиньян, но его чаще зовут Томба Лузиньян. Этот человек происходит с ужасного каннибальского острова Гваделупа. Он и его люди выжили в России лишь благодаря тому, что не гнушались есть человечину. Ему и продал мальчишку.
- Позволь узнать, за какую цену? – поинтересовался Американец.
- Картуз был пустой…, – Редан замялся, – А Томба его наполнил.
- Что на это скажете, отче Ксенофонте? – повернулся к батюшке Толстой. – А ещё говорят, будто тридцать сребреников – мизерная плата. Так вот вам изумительная по силе притча про понюшку табаку.
Следует сказать, что священник твёрдо вознамерился наставить Толстого на путь истинный, для чего взвалил на себя тяжкую ношу – сделался духовником графа. Тот не возражал, ибо нашёл в тщедушном божьем служителе весьма крепкого полемизатора, стойко переносящего любые философические атаки.
- Сын мой, – спокойно ответил отец Ксенофонт, – когда Антихрист шествует по земле, перед его лицем не каждому по силам остаться человеком. Тебе бы самому устоять.
Отстав от священника, Толстой обратился к Виорелу Акиму и передал ему, ни бельмеса не разумевшему по-французски, суть истории, поведанной Реданом.
Графа с последним из цыган связывали отношения иные, нежели со священником. Ещё в Немцово компаньоны собирались под благовидным предлогом отправить Виорела Акима куда подальше. Но баро чуть ли не на коленях стал упрашивать Американца, чтоб взял солдатом к себе в ополченскую роту. Тот согласился, но выдвинул заведомо изуверское условие: ни при каких обстоятельствах Аким не должен употреблять цыганских выражений. Иначе – неизбежное изгнание. Баро согласился и с тех пор честно соблюдал договор. Но здесь не сумел удержаться и разразился истошными воплями:
- Плешка! Жювиндо, шяворро! Во жянав кай Елена!
- Ох, и надоел ты мне вождь. Просил же не говорить на этом ужасном языке! – гневно осёк цыгана Толстой, но тут же проявил великодушие: – Ну, да ладно, учитывая трагизм момента, гнать от себя твою особу не стану.
- Если Плешка жив, он может знать, где Елена! – взор Акима излучал надежду.
- Экий ты хитрец, вождь! – похлопал его по плечу Толстой. – Так и норовишь ближнего облапошить. Откуда твоему Плешке знать такое? Что несёшь, на что рассчитываешь? Думаешь, уши развесим и, высунув языки, побежим вырывать из пасти ogre поганого воришку? И всё лишь для того, чтоб потом услыхать твои извинения – мол, ошибся я, господа хорошие, малец ничего не знает? Вот тебе, любезный! – пышных цыганских усов коснулся аппетитный графский кукиш. – Это же надо! Я в таборе разглагольствую про свободу и перед Семёновым защищаю подлое цыганское племя, а мелкий паршивец в это время подбирается сзади и тибрит табакерку, шельма! Нет уж, пусть теперь его ogre жрёт в своё удовольствие.
- Я не вру, барин! – смиренно ответил Аким. – Сам посуди, Плешка выжил, и где-то был всё время. Где? Где он мог быть? Ты не знаешь нашего народа, барин! Ни один цыган не будет иметь покоя, когда древний враг похитил жрицу и Вуфа…и Книгу. Уверен, Плешка последовал за Мартей. И теперь он знает, где замок.
Крыжановский, который в продолжение разговора пытался ухватить Редана за край зипуна и таким образом извлечь его из-под стола, оставил сие занятие и осведомился:
- По-твоему, выходит, что юный Плешка успел побывать в Польше и вернуться? При этом оказавшись достаточно прытким, чтоб ускользнуть из лап Ордена, позволил себя схватить никчемному убожеству?
- Ох, баре, баре! – вздохнул цыган. – Как вы не понимаете, мальчик нарочно украл картуз, ведь эту вещь так легко опознать. И нарочно предал себя в руки этого…, чтоб картуз, как молчаливое послание, вернулся к хозяину. И теперь он ждёт спасения. И не только он, она тоже!
Максим умолк. Утверждение о том, что цыгане умеют прозревать грядущее, сомнений не вызывало. Фёдор же заявил:
- Можешь ведь говорить по-русски нормально, когда захочешь, не так ли, вождь? Однако следует кое-что проверить.
Граф прошёл к столу, наклонился, и добрым словом сумел убедить Редана покинуть убежище. Тот появился, страшный обликом и поникший главою. Без каких-либо колебаний француз подтвердил: маленький воришка сдался без сопротивления, в дальнейшем не пытался бежать, а, отдавая картуз, наглым образом ухмылялся.
- Опять врёшь, вражье семя! – зевнул Максим. – Прежде заявлял, что мальчишка укусил тебя за палец, а нынче – что сдался без сопротивления.
Редан покачал головой и пояснил:
- Укус я получил за то, что ударил его. В этом не лгу. Зато раньше лгал, когда уверял, будто в моей жизни не было проступка, заслуживающего смерти. Я забыл про мальчишку, так что рубите второе ухо, господин Дир! Рубите!
- Хватит с тебя и одного. Да кто из нас – без греха, – вздохнул Максим, – говори уж лучше, где обретается твой Томба.
Оказалось, что и это ведомо Редану. Ещё на подходе к Красному, когда стала слышна канонада, Даву призвал к себе Лузиньяна и велел раскинуть гадание. Людоед гадал на человечьих костях, и маршал часто прибегал к его услугам перед боем. В этот раз Томба возился долго, бросая кости, всякий раз рассматривал их с испугом. Закончив, принялся уговаривать Даву не вступать в сражение, а, сойдя с дороги, обминуть город лесом. Полководец не послушался гадальщика. Он полагал, что там, впереди, Император ведёт крупномасштабное сражение и отчаянно нуждается в своём маршале. Где ж ему было знать, что Наполеон укрылся в городе, предоставив итальянцев их участи, а канонада исходит от пяти сотен русских пушек, с безупречной позиции расстреливающих беззащитные колонны? Очертя голову, Даву устремился в мясорубку, но «чёрные пионеры» за ним не последовали. Томба увёл их к небольшому хутору с мельницей, чтоб там переждать, когда война откатится на запад, а потом безопасной дорогой покинуть пределы России. Пищи у людоедов вдоволь – ведут с собой человек тридцать пленников.
Максим видел, что Редан не лжёт, однако верить в то, что такое может происходить в России-матушке, отказывался. Даже после спалённой Москвы. Даже после Ордена и беседы с мёртвым знахарем.
В завершение рассказа Редан решительно вздёрнул подбородок и заявил:
- Господа! Пока я находился на той стороне, происходящее казалось естественным и не выходящим за рамки нормальной жизни. Но, опустившись до самого предела унижения, будучи загнанным в угол – да что там в угол, под стол! – я приобрёл иной взгляд на вещи. Не могу и не хочу более быть ни с Орденом, ни с людоедами.
Юношеский пафос слов не оставлял места, где могла бы затаиться неискренность. Максим с Фёдором переглянулись. Последний чуть заметно кивнул.
- Илья! – позвал Максим. – Быстренько сбегай, вызови ко мне полковника Жерве. Но прежде окажи милосердие пленному. Там ведь ещё оставалась мазь, что покойный Лех Мруз для моей ноги давал?
Полковник вышел из избы, остановился на крыльце и вдохнул всей грудью морозный воздух. Рядом неслышно появился Толстой.
- Как думаешь, – спросил его Максим, – одного батальона хватит? Или не рисковать и всем полком ударить по этим «чёрным пионерам»? Вдруг, их не семьдесят окажется, а больше?
- Обойдёмся батальоном. Своих ополченцев тоже хочу прихватить. Лишний раз понюхать пороху им не помешает, – Американец сплюнул под ноги, а потом спросил с невиданной доселе робостью:
- А что, Максимушка, полагаю, ты испытываешь ко мне самые дружеские чувства?
Крыжановский с удивлением воззрился на компаньона. Он действительно считал, что, послав Фёдора, судьба решила таким образом восполнить ему потерю Мишеля Телятьева.
- Хочу, чтоб ты узнал одну вещь, – продолжил Толстой. – Всё никак не решался, а нынче самый moment favorable[149] настал. Отец Ксенофонт сказал, что в том нет великого греха, но ты, по моему разумению, лучше рассудишь, – слова выходили из графа тяжело, рывками. – Это касается предмета нашей дуэли – обезьяны Наташки. Нет-нет, я не жил с ней как с женщиной…, а жизнью обязан потому, что тогда, на острове, сдох бы с голода, ежели б не убил и не съел её. Перед тобой – ogre! Ogre, который в трудную годину способен сожрать друга!
Глава 2 Грустная песня цыган
5 (17) ноября 1812 г.
Безымянный хутор близ города Красный Смоленской губернии
В сумерках третий батальон лейб-гвардии Финляндского полка, усиленный ротой ополченцев, вошёл в лес.
Редана, ослабевшего от выпавших на его долю лишений, Крыжановский усадил к себе в сани. Перед самым началом экспедиции француз принял добрую чарку коньяку, и этим во многом объяснялось то обстоятельство, что в несчастном покуда ещё теплится жизнь.
Скрипят полозья. Рядом топает Ильюшка, ведя под уздцы запряжённого в сани могучего битюга. Впереди, рассыпавшись цепью, ведут разведку ополченцы, а позади мерно хрустит снегом изрядно растянувшийся строй гвардейцев. Идут тихо, лишь иногда переговариваясь вполголоса.
- Скажи-ка, дядя, а людоеды, оне, чай, арапы будуть? – спрашивает кто-то.
- Вестимо, арапы, а ты что же, никак испужался, аника-воин? – доносится бас Коренного.
- Да нет же! Я вот чего хотел узнать – дело-то к ночи, а ну, как темнота не дасть этих нехристей как следует разглядеть? Куды прикажешь колоть штыком?
- Экий ты дурак, Прошка! Снег же кругом! Да на таком снегу арап – что блоха на Дунькиной ж…е – захочешь, не промажешь… Та-ак, православные, а ну-ка отставить смех! А то ненароком всех людоедов в лесу раньше времени переполошите.
Максим любил прислушиваться к тому, о чём беседуют перед боем солдаты. По таким разговорам всегда легко определить настрой людей. Часто он и сам заговаривал с ними, подбадривал добрым словом. Сейчас же молчал, и только улыбался – отменная у бойцов крепость духа!
Толстой носился где-то впереди, с разведчиками. Ему снежная целина – нипочём, родная стихия, можно сказать. Опыта, почитай, не занимать. Когда Максим пытался представить, каково пришлось Фёдору во время перехода от Камчатки до столицы империи, делалось совершенно не по себе. «Пожалуй, Американец – один из немногих, кому удалось в одиночку осилить сей путь. Изрядный человечище! А что обезьяну съел, так ведь принято говорить про кого-то: «на таком-то деле собаку съел». А ежели речь о кругосветном путешественнике, завсегдатае экзотических островов? То-то же, что такому обезьяна приличествует более собаки, – этакое глубокомыслие полковник почерпнул из того же источника, что Редан – жизненные силы. – Ополченцы, к слову сказать, тоже хороши – под стать командиру, – хмельные упражнения мысли продолжались. – Рожи, определённо, каторжные – тут нечего возразить, но какова выносливость, что за сила духа! Когда шли южными путями к Красному на упреждение неприятеля, Финляндский полк, к примеру, даром что гвардия, двух десятков солдат не досчитался, а у Толстого дошли все, никто даже не обморозился. Не иначе граф сумел передать подчинённым собственную сноровку. Важное для командира качество».
Из мрака материализовалась тёмная фигура. «Толстой, кто же ещё – лёгок на помине», – в который раз Максим поразился способности друга появляться тотчас, как о нём вспомнишь. Решил поинтересоваться, как такое удаётся, но пока икал да растягивал рот в улыбке, Американец привлёк внимание к иному предмету:
- Впереди хутор, mon colonel! Ogre’s сидят смирно, только кое-где дымок из труб вьётся. Запах, скажу я тебе, весьма аппетитный. Надеюсь, это не из нашего мальчика-с-пальчика бульон варится.
- Шутки у тебя, как всегда – весьма-а-а! Однако цыганёнка вернее именовать – мальчик-за-пальчик: полагаю, и господин Редан присоединится к моему мнению? – Крыжановский скинул с плеч тулуп и хотел растолкать задремавшего француза, но оставил затею, пускай поспит: особой нужды в нём нет, место указано верно.
Полковник остановил движение колонны и, вызвав офицеров, дал приказ окружить хутор.
- Чувствуешь волшебство мгновения, Максимус? – чуть присев, Американец повёл рукой в меховой рукавице, из стороны в сторону. – Чарующая ночь полной луны, мерцающее белое покрывало, la mystérieux, silencieux forêt[150] и кровожадные людоеды, схватившие мальчика-с-пальчика. Всё точно так, как увидел и описал великий сказочник-провидец Шарль Перро. Ты любишь сказки, mon ami? Я – так просто обожаю!
Сказки Максим даже в детстве не очень жаловал, однако, ему не раз приходила на ум похожая мысль: «Происходящее давно напоминает рыцарский роман. А уж этого добра в своё время прочитано сверх всякой меры».
- Разреши, в таком случае, пригласить тебя на штурм людоедова замка, – Максим церемонно поклонился и простёр перед собой руку. – Нельзя допустить, чтоб сей великий подвиг свершился без нашего участия.
Две пары ног, обутых в валенки, зашагали вслед за солдатами, а Илья остался охранять спящего в санях Редана. Дождавшись, когда стихнет скрип шагов по снегу, денщик вынул трубку, степенно набил её и с важным видом закурил. Трубку подарил Толстой-Американец, но курить при полковнике Илья не решался: хватало последнего нагоняя, когда ему, в подражание дядьке Коренному, вздумалось начать отпускать усы. Досталось тогда на орехи. А то, что хозяйского гнева и по поводу трубки не избежать, это уж будьте благонадёжны: Крыжановский не раз заявлял: «Курение – бесам каждение».
Манёвр окружения хутора не задался. Внезапно из густой еловой поросли послышались тоскливые завывания. То был крик, подражающий кваканью большой древесной лягушки с Антильских островов, но православному воинству сие было невдомёк: и, когда солдаты принялись истово креститься, из домов ударили выстрелы.
- Цепью, арш! – громоподобно взревел полковник Жерве и батальон, выполнив привычную команду, неудержимо рванул вперёд. Хутор захлестнула волна боя.
Перед глазами Максима замелькали, озарённые вспышками выстрелов, выпученные в гневе глаза и разинутые в крике рты.
Вот из избы выбегает экзотического вида чернокожий человек, стреляет из ружья, но тут же оказывается пригвождённым к двери штыком. Сила удара такова, что хлипкую дверь сносит с петель и она, вместе с убитым, влетает внутрь. Тут же следом врываются финляндцы.
А здесь «чёрные пионеры» забаррикадировались и держат внутри оборону. Да где уж там! Разве не для того выдумана силища, именуемая гвардейскими гренадерами, чтоб раз и навсегда доказать бессмысленность любой обороны? Стремительный натиск – и только пёрышки во все стороны.
«Хоть Жерве и пошляк, каких поискать, но его батальон – лучший в полку. Правильно, что не отдал полковника на растерзание Фёдору, – рассудил Максим. – Однако же, где они держат пленных?»
На лысой горке возвышается тёмная громада мельницы – крылья застыли недвижимо.
«Ну конечно, там они! Больше негде!»
Докричавшись до Американца, Крыжановский принялся жестами приглашать его идти к мельнице. Толстой не возражал. Однако, приблизившись, не преминул поинтересоваться с ухмылкой: мол, не представляется ли Максиму мельница великаном, как когда-то одному хитроумному гидальго? Отвечать на подобные колкости, полковник, разумеется, не стал, но входная дверь некоторым образом всё же прочувствовала на себе его недовольство, адресованное глумливцу-графу.
Оказавшись внутри мельницы, компаньоны обнаружили, что их опередил Виорел Аким.
Масляный фонарь отбрасывает на стены мечущиеся тени. То баро и пятеро ополченцев наседают на здоровенного арапа, товарищи которого уже сложили здесь кучерявые головы. Павшие людоеды дорого продали свою жизнь: не меньше десятка русских ратников лежат рядом – кто убит, кто ранен.
Толстой поднял пистолет, но, прежде чем прозвучал выстрел, Виорел Аким с утробным рыком прыгнул на врага и оседлал его. В воздухе мелькнул палаш цыгана. Большой чёрный человек зашатался и рухнул на колени. Баро, продолжая рычать, ещё несколько раз взмахнул палашом, а затем поднял за волосы брызжущую кровью отрубленную голову с толстыми губами и серьгой в носу.
- Ах, баре, баре! – жалобно запричитал цыган, не выпуская, впрочем, из руки ужасного трофея. – Этот… плохой человек чуть Плешку не съел. – Аким развернул голову к себе лицом и плюнул.
- Так Плешка, выходит, жив? – осведомился Крыжановский.
- Жяв кятка, шяворро[151]! – вместо ответа позвал Аким и тут же поспешил оправдаться перед графом, – Мальчик плохо разумеет по-русски.
Сверху послышался скрип, и со стойки стропил ловко соскользнула маленькая фигурка. Цыганёнок подбежал к баро, крепко обнял его, прижавшись всем телом, и радостно улыбнулся. Виорел Аким отбросил в сторону отрубленную голову и кровавой рукой нежно погладил Плешку по щеке.
Из тёмных углов стали выходить пленники – бабы и ребятишки. Они, не отрываясь, смотрели на голову людоеда. Одна прыткая девка с разметавшейся белёсой косой, подскочив, что есть мочи, пнула её. Голова перелетела через всё помещение и там, став добычей другой пленницы, снова взвилась в воздух. Кто-то заплакал, плач подхватили, и вот уже все спасённые включились в действо: ревут белугой и швыряют друг другу летающую голову, которая, потеряв первоначальный цвет, от крови и налипшей с пола муки, стала розовой.
- А ну, прекратить! – вскричал Крыжановский, стряхнув оторопь от небывалого зрелища. – Христиане вы или дикие? Прекратить, я сказал!
Освобождённые пленники выполнили приказ, но немедленно полезли к полковнику целовать руки.
- О раненых лучше позаботьтесь, они за вас жизни не жалели! – кое-как сумел отвязаться от поцелуев Максим. – А я желаю знать вот что: чья это голова, не Томбы ли Лузиньяна?
- Его самого, батюшка-заступник! Его, ненасытного! – поспешили заверить обретшие свободу люди.
Тут Максим совершенно перестал интересоваться мёртвым людоедом, потому что услышал слова Виорела Акима, отвечающего на вопрос Толстого:
- Плешка знает, где она!
Полковник прикрыл глаза и мысленно поблагодарил небеса: «Наконец-то!»
Бой на хуторе завершился. Лишь только Крыжановский, вслед за Толстым и цыганами покинул мельницу, как к нему устремился Александр Жерве. Зашагал рядом и принялся докладывать:
- У нас дюжина – насмерть, и тридцать – в раненых. Ополченцев пока не считали. А неприятеля почти всего под корень: человек пять, не более, ушло лесом. Полагаю, местные партизаны поправят дело, изловив красавцев.
- Ежели твоё предположение оправдается, Александр Карлович, и партизаны действительно повстречают недобитых дикарей, то фольклор жителей Смоленской губернии определённо обогатится новой красочной легендой, – коньяк, бродивший в крови, по-прежнему придавал Максиму необыкновенную глубину мысли.
- Да, совсем забыл, – оживился Жерве, – тут наши ребята людоедскую кухню обнаружили. Не желаешь ли взглянуть?
- Слуга покорный! И так без ужина, а ты ещё хочешь, чтоб я и с обедом распростился. Нет уж, уволь! – решительно отказался Максим, не спуская глаз с юного Плешки, коего граф с Акимом уже вводили в ближайшую избёнку. Отдав батальонному командиру нужные распоряжения, Крыжановский поспешил принять участие в расспросах цыганского дитяти.
Внутри избы вповалку лежали исколотые штыками трупы «чёрных пионеров». Пришлось вызывать солдат, чтоб очистили помещение. К тому времени, как те закончили, полковник извёлся от нетерпения. То же состояние читалось и на лицах Фёдора с Виорелом. Наконец расселись за столом, и баро стал на цыганском языке задавать мальчику вопросы, а затем переводить сказанное остальным…
…Когда посланцы Ордена напали на табор, юркий мальчонка сумел незамеченным улизнуть в кусты. Оттуда он видел всё происходящее. Видел, как убивали соплеменников. Видел, как от руки бледного человека пал, до-последнего защищавший сундук с Книгой, Лех Мруз. Видел, как вскочила на коня и попыталась уйти Елена. Увы, её захлестнули арканом и стянули на землю. Когда всё окончилось и нападавшие скрылись, Плешка вышел из укрытия, собрал немного еды и, поймав одну из лошадей, отправился следом. В течение долгого времени ему доставало сноровки не попадаться на глаза убийцам. Но однажды, кто-то из людей Ордена заметил его и выстрелил. Пуля убила коня. К счастью, в тот день выпал первый снег, что позволило не потерять след – как любой цыган, Плешка прекрасно умел читать письмена, что оставляют на снежном покрове разные живые твари. Два дня он брёл за похитителями. Пища к тому времени уже кончилась, и питаться пришлось лишь ягодами калины да орехами из зимних запасов бурундука. Эти орехи нашлись в дупле большого дуба, куда мальчик забрался для ночлега. А потом, совершенно измождённый, он вышел, наконец, к замку. Высоченные стены из красного кирпича – таким увидел его Плешка. А ещё приметил, как по дороге, ведущей к мосту, медленно тащится вереница гружёных саней. Цыганёнку повезло – то везли в замок провизию, и ему удалось стянуть с последних розвальней краюху хлеба. Подкрепившись, Плешка отправился прямо по дороге в том направлении, откуда везли провиант, и пришёл в город. Там он быстро освоился – ночевал на каком-то чердаке, питался ворованным. А днями пропадал у замка: бродил вокруг, пытаясь отыскать лазейку, ведущую внутрь. Но всё оказалось тщетно – стены слишком высокие и слишком гладкие. На башнях – часовые. Вход – только через главные ворота. В один прекрасный день мальчик понял, что без посторонней помощи ничего не добиться, и пустился в обратный путь…
…Когда Плешка закончил рассказ, Толстой вынул из кармана картуз и потребовал ответа – зачем цыганёнок его украл?
Тот пожал плечами и, одарив графа гордой улыбкой, ответил если и не совсем по-русски, то, по крайней мере, понятно:
- Мне Вайда сказал – смотри, Плешка, какая красивая тряба[152]. Зачем она такому простовано[153]?
Граф умолк, поражённый. Максим тоже хранил молчание: «Неужели покойный Мруз сумел предугадать абсолютно всё? Хочешь-не хочешь, но оставалось признать – именно старый знахарь посоветовал Акиму надеть шапку, а мальчику украсть табакерку, благодаря чему оба цыгана до сих пор живы».
- Скажи, вождь, – нарушил тишину Толстой, – как так вышло, что тысячи лет ваш народ успешно прятал Книгу Судьбы от Ордена, всякий раз надирая нос этой весьма искушённой организации. А нынче, стоило нам с полковником оставить табор без присмотра буквально на пару дней, как вас взяли тёпленькими. А его безголовое мудрейшество – предусмотрительный мертвец – никоим образом этому не помешал, хотя мог, чему получены бесспорные доказательства. У меня сложилось стойкое ощущение, что он это нарочно сделал – позволил забрать Книгу и Елену. Мог ведь приказать что-нибудь этакое: вот тебе, внученька, сундучок, сядь на лошадку и езжай прямиком в Калугу. Поживи там с недельку у добрых людей…
Виорел Аким вскочил с лавки и нервно прошёлся из угла в угол. Видимо хотел успокоиться, чтоб не нагрубить графу.
- Всё, что Вайда делал и что говорил – неспроста, барин! Ой, неспроста! Моей головы не хватит, чтоб понять его мудрость…
- Так на то у тебя вторая есть, каковую у Томбы позаимствовал! Жрец остался вовсе без головы, а у тебя – две, неужто этого мало? – зло процедил Толстой. Его злость Максиму была вполне понятна. Ещё бы, ведь в деле, которое цыгане обстряпали с картузом, графу оказалась отведена роль болвана.
- И десяти голов для Вайды не хватит, – спокойно ответил Аким. – Но я могу пояснить остальное, о чём ты спрашивал.
Цыган прошёл в угол к полке с посудой и, ловко зацепив пальцами три совершенно одинаковые глиняные кружки, выставил их вверх дном на стол.
- Вот эта кружка – мой табор, эта – табор Гоца, а эта – Зурало. Что хочешь, прячь – никто не найдёт, – порывшись у себя в сумке, Аким дополнил натюрморт небольшой варёной картофелиной, затем накрыл её одной из кружек, и вдруг, коротким неуловимым движением, поменял сосуды местами. – Покажь пальчиком, барин, в каком таборе спрятано сокровище.
Толстой презрительно оттопырил губу и мизинцем указал на среднюю кружку. Максим мог бы поклясться, что граф не ошибся, он и сам сделал бы в точности такой же выбор.
Цыган поднял среднюю, но картофелины под ней не оказалось. Оную скрывал левый сосуд.
- Смотри, барин, ещё раз, – баро снова совершил неуловимое движение руками, и снова Американец не распознал нужную кружку. Максим выразил желание тоже принять участие в угадывании, но Аким покачал головой и объяснил:
- Ничего не выйдет, баре. Всякий раз будет казаться, что вот-вот отгадаешь, но…
- Ты бы со своими фокусами на ярмарку отправлялся, Вождь, – перебил Толстой. – Там мог бы хорошие деньги зарабатывать, околпачивая дураков.
- Напрасно, барин, всё время смеёшься над цыганской мудростью. Это не фокус! Это по-русски будет называться…э…«правильный лабиринт». Так говорил Вайда Мруз. А его мудрость не от людей, ой, не от людей, барин! – для придания сказанному значительности Виорел даже выпучил глаза. – Ты сейчас видел лишь часть «лабиринта», не весь. Тысячи лет он позволял нам хранить сокровище. «Правильный лабиринт» – он очень сильный, барин! И только война – сильнее.
Аким схватил одну из кружек и швырнул о стену – осколки брызнули во все стороны.
- Вот что война сделала с табором Зурало!
Вторая кружка разделила судьбу первой.
- И с табором Гоца!
На столе оставалась последняя кружка.
- В моём таборе было много людей! Что за люди, барин! Шесть десятков мужчин, настоящих мужчин – сам чёрт им не брат! Женщин и детей – не счесть. Два раза мы отбивались от Марти! Два раза он уходил ни с чем, барин! Наши лучшие воины положили за это жизни. Под конец дюжина мужчин всего была, ты сам видел! И Мартя пришёл в третий раз! – цыган схватил со стола кружку, размахнулся,… но кружка осталась цела. Баро, удивлённо воззрился на стол: картофелина исчезла.
Американец показал из-под стола руки – оказалось, что корнеплод находится у него. За время чувственного монолога цыгана сокровище уже успело лишиться кожуры, теперь же оно не замедлило отправиться прямиком в рот их сиятельства.
Пока граф жевал, Максим обратился к цыгану:
- Война, говоришь? А где твой табор обретался до нашествия Бонапарте?
- Раньше кочевали по Бесарабии, барин, но там неспокойно. То турки, то русские. Власти нет, а, коли нет власти – никто не защитит бедных цыган. Это, почитай, та же война. Я тогда ещё совсем молодой был, немногим старше Плешки, – баро подошёл и погладил мальчика по спутанным грязным волосам. – Но хорошо помню переполох в таборе, когда дошли слухи о появлении в округе людей Ордена. Мы сразу ушли в земли мадьяров, оттуда в Богемию, немного там пожили и подались в Россию. Вайда сказал, что Император будет бояться идти на вас войной, а ежели пойдёт, тут ему и конец. Семь лет спокойной жизни было, барин! Я семью хотел завести,… эх, да что там говорить! Теперь от табора только мы с Плешкой и остались, – Виорел Аким тоскливо уставился на оставшуюся от богатого натюрморта сиротливую кружку. Война, баре!
Тут цыганёнок подскочил мячиком, обнял Виорела за шею и что-то зашептал на ухо. Лицо баро просияло, и он вскричал:
- Плешка сказал, тот город, где находится Красный замок, называется Мир! Мир, баре! Теперь мы точно найдём Елену и Книгу! – цыган чуть ли не плясал трепака от радости. – Ай, баре! Дозвольте же спеть песню? Несчастный Аким думал, что уже никогда не сможет петь, но, к счастью, ошибся! Дозвольте, баре? Это будет очень хорошая песня, только немного грустная!
Как тут было не разрешить, и вскоре два голоса, низкий и высокий мальчишеский, красиво затянули а капелла[154]:
Родав дило! Родав дило! Жяв бутяте! Жяв кэтана! Дав мангэ чюгни ви зэн! Дав пханрруно гад, ханрро! Ме хаимаско, мамо! Ме хаимаско, мамо! Дав мангэ сыго граста, Катуна, вурдон ви ватра! Ме камавэ нума: Ишто харкуно, Пхераве дежа! Кай ту, мурро войа! Кай ба мурро дур дром?! Кай ба мурро дур дром?![155]Глава 3 О горячих порывах, необычайной хитрости и превосходной прозорливости
7 (19) ноября 1812 г.
Главная квартира русской армии в г. Красном Смоленской губернии.
Фельдмаршал Голенищев-Кутузов не терпел ранних пробуждений. Когда позволяла военная обстановка, он любил понежиться в постели часов эдак до девяти, а то и до десяти. Тут сказывалось и длительное пребывание светлейшего князя в Турции, где поздний сон у вельмож в обычае, но, пуще того – виной была бессонница, каковая полководца изводила постоянно, даруя покой и свободу от дум о судьбах Отечества, лишь глубоко за полночь, а в иных случаях – так и под утро. Привычки главнокомандующего в армии знали все, и старались без крайней необходимости ему спозаранку не докучать.
То-то удивился многоопытный адъютант, когда около семи часов поутру в приёмную Главной квартиры при полном параде пожаловал командир лейб-гвардии Финляндского полка Максим Крыжановский.
В намерения Максима совсем не входило раньше времени будить Кутузова. Однако полковник стремился стать непременно первым на дню посетителем, чтоб его дело главнокомандующий выслушал на свежую голову, не занятую чем-либо иным.
Дело, которое привело сюда Крыжановского, касалось Ордена Башни. Расчёт был прост: рассказать всё без утайки, а дальше – как Бог рассудит. Бонапарте крепко бит, он Отечеству более не угроза, Орден Башни куда как опаснее. Кутузов – человек мудрый и верящий в предначертания. Почему бы ему не направить малую часть войск на штурм Красного замка? А если не поверит? Тогда, скорее всего, велит удалиться из армии ввиду крайнего умственного расстройства. Такой исход тоже устраивал влюблённого офицера, потому что позволял незамедлительно отправиться спасать Елену.
Решение поставить на кон военную карьеру далось Максиму непросто, но стало окончательным и бесповоротным.
Главная квартира расположилась в небольшом особняке, чьи безвестные хозяева явно не отличались изысканным вкусом. Об этом свидетельствовала нарочито роскошная мебель, с каковой совершенно не гармонировали красные, дешёвой ткани, портьеры. Особенно возмутительно выглядел бездарно расписанный голубой потолок, где целились друг в друга из луков жирные златокудрые амуры, а другие амуры, надув до невероятных размеров щёки, дудели в трубы.
«Бордель здесь, что ли, располагался? – прохаживаясь по приёмной, с досадой подумал Максим, но развивать сие умозаключение в гипотезу не стал, а вернулся к более важному предмету: Как бы ловчее всё изложить светлейшему? Так, чтоб складно и без сумбуру?»
Увы, самодовольные обитатели потолка не пожелали помочь в поисках верного решения. Вздохнув, Максим в который раз принялся выстраивать в уме предстоящий разговор. Удивительно, но аргументы, казавшиеся накануне вечером вескими и убедительными, ныне представлялись совершенно мизерными. Он сел в кресло и попытался сосредоточиться, глядя на угли, тлеющие в камине, слишком огромном для такого маленького помещения. Но и неподвижность никоим образом не помогла работе мысли. Пожалуй, тут мог бы поспособствовать коньяк, но не станешь же идти с визитом к самому Кутузову, распространяя вокруг себя винный дух. Максим вскочил и снова принялся мерить шагами приёмную.
Из княжеской опочивальни донёсся тихий звон колокольчика. Тут же адъютант взвился в воздух. Да не он один. Оказалось, что на развёрнутой к стене кушетке, незамеченный ранее, спал дородный, с богатыми седыми бакенбардами, денщик. Звонок и его сорвал с места, заставив метнуться в заднюю дверь.
- Самовар! Быстрее самовар, Нечипор! – крикнул вслед денщику адъютант, а затем, одёрнув мундир, вошёл в покои фельдмаршала.
Денщик Нечипор оказался весьма проворным, и вскоре проследовал мимо Максима на полусогнутых ногах, лелея на блюдце чашку тонкого белого фарфора. В ней исходил паром чай цвета тёмного янтаря.
Полковник предположил, что и его сейчас пригласят внутрь, но ждать пришлось неожиданно долго. Когда, наконец, на пороге появился невозмутимый адъютант и молча поклонился, Максим с нетерпеливой поспешностью проследовал к Кутузову.
Фельдмаршал благодушествовал подле затянутого морозными узорами окна. Покончив с чаепитием, он читал какую-то бумагу и улыбался. Услыхав щелчок каблуков, повернулся к Крыжановскому и кивнул благосклонно:
- С чем пожаловал, человек сердешный? Знаю, второго дня ты как следует задал неприятелю перцу?
- Имею честь передать вашему высокопревосходительству повелительный жезл маршала Давуста, добытый в бою солдатами моего полка, – коротко доложил Крыжановский.
Кутузов поднёс жезл к свету.
- Хороша вещица, но важнее не вид, а символ, что в ней содержится: нам – почёт и слава, а неприятелю – унижение. Думаю, Государь Александр Павлович воздаст тебе по заслугам, когда получит сей знаменательный трофей.
Полковник просиял лицом и поклонился.
- Пользуясь случаем, хочу также доложить о разгроме и последующем уничтожении банды дикарей-каннибалов. У означенной банды отбито до тридцати человек пленных, предназначенных на заклание, – далее Максим красочно живописал всё произошедшее на хуторе.
Кутузов слушал молча, лишь иногда благосклонно кивая головой. Когда полковник замолчал, главнокомандующий испытующе глянул на него и весело объявил:
- Можно считать – ты меня задобрил: маршальский жезл и спасение от ужасной участи православного люда производят должное впечатление. Но хватит уж ходить вокруг да около – изволь перейти к делу, с коим пришёл.
Максим недоуменно вытаращился на Кутузова. Тот хитро улыбнулся и пояснил:
- Ведь меня твои шаги в приёмной сегодня разбудили. Вначале лежал я и злился, сколько можно – скрип-скрип, туда-сюда! А потом смекнул – раз человек прохаживается в столь сильном волнении, следовательно, у него дело первостепенной важности. Я скоренько поднялся, оделся и приготовился слушать. Так что – уважь старика, Максим Константинович, не заставляй ждать. Сам понимаешь, в пожилые годы у человека остаётся немного радостей. Из них наипервейшая – сон, коего я нынче из-за тебя лишён.
Максим сделался пунцовым от смущения. Всякие варианты разговора перебирал он в уме, только не такой. Сбиваясь, растягивая слова и часто прибегая к междометиям, стал рассказывать. И про дуэль с Толстым, и про московские похождения, и про Орден. Когда дошёл до богоборческого ритуала в усадьбе Трубецких, фельдмаршал сорвался с места и большой хищной птицей заметался по комнате.
- Я предполагал нечто подобное! Ведь доходили, ей-ей, доходили слухи, что стоит за Бонапарте некая тайная сила! Думал – якобинцы[156], но где там! Сей Орден Башни – пуще якобинской заразы! Давай же, рассказывай дальше, полковник, не томи!
Воодушевлённый столь значительным интересом высокопоставленного собеседника, Максим изложил практически всё. Умолчал лишь о двух вещах: о своей страстной любви к цыганке и о том физическом состоянии, в коем пребывал во время последнего разговора Лех Мруз. Но и без того повествование породило у Кутузова массу вопросов. Последний из них касался графа Фёдора Толстого:
- Выходит, сей господин, проявил себя в высшей степени доблестно, и был тебе во всём верным товарищем? Похвально! Тем не менее, пусть не взыщет – на гауптвахту я его определил заслуженно. Нечего было потешаться. Что ещё за «великий дедушка»? Разве пристало эдак именовать главнокомандующего? Ну, да ладно, твой покойный слуга тоже грешен, – тон Кутузова смягчился. – Помнится, однажды в молодости я позволил себе за глаза пошутить относительно фельдмаршала Румянцева. Так тот, прознав обо всём, не стал меня жаловать, а наказал по первое число. А нынче я сам фельдмаршал, могу казнить и миловать по собственному разумению, – Кутузов улыбнулся. – Помятуя о давешнем курьёзе, пожалуй, проявлю милость и выхлопочу возвращение Толстому офицерского чина. Только ты не спеши раньше времени радовать приятеля – неизвестно, какова будет высочайшая воля.
Максим про себя ухмыльнулся: «После всех побед, одержанных Кутузовым, Государь ни в чём не посмеет ему отказать, старик знает об этом, но продолжает осторожничать. Нечего сказать – характер».
Между тем главнокомандующий, вызвав адъютанта, потребовал карту западных пределов Империи, разложил её прямо на незастланной постели и принялся рассуждать:
- Вне всякого сомнения, Чичагов[157] и Витгенштейн[158] скоро зажмут Бонапарте в клещи. Ежели тот сумеет вырваться, то дальнейшую ретираду[159] непременно направит к Вильно. Красный замок лежит в стороне от его пути – на юго-западе. Жаль, нет никаких сведений о силах неприятеля в тех местах. Что там творится – одному Богу известно. Велика опасность, велика! Ну, что же, как только довершим разгром Наполеона, коему недолго осталось бесчинствовать, сразу же направлю крупные силы в Гродненскую губернию для искоренения сатанинского гнезда…
- Ваше высокопревосходительство! – вырвалось у полковника. Недаром осторожная медлительность Кутузова довела несчастного Беннигсена до нервного припадка, ох, не даром! – Как карточный домик рушились все надежды: ни войска теперь не видать, ни удаления из армии.
- Ваше высокопревосходительство, позвольте тогда нам с графом Толстым взять несколько верных людей и отправиться к замку, ведь время не терпит. Орден не будет дожидаться, а уйдёт вслед за императором…
- Не горячись, не горячись, Максим Константинович, дай подумать… Вот что сделаем: на той стороне Днепра для наблюдения и разведки местности находятся Бороздин, Ожаровский и Платов. Сей последний просил у меня пехоты с артиллерией. Дам-ка я ему крепкий отряд из резерва – гвардейские полки, включая означенный Финляндский, а ещё – тяжёлой кавалерии и пушек. Командиром отряда поставлю барона Розена. Он будет знать, что ты облечён тайной миссией и, по первой просьбе, выделит нужное число людей. А дальше уж отправляйся и действуй по обстановке. Но смотри, дружочек, даром не рискуй жизнью солдатушек, побереги их. А теперь – иди с миром, – Кутузов проводил полковника до двери.
В приёмной ожидал аудиенции генерал Ермолов, который, судя по его поведению, тоже томился некой идеей и желал как можно быстрее представить её главнокомандующему. Прежде, чем пригласить генерала к себе, Кутузов, подумал: «А, вот ещё одно горячее сердце. Не иначе, подобно полковнику, вначале попытается задобрить, затем удивить, преувеличивая всё и вся, а под конец потребует войска, чтоб очертя голову броситься в драку. Ничего-ничего, на то Государь меня и поставил над армией, чтоб остужал да успокаивал пыл этих молодцов. Главное – извести Бонапарте, остальное – потом».
В тот же день Крыжановский узнал, что командовать их экспедиционным отрядом назначен генерал Ермолов.
Толстому пришлось вступить в отряд без своих ополченцев. Их Ермолов брать отказался наотрез. Тогда Американец сдал командование ротой Гжегожу Жванеку, польскому перебежчику, пожелавшему воевать на стороне русских. Отец Ксенофонт сильно болел и пребывал в столь плачевном состоянии, что, несмотря на горячее желание, не смог принять участие в экспедиции. Таким образом, под началом у графа осталась лишь пара чудом задержавшихся на этом свете цыган.
9 (21) ноября 1812 г.
Могилёвская губерния.
Переправа отряда через Днепр выдалась весьма сложной. Около суток при помощи местных жителей чинили разрушенный мост в местечке Дубровна. Сооружение вышло весьма хлипким. Пехота и артиллерия ещё кое-как перебрались, но перевести лошадей оказалось невозможным: когда доски начинали качаться, животные впадали в панику. Тогда придумали спутывать им ноги, класть на бок и волоком, за хвост, перетаскивать по мосту на другой берег.
Глядя на мучения несчастных лошадей, Максим порадовался своему решению – не брать в поход Мазурку. Любимую кобылу он препоручил заботам поручика Звездникова из второго батальона, каковой ввиду простреленного плеча не мог более находиться в строю, а оставался в городе Красном вместе с двумя дюжинами раненых и заболевших солдат-финляндцев. Плачевное состояние неприятельской армии не оставляло сомнений в том, что война скоро кончится, следовательно, раненым более не придётся участвовать в боях. Руководствуясь этим соображением, не только Крыжановский, но весь полк оставил на хранение в Красном ценный скарб, чтоб выйти в поход налегке. Вскоре финляндцы, подобно полковому командиру, получили возможность порадоваться собственной прозорливости, потому что, до того как удалось переправить обозы, мост в Дубровне разрушило усилившимся льдом. На противоположном берегу остались не только обозы, но также все провиантские фуры и часть патронных ящиков.
Вряд ли отряд ушёл бы далеко без продовольствия, но помог генерал Платов. Его казаки, как оказалось, ребята весьма запасливые – помимо собственного провианта накопили гору еды, отбитой у неприятеля. На то имелось особое указание – при первой возможности разорять французские вагенбурги[160] и магазейны[161], каковое указание исполнялось с великим усердием и бесстрашием.
Генерал Ермолов, приунывший из-за потери провизии, после разговора с Платовым расправил плечи и видом стал напоминать сокола, что по долгом сидении без дела снова вырвался на охотничий простор.
Остаток дня отряд споро продвигался на запад. Вокруг, сколько хватало глаз, лежали пустынные и угрюмые земли. Вдоль дороги часто попадались замёрзшие тела французов – скорбные вехи, коими отмечал свой путь злосчастный маршал Ней[162]. К вечеру отряд подошёл к небольшому хутору, расположенному поблизости от одного из монастырей. Хутор оказался безлюдным. Казаки, посланные в монастырь, доложили, что и тот покинут обитателями.
Не успели войска расположиться на постой, как дозорные привели к Ермолову совершенно обессиленного еврея. Тот оказался посланцем генерала Витгенштейна. Мужественный человек, сумев пробраться мимо французских дозоров, направлялся к фельдмаршалу Кутузову. Витгенштейн доносил, что ведёт позиционные бои с двумя неприятельскими корпусами – Удино и Виктора[163], каковые сильно задерживают его и мешают дальнейшему продвижению навстречу Чичагову.
Ермолов, однако, предположил, что неприятель вполне мог схитрить – оставить против Витгенштейна лишь часть сил, а остальные направить на юг, дабы слиться с отступающей и обескровленной армией Наполеона. А если так, то русскому отряду надлежит, как только рассветёт, отправляться на рекогносцировку. Тут же в штаб вызвали командиров полков, для составления диспозиции. Увы, о таковой пришлось забыть, потому что почти тотчас прискакал официальный нарочный от Кутузова. Ермолов аж побелел, когда распечатал послание. В нём отряду предписывалось, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, пройдя полсотни вёрст на запад, остановиться в Толочне, где, никуда не отлучаясь, ждать подхода основных сил. Вот тебе и охотничий простор! Вот тебе и поход к Красному замку!
С грустью Максим осознал всю каверзность той шутки, что сыграл с ним и с Ермоловым Фокусник-Кутузов. И ведь с каким вниманием слушал! С какой лёгкостью шёл навстречу! А потом, удалив от себя на расстояние, достаточное, чтоб не докучали авантюрными предложениями, приказал оставаться там до тех пор, пока головы от идей не остынут.
С поникшей головой полковник отправился к Толстому, ожидая от того издевательских упрёков. Вполне заслуженных упрёков, ведь Американец с самого начала предлагал не затевать возни с войсками, а действовать по-цыгански: вскочив в тройку, лихо домчаться к замку, тайно проникнуть внутрь и выкрасть Елену. Крыжановский тогда не согласился и, обозвав графа безумцем, пошёл к Кутузову. Что ж, в одном визит оказался плодотворным – по крайней мере, фельдмаршал не противился тому, чтоб Максим собственной жизнью рисковал.
А граф, вопреки ожиданиям, не стал укорять, наоборот, молча сжав плечо товарища, немедленно начал готовить отъезд. У Американца все оказалось приготовлено заранее: одни сани большие, вторые – поменьше, шестёрка лошадей с упряжью. А ещё – шубы, одеяла, провиант и, конечно, заветный тяжёлый саквояж.
- Уж больно история про Орден и цыганскую Книгу вычурная, чтоб столь здравомыслящий человек как Кутузов в неё поверил, – начал Толстой объяснять свою предусмотрительность. – Я, к примеру, хоть и повидал на свете много разных чудес, никогда бы не поверил. Даже шапку с табакеркой можно объяснить простым совпадением. И есть только одна необъяснимая деталь: le cadavre parlant[164]. Тут, хочешь-не хочешь, а приходится верить и в Египет с Вавилоном, и в Тота с Гермесом. Вот, кабы, положим, пришёл ты к «великому дедушке» в безголовом виде, тогда бы он, не артачась, войско дал, да ещё сам бы его и возглавил, а так…, – граф пренебрежительно махнул рукой. – Хотя, должен признаться, в первый момент увидав, как ты, Максимус, вернувшись из Главной квартиры, сияешь, да услыхав об итогах разговора, я даже усомнился в собственной прозорливости, но нутро быстро почуяло подвох. В чём сей подвох состоит – я, понятное дело, не знал, но втайне начал готовиться. Надеюсь, не станешь сердиться за то, что я от твоего имени заставил гвардейцев таскать через мост лошадей?
Граф весело расхохотался. Глядя на него, оттаял и Максим:
- Но, скажи на милость, Фёдор, каким способом ты полагаешь проникнуть в замок? Прикажешь снова прикидываться поляком или на стену лезть?
- Нет, барин, ничего такого не надо, – послышался голос Виорела Акима, который в продолжение разговора запрягал в сани лошадей. Ласково похлопав по морде коренника, цыган продолжил: – Я проведу вас в замок. Плешка – маленький, многого не умеет, потому не смог войти. А я войду!
Максим оглянулся на Фёдора – дескать, как тот отнесётся к самоуверенному заявлению цыгана?
Граф пожал плечами и сказал:
- Не то, чтобы я не доверяю Вождю, но верёвки с крючьями, чтоб лезть на стену, тем не менее, захватил.
Наутро, ещё до того, как показалось солнце, на заснеженную Оршанскую дорогу вылетело две запряжённых в сани тройки, унося навстречу судьбе гвардейского полковника с двумя солдатами, а также гордого графа-дуэлянта с двумя цыганами.
Глава 4 Спасённый
12 (24) ноября 1812 г.
Минская губерния.
Двести вёрст пути чудо-тройки одолели за два дня с четвертью. Крыжановский, доведённый до крайней степени нетерпения, заставлял безжалостно гнать лошадей. На коротких привалах те получали двойную порцию овса, тёплую попону и несколько часов отдыха. Потом снова в путь.
Местность, вначале довольно безлюдная, постепенно сменилась другой, наполненной жизнью. Южнее Минска стали попадаться местечки, где поселяне слыхом не слыхивали об отступлении Наполеона из Москвы, живя совершенно мирной жизнью, чуждой той панике, каковую вселяет в сердце война. А на одной из почтовых станций даже удалось достать, за немыслимую, правда, плату, смену лошадей. По такому случаю Максим хотел задать ещё более быстрый темп, но не тут-то было: не успели тронуться, как сильно потеплело, и разразилась настоящая зимняя гроза. В небе загрохотало, и всё застелила кромешная серая мгла, породившая мокрый липкий снег.
Из снежной круговерти навстречу путешественникам вылетел польский конный отряд, числом в десяток.
Честное слово, лучше бы поляки избрали другую дорогу или проехали мимо, тогда бы в скором времени сидели в уютной корчме, попивая тёмное, забористое пиво. Но они молча принялись кружить вокруг да около, а затем, на свою беду, взяли, да окликнули путешественников. Ответил им громкий хор голосов, в котором бархатному баритону семиствольного карабина вторили басы гвардейских штуцеров. Всадники посыпались на землю. Всё кончилось ещё до того, как граф успел опорожнить саквояж.
- Нужно было хоть одного оставить, – ворчливо объявил Максим, – и порасспросить, как следует, что делается в здешних местах.
- Отнюдь, – резонно возразил Толстой. – Куда потом девать этого пленного? Не станешь же с собой тащить? А расстреливать безоружного – слуга покорный. Чёрт, не видно ни зги! Жаль, сейчас нет того компаса, что не раз выручал меня во время странствий по свету. В имении хранится, в специальном шкапчике. И ведь думал ещё, хотя…, – граф покосился на мальчишку-цыганёнка, – пожалуй, правильно сделал, что оставил в сохранности. Кстати, лошадки польские нам бы тоже пригодились, шестёрки побегут быстрее, нежели тройки. Ну-ка, цыганское отродье, пошевеливайтесь! Или полагаете – я сам их ловить возьмусь?
Кончился снег так же скоро, как и начался. Развиднелось. Невдалеке, одетый в белую шубу, показался безмолвный лес. Юный Плешка немедленно заявил Акиму, что это тот самый лес, который вплотную подступает к стенам орденского замка.
Крыжановский привстал в санях, тщась разглядеть – не мелькнёт ли между деревьев красная кирпичная стена. Тщетно. Лес поплыл навстречу и обступил дорогу. Леонтий Коренной правил жестко, сильные руки крепко держали вожжи и кони шли справно. А что не быстро, так попробуй, поспеши в такое ненастье! Дорога расплывалась, смесь ледяной кашицы и стылой грязи умело сопротивлялась зимним подковам.
- Дела, вашвысбродь, ну, дела-а, – растягивая слова, повторял Коренной, при этом недоуменно оглядывался окрест.
А изумляло Леонтия следующее. Вот глянешь: вроде зима как зима – снег, лед, деревья в снежной одёже. Все, как положено, да только крепко неправильно. По ледышкам, по стволам, там да сям, текут трескучие ручейки. Медные тяжелые капли стучат о жестяную снежную корку. Чудно, право слово! Лошади с хрустом ломают эту корку, открывая слой слежавшегося снега. Полозья охают на всю губернию. Небосвод цвета сметаны пригибается к деревьям – кажется, возьми да сунь палец в стакан с небом, попробуй на вкус – а, каково?! Знай наших, господин кухмистер! Это вам не суп из голубей варганить!
В других санях Фёдор Толстой сидел молча и грыз чубук трубки, будто конь удила.
- Как на вашем собачьем наречии будет «комар»? – спросил он вдруг у цыган, хлопая себя по щеке, будто надеялся извести невесть откуда взявшуюся мошь.
- Цынцари! – буркнул Аким, не поворачиваясь.
Американец довольно ухмыльнулся, неуловимо напомнив сытого котяру.
- Вот и будешь ты теперь, чертёнок – Цынцари! – граф бесцеремонно ткнул пальцем в мальчишку. – И попробуй не отозваться, гадёныш!
Только что грозил пальцем цыганенку – раз! – и нет его, лишь куча шуб чуть двинулась да вздулась.
- У, пострелёнок, – почти ласково проговорил Толстой и добавил, грозно погрозив кулаком шубе, – только попробуй не вылезти по первому зову!
Американец повздыхал, да и уснул, повернувшись на бок. Впереди ожидал ненавистный Орден, и граф твердо уверился, что встречаться с ним надлежит хорошо отдохнувшим и выспавшимся.
Голые ветки кустов, что росли вдоль дороги, изгибались под ветром, как холеная кошка или жена на утро иудина дня[165] – протяжно и сладко. Коренной продолжал оглядываться по сторонам. В душе его царило уныние, но Крыжановский того не замечал. Его одолевали угрызения: «Уж месяц минул как Елена в руках Ордена. Жива ли? А, может, опоздали они с графом? Нет, такие мысли лучше гнать, проку в них никакого! Тем более, что вскоре всё выяснится. Но выяснится ли? Вдруг замок уже покинут Орденом и Елена увезена?»
Душу будто укутывал кокон искр. Там, в глубине, поселилась звериная ярость, сдерживать которую становилось невмоготу.
- Да ты, дядька, никак уснул! – прикрикнул Максим на гренадера. – А ну-ка, поработай кнутом. А ежели устал, так пусти Илью на место возницы.
Подобные понукания сыпались на Коренного всю дорогу и сделались привычными. Гренадер молча взмахнул несколько раз кнутом, сани пошли быстрее, вынуждая поднажать и следующую за ними упряжку с Толстым и цыганами.
«Перестаю себя узнавать, – задумался теперь о другом Крыжановский. – Куда подевалось былое хладнокровнее и безразличие к смерти. Раньше ведь каждое сражение принимал как, возможно, последнее! Дрался по-рыцарски, без страха и упрёка! Теперь же… Теперь я иду на брань, обязуясь выжить. И чувствую, Американец ощущает то же самое. Мы, закалённые вояки, мужчины, пресыщенные женскими ласками, готовы заплатить любую, даже самую безумную цену, за женщину. Пусть и самую прекрасную в мире женщину, но ведь это немыслимо! А коли товарка-Судьба запросит такой кошт[166], что и собственной жизни окажется мало? Если и моей, и Толстовской жизней окажется недостаточно? Что делать тогда?»
Взгляд полковника упал на могучую спину Коренного и перешёл на посапывающего справа Ильюшку.
«За балбесами этими глядеть надо в оба! Вот уж какую цену хотелось бы платить всего меньше!»
- Вашвысбродь, – не оглядываясь позвал гренадер. – Кажись, тута проезжал кто!
Максим приподнялся и посмотрел вперед. Точно, от дороги в лесную чащу вели свежие следы множества копыт. Приказав остановиться, он выбрался из саней.
ожества копыт в лесную чащу вели свежие следрока- Что там у вас? – вылезая из-под скомканного одеяла и продирая глаза, крикнул Американец. – Какое такое дело могло задержать неистового полковника?!
- Следы! Кому-то понадобилось лезть в чащобу! – лаконично ответил Максим.
- Ну, мало ли? – пожал плечами граф.
- Мы сейчас слишком близко к Красному замку. Все замки строились с таким расчётом, чтоб во время осады защитники имели возможность тайно покинуть твердыню…
- Ты, никак, про подземный ход, Максимус. Было бы слишком просто… Хотя, почему бы не проверить? Которые тут следопыты? Господа цыгане, на выход!
Виорел Аким долго не возился. Пройдя по следу шагов тридцать, он пару раз присел и потрогал снег, а затем вернулся и уверенно доложил:
- Десять и ещё два, прибыли со стороны замка. Гроза тогда ещё не началась. Въехали в лес, потом вернулись на дорогу и направились нам навстречу. Баре, это те, кого мы постреляли. Их лошади сейчас запряжены в наши сани.
- Скажите на милость, как интересно! – кивнул Американец. – Mon colonel, полагаю, дальше ты не поедешь, пока не узнаешь, куда ведёт сей польский след. Не стану спорить, мне и самому хотелось бы узнать, ведь с лёгкой руки господ Белье сотоварищи я чётко усвоил: где поляки – там Орден. Признаю, также, что ошибся, не пожелав обременять себя пленником. Сейчас бы с удовольствием выслушал его пояснения.
- Распрягай коней, гвардейцы! – нетерпеливо приказал Крыжановский. – Или не видите, что сани не пройдут между деревьями?
Оставив солдат стеречь имущество, остальные вскочили на неосёдланных лошадей и углубились в лес.
Запад грозил красным флагом свободы и крови – надвигались сумерки.
- Меня давно снедает любопытно, – нарушил сомнительную тишину Толстой. – А что, наши противники – считают ли они происходящее карточной партией? И готовы ли соблюдать правила игры?
Виорел Аким искоса поглядел на графа.
- Правила установлены свыше, барин. Люди не вольны их нарушить.
Внезапно послышался крик мальчишки, ненамного опередившего остальных.
- Чего орёшь, Цынцари?! – возбуждённо спросил граф. – Неужто, обнаружил лаз под землю?!
Плешка сидел на корточках и призывно махал рукой. Американец спешился и первым подбежал к цыганёнку. Тот поднял голову и сказал:
- Тащили ладавав[167].
В этом месте копыта хорошо потоптались. И не только копыта – рядом присутствовали человечьи следы. Значит, всадники спешились. Цыганёнка же в наибольшей степени заинтересовала широкая колея в снегу. Ткнув в неё пальцем, Плешка повторил:
- Тащили ладавав.
- Картошку, что ли, украли? – пробормотал Толстой зло. Как всегда, все непонятное выводило его из себя.
- Что там такое? – спросил, идущий позади Максим.
- Да будто мешок с картошкой волокли, – ответил Американец. – Или с репой…
- Не-е, барин, тут не мешок волокли, а человека. И пока волокли, тузили немножко сапогами, – пояснил баро.
- Сам разберусь, – буркнул граф, – ага, дальше злополучный мешок, похоже, встал на ноги, потому как колеи уже не вижу, зато добавилась новая нить следа, с не в пример частыми шажочками.
В лесу быстро темнело. Вокруг вставали тени причудливо изогнутых стволов. Света ещё вполне хватало, чтоб смотреть под ноги, но Максим, тем не менее, приказал баро зажечь фонарь.
Следы привели к небольшой поляне, посреди которой возвышалось одинокое рассохшееся дерево, подобное южной ильме. Снег жался к этому дереву, будто щенок к суке; клочья белого мха висли на изгибах тонких длинных веток. А крепкие верёвки прочно удерживали привязанного к стволу обнажённого человека.
Зрелище представилось сомнительной приятности: человек был весьма стар. Длинные седые космы, сильно разбитое лицо, в которое уже дышит смерть, болезненно вздутый живот, сведенные морозом пальцы на руках и ногах, сморщенная мошонка. Картину довершали острые ключицы, которые, казалось, вот-вот прорвут полупрозрачную дряблую кожу.
- О, – почти не раскрываясь, произнесли распухшие губы старика, при этом пол лица свело от напряжения. – О, miles gloriosus! Salvete, miles gloriosus![168]
«Голый полумёртвый старик, разговаривающий на латыни», – Максим ожидал от таинственных следов большего.
- Сальвете-сальвете, – первым опомнился Американец. – Говорящая мумия, вот же черт! Давай, Вождь, подсоби! Распутаем это чудо Египетское!
Старика заметно затрясло, а Толстой принялся кромсать веревки саблей, приговаривая:
- Ничего, ничего! Сейчас тебя соберем! Обогреем, накормим, потом спросим, кто таков, да за что тебя так! Если и правда, гад какой – назад привяжем! Да не трясись, дед, шучу я!
- А, может, и нет, – пробормотал граф, сорвав последние путы и рывком поднимая старика.
Виорел Аким скинул с себя полушубок и, укутав обнажённое тело, легко закинул на плечо.
Крыжановский, покуда другие возились с найденышем, оглядывался вокруг.
- По-моему, Максимус, напрасно ты надзираешь за призраками. Эх, знать бы, что за старец? И отчего его к дереву привязали? Но пока сможет говорить…, – Толстой взобрался на лошадь.
- Увы, костёр не разведёшь, до замка рукой подать, увидят. Однако надо бы побыстрее деда в чувство привести, – забеспокоился Крыжановский.
- Это как же? Уши, что ли, начать резать?
- У меня коньяк есть, – скривился от неприятного воспоминания Максим. – И у дядьки Леонтия, знаю, завалялась пузатая! Как думаешь, не загубим старичка жгучей влагой?
- Смерть от коньяка?! Пожалуй, в пользу таковой я бы даже пересмотрел видение собственной желаемой кончины, – совершенно серьёзно ответил граф.
До саней старика довезли живым. А там за него принялся дядька Леонтий. Он растёр посиневшее тело самогоном, обернул несколькими шубами и одеялами, а Максим влил в глотку спасённому изрядный глоток коньяку. Эти манипуляции оказали весьма благотворное действие. Дед порозовел и стал рассматривать своих спасителей прояснившимся взором. Солдат он оглядел мельком, зато на цыган взирал с невыразимым удивлением.
- Кто вы? – спросил по-французски Крыжановский.
Старик ничего не ответил, а только взглянул, словно огнём обжёг. Максим повторил вопрос на немецком. Ответа снова не последовало.
- Чёрт, латынь пробовать не стоит, её я знаю лишь немногим лучше польского. Теодорус, может, ты попытаешься объясниться с нашим другом? – отступился полковник.
- Ты ещё вождю предложи побеседовать со стариком на цыганском языке или Курволяйнену на финском, – возразил Толстой по-французски. – Нечего силы тратить – дедушка прекрасно нас понимает.
Старик перевёл взгляд на графа и, сплюнув кровью, шепеляво сказал:
- Да, я француз. И усматриваю иронию в том, что меня спасли от смерти русские. Ведь я ваш враг, по крайней мере, был им, пока мне не выбили зубы.
- А что, дед, даже русское наречие тебе известно? – Поинтересовался Максим.
Француз скривился, то ли от страданий, то ли ему не понравилось обращение «дед».
- Александр Ленуар, – представился он. – Учёный, знаток древностей. Русский язык не особо понятен, но он созвучен известному мне славянскому, и некоторые фразы разобрать могу.
Ответные представления дворян старика нисколько не удивили – по крайней мере, никаких вопросов не последовало.
- Ты, Максимушка, помнится, пленного заполучить хотел? – весело подмигнул Американец. – Видно, сие желание услышано свыше. Вначале накормим страдальца, а там уж допросим по всей форме. Готов держать пари: сей убелённый сединами муж может поведать нам немало занимательного.
Аппетит у Ленуара оказался отменный. Он преспокойно умял краюху чёрствого хлеба, при этом проявил такую прыть, каковая заставляла сомневаться в отсутствии у престарелого учёного зубов. Судьбу хлеба также разделили увесистый кусок копчёного окорока и два солёных огурца.
- Господин Ленуар! – не терпящим возражений тоном начал Максим, лишь только француз отряхнул от крошек бороду. – Без сомнения, после перенесённых страданий вам необходим покой. Тем не менее, его мы предоставить не в силах – уж не взыщите. Есть ещё кое-кто, нуждающийся в спасении…, поверьте на слово, время не терпит, а потому извольте отвечать на вопросы. Не из страха перед расправой, ибо мы не воюем с нонкомбатантами[169], но из чувства благодарности. Согласны?
- Прежде позвольте спросить: кое-кто, нуждающийся в спасении – это не та ли… цыганская девушка, что я видел в замке? – вопросом на вопрос ответил старик, подтверждая, таким образом, мнение, что учёным мужам любопытство свойственно более, нежели учтивость.
- Она жива? – В один голос вскричали Максим и Фёдор, доказывая, что влюблённые дружат с правилами хорошего тона ещё меньше чем учёные.
- Смею уверить, господа, цыганка жива, здорова и сейчас находится в замке, – твёрдо заявил француз и тут же получил возможность насладиться эффектом от произнесённой фразы: два человека, не сговариваясь, обратились к Богу с хвалебной молитвой.
Глядя на своих спасителей, Александр Ленуар иронично улыбнулся и продолжил:
- Выслушайте же историю человека, который хотел многого добиться в жизни, но снискал судьбу, плачевнее которой в мире нет. А там уж задавайте вопросы, если таковые появятся.
Глава 5 Mensa Isiasa
12 (24) ноября 1812 г.
Окрестности Красного замка близ города Мир Гродненской губернии.
Несмотря на приобретённую от знакомства с польскими сапогами шепелявость, старый эзотерик оказался хорошим рассказчиком. Повествование лилось складно, лишь изредка прерываясь необходимостью сплюнуть кровь из разбитого рта.
…Когда грянула Французская революция, просвещённый парижанин, профессор Сорбонны[170], воспитанный на трудах Вольтера, Клода-Анри Сен-Симона и прочих богоборцев-вольнодумцев, Александр Ленуар принял её с восторгом. Однако эйфория сменилось унынием, когда кумиры этой самой революции начали грызть друг другу глотки и лить реки крови соотечественников. Тем не менее, Ленуар продолжал верить в высшие идеалы, каковая вера быстро породила здравую мысль о том, что борьба за свободу, равенство и братство требует жертв.
Лишь физические страдания осуждённых на смерть врагов революции вызывали у сердобольного учёного жалость. Однажды он обратился к своему другу – депутату Учредительного собрания доктору Жозефу Гильотену с просьбой привлечь науку для облегчения участи несчастных, мучительно умирающих в петле или под топором палача.
Преисполненный гуманизма, Гильотен заразился идеей и рьяно взялся за дело, для чего пригласил именитых специалистов: хирурга Антуана Луи, фортепьянного мастера Тобиаса Шмидта и парижского палача Анри Сансона, которые изобрели невероятно простое и надёжное устройство для отсекания голов. Вначале его успешно испытали на трупах в парижской клинике Бисетре, а затем – на живых преступниках. Новая машина показала себя наилучшим образом. Нож весом в 160 килограммов, падая с высоты, рубил голову одним махом, а не так, как бы это сделал слабосильный и неумелый палач – в два-три удара. При этом на лицах казнённых механическим способом совершенно отсутствовала страдальческая мина. Члены авторитетной комиссии осмотрели сотни и сотни голов – мёртвые черты хранили лишь выражение «лёгкого» испуга, и никаких болезненных гримас. Это был триумф. Изобретение прозвали гильотиной в честь депутата-гуманиста.
Сразу после этого Гильотен[171] сделал Ленуару предложение – вступить в тайный Орден Башни – организацию, которая тысячи лет боролась за свободу человечества и членом которой Гильотен являлся. Ленуар, долго не раздумывая, согласился и, пройдя положенные испытания, стал посвящённым эзотериком…
В этом месте рассказа Фёдор с Максимом понимающе переглянулись. Уж очень хорошо запомнилось обоим, что за испытания предлагает Орден неофитам. Не замечая реакции слушателей, старик продолжал говорить.
…Планы Ордена ошеломили и восхитили Ленуара. Его собственная идея безболезненного умерщвления масс казалась сущей безделицей рядом с мощью Башни, символизирующей освобождение человечества от воли высших сил и обретение собственной судьбы. Раньше он полагал, что революция, вспыхнувшая во Франции – это стихия, подобная пожару. Стихия, управлять которой нет никакой возможности. Теперь же не вызывала сомнений абсурдность подобного умозаключения. Не пожар, но костёр, разжигаемый и поддерживаемый весьма искушённой рукой – вот что такое Великая Французская революция.
Много веков в разных странах Орден ставил опыты: зачиная восстания черни, наблюдал их результаты. Кроме того, выращивал и пестовал завоевателей, стремящихся к мировому господству. Всё ради того, чтобы однажды свершить задуманное. Роли провозвестника свободы удостоилось самое культурное и просвещённое в мире государство – Франция. Её Орден тщательно и долго готовил к великой миссии, с давних времён обосновавшись в Париже.
Поразительное дело, повествование не только не отнимало силы у исстрадавшегося мосье Александра, наоборот, с каждой минутой дух его креп и на слушателей изливались потоки новых откровений.
Нельзя построить Башню на том месте, где стоит хлев, не разрушив прежде хлева! Этот догмат Ордена старик отнёс к уничтожению существующего государственного устройства и созданию нового, каковое свершение во Франции Орден блестяще осуществил в четыре этапа.
Вначале ниоткуда взялись революционеры-идеалисты, чей удел – вольнодумные трактаты, отрицающие вечные ценности; зажигательные речи, способные смутить народ и побудить взяться за булыжник; а также мученичество во имя высших идеалов, когда, стоя под расстрелом, революционер смеялся в лицо палачам и кричал что-нибудь, вроде такого: «Вы можете убить меня, но вам не убить революцию!» Итогом первого этапа явилось символическое разрушение Бастилии.
Этапом вторым стала война с соседними государствами – Австрией и Пруссией, попытавшимися помочь французской монархии справиться с революцией. Позже казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты заставила включиться в антифранцузскую коалицию также Англию и Испанию. Но народ Франции отразил внешнюю интервенцию и отстоял свободу.
Революционеры-идеалисты, будучи людьми наивными, иных способов правления, кроме диктатуры и массового террора, не знали. Не умели они и удерживать в руках власть. Поэтому, вслед за королевской четой, сами легли под нож гильотины, а на политическую арену вышла новая сила – алчные властолюбцы из числа тех, кто при монархическом режиме влачил жалкое существование на дне, и кого революционная волна как пену вынесла наверх. Мелкие лавочники, пивовары, и стряпчие с неимоверными амбициями – сила безжалостная, но ограниченная. В государственных делах они разбирались ещё меньше предшественников, ведь одно дело – управлять лавкой, и совсем другое – страной. Интриги и расправа с политическими противниками, прикрываемые разговорами о народовластии – вот и всё управление. А во Франции тем временем – послевоенный голод и ропот народа, то есть самая что ни на есть подходящая почва для четвёртого этапа.
Хлев лежал в развалинах – наставало время возведения Башни, и перед народом явился всадник на белом арабском скакуне, блистательный генерал, снискавший победы в Италии и Египте, имя которому…
- Смерть! – перебил выспренную речь Ленуара Максим Крыжановский. – Господин учёный, зачем тратить силы и время, пересказывая столь странную версию истории о четырёх всадниках Апокалипсиса, коих вы с вашим блистательным генералом Бонапарте, любителем арабских скакунов, привели из Франции на нашу землю. Нас нынче интересует только один из всадников – бледный такой уланский полковник, мастер сабельной рубки, коего в Ордене именуют Генералом. А пуще всадника интересует девушка по имени Елена.
- А-а, – пренебрежительно протянул француз, – вы про Святое писание! Причём здесь это старьё, вы в каком веке живёте, господа? Ах да, я ведь совсем забыл, варварская страна…, О, дорогие мои спасители, простите несчастному старику неосторожное слово… Но у вас ведь действительно до сих пор сохраняется рабство, и мало кто знаком с такими достижениями человеческого гения как философия Гольбаха[172], паровая самодвижущаяся машина Тревитика[173] и воздушный шар братьев Монгольфье!
При упоминании о воздушном шаре Американец, который с несвойственным себе молчаливым вниманием слушал монолог француза, расхохотался.
- Остановись, о, болтливый старик! Мой друг, полковник Крыжановский – человек весьма нетерпеливый и не любящий скользких ответов. Последнему, кто пытался изводить его словесными играми, он отрубил ухо. Потому прекращай философию и отвечай: кто такой есть бледный всадник по прозванию Генерал. А как закончишь, сразу переходи к следующим вопросам: что с девушкой и чего такого ты натворил, если орденские приятели решили предать тебя лютой смерти. Только не ври и не уводи снова разговор к воздушным шарам – я ведь тоже не подарок, и последнему, кто посмел докучать относительно полётов на воздушном шаре, прострелил плечо.
Испуганный недостойным культурного человека заявлением графа, Александр Ленуар сжался, отчего сразу напомнил старую потрёпанную ворону. Речь его, до того вельми спокойная, стала сбиваться и потеряла былую разборчивость. Тем не менее, Максим с Федором дальше узнали, что бледного всадника зовут князь Доминик Радзивилл. Ему принадлежит Красный замок, а также немалая часть здешних земель. Генерал – один из высших чинов в орденской иерархии, в обязанности которому вменены защита Ордена от любых посягательств – как внешних, так и внутренних, проверка лояльности неофитов и прочие поручения, связанные с применением силы. Нечто вроде шефа полиции.
Именно люди Радзивилла привязали Ленуара к дереву и оставили умирать мучительной смертью. Такой приговор Орден вынес учёному за попытку уничтожить Книгу Судьбы.
- Будь проклята эта Книга! От неё все беды человечества! – в страшном неподдельном гневе старец пылал очами и тряс бородой.
Далее оказалось, что совсем не милосердие мосье Александра послужило той причиной, из-за которой его вовлекли в Орден, а учёная специальность. Ведь он лучше кого бы то ни было разбирался в расшифровке древних текстов и криптограмм. У Ордена имелись свои специалисты, но Александр Ленуар слыл самым крупным мировым авторитетом. Ему и доверили расшифровку Mensa Isiasa – Таблички Исиды, представляющей собой ни что иное, как ключ к расшифровке Книги Судьбы. Сей древний артефакт впервые стал известен в XVI веке, благодаря кардиналу Бембо – известному антиквару и историографу Республики Венеция, который хоть и предъявил Табличку научной общественности, но никогда не раскрывал тайны, как она к нему попала. В те годы Орден Башни ещё не ведал истинной ценности артефакта и не проявлял к нему интереса.
- Как так?! – удивлённо воскликнул Толстой.
Ленуар пояснил, что тайны Книги Судьбы – штука, настолько оберегаемая Носителями, что Орден тысячи лет оставался в неведении даже относительно такой простой вещи, как внешний вид Книги: цыгане проявляли невероятную изобретательность в сокрытии этого секрета. Иногда эзотерикам удавалось захватывать Носителей живьём. Увы, выпытать у них что-либо не представлялось возможным – каждый раз всё заканчивалось одинаково: с улыбкой на лице жрец Гермеса лишал себя жизни, волевым усилием остановив сердце. Лишь однажды вышло иначе. Случилось это около ста лет назад. Пленник оказался совсем молоденьким мальчишкой, который не умел останавливать сердце. Он рассказал многое, прежде чем умереть под пытками. Так Орден узнал и об истинном облике Книги и о Табличке, которую хитрые цыгане хранили отдельно от основной реликвии.
Капитул полагал, что успех близок, но просчитался. В те времена Табличка Бембо перекочевала в руки Савойской династии[174], совершенно не желавшей с ней расставаться. Не помогли ни деньги, ни угрозы. Чтобы избавиться от давления Ордена, герцог Савойи просто передал артефакт родственнику – королю Сардинии Карлу–Эммануилу, человеку злобному и воинственному, да вдобавок пользующемуся покровительством французского двора. Когда двое похитителей, подосланных Орденом, попали к нему в руки, Карл-Эммануил, не долго думая, посадил их на кол.
Только итальянский поход Наполеона Бонапарта позволил эзотерикам завладеть Mensa Isiasa. Тогда-то реликвия и оказалась в руках Александра Ленуара. Бронзовая пластинка, пятидесяти дюймов в длину и тридцати в ширину, покрытая эмалью, инкрустированная серебром и вся испещрённая иероглифами – такой она предстала перед учёным. Разумеется, Ленуар начал свои исследования не на пустом месте. Задолго до него Табличку изучали Афанасий Кирхер; монах-бенедиктинец отец Монфакон; Элифас Леви и другие. Те учёные не знали истинного назначения артефакта, попавшего к ним в руки, но кое-какие правильные выводы сделали.
Ленуар собирался подробно остановиться на личностях перечисленных учёных и сделанных ими выводах, а также на воспоследовавших собственных гениальных умозаключениях, но нетерпеливые слушатели не дали ему оседлать любимого конька, а побудили продолжать повествование, позволив лишь коротко упомянуть о результатах изысканий.
На расшифровку символов у мосье Александра ушли годы, но, в конце концов, забрезжила истина: из трёх частей, на которые разделена табличка, верхняя и нижняя созданы с единственной целью: затруднить проникновение в тайну. Но последовательность двадцати одного иероглифа средней части – совсем другое дело. Она представляет собой ключ к Книге судьбы. Каждый иероглиф соответствует определённой букве еврейского алфавита, а также одному из великих арканов Тарот. Для того чтобы прочесть Книгу, достаточно соотнести еврейские буквы и арканы. А расположение иероглифов на средней части Mensa Isiasa позволяет вычислить необходимое соотношение. Оставалось добыть Книгу Судьбы.
Ленуару не терпелось заполучить её. С началом похода Наполеона в Россию учёный перебрался в Красный замок, чтобы быть поближе к центру поисков. И вот великий час настал – возвратившийся из очередной поездки Доминик Радзивилл распахнул полы плаща и явил вожделенную цель тысячи поколений эзотериков – золотую Книгу Судьбы. Учёному показалось, что в тот миг призраки всех прежде умерших членов Ордена одновременно издали вздох облегчения. Пока члены капитула вырывали друг у друга Книгу, чтоб разглядеть её поближе, Ленуар томился нетерпением. Только через несколько часов его трясущиеся пальцы ощутили сладость прикосновения к прохладному и гладкому золоту страниц. Ранний исследователь Mensa Isiasa Фосброук предполагал, что левая сторона Таблички отсутствует. На столе перед мосье Александром, освещённая таинственно мерцающим пламенем свечи, лежала недостающая сторона. Сомнений не оставалось: Книга и Табличка – части единого целого. Старик испытывал счастье. Целых две недели! А потом наступило недоумение, быстро сменившееся отчаянием.
- Господа! – вскричал француз со слезами на глазах. – Случалось ли вам когда-нибудь вставить в замочную скважину ключ, замечу – родной ключ, подходящий, потом услышать вожделенный щелчок, а дальше…, а дальше – ничего, замок не желает открываться.
- Почему вдруг? – подтолкнул рассказчика Толстой.
- На табличке начертан двадцать один иероглиф, столько же и букв в еврейском алфавите. Но великих арканов Тарот – двадцать два! О, будь проклят этот лишний аркан! – прежняя злость старика переросла в неописуемую ярость, казалось, ещё миг и он набросится на слушателей с кулаками. – Пока не было Книги, я полагал, что проникнуть в тайну двадцать второго аркана удастся без труда. Но в действительности это оказалось невероятно трудным. Мне бы больше времени…
Ленуар умолк, уронив подбородок на грудь.
Видя, с каким интересом Фёдор слушает историю полусумасшедшего учёного, Максим никоим образом не пытался вмешиваться, хотя и испытывал выжигающее нутро нетерпение. Когда же старик сделал паузу, полковник не сдержался и возопил:
- А как же Елена?! Хватит уже про иероглифы! Давайте про девушку!
- Вздорная, насмешливая девчонка! – немедленно отозвался мосье Александр. – Когда я пришёл с вопросом о двадцать втором аркане, она вначале осмеяла меня, а затем запустила в голову тарелкой.
После этого случая учёного постигло отчаяние – впервые великий Александр Ленуар не смог разгадать криптограмму. Судьба насмехалась над ним, подобно цыганской колдунье. И тогда созрело решение уничтожить проклятую Книгу и, таким образом, разрубить узел. Он спустился к Прозектору, попросил тяжёлый молот…, но лишь только молот занёсся над Книгой, как явился Гроссмейстер Август и остановил Ленуара.
- О, этот человек – сущий дьявол! – старик потряс в воздухе пальцем. – Не возьму в толк, как он проведал о моём намерении…
- Скажите, а может ли упомянутый дьявол причинить вред Елене, как тому мальчику, что не умел останавливать сердце? – поспешил вернуть разговор в правильное русло Максим.
Александр Ленуар, издав смешок, ответил:
- Конечно, стоило бы препоручить злобную ведьму милейшему господину Прозектору, но не позволит князь Доминик. Околдовала она князя, и теперь он по уши влюблён! Впрочем, господа, вижу, что и вы находитесь под властью ведьминых чар. Поверьте человеку, который обладает некоторой толикой мудрости, и который испытывает к вам естественную благодарность – остановитесь, пока не поздно, стряхните цыганские чары и бегите прочь, а Орден с Носителями пускай сами выясняют отношения. Моя участь – пример того, что может случиться с любым, дерзнувшим…
- Как-нибудь сами разберёмся, что нам делать, – перебил Толстой. – Лучше объясните кое-что. На каком языке шёл разговор с Еленой, если вам неведом русский, а она не знает французского? И какого дьявола людям Радзивилла понадобилось тащить вас в лес и бросать одного, таким образом, давая шанс спастись, вместо того, чтобы тихо удавить шнурком или обезглавить при помощи всё той же гильотины?
Мосье Александр хотел возмутиться подобным недоверием, даже бороду уже вздёрнул. Но, мельком взглянув в лицо Крыжановскому, сник и поспешил объясниться:
- Да будет известно, господа, ваша Елена неплохо изъясняется и по-французски, и по-польски. Но беседовали мы на её родном языке – языке фараонов Египта. Что касается казни, то смею уверить – в Ордене всё основано на ритуалах. И важнейший из них – наказание: как попало никого не казнят… Ой, да что же это я? Видимо, виноват ваш коньяк, полковник…, сейчас должны вернуться люди князя! Они не захотели мёрзнуть, ожидая моей кончины, и поехали в корчму выпить пива. Скорее прочь от этого места, господа, гоните лошадей, иначе – нам конец! – От ужаса глаза учёного округлились, он сбросил с себя шубу и попытался вскочить на ноги.
- Успокойтесь, господин Ленуар, – улыбнулся Максим. – Куда вы собрались в таком виде? Это же дурной тон, что люди подумают? А посланцы генерала никогда не вернутся, равно, как и пива в этой жизни не отведают. Их тела, заметённые снегом, лежат в нескольких лье отсюда. Не хотите ли ещё коньяку?
Француз поспешил укутаться шубой, шумно выдохнул воздух и жалобно попросил:
- Велите принести мою одежду, что осталась под деревом. Палачи её не тронули.
Легко сказать – велите принести одежду! Уж темень наступила – хоть глаз выколи, и цыгане, что подобно кошкам умеют видеть в темноте, как назло, запропастились куда-то. Решив отправить за одеждой солдат, Максим сунулся во вторые сани. Оттуда доносилось негромкое бормотание:
- Чо-то зябко стало! Налей ишшо, дядя Леонтий, не жадись.
- Хватит, ужо, скоро полезем в логово Анчихриста. Аль, полагаешь, я твою пьяную морду на закорках тащить буду? Опрокинул маленькую для храбрости, и будет с тебя.
- Может, и не полезем таперича. Голый дедка принял добрый глоток коньяку – значится, нескоро закроет варежку, а нам тут – мёрзни. Уж ты мне поверь – у ихвысбродь коньяк таков, что язык кому хошь развяжет. Всякий раз как его, грешным делом, хлебнёшь, так не то, что говорить – петь хочется. Уж я-то знаю…
- Та-а-к! – подходя, рявкнул Крыжановский, и от его окрика Коренной с Курволяйненом кубарем выкатились на снег. – Вот значит, куда коньячок-то убывает!
Максим зажёг фонарь и осветил лица гвардейцев – оба вытянулись во фрунт. Ильюшка стоит – ни жив, ни мёртв: глаза выпучены, дышать опасается. Честное лицо Коренного, напротив, выражает стремление встать на защиту приятеля.
Американец, наблюдавший эту картину, испустил смешок и обратился к Ильюшке:
- Давно интересуюсь, о, шкодливый отрок, где ты раздобыл такую звучную, совершеннейшим образом отражающую твою внутреннюю сущность, фамилию?
- Никак нет, вашсиятельство! – ещё больше выпучил глаза Илья, а затем, бросив опасливый взгляд на полковника, продолжил: – Фамилие наше изначально звучало иначе – Кирволяйнены. А потом прицепилось таперешнее прозвание, да так, что не отлепишь. Даже писать нас начали по-новому. А я чего? Я ничего – пущай себе, коль оно так людям сподручнее.
Максим, будучи прекрасно осведомлённым об истории рода Курволяйненов, тем не менее тоже задавался неким вопросом, каковой считал более важным, нежели учинение выволочки денщику за украденный коньяк. Взяв Толстого под руку, он отвёл его в сторону и спросил:
- Скажи на милость, Теодорус, отчего такие странности? Я хорошо помню, как несносно ты вёл себя во время рассказа умирающего Леха Мруза, как перебивал и иными способами мешал говорить. И как непочтительно обошёлся с мёртвым. Между тем, старый цыган приходился дедушкой Елене и являлся…, пусть не совсем другом, но держался-то он нашей стороны. Другое дело – мосье Александр. Один из приспешников Антихриста, гуманист ё…й, в полной мере заслуживший ту судьбу, от которой, по чистой случайности, мы его спасли. И что же? Со всем, доступным собственной бесстыжей натуре почтением, ты благоговейно выслушиваешь тошнотворные подробности трагедии французского государства и прочие сомнительные откровения. Лишь пару раз прикрикнул на мерзавца, и то, скорее, чтоб я не возмущался, нежели чтоб старик не нёс околесицу.
- Ничего странного в моих поступках нет, Максим, – серьёзно ответил Американец. – Рассуди здраво – приснопамятный Мруз весьма искусно врал и темнил сверх всякой меры, кроме того, под любым предлогом не подпускал к Елене нас – не просто друзей, но тех, кто спас и вполне мог дальше оберегать и внучку, и весь табор от Ордена. Зато бледному Радзивиллу старый цыган позволил заполучить разом и Елену, и Книгу. Заметь притом, знахарь умел предугадывать будущие события, но отчего-то не дал им иного хода. Не захотел? Дальше – больше: издыхая, он имел наглость убеждать нас отправиться за Книгой, беззастенчиво играя на наших чувствах к Елене. Да что там говорить – все трудности создал безголовый Мруз и совершенно ничем не помог. Другое дело – мосье Александр. Ведь он сразу понял, что мы – русские, а значит – враги ему. Мог бы заявить, что ни про какой Орден знать-не знает, а просто стал жертвой неизвестных разбойников. Но он сказал правду, тем самым предав себя в руки врагов. Только представь обратную ситуацию – ты, голый и обессиленный, попадаешь в лапы Ордена! Что стал бы делать? Душу изливать? То-то же! А старик по доброте душевной, всё открыл, чтоб предостеречь от проникновения в логово Зверя. Так кто после этого друг, а кто – враг?
Прочитав на лице Максима, какое впечатление на того произвёл услышанный монолог, Фёдор в очередной раз состроил физию довольного котяры и продолжил:
- Только не думай, что раз я взялся защищать перед тобой орденского эзотерика, то следующим шагом будет постучаться в ворота замка и попроситься в неофиты. Я – православный, им и умру, кроме того, отдаю отчёт, что мосье Ленуар – натура испорченная богоборчеством. Но и Мруз, ведь, если помнишь, не исповедовал христианства. В общем, так: пускай нас помимо воли втравили в тысячелетний конфликт и сделали карточными фигурами – Висельником и Колесницей, но разума моего покамест никто не отнимал. А разум говорит одно: с бесхитростным и горячным Ленуаром иметь дело куда как лучше, нежели с затейливым и скрытным Мрузом. Лучше и полезнее – я рассчитываю извлечь из старого безбожника информацию о том, что делается внутри Орденской твердыни… А-а, вот и наши друзья-цыгане! Небось, к упомянутой твердыне и наведывались, черти!
Проницательность графа, как всегда, оказалась на высоте: Виорел и Плешка действительно успели побывать у ворот замка. Тараторя на своём языке, возвратившиеся цыгане бурно обсуждали результаты похода. Толстой сейчас же отправил Плешку в обществе провинившегося Курволяйнена за одеждой старика, а к Виорелу Акиму подступил с вопросом:
- Помнится, ты обещал провести нас в замок, Вождь. Что скажешь нынче?
- Баро Аким не бросает слов на ветер, – с достоинством ответил цыган. – И туда войдём, и назад выйдем. Но пока не вернулся Плешка, может, барин скажет бедному цыгану – кого мы спасли? Сдаётся, француз – человек недобрый.
- Да ты, похоже, решил уподобиться всеведущему Мрузу?! – язвительно отозвался Толстой, однако, честно изложил основную суть рассказа Ленуара.
После того, как граф закончил, Виорел Аким задал единственный вопрос:
- Скажи, барин, когда узнаешь от злого старика всё, что хотел, и он тебе станет не нужен, позволишь мне его задушить?
Американец плюнул на снег, укоризненно махнул рукой, но отвечать не стал – прав мосье Александр: кругом одно варварство.
Вернулись денщик с мальчиком и принесли Ленуару вещи – тёплое бельё и чёрную сюртучную пару. Тут же Крыжановский велел трогаться.
Шестёрки резво понеслись вперёд. Не прошло и четверти часа, как показался замок Радзивилла. Бледная зимняя луна, что величаво правила бисерной россыпью небесных подданных, на землю взирала с изрядной толикой высокомерия. В её неверном свете, безмолвное, возвышалось логово Зверя.
Вопреки ожиданиям, замок был невелик и выглядел иначе, чем представлялось из рассказа юного Плешки. Воображение рисовало Максиму неприступную крепость, оседлавшую вершину холма, но замок стоял на равнине. Даже крепостной ров отсутствовал. Правда, поблизости спала скованная льдом какая-никакая речушка, через которую перекинулся весьма живописный мост, ведущий к замку, но преграду при штурме та речушка учинить не могла.
«Интересно, какому древнему болвану взбрело на ум тратить силы, чтоб в столь неподходящем месте возвести крепость? – недоумевал полковник. – А сам замок…, ведь это надо: средняя надвратная башня закрывает обзор двум угловым. Эх, сюда бы Финляндский полк с батареей Фридриха Беллинсгаузена!»
Тут Максима посетила другая, более здравая мысль: в любом случае пришлось бы лезть внутрь, а штурм начинать только после того, как Елена окажется на свободе, иначе эзотерики наверняка успели бы с ней расправиться или, на худой конец, увели с собой через подземный ход, ежели он тут, конечно, есть.
Максим спросил про подземный ход у Ленуара. Тот, без тени сомнений, подтвердил: по крайней мере, один такой в замке имеется. Француз даже знал, куда он ведёт – в чащу леса, к уединённому охотничьему домику, но отправляться на поиски домика разубедил: открыть тяжёлую затворную плиту снаружи невозможно, даже взрывая порох.
Далее, направляемый умело поставленными вопросами Американца, мосье Александр принялся безудержно говорить, и услышанное убедило Максима, что в сложившейся ситуации престарелый учёный стоит пусть не дороже гвардейского полка, но пары рот егерей – точно.
Француз заявил, что замок состоит из двух частей: наземной и подземной.
На поверхности находятся, собственно, укрепления – башни и стены, а также солдатские казармы, конюшня и княжеский дворец. Во дворце, в одной из гостевых комнат, держат Елену. Вся эта часть буквально кишит людьми Радзивилла: шагу нельзя ступить, чтобы не натолкнуться на улана.
Под землёй простираются обширные многоярусные катакомбы. Туда солдатам ходу нет. В самом верхнем подземном ярусе прорублены многочисленные кельи, в которых в средние века, когда Красный замок ещё являлся главной квартирой Ордена, проживала основная часть эзотериков. Сейчас же кельи по большей части пустуют. В одной из них до последнего времени обитал мосье Ленуар. На том же ярусе, что и кельи, расположены камеры для узников и комната дознания.
Нижние ярусы скрывают места тайных ритуалов Ордена. Там, на каменном алтаре, лежат Книга Судьбы и Табличка Исиды. Туда француз ежедневно спускался для работы.
Максим попытался выведать сведения о количестве солдат, расположении постов и частоте смены караула, но здесь Ленуар помочь оказался не в силах. Чувствовалось, старик действительно ничего не знает. Внезапно он схватил полковника за рукав и возбуждённо заговорил:
- Вам не нужно пробираться мимо часовых, достаточно только попасть в подземелье! Там есть шахты для поступления воздуха в кельи, по этим шахтам ловкий человек сможет достигнуть и гостевых комнат. Пускай не именно той, где сидит ваша колдунья, но одной из соседних, дайте скорее бумагу, я всё нарисую!
Бумаги у Максима не оказалось, не было её и у Фёдора, а равно у остальных участников экспедиции. Толстой пожал плечами и сказал:
- Вот видите, господин Ленуар, как легли карты? Ничего иного не остаётся, решено, вы идёте с нами!
Старик буквально взвился в воздух от ужаса и возмущения:
- Господа, зачем вы сняли меня с дерева?! Чтоб обречь на новые, ещё большие муки?! Сейчас я был бы мёртв, а значит – нашёл покой! В благодарность за спасение я сделал всё возможное, чтоб убедить вас не лезть в замок, а когда это не удалось, на свою беду решил подсказать способ – облегчить задачу…, к чёрту бумагу! На снегу нарисую, как попасть в подземелье и найти воздушные шахты!
- Хорошо, мы не будем настаивать, господин Ленуар, – мурлычущим котом подступил Толстой, как только старик умолк, чтоб отдышаться, – но скажите на милость, как вы себе представляете собственное будущее? Куда теперь направитесь? Где станете жить?
Мгновение француз смотрел на графа, а затем опустил плечи и снова видом напомнил ворону.
- Сможете спрятаться так, чтобы Орден до вас не добрался? – продолжил спрашивать Толстой.
Старик продолжал молчать.
- Позвольте тогда пригласить вас на жительство ко мне в имение, господин Ленуар, там скопилась изрядная коллекция старинных книг. Говорят, некоторые – весьма редки. Обещаю полнейший покой и умиротворение. Вот только одна загвоздка, – граф развёл руками, – прежде мне нужно войти в замок и выйти наружу живым.
Долго, очень долго Ленуар не поднимал головы, а затем, всё же, нашёл в себе силы взглянуть на графа – в глазах бывшего эзотерика застыла смертная тоска. Тем не менее, он согласно кивнул.
Глава 6 Катакомбы
12 (24) ноября 1812 г.
Окрестности Красного замка близ города Мир Гродненской губернии.
- Скажите, господин Александр, вон то окно, что так ярко светит…, не там ли держат Елену? – допытывался Крыжановский.
- Нет, это покои Гроссмейстера, – откликнулся учёный. Но вы зря помышляете об окнах, полковник – везде железные решётки. Единственный путь – через замковое подземелье. А туда можно проникнуть только двумя способами: либо через кордегардию в надвратной башне, либо через главный зал во дворце. Кордегардия не подходит – там всегда полно солдат, остаётся зал. Если перелезть через южную стену и незаметно пересечь внутренний двор…, но позвольте, мне ни за что не взобраться на стену, как же вы собираетесь…
- Погодите, о, мудрейший, – прервал учёного Толстой, – мне самому интересно знать: как мы собираемся войти?
- Вождь, пришло время исполнить обещание! – перейдя на русский язык, граф объяснил цыгану суть вопроса.
Виорел Аким оскалился по-волчьи и, ни слова не говоря, скинул тулуп.
- Это что за фокус? – удивился Толстой. – Неужели ты решил обнажиться и померяться естеством с мосье Александром? Никогда бы не подумал, что у цыган те же обычаи, что у дикарей Нового Света.
Баро снова ничего не ответил, торжественно отстегнул палаш и передал его Плешке, а затем, обернув вокруг пояса длинный кнут – тот самый, каким хлестался с Еленой, решительным шагом двинулся к мосту.
- Чёрт, сейчас и сам погибнет, и всё дело погубит, – прошептал Толстой.
Крыжановский хотел остановить цыгана. Но ему в ноги кинулся Плешка, обнял колени и ну причитать:
- Трубул ажюкэрав[175], рай! Баро Аким хорошо танцует!
Цыган тем временем вступил на мост. Из замка его тотчас заметили: где-то скрипнула дверь и выпустила двоих с ружьями. Один из них поднял над головой фонарь и окликнул пришлого. Виорел Аким остановился, затем неожиданно хлопнул себя ладонью по сапогу и пустился в пляс. В ночной тиши громко щёлкнул взводимый кремневый замок, дуло ружья кивнуло приближающемуся цыгану.
Коротко, как выстрел, прозвучало ругательство Максима.
Самого же выстрела не последовало. Стражники, отчего-то застыли, подобно изваяниям: один – с поднятым над головой фонарём, другой – прицелившись из ружья.
А цыган, как ни в чём не бывало, продолжает танцевать. Странный этот танец приковывает внимание так, что Максим не может оторвать взгляда. Остальное совершенно перестаёт его интересовать. Где-то рядом, назойливо и раздражающе, бубнит Ленуар: «Что происходит… Как интересно… В первый раз вижу…». Но где взять силы, чтоб остановить француза, если хочется смотреть только на танец?
Баро минует стражников и исчезает в проёме ворот.
- Трубул ваздав-ма[176], райе! – Плешка сильно дёрнул Максима за штанину, и тому удалось стряхнуть оцепенение.
Увидав, что полковник приходит в себя и очумело мотает головой, цыганёнок подскочил к Толстому и давай его тоже трепать за штанину:
- Фуго[177], райе, фуго!
Граф вздрогнул и глубоко вздохнул, приходя в себя, а мальчонка, тем временем, кинулся к солдатам.
- Потрясающий опыт, – восхищённо пробормотал мосье Александр. – Как я понимаю, это нечто из арсенала Носителей. Интересно, каково научное объяснение?
Учёной беседы не вышло – у входа появилась фигура Акима и энергично замахала руками.
- Фуго, райе, фуго! – снова крикнул Плешка и мышью метнулся к мосту.
- Илья, присмотри за конями! – приказал Максим, бросаясь вслед за цыганёнком. – Мы скоро…
- К чёрту коней! – возразил граф. – Что им сделается? А у нас каждый штык наперечёт.
Максим не стал возражать – резонность слов Американца не вызывала сомнений. Курволяйнен, подхватив под руку француза, устремился вслед за остальными.
Пробегая мимо застывших стражников, полковник на миг представил, как сейчас они зашевелятся и поднимут тревогу, но ничего подобного не случилось. Неподвижность также хранил и незамеченный ранее третий солдат, силуэт которого торчал наверху – в одной из ярко освещённых бойниц.
Вблизи стала понятна фортификационная выгода надвратной башни: для того, чтобы добраться до основных ворот, осаждающим следовало прежде войти в довольно узкую, пронизывающую толщу башни, арку. А там вдоль стен – бойницы.
Возле невысокой, окованной железом двери поджидал Аким.
- Не шуми и не смотри им в глаза, барин! И на кнут не смотри, а ступай за Плешкой, – сказал он тихо.
Максим вошёл в дверь и оказался в кордегардии. Четверо улан за столом перед тем, видно, играли в кости. Ещё один присел у очага, намереваясь подбросить дров в огонь. На вошедшего никто не обращал внимания – все глядели на переброшенный через потолочную балку кнут. Ритмично покачиваясь, тот издавал едва слышный скрип. Помятуя предупреждение цыгана, Максим поспешно отвёл взгляд, но и мига хватило, чтоб в памяти всплыла еловая лапа, как бы невзначай задетая Еленой в лесу, близ табора. И качалась тогда лапа похоже, и ноги отказывались идти точно так же, как сейчас. Хорошо, что цыганёнок вовремя потянул за руку, иначе в кордегардии появилась бы ещё одна застывшая фигура.
Пришёл он в себя только в соседнем помещении. Это была столовая для караула. Ни одного окна – лишь пара чадящих факелов в проёме. Посредине тяжёлый деревянный стол со скамьями, а в стену вмурованы три огромных бочки днами наружу. В каждой бочке – сливной кран.
Вошли Илья с французом.
- Хорошо живуть поляки! Вашвысбродь, дозвольте проверить, что там налито в бочках, – первым делом заявил Курволяйнен.
- Не о том думаешь, болван! – сурово ответил Максим.
Между тем Ленуара тоже заинтересовали бочки. Старик подошёл к одной из них и, что есть сил, потянул кран на себя. Послышался скрип, и массивное дно отошло в сторону, открывая круглый лаз. Оттуда пахнуло затхлостью погреба.
- Гениально! – заявил появившийся в этот момент Толстой. – Эй, Вождь, забирай свой кнут и бегом за нами.
Баро неукоснительно выполнил указание графа, но прежде отвесил подзатыльник Плешке, который уже протянул руку, чтоб стащить горсть монет у одного из игроков в кордегардии.
Когда бочка встала на место, надёжно отрезав участников экспедиции от живых изваяний, Максим немедленно спросил у цыгана – что произойдёт, когда уланы очнутся?
- Немножко будет болеть голова, барин, особенно если захотят вспомнить, что с ними было, – коротко объяснил Аким.
Каменные ступени круто уходили вниз и терялись в кромешной тьме. С нею мужественно боролись два масляных фонаря, которые были в отряде, однако никаких сомнений в победе тьмы над светом ни у кого не возникало.
Александр Ленуар взял у Толстого фонарь и начал спускаться, остальные двинулись за ним. Вскоре ступени закончились, и отряд оказался в узком, разветвляющемся надвое, коридоре. Француз остановился в раздумье.
- Здесь начинается вотчина Прозектора, желательно с ним не встречаться.
- Кто такой Прозектор, о котором вы упоминаете уже не первый раз? – поинтересовался Толстой.
- О, это весьма выдающаяся личность. Полное имя – Отто Бомбаст Батист Шнорр, но все зовут его Простой Батист[178]. Указанная должность существует для того, чтоб извлекать правду из тех, кто не желает говорить.
- Понятно, Прозектор[179] – нечто вроде палача, – сказал Толстой
- Не совсем так, граф, – возразил Ленуар. – Вы даёте весьма узкое определение и самой должности, и личности, которая её занимает. Судите сами: раньше Простой Батист долгие годы служил дознавателем в Святой Инквизиции и на этом поприще снискал весьма солидную репутацию. Но, как это часто бывает, недоброжелатели обвинили беднягу в том, будто он выбивал показания дьявольскими методами. Сам Батист уверяет, что это родственники испытуемых, которые побывали в его руках, ради мести подкупили кого надо. Как бы там ни было, отцы-инквизиторы приговорили Отто Шнорра к сожжению на костре. Орден не позволил свершиться несправедливости, и в результате приобрёл весьма ценного специалиста.
- Да уж, – воскликнул граф и тряхнул саквояжем. – Надеюсь, возможность познакомиться со столь замечательным человеком ещё появится.
- Лучше пусть не появляется, – вздохнул учёный.
Для солдат и цыган, которые не владели французским языком, диалог между Американцем и Ленуаром казался изнурительно-тоскливым. Дисциплинированные гвардейцы ожидали его окончания безропотно, цыгане – совсем другое дело: Плешка шипел на француза как злой котёнок, а Виорел Аким нетерпеливо переминался с ноги на ногу и что-то бурчал себе под нос. Наконец он не выдержал, выхватил из руки Коренного фонарь и решительно вошёл в правый коридор.
- Осторожно! – шикнул Ленуар. – На ночь здесь обычно взводят ловушки…
Увы, как уже говорилось, Аким не понимал по-французски. Послышался душераздирающий скрежет и цыган вскрикнул. Толстой прыгнул вперёд и успел увидеть, как встаёт на место вздыбившаяся половая плита.
Звяк! – саквояж графа принял на себя неимоверный вес камня, оставляя щель в полторы пяди, вполне достаточную, чтобы заглянуть вниз. Прежде чем погаснуть, фитиль в разбившемся фонаре ярко вспыхнул и позволил Фёдору во всех подробностях рассмотреть цыгана, лежавшего на дне провала. Баро Виорел Аким был мёртв – из спины его торчали два окровавленных острия.
- Maximus! N'admets pas ici le gamin[180]! – крикнул Толстой, но Плешка быстро всё понял и птичкой, попавшей в силок, забился в руках Крыжановского. Полковник прижал мальчика к груди, слегка поморщился, когда тот впился зубами в плечо, и стал гладить по затылку, ласково что-то приговаривая.
- Вождь окончил свой танец, и нет нужды аплодировать – на «бис» он уже не выйдет! – объявил возвратившийся Толстой. – Господин Александр, помнится, вы сетовали на то, как ужасно, когда ключ не подходит к замку. Цыган тоже был своеобразным ключом, теперь же этот ключ сломался, закупорив нас в катакомбах.
Иных надгробных речей не последовало, лишь учёный мрачно заметил:
- Безвыходных положений не бывает, выйдем подземным ходом, о котором я упоминал ранее. Для этого придётся спускаться на нижние ярусы.
- А там чья вотчина? – спросил Максим, продолжая наглаживать притихшего цыганёнка.
- Живых там нет, – ответил Ленуар и, повернув в правый проход, без опаски наступил на плиту, ставшую могильной для несчастного цыгана.
Чуть погодя, учёный попросил:
- Соблюдайте тишину – сейчас начнутся кельи. Все они пустуют, кроме двух крайних, которые занимают Простой Батист и его ученик. Парочка может быть либо там, либо в прозекторской.
Вдоль стен стали попадаться низкие и узкие двери. Миновав с десяток, Ленуар толкнул одну из них и ввёл спутников в небольшое помещение.
- Это моя келья, здесь безопасно, – сказал он и стал рыться в какой-то нише.
- Как-то у вас тут убого, – осмотревшись, заметил граф. Смахнув пыль с грубого табурета, он уселся у стола.
Ленуар достал вязанку свечей и, запалив одну, потушил фонарь. Подняв свечу над головой, учёный указал на деревянную решётку, что закрывала большое квадратное отверстие у самого потолка.
- В давние времена Гроссмейстер Ордена держал при себе специального ловкого человека – тот, перемещаясь по воздушным шахтам, доносил обо всём, что слышал в замке. Сам я, конечно, внутри не был, но устройство шахт представляю хорошо: в своё время, знаете ли, проявил любопытство, сейчас вот пригодилось.
Максим кивнул Коренному. Гренадёр вспрыгнул на стол и схватился за решётку руками. На миг он застыл неподвижно, затем крякнул и одним могучим рывком выдрал её, при этом чуть не свалившись на пол.
- Я же просил соблюдать тишину – нас могли услышать, – взмолился француз. Он задул свечу и, приоткрыв дверь, прислушался к тому, что делается снаружи. Но в катакомбах царили тьма и безмолвие. Облегчённо вздохнув, Ленуар затворил дверь и снова запалил свечу.
- Воздушные шахты тянутся горизонтально вдоль этого яруса до самой прозекторской, а дальше уходят вверх. Но не нужно беспокоиться – наверняка гроссмейстерские шпионы позаботились о возможности удобного подъёма. Так можно достигнуть первого, второго и третьего наземных этажей. Шахты тянутся вдоль каждого из них, но гостевые комнаты – на среднем. Комната Елены будет последней: думаю, туда шахта не доходит. В остальных комнатах можно столкнуться с жильцами. Я точно знаю, что в одной – гость из Египта по имени Абу-Гаяс. Это весьма необычный и очень опасный человек – посланец Старца Горы. В другой часто останавливается князь Юзеф Понятовский…
- Кто?! – в один голос вскричали Толстой с Крыжановским.
- Князь Юзеф – лучший друг хозяина замка. Можно сказать – кумир. Он не член Ордена, отказался от этой чести…
- А в последнее время, до того, как повиснуть на дереве, вам, случайно, не доводилось встречать поблизости господина Понятовского? – вкрадчиво спросил Максим.
- В последнее время – нет, – пожал плечами Ленуар. – Но сейчас – не знаю, часть его корпуса стоит гарнизоном в соседнем городке, мог и заглянуть в замок.
- Скажите, господин Всезнайка, а как так получилось, что Радзивилл, пребывая в столь юном возрасте, смог занять генеральский пост? – встрял Толстой. – Ведь, если не ошибаюсь, это очень высокий пост в Ордене.
- По наследству, дорогой граф. Радзивиллы испокон веков владели Красным замком. Высшие посты в Ордене передаются по наследству внутри кланов. Эти кланы называют домами. Радзивиллы принадлежат к дому Сихемской Твердыни, и все их отпрыски с рождения посвящены делу защиты Ордена.
- Довольно разговоров, господа, пора браться за дело, – прервал словоохотливого учёного Максим.
Быстро избавившись от громоздкой зимней одежды, он остался в рубахе, брюках и сапогах. Кроме перечисленного, надел перевязь с саблей. К перевязи на груди приторочил два пистолета.
Сборы Американца оказались столь же короткими. С видимым сожалением граф расстался с саквояжем и семиствольным карабином, передав их на хранение Курволяйнену. Вначале хотел препоручить сокровища цыганёнку, но, взглянув с какой нежностью тот баюкает палаш погибшего Акима, посчитал сие дурной приметой. Поцеловав небольшую иконку, что висела у него на шее, граф подтянулся на руках и исчез в зияющем чёрном квадрате.
Крыжановский отвёл в угол Коренного и тихо сказал, кивнув на Илью с Плешкой:
- Присмотри за мальчишками, Леонтий, надеюсь на тебя, но особенно не спускай глаз со старика, к коему у меня нет доверия. Если что – насмерть не души, а просто переломай ему ноги, руки же не трогай, чтоб после мог показать, где подземный ход.
Гренадер угрюмо козырнул, а Максим, более не задерживаясь, размашисто перекрестился и последовал за Американцем.
Глава 7 Лучшие лжепророки выходят из сапожников
12 (24) ноября 1812 г.
Красный замок близ города Мир Гродненской губернии.
Давно уже Максим не испытывал такой, как сейчас, потребности излить душу в ругательствах. И было из-за чего – внутренность воздушных шахт кишела всякой мерзостью. Ползёшь на карачках, а из-под рук то и дело выскальзывают пауки с многоножками, кругом склизкий мох, а издалека доносится крысиный писк. Графу – и того хуже: приходится продираться через плотные слои паутины. На долю Максима этого добра тоже хватает, но основная часть всё же оседает на шевелюре и плечах Фёдора. Хороши же они будут, когда после такого путешествия явятся перед Еленой! Не поднимет ли девушка крик от испуга?
Слабый свет, что забрезжил впереди, заставил компаньонов удвоить осторожность: оба теперь двигались совершенно бесшумно. Внезапно, словно из глубокого колодца, зарокотал чей-то могучий бас:
- С мужчинами работать одно удовольствие. Женщины – менее подходящий материал. Слово "женщина", то есть "femina", происходит от "fides" и "minus" и означает «меньше веры»[181]. Лишь людоеды и прелюбодеи предпочитают женщин мужчинам, но делают это в силу несколько иных причин, нежели живость ума и глубина сознания!
Владелец баса говорил по-французски с заметным немецким акцентом, что придавало его словам особенную твёрдость.
- Мастер, – послышался другой голос, гнусавость которого показалась Максиму смутно знакомой. – Вы не впервые говорите «глубина сознания», и я всякий раз собираюсь спросить – что это такое?
Компаньоны вплотную подобрались к зарешёченному отверстию, откуда исходил свет, и теперь могли видеть происходящее. Помещение, отделённое от них деревянной решёткой, очевидно и являлось пресловутой «прозекторской», каковую упоминал старый эзотерик. Камера пыток – вот что она из себя представляла! Ярко пылающий очаг, рядом кузнечные меха, кругом тошнотворного вида палаческие приспособления и инструменты.
У механизма, напоминающего плод противоестественной связи между тисками и гробом, стояли двое. В одном Максим без труда узнал старого знакомца – Франсуа Белье, коего давешний шрам наделил вечной улыбкой, правда, с одной лишь стороны лица. Вид второго человека принёс понимание того, почему Ленуару совершенно не хотелось с ним встречаться. Заплывший жиром, чудовищных размеров гигант, облачённый лишь в кожаный мясницкий фартук: такого раз увидишь – уж не позабудешь. Прозектор по имени Простой Батист собственной персоной!
- Так спроси, дурак, а не собирайся! – рявкнул гигант и нежно провёл ладонью по крышке гробоподобного приспособления. – Знаешь выражение «deus ex machina», о, бестолковый ученик?
- Так точно, мастер, – поклонился Белье. – Мне известно сие: «бог в машине», слова, которыми греки объясняли неожиданный финал…
- Именно! – оборвал Прозектор и снова любовно коснулся странного гроба. – Так вот, мне иной раз кажется, что в эту машинку снисходит Бог.
- Приступим! – скомандовал он себе и потянул выступающий рычаг. В уши ввинтился нечеловеческий скрип перемешанный со сдерживаемым хрипом.
Только сейчас Максим заметил, что в гробу кто-то заключён – голова несчастного торчала наружу.
Сипели кости и жалобно плакали жилы. И граф, и полковник с трудом сдерживались, чтоб не выдать себя. Наконец все стихло, ужасающий Прозектор наклонился к устройству.
Узник что-то прошептал, но слишком тихо, чтоб быть услышанным.
- Громче! – рявкнул палач.
- Разве ты не знаешь? – послышался голос пытуемого. – Разве не слышал…
- Что? Что не слышал? – шумно задышав, спросил гигант. – Говори!
- Разве не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?
- Ах ты, сукин сын! – воскликнул Прозектор и, не мудрствуя лукаво, ударил пленника по лицу открытой ладонью.
- Разум его неизследим! – прохрипел пленник.
Огромные руки со вздувшимися фалангами схватились за рычаги «божественной машинки».
- Будет тебе, ехидна, неутомленный Господь! – взревел палач. – Я – твой Господь! Я и моя машинка, единый в двух ликах!
Скрежет и утробный стон поспешили подтвердить угрозы гиганта.
- Говори! – приказал гигант. – Говори, ехидина! Кого ты посылал в Орден?! Кто те лазутчики, что поглумились над ритуалом Посвящения?!
Ответа не последовало. Зато внезапно прозвучал страшный трубный глас:
- Немного перестарались, Прозектор?
Максим с Фёдором вздрогнули.
Палач неспешно и с достоинством подошёл к какой–то медной трубе, выступающей из стены, приблизил к ней лицо и произнёс учтиво:
- Слушаю вас, достопочтенный Гроссмейстер.
«Переговорная труба», – догадался Максим.
- Отто Шнорр! Мы столько гонялись за этим человеком не для того, чтоб подарить вам его в качестве новой игрушки. Уже больше месяца минуло с того дня, как неизвестные проникли в святая святых, а мы до сих пор остаёмся в неведении относительно опасности, угрожающей Ордену, – прогудела труба.
Гигант широко улыбнулся, будто прозвучала весёлая шутка:
- Не стоит беспокоиться, достопочтенный мэтр! Ещё вчера я получил нужные ответы, сегодня же хочу лишь удостовериться в их истинности.
- Тогда говорите скорее – что удалось узнать?
- Стоит ли раньше времени, ведь окончательное подтверждение пока не получено? Позвольте ещё немного поработать с материалом!
- Нет времени, Прозектор, – вздохнула труба, – да будет вам известно, что ко всем прошлым бедам добавилась новая: армия неприятеля вот-вот подойдёт к нашим стенам. Я принял решение покинуть замок.
- Нет-нет! – вскричал гигант, озираясь по сторонам, – а как же мои машины? Я их не брошу…
- Ропщете?!
Простой Батист опустил плечи и сгорбился.
- Я жду сведений, полученных от пленника, Прозектор, разве вы забыли об этом?
- Пытуемый никогда не встречался с интересующими нас лазутчиками, – немедленно затараторил палач. – Он не знает их имён, а равно цели, побудившей проникнуть на ритуал Инициации.
При этих словах Толстой, с исказившимся лицом, ткнул пальцем вначале себе в грудь, а потом – в грудь Максиму, давая понять, что речь, дескать, идёт именно о них.
- Я так и думал, – сказала труба. – Но вы правы: лучше лишний раз удостовериться в истинности показаний. Прозелит, Прозектор!
- Повинуюсь!
Простой Батист подошёл к машине
- А теперь попробуем по старинке, как это принято в святой инквизиции, – приговаривая так, он ловко разобрал устройство и извлек истерзанного человека.
«Да это же Николя Белье, брат мерзавца Франсуа», – узнал несчастного страдальца Крыжановский
- Ну-ка, – обратился Батист к ученику. – Расскажи, как устроена эта машина.
- Так точно, мастер, – мгновенно подобрался младший Белье. – Приспособление называется «Туника Бахуса»: оно, подобно прессу, коим давят сок из виноградной лозы, сжимает внутренности человека. Органы лопаются, но внешне это никак не проявляется, исключая кровь, выступающую из естественных отверстий…
Гигант захохотал.
- Естественных отверстий? Это ты хорошо сказал, малыш Франсуа! Погоди, позже я обучу тебя, как увеличить количество отверстий, и обделать все так, чтоб они сошли за естественные!
Продолжая ужасающе хохотать, Батист стал возиться у очага, позвякивая железом
- Веришь ли, в давние времена простые люди считали, что лжепророки и чернокнижники выходят из сапожников! Случись бунт, падение скота или еще какая напасть – средь женщин завсегда находили повитуху и зарывали ее живьем, а средь мужчин – непременно сапожника!
На столе рядком выстроились кошмарные инструменты, от недостатка света полковник не мог разобрать – ржавчина ли на них.
- А еще простолюдины полагали, что орудие, коим дьявол в преисподней обихаживает грешников – сродни инструменту сапожника, – продолжал палач. – И они не так уж неправы! Смотри же!
Он стал указывать толстым пальцем на предметы и лекторским тоном объяснять:
- Это рашпиль; видишь – вроде напильник, но нарезка уж очень крупная, это чтобы вызнать у пытуемого что-то крупное. Вроде того, что дурак считает небо голубым, а нам нужно, чтоб зеленым! Берем рашпиль и готово!
- Это выколотка; на ней можно размягчать нужную часть тела, а можно выколачивать заклепки из пытуемого. Ну-ка, зубрила, где у пытуемого заклепки? А-а сегодня закончим рано, придется показать еще и их.
- Вот это – стамеска; употребляется для выдалбливания мелких деталей. Плоский, сточенный на конце клинок очень полезен для памяти. Тут же всплывает дивное количество подробностей.
- Это скобель; вещь замечательная и интересная. Запомни, работу надо любить и вкладывать в нее душу! Скобель – вершина изобретательности нашего брата. Видишь поперечные ручки? Так вот, инструмент служит для снимания верхнего слоя с пытуемого.
- Это тиски и клещи; они служат для весьма действенного и изощренного дознания – «Танец с дьяволом». Подай ведро воды, будем танцевать!
Вода полилась на бесчувственного Николя Белье, брат же его стоял в стороне и смотрел.
- Ничего не хочешь сказать, ехидна? – спросил палач у пленника.
- Мастер, позвольте мне, – проронил Франсуа.
В ответ громыхнул разъяренный рокот:
- А я велю тебе заткнуться, сопляк! Стой и смотри! Уж коли пришёл на обучение к Отто Бомбасту Батисту, будь любезен делать то, что скажу я!
Громоздкая туша палача повернулась к младшему Белье.
- И я говорю тебе, дружочек: мне плевать, что сотворил этот несчастный! Я хочу, чтобы он рассказал всё, но и тогда вряд ли остановлюсь! Ты же жди, пока он поведает нужное нам, чтобы потом иметь возможность передать сказанное Гроссмейстеру! Но не смей прерывать! Стой молча, а Батисту дай заниматься тем, что он умеет!
Франсуа Белье, ученик палача, застыл так, будто в пыточной камере появилась живая статуя – из тех, что с непревзойдённым искусством творил покойный Виорел Аким.
Максим чувствовал невыразимую жалость к несчастному Николя. Чувство это подогревалось угрызениями совести – ведь именно их с Фёдором поступки стали невольной причиной страданий драгуна, пусть даже врага, который, ничтоже сумняшеся, убивал русских, но, всё же, человека, несомненно, достойного. Можно бы, конечно, прикончить отвратительных палачей и вызволить старшего брата, но таковые действия тотчас раскроют присутствие в замке посторонних: станешь палить из пистолета – звуки выстрелов услышат на другом конце переговорной трубы, попытаешься вылезти и решить дело саблей – Батист с подручным успеют поднять тревогу.
Даже покинуть проклятое место нельзя: шахта, ведущая наверх – вот она, почти над головой, но начать подъём и при этом не выдать себя ни единым звуком – просто немыслимо. Остаётся одно – ждать, когда палачи уберутся из камеры пыток. Ждать, и желать несчастному Николя скорейшей смерти, несущей избавление от мук.
- Ну, ехидна, ты же не хочешь выставить меня лжецом перед достопочтенным мэтром Гроссмейстером? – почти ласково обратился Батист к пришедшему в себя пленнику, а затем, словно ребёнка, поднял его на руки.
Узник застонал и тихо-тихо просипел:
- Господь обращает князей в ничто, делает пустым судей земли.
Удовлетворенно хмыкнув, палач обратился к статуе Франсуа в углу:
- Здесь мы имеем дело либо с необъяснимым упрямством, либо с помешательством! Придётся отделить первое от второго. Для этого упомянутый мной «Танец с дьяволом» подойдёт как нельзя лучше.
Зажав в тиски одну кисть руки пытуемого, а вторую взяв в клещи, Простой Батист заставил бессильное и изувеченное тело вскочить на ноги и затрепетать в ужасающем подобии танца.
- Как тебе это? – торжествующе взревел палач. – Не хочешь ли вспомнить кое- что такое, чего я не знаю?
Батист стал вращать клещи, отчего Николя заплясал вдвое проворнее и громко закричал:
- Придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собирали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется[182]!
Батист явно не удовлетворился услышанным. Освободив Николя и позволив ему растянуться на полу, чудовище изрекло:
- Придётся прибегнуть к моему любимому методу! Берем скобель, который потому так и зовется, что им соскабливают кору с дерева. Нет, это, пожалуй, оставим напоследок, а сейчас я утомился и хочу есть. Пойдём же, Франсуа, воздадим должное доброму красному вину и искусно зажаренному каплуну, после чего продолжим наши труды.
Максим неожиданно понял, что за все время, проведенное здесь, так и не увидел палача с ног до головы. В круг света всегда попадала лишь какая-то часть Батиста. «Кошмар!» – беззвучно сказал Крыжановский, наблюдая, как огромная туша выходит из пыточной.
Франсуа же за ним не последовал, а задержался возле лежащего на полу брата. Накинув ему на шею верёвочную петлю и прижав грудь коленом, быстро задушил.
- Прошлое напоминает о милосердии, прощай, братец! – сказал он и выбежал за дверь. В замке два раза щёлкнул поворачиваемый ключ.
Минуту компаньоны молчали, а затем дали волю чувствам, изрыгнув подходящие случаю ругательства. Толстой, придя в себя первым, зажёг прихваченную в келье Ленуара свечу и осветил уходящую вверх шахту.
- Мосье Александр оказался прав: смотри, Максимус, здесь в камне кругом наделано выбоин для удобства, э-э, брат, да ты никак продолжаешь терзать себя угрызениями. Без надобности это нынче, а вот на обратном пути, ежели позволит время, стоит заглянуть к господину Прозектору, побеседовать, так сказать, о вечности.
- Твоя правда, – тряхнул плечами Максим и первым начал подъём – ему очень захотелось как можно быстрее покинуть ужасное место. Откуда-то сверху проникал тусклый рассеянный свет, вполне позволяя разглядеть выемки в стенах, выбитые безвестными лазутчиками почивших орденских владык. Следует сказать, что лазутчики постарались на славу – подниматься было удобно и безопасно. Достигнув горизонтального ответвления, идущего вдоль первого дворцового этажа, компаньоны останавливаться не стали, а продолжили путь наверх. И вот, наконец, второй этаж. Здесь Максима с Фёдором поджидал сюрприз: Ленуар указывал, что Елену держат в последней комнате этого этажа, но в каком крыле, в правом или левом, ежели шахты ведут в обе стороны?
- Есть одно дело, mon ami, о котором мы оба знаем, но коего доселе ни разу не обсуждали, – удобно усевшись и свесив вниз ноги, заявил Толстой. Я о том, как будем делить девушку?
- Думаю, следует предоставить выбор ей, – жёстко ответил Максим. – А чего это ты взялся делить шкуру неубитого медведя?
- Так самое время, душа моя, самое время. Елена ждёт в конце шахты. Шахт всего две, нас тоже двое, улавливаешь мысль?
- Похоже, ты предлагаешь разыграть шанс?
- В яблочко, mon colonel! Положимся на судьбу и отправимся каждый в свою сторону, но прежде поклянёмся, что тот, кто останется с носом, смирится с неудачей и не станет продолжать соперничество.
- Согласен, – просто ответил Максим. – Даю слово чести подчиниться выбору судьбы, каким бы он ни был.
- Даю слово чести, подчиниться выбору судьбы, каким бы он ни был, – как эхо повторил Фёдор. – Какую сторону выбираешь?
Максим отправился налево, ибо в миг раздумья память явила образ Виорела Акима, решительно поворачивающего направо, где его ждала скорая погибель.
Глава 8 Путь Колесницы
13 (24) ноября 1812 г.
Красный замок близ города Мир Гродненской губернии.
Комната была последней на этаже. В отличие от остальных, мимо которых проскользнул Максим, её наполнял свет. Змеящийся причудливым орнаментом бронзовый светильник под самым потолком, покачивался в безветрии и прочно приковывал взгляд. Кроме того, кругом во множестве толпились свечи в тяжелых жирандолях[183]. Ярко пылал старинный камин, пол покрывал роскошный цветастый ковер, ныне усыпанный пеплом. Справа от дверного проема к стене прислонилась просторная софа с небрежно наброшенной поверх тигровой шкурой.
На софе сидел смуглолицый, худощавый молодой человек. Волосы его, чернее сажи, мудрено перекручивались и сбегали за спину. Из одежды юноша потрудился надеть лишь белоснежную тунику и красный кушак. Еще один широкий пояс лежал рядом, по-видимому, для навертывания на голову. Босые ноги нетерпеливо мяли пепел, сыплющийся из кальяна, курение которого всецело поглощало внимание обитателя комнаты. Ноздрей Крыжановского достиг сладковатый дымок.
«Видимо, это и есть тот самый гость по имени Абу–как-его-там, коего упоминал мосье Александр, – догадался полковник. Как бы разминуться с чёртовым курильщиком?» Возвращаться и лезть в одно из тёмных помещений совершенно не хотелось, ведь двери в них наверняка заперты. Но, кроме столь очевидного объяснения, нежелание возвращаться имело ещё одну причину, в существовании которой Максим не признался бы никому. Причина эта носила чин Прозектора и имя – Отто Бомбаст Батист Шнорр! Представлялось, что там, во тьме, притаилась кошмарная туша, которая только и ждёт…, эх, надо было, подобно графу, захватить свечку!»
Между тем молодой человек в комнате шумно вдохнул и откинулся на софу – струйки дыма медленно вытекали из носа, арабской вязью поднимались к потолку и, перекидываясь к светильнику, расщеплялись на тончайшие нити, отчего казалось, будто в воздухе висят паучьи сети.
Послышался скрип отворившейся двери, и в комнату вошёл человек в знакомой алой рясе эзотерика с опущенным на лицо капюшоном.
- Мераб, – сказал он от порога. – Простите, что тревожу раньше времени...
- Махди[184], – поклонился вошедшему молодой человек, вставая. – Входите, я рад вам.
В устах пришельца с Востока, французская речь из идеального языка для признаний в любви стала языком точеных кинжалов и тонких лес. От простых, казалось, слов молодого человека веяло смертью, а глаза горели лихорадочным огнем.
- Но почему, Махди, – продолжил названный Мерабом. – вы постоянно обращаетесь ко мне по рангу. Чем плох Абу-Гаяс-аль-Кумар?
- Таковы правила Ордена, – жёстко отрезал человек в мантии.
Максим узнал если не сам голос, но интонации – те самые, что недавно в прозекторской доносила переговорная труба. К обладателю интонаций Простой Батист обращался не иначе, как «достопочтенный мэтр Гроссмейстер»!
- Пусть глубокоуважаемый Мераб, – продолжил Гроссмейстер, – не сочтёт это оскорблением, а равно простит мне скорый приход до завершения установленного приличиями отдыха, но время не ждёт – враги скоро будут у стен замка. Вам нужно торопиться.
- Махди, я готов отправиться в обратный путь немедленно…
- Но прежде я должен знать, что услышит Старец Горы о происшедшем здесь.
- Только правду, – дерзко усмехнулся Абу-Гаяс. – Орден слаб настолько, что не смог устоять даже перед женщиной.
- Генерал – ещё не весь Орден, – вкрадчиво заметил Гроссмейстер.
Абу-Гаяс зло усмехнулся:
- Ему следовало вырвать зуб! Женщина приносит несчастья, и иногда ее стоит убить или взять силой! Но лишь свою женщину, Махди! Думаю, Генерала все-таки лишат зуба!
Максим смутно разумел, что по-арабски «зуб» значит нечто такое, что Абу-Гаяс постеснялся переносить в другой язык.
- Вижу, от вас бесконечно далеки истинные корни происходящего, – всё так же вкрадчиво продолжал Гроссмейстер. – Глава Сихемской Твердыни действовал не столько, будучи под властью женских чар, сколько руководствуясь высшими интересами и моим прямым указанием. Да будет вам известно, что случилось коварное предательство! Ордену изменил тот, кто ему обязан всем в жизни. И стало такое возможным по вине Пенуэльского дома. Пусть Мераб ознакомится с письмом, содержание коего тщательно скрывалось от всех.
На тигровую шкуру с шуршанием лёг большой белый конверт.
- Позже мы обсудим, как покарать автора послания, – продолжил Гроссмейстер, – сейчас же следует позаботиться о собственном спасении. Мне известно, что ваша организация переживает не лучшие времена и отчаянно нуждается в союзниках. Старец Горы должен принять наше предложение, ибо вместе легче выстоять.
- Шейх аль-Джабаль[185] не пойдёт под власть Ордена, – гордо вскинув голову, объявил Абу-Гаяс, – ибо это означает – попасть под власть женщины.
- Мы готовы пересмотреть условия соглашения, – с готовностью заявил Гроссмейстер.
- Но как быть с ней?
- Я позабочусь о том, чтобы к Генералу вернулся разум! Приду через час, – отрубил Гроссмейстер.
Два человека, одетых в цвета ненависти и крови, поклонились друг другу, Гроссмейстер вышел, а Мераб снова занялся курением.
Давний – почерневший табак отправился в огонь камина, новый – ловко уложился в чашку наверху кальяна, укрывшись тонким металлическим решетом, а сверху легли жаркие угли. Абу-Гаяс удобно устроился на софе, подложив подушки под все части тела, и замер с закрытыми глазами.
Максим стал готовиться к бою. Он мало понял из подслушанного разговора, но в одном не сомневался: только что прозвучал смертный приговор Елене.
От удара ноги деревянная решётка с грохотом влетела в комнату, пламя свечей испуганно встрепенулось. Посланец горы поднял взгляд, ставший еще безумнее, чем прежде, и посмотрел в лицо внезапно представшему пред ним испачканному человеку с саблей в руке. Максиму показалось, что араб смотрит куда–то… мимо. Так продолжалось лишь мгновение, затем последовал по-восточному витиеватый приглашающий жест.
Полковник потянулся всем телом, возвращая подвижность членам, онемевшим от долгого нахождения в тесноте, сладко зевнул и шагнул вперёд. В следующий миг он замер в изумлении: Абу-Гаяс неуловимо быстрым движением поднялся с софы, а в руках его, неизвестно как и откуда, возникли сабля и необычно изогнутый кинжал.
- Неужели Махди полагал, будто я поверю лживым словам и решу, что после всего увиденного здесь он позволит мне покинуть замок?
Юноша безумно захохотал.
- Мераб Ордена гашишинов Абу-Гаяс-аль-Кумар готов к смерти! Но прежде он уничтожит тебя и незримую армию, что следует за тобой, чужак, – кончик сабли обвёл помещение. – Слушайте же, о, враги мои! Слушайте и не утверждайте на Суде, что не слышали! Старцы говорят: чем прекраснее смерть воина, тем ослепительнее его грядущее! Узрите же!!!
Стальные клинки сплелись в страшном танце – Максим едва не проглядел выпад – сабля посланника Горы рассекла воздух, пройдя в пальце от его шеи.
Ответный выпад едва не лишил гашишина глаза – похожий удар разрешил дуэль братьев Белье.
- Джинны, я не убоюсь вас! – Абу-Гаяс бросился в бой. Теперь он сражался не только с Максимом, но и с десятком невидимых существ! Короткий и длинный клинки не давали продыха Крыжановскому, и еще успевали разносить жирандоли, в коих, наверное, гашишину и виделись джинны.
Сражающиеся разошлись – араб медленно моргал, а клинок его выписывал невообразимо стремительные петли.
- Ты не испугаешь меня, чужак! Я видел, что там – после смерти! Мне нечего страшиться блаженства и радости! Я расскажу тебе!
Но, вместо рассказа, Мераб вновь кинулся на Максима. К счастью, кроме полковника, ему противостояла еще армия джиннов-свечей.
- На входе передо мной встало семь врат, и устрашился я! – воскликнул араб и, неожиданно широко размахнувшись, обрушился на полковника. – Но нашептали прекрасные гурии, лаская языками мои уши, что грешников врата ведут в пламя, блаженных – в серый шеоль, а героям и праведникам открыт проход в Олам Галь-Джанн!
Язык гашишина заплетался, но клинок выписывал всё те же смертоносные петли. И самое ужасное: Абу-Гаяс-аль-Кумар ни на мгновение не замолкал.
- Там, враг мой, реки чистейшей воды и свежего молока, реки вина, сладкого для пьющих, и меда очищенного! – чёрные неподвижные глаза араба то закатывались, то смежали веки, но удары от этого не становились слабее или реже. При всей многолетней практике, Максиму никогда прежде не доводилось иметь дело со столь необычным противником. Посланник Горы фехтовал отменно – в его лице читалось удовлетворение схваткой, а движения рук намекали на сотню выпитых прежде жизней и, если бы не дурманящая сила выкуренного зелья, Крыжановскому пришлось бы не в пример хуже.
Что касается самого полковника, то ему никак не удавалось перейти из защиты в атаку, несмотря на усилия нечаянных, незримых помощников, каковые, чего темнить, оказывали существенную помощь в поединке.
- Глупый чужак решил, что Абу-Гаяс пересказывает книги пророков? – спросил араб обиженно, приостановив на мгновение руку, но тут же снова атаковав. – Нет, враг мой, я видел страну Джаннию воочию! И в садах тех пил из реки медовой, из реки молочной! Лишь вина не испил я, ибо знал, что не умер! Что придет еще время и владыка Ридван сам приведет меня к источнику Салсабил! Сидел я среди героев и праведников, из тех, что пересекали Великую пустыню и большеглазые прекрасные девы обносили нас сосудами из серебра и кубками из хрусталя! Знай же, о франк, даже в Садах наступает ночь! И приходит она для того, чтобы дать героям желаннейшее из наслаждений! Черноокие девственницы, коих не касался ни человек, ни джинн, приходили к нам, и мы любили их в покоях своих, а затем спускались к пруду и плавали в нём!
Отражая молниеносный выпад противника, Максим вынужден был отскочить к самому камину – так близко, что почувствовал жар.
- Пять лет тому явил Владыка мне чарующее царство Садов, – продолжил араб тихо, будто опасаясь быть подслушанным, и немного отступив к дверям. – Но два месяца и девять дней назад он снова выказал милость мне – отправляя в далекий край ваш и говоря так…
Араб изрёк фразу на певучем языке, в его устах напоминающем звучание струн. Крыжановский не подал виду, что для него сказанное осталось лишь красивой мелодией.
- Показали мне прекрасные Сады, чтобы знал, что ждет меня, если сложу голову за Владыку моего! И вот передо мной ты, чужак! И тысячи твоих джиннов!
«Ого! – подумал Крыжановский. – Джинны множатся, что ли? Ведь свечей-то только меньше стало, никак не больше!»
- Настал день, когда решится – быть ли мне в прекрасных Садах или вместе с вами отправиться в царство демонов! День, когда все прекрасные девы заголосят по павшему жениху, когда матери прольют по сыну море слез, а воины сложат о герое песню!
Меж тем, многолетняя выучка снова спасла Крыжановскому жизнь – очередной смертоносный удар араба пропал втуне.
- Воистину, достоин ты именоваться главным стражем хладной Пропасти! – поклонился гашишин церемонно. Или ты сам Ридван, оберегающий Джаннат?
Крыжановский поймал безумный невидящий взгляд противника и ударил, пав на одно колено. Немыслимо изогнутую кисть свело болью, но дамасский клинок, опередив летящий на перехват кинжал, пронзил грудь Абу-Гаяса. Елмань выглянула из его спины и, чиркнув по стене, высекла сноп искр.
Безумный молодой человек умер – при этом не было ни слез, ни песен, но его прощальная улыбка свидетельствовала об обратном.
Максим отсалютовал благородному противнику саблей и в изнеможении уселся на софу – подальше от кальяна. Следовало перевести дух, прежде чем отправляться спасать любимую.
Белый конверт, оставленный Гроссмейстером, лежал рядом. Внимание полковника привлекла красная сургучная печать с вензелем N и императорской короной. Неужели…? Руки сами собой потянулись к загадочному письму. Оно гласило:
«Мэтр Август! К тому времени, как вы получите это послание, Орден Башни в Париже перестанет существовать. Я лично отдал приказ – вырвать язву с корнем. И пусть звук скрежета зубовного, которым вы встречаете означенное известие, станет частичной компенсацией за беды Франции. Будь проклят тот день, когда я, поддавшись искушению, вступил в сговор с вами, ибо теперь на мне ответственность за гибель сотен тысяч лучших людей Империи. Как наивен я был, полагая, что можно обмануть предначертание. В жаркой Палестине позором кончилась осада твердыни Иоанна, а в заснеженной России я пью горькую чашу брани с Александром. Покоряюсь своей судьбе по имени Елена, а вас предоставляю собственной».
Внизу стояла неразборчивая подпись, но авторство текста не оставляло сомнений.
Крыжановский сунул листок обратно в конверт, который решил оставить на прежнем месте, затем поднял с пола приглянувшийся кинжал гашишина и направился к выходу. Прежде, чем уйти, он обернулся и остановил взгляд на погибшем.
Несчастный молодой человек со счастливой улыбкой на мёртвых губах вызывал досаду: с одной стороны, он возжелал смерти Елены и за это поплатился справедливо, но, с другой стороны – честного боя не вышло. Максим настороженно посмотрел на всё ещё окутанный ароматным дымком кальян. Внезапно холодный пот выступил у него на лице. «Что, если Абу–Гаяс не был безумцем и действительно видел…? Видел наяву тех, кто обычно является во снах Мишеля Телятьева и остальных павших товарищей по оружию?» В суеверном страхе полковник стал озираться по сторонам. Ушей его коснулся тихий шёпот, единственная спасённая от атак араба свеча ярко вспыхнула и погасла. Подавив рвущийся из груди крик, Крыжановский стремглав выбежал за дверь.
Коридор встретил пустотой и безмолвием. О, проклятие, комната безвременно покинувшего бренный мир и отправившегося навстречу мечте гостя с Востока соседствовала с глухой стеной, а не с узилищем прекрасной Елены. Судьба решила показать влюбленному полковнику свою филейную и, весьма неприглядную, часть. Однако же, проигранное соперничество не значило, что кончена борьба за жизнь любимой, следовало как можно скорее встать на пути у Гроссмейстера.
«Сказать легко, сделать не в пример хлопотнее. Как там говорил мосье Ленуар – эта часть замка буквально кишит солдатами? Но, ежели вернуться в шахты, ползком мэтра Августа нипочём не догнать. Значит, отринув колебания – вперёд!» Максим помчался по коридору. Внезапно до слуха полковника донеслись звуки ожесточённой пальбы, и он припустил по коридору ещё быстрее.
Как бы стремительно не бежал Максим, собственная мысль опережала его на целый корпус. Картины, одна страшнее другой, вставали перед внутренним взором, а тревожные предчувствия разрывали душу. Это в рыцарских романах доблестные паладины всегда вырывают красавиц целыми и невредимыми из лап коварных врагов, за что в благодарность получают любовь и счастье. В жизни – иначе! Сволочнее! Но хуже всего – сказки. В отличие от романов, каковые от начала и до конца – плод вымысла сочинителей, сказки представляют ни что иное, как лживый – детишек успокоить – пересказ кошмарной действительности. В детстве Максим очень любил сказку про Красную Шапочку, рассказанную нянюшкой, но однажды француз-гувернёр мосье Дука поведал истинную историю, которую у него на родине, в Эльзасе, передавали из уст в уста не иначе как шёпотом. Не серый зверь повстречался девочке в лесной чащобе, а Le loup – garou[187]. Заняв место бабушки, он попросил Красную Шапочку приготовить ужин. Ничего не подозревающая малышка пожарила мясо и разделила с негодяем трапезу. Перед смертью она узнала, чьё мясо пошло на жаркое. Естественно, никакие дровосеки на помощь не пришли.
С тех пор Максим не любил сказок. Не любил и боялся.
«О нет!» – воскликнул он в ужасе. Дверь в последнюю из комнат правого крыла оказалась распахнута настежь. Одного взгляда хватало, чтоб удостовериться – именно здесь держали Елену. Сейчас комната пустовала, и в ней царил беспорядок – немудрёные предметы женского обихода валялись по полу. Максим поднял разбитое зеркальце и отрешённо вспомнил, что на свете мало есть примет, хуже этой.
Между тем, доносящиеся звуки нечастой теперь уже стрельбы вселяли мерцающую надежду на то, что жизнь окажется пригляднее сказки. С каменным сердцем полковник стал подниматься по лестнице на третий этаж. До сих пор ему не попалось ни души. Это означало, что все солдаты Радзивилла находятся там, где стреляют.
Максим не ошибся – путь привёл на высокий круговой балкон, тянущийся вдоль стен обширного зала высотой во все три этажа. Внизу шло сражение. Взгляд сразу выхватил белый силуэт женского платья. От сердца отлегло – Елена жива! Что касается сражающихся, то по всему выходило следующее: Гроссмейстер с эзотериками в алых мантиях пытаются убить девушку, а уланы во главе с хозяином замка всячески этому мешают.
Глава 9 Танцующий в петле
13 (24) ноября 1812 г.
Красный замок близ города Мир Гродненской губернии.
Зал явно предназначался для орденских ритуалов: множество люстр, вычурная мозаика на полу, чёрные дорические колонны[188], статуи неведомых богов высотой в два человеческих роста, по стенам – алые полотнища штандартов, а посредине – пирамида, подобная той, что возвышалась в усадьбе Трубецких, только – основательная, из полированного камня.
Происходящее сейчас тоже являлось своеобразным ритуалом. Ритуалом самоуничтожения! Стрелять уже никто не пытался, видно заряды кончились – эзотерики и уланы остервенело резали друг друга холодной сталью. Полковнику Крыжановскому хватило одного взгляда, чтоб разобраться в картине боя. Сине-красные мундиры пытались достигнуть дальнего угла зала, а алые рясы всячески этому противодействовали, в свою очередь, стараясь добраться до прекрасной Елены, каковую оберегал лично его бледнейшее сиятельство – князь Доминик Радзивилл, коего цыгане прозвали – Мартя-Смерть.
Эзотерики превосходили числом, а их противники – умением сражаться. Второе, как известно из суворовской науки, всегда предпочтительнее – оттого победа улан не вызывала сомнений. На полу лежало много убитых и раненых, но и на ногах оставалось немало боеспособных бойцов.
Максим чувствовал, что пока ещё не наступило его время выходить на сцену, но всё же решил встать поближе к балюстраде лестницы, ведущей вниз.
Вот один из поляков добрался до вожделенного угла и что есть сил надавил на барельеф, изображающий какую-то безобразную морду. Часть стены ушла внутрь, открыв чёрный зияющий проём. Тотчас в него устремились Радзивилл с Еленой, а следом и остальные уланы.
- За ними! Ведьма должна умереть! – донёсся до Максима истеричный крик Гроссмейстера, но эзотерики не торопились выполнить повеление предводителя и в нерешительности толпились у проёма. Только дополнительное понукание заставило их полезть в подземелье. В зале остались трое в масках, скрывающих лица. Собравшись вместе, они принялись что-то с жаром обсуждать, судя по всему – на латыни, причём двое обвиняли, а третий оправдывался.
«Пора!» – Максим бросился вниз по лестнице. Вдруг послышался отдалённый грохот, полившийся в уши чарующей музыкой – вне всяких сомнений, то стреляли пушки, значит, адмирал Чичагов принёс войну в город Мир.
Внизу, в зале, тоже происходили изменения, заставившие полковника на миг остановиться. От тёмной колонны отделилась человеческая фигура и быстро направилась к маскарадной группе в алом. Человек был обнажён по пояс, его торс покрывал густой рисунок татуировок: невиданные экзотические звери и птицы двигались при каждом шаге, будто живые. На шее висели серебряная православная иконка и ярко раскрашенное цыганское ожерелье, а в чёрных волосах кое-где виднелась проседь налипшей паутины.
Максим, конечно, сразу же узнал появившегося, но эзотерики с ним знакомы не были, поэтому Американец вежливо представился:
- Граф Толстой. Имею честь быть авангардом русской армии и объявляю замок захваченным.
Маски рассерженно зашипели, но граф властным движением руки заставил их умолкнуть и закончил:
- Сдаваться не предлагаю, ибо это скучно, господа. Но взамен обещаю зажигательный huc-illuc[189], на который вы у меня ещё с Москвы напрашивались. – тотчас подаренная Крыжановским сабля с хрустом разрубила плечо ближайшему эзотерику, и нечистая кровь брызнула на размалёванную синим грудь Американца.
Оставшиеся в живых яростно кинулись в драку.
Максим спустился с лестницы и оценил расстояние до дерущихся – саженей сто, не меньше: пуля долетит быстрее. Он стал в классическую позу стрелка: корпус развёрнут вполоборота, правая нога впереди, левая рука заложена за спину, правая, с пистолетом – параллельно полу; прицелился и выстрелил. Увы, не попал. Уж больно вёртко скакала алая мишень со шпагой, пытаясь ужалить графа. Все обернулись на выстрел, Американец приветливо помахал Максиму рукой и вновь продолжил бой.
Досадный промах Крыжановский компенсировал себе тем, что с удовольствием проорал боевой клич финляндских гвардейцев, после чего помчался на помощь другу. Навстречу ему, пошатываясь, поднялся улан, раненый в драке с эзотериками, и выставил перед собой саблю.
«Понятно, третья враждебная сила, как всегда, объединяет былых недругов», – равнодушно подумал Максим и, что было сил, пнул раненого солдата, чтоб не путался под ногами. Тот отлетел в сторону и остался лежать – видимо, решил более не испытывать судьбу.
Фёдор исполнял замысловатый танец, имеющий целью удержать противников на одной линии и заставить мешать друг другу. Когда же это не удавалось, граф отскакивал и укрывался за ближайшей из статуй. Смутные тени дерущихся метались по мозаичному полу, иногда приникая к колоннам и каменным идолам, иногда вспрыгивая на стены.
Приблизившись, Крыжановский постучал по полу саблей, таким образом привлекая к себе внимание. К нему устремился эзотерик. Максим подался в сторону, пропуская мимо себя прямой выпад шпаги, и, крутнувшись на каблуке, рубанул с плеча. Голова в маске покатилась по полу, оставляя кровавые следы, а тело рухнуло и застыло неподвижно.
Оставшийся противник не имел шансов: догадливый Американец отрезал ему путь к проёму, ведущему под землю, а, чтобы покинуть зал через основной вход, предстояло пройти мимо Максима, который, стоя в непринуждённой позе, весьма «дружелюбно» поигрывал бликующим клинком.
Прислонившись спиной к одному из вавилонских кумиров, от чего тот, не будучи прикреплённым к постаменту, зашатался, Толстой изрёк:
- На любимой вами латыни эта ситуация называется – anus, а по-русски…
Договорить он не успел – противник выкинул свой козырь: послышались металлические щелчки и прежде, чем кто-либо из компаньонов понял, что это заводится старинный колесцовый замок, шпага эзотерика выстрелила.
Рванувшемуся навстречу Фёдору будто кто-то накинул сзади петлю на шею – голову резко откинуло, ноги взвились в воздух, и граф, как подкошенный, повалился на пол.
Страшный звук падения заставил Максима горестно вскрикнуть, но в следующий миг он прыгнул наперерез устремившемуся к спасительному проёму убийце.
Тот, однако, принял смерть не от руки Крыжановского: вначале на алую мантию пала тяжёлая чёрная тень, а затем и сам каменный истукан. Кости хрустнули, и человек умер тараканьей смертью.
Лицо Американца заливала кровь. Он стоял на четвереньках, слепо шарил по полу руками и, жутко хрипя, силился что-то сказать.
Максим упал на колени, в волнении приобнял друга и приблизил ухо к его губам.
- Помоги мне…х, – прошептал Толстой. – Помоги…х…с-сыскать…
- Не умирай, Фёдор! – взмолился Максим.
Американец сильно закашлялся, а затем отчётливо произнёс:
- Святой Спиридон спас…х…второй раз уже…, не собираюсь я помирать…, и перестань лапать – я ведь не баба!
Поражённый Максим отстранился, а Американец поднялся на ноги, несколько раз сглотнул и пояснил:
- Цепочкой от иконки за статую зацепился,…х…, горло чуть не порвало…, а пуля по черепу скользнула,…чёрт, голова раскалывается! – способность говорить постепенно возвращалась к Фёдору, сипя и отхаркиваясь, он снова продолжил шарить по полу.
- Иконка Спиридона Тримифунтского – небесного покровителя рода Толстых! Не поверишь, на острове Калошей[190] во сне привиделся мне сей Старец и остановил на краю пропасти. На следующий день я действительно чуть не свалился с обрыва, в последний момент поосторожничал…, а так всё – не стоял бы перед тобой чёрт цыганский. Была и другая пропасть, в которую чуть не шагнул. Калоши, прознав из этих татуировок о моём королевском достоинстве, на полном серьёзе предложили сделаться их вождём. И я ведь, грешным делом, чуть не согласился… Кабы не сон, принял бы язычество…, а так сладкой жизни вождя предпочёл тяжкий путь на родину через Камчатку и Сибирь без гроша за душой…
И вот сейчас – снова! Кабы не зацепился…, да где же она, наконец?!
Максим первым увидал реликвию Фёдора, поднял и подал ему со словами:
- Представь, Теодорус, святой, коего ты полагаешь покровителем своего рода, также является и моим покровителем.
- Как так?
- Святитель Спиридон – официальный покровитель Финляндского полка, следовательно, и мой, поелику полковой праздник – двенадцатое декабря – приходится на день памяти Спиридона Тримифунтского. В этот же день родился и наш Государь Александр Павлович.
- Вот уж не думал…, весьма занятное совпадение, – граф сглотнул и поморщился, видимо, гортани его действительно досталось изрядно.
- А, знаешь ли, чем более всего прославился Святитель Спиридон? – продолжил Максим.
- Страждущим помогал, одной матери – дитя воскресил, – неуверенно ответил Американец.
- Нет в православии более ревностного ниспровергателя языческих идолищ! – победным тоном закончил просвещать компаньона Максим.
- Врёшь! – изумился Толстой.
- Истинная правда! – пожал плечами Крыжановский.
- Крепка иконка-то, коль выдюжила против этакой махины, – граф кивнул в сторону поваленной статуи. – За что она хоть зацепилась?
- Не помню, как на латыни, но по-арабски это будет – «зуб», а по-русски…, – Максим указал клинком на выступающую часть статуи, однако закончить мысль не успел – Американец разразился истеричным смехом, который, несомненно, диктовался только что пережитым потрясением.
Смех перешёл в приступ кашля, Толстой раздражённо топнул ногой, а затем отыскал коварную стреляющую шпагу.
- Полюбуйся, Максимус!
Крыжановский слышал о подобном, мастеров таких игрушек обычно не называли.
- Как-то у меня завёлся интересный экземпляр – кинжальчик, скрещенный с пистолетом, – продолжил Американец. – В карты выиграл, а через месяц проиграл с тем же успехом. Но давешнему кинжалу до этого изобретения – дальше, чем от Камчатки до столицы. Забрать бы трофей да таскаться неохота!
Граф отбросил шпагу и подошёл к раздавленному статуей. Носком сапога сбил с эзотерика маску.
- Так я и думал – это не кто иной, как господин лекарь, он же Ментор, он же Гроссмейстер! – Фёдор криво ухмыльнулся. – Весьма дешёвый трюк – выставил вместо себя чучело в эллинском шлеме, чтоб иметь большую свободу действий…
- Погоди, может, это и не Гроссмейстер вовсе, – усомнился полковник.
- Он самый и есть! Голос бестии мне ещё с Москвы запомнился. Нынче же, когда мы с тобой разошлись в шахтах, я забрался в пустую запертую комнату и только занялся замком, чтоб выбраться в коридор, как тут – шаги, бряцанье шпор и голоса. Думаю, хорошо, что не успел сломать замок…, прислушался и что ты думаешь? Целая полемика в коридоре развернулась на тему – убивать или не убивать Елену. Знакомый голос, – граф указал на мёртвого эзотерика, – кричит: «Она или Орден!» А другой голос, видно того, бледного, возражает. Честно скажу – я здорово растерялся и пожалел, что тебя рядом нет: вдвоём был бы шанс отбить девчонку, а так… Между тем¸ за дверью началась потасовка, потом шум удалился и я вышел наружу. Дальше – стрельба, я за колонной спрятался и тихой сапой двоих сзади подстрелил, А этот, в маске, всю дорогу командовал, да своих подзадоривал на улан кидаться. Ежели б не он, не было бы сражения.
Только граф закончил, придавленный идолом эзотерик открыл глаза.
- Ба, и этот ожил! – в весёлом удивлении воскликнул Толстой.
- Вы разрушили то, на что потрачено столько сил, над чем трудились величайшие умы человечества! – отчётливо произнёс алый. – Так пусть же ваша варварская страна станет преемницей революционного духа. Не просвещённая Франция, но дикая Россия послужит местом, где взойдёт заря свободы. Бавель[191] восстанет, чужак! И снова Башня возвысится над землей рабов! Таково моё последнее слово! Слово Гроссмейстера Ордена Башни!
Толстой поднял шпагу, чтоб приколоть мракобеса, но тот пустил ртом кровавые пузыри и помер сам, без посторонней помощи.
- Подозреваю, они сговорились! Что Лех Мруз, что его заклятый враг – Гроссмейстер, – возмутился Толстой. – Будто нельзя молча отойти в мир иной – обязательно надо битый час нести околесицу! Ежели ещё заговорит голова того негодяя, коего ты, mon ami, порубил, словно Святой Стефан прокудливую берёзу[192], я не вынесу и тронусь умом…
- Однако же, пора в путь, – остановил готового и дальше разглагольствовать компаньона Максим. – Отдохнули, и будет.
Поцеловав спасительную иконку, Американец зажёг свечной огарок и первым устремился через открытый проём в подземелье.
Быстро спускаться по ступеням не выходило – всякий раз, как ускоряли темп движения, гасла свечка. Неуклюжие попытки Американца рукой защитить крошечный огонёк от сквозняка не приводили к успеху. Наконец, достигли подземного коридора. Оказалось, что ходов не два, как было в прошлый раз, а четыре. Между тем, свечной огарок доживал последние минуты, грозя оставить компаньонов в кромешной тьме, кишащей ловушками и тварями, наподобие милейшего господина Прозектора.
Стоило лишь о нём вспомнить, как Простой Батист поспешил немедленно напомнить о своём присутствии: ужасающий рёв, пронзивший тьму подземелья не оставлял и тени сомнения в том, чья глотка его исторгла.
Максим поёжился, а Толстой, наоборот, радостно возопил:
- Прекрасный ориентир! Нам налево, mon colonel, доберёмся до прозекторской, а там рукой подать до кельи Ленуара. Только смотри под ноги и не забывай про ловушки.
Свеча вскоре погасла, но компаньонов безошибочно вёл вперёд громкий голос Отто Шнорра:
- Ехидна! Последний раз спрашиваю: зачем задушил пытуемого? Пожалел братца или же решил помешать ему выдать нечто важное? Отвечай!
Вскоре стал виден свет, исходящий из распахнутой двери, а также слышен голос Франсуа Белье, исступлённо лепечущего:
- Учитель, вы не можете поднимать руку на человека благородной крови! Остановитесь, учитель!
- Врёшь, ничтожный! Не бывает никакой благородной крови. У всех кровь одинаковая: одного цвета, вкуса и запаха! – продолжал бушевать Прозектор. – Мне ли не знать?!
- Слушай, брат Теодорус, – тихо прошептал Крыжановский, – Давай задержимся и прикончим Батиста, а то не по себе становится, когда вокруг темно, а где-то там бродит этакое чудовище.
- Трудно спорить, – ухмыльнулся Толстой.
Прозекторская встретила невыносимой вонью. В воздушных шахтах она почти не ощущалась, здесь же – аж глаза слезились. Сам ли хозяин помещения источал сей запах или так пахли останки его многочисленных жертв, выяснять не хотелось.
В углу, в жалкой позе, скрючился Франсуа Белье, а над ним угрожающе навис кошмарный учитель с плёткой в руке.
Простой Батист был слишком занят, чтобы заметить гостей, зато это не преминул сделать его нерадивый ученик. Глаза Франсуа округлились, а челюсть отвисла.
Максим приветливо улыбнулся французу, а Толстой даже сделал ручкой, после чего для привлечения внимания хлопнул дверью.
Отто-Бомбаст-Батист Шнорр медленно повернулся на звук.
- Привет тебе, о, зловонная туша! – поприветствовал палача Фёдор. – Стали доходить слухи, что ты интересовался нами, вот мы и решили зайти…
- Это те самые лазутчики из Москвы! – взвизгнул Франсуа.
В мутных глазах Прозектора мелькнула искра понимания.
- Сами пришли! – пророкотал он радостно. – Ехидны мои дорогие, сами пришли!
Чудовище сделало шаг к компаньонам, но из жилы под коленом вдруг вылупился ржавый наконечник одного из пыточных инструментов – Франсуа Белье не простил наставнику плёточных ударов. Прозектор зарычал, грохнул ладонью в место, где только что стоял ученик, но тот выказал невиданное проворство – удар не попал в цель, а пришёлся по гробоподобному приспособлению. Простой Батист не успел убрать ладонь – на неё упал пресс и в хруст костей ввинтился скрип рычага «божественной машинки». Франсуа отскочил в сторону и захохотал.
- Я шёл в Орден ради свободы, за которую заплатил всем, что имел в жизни. Но вместо свободы нашёл только тебя, Батист!
Даже не пытаясь вынуть руку из ловушки, Отто Шнорр повёл могучими плечами и со скрежетом сорвал «божественную машинку» с креплений. Волоча её по полу за собой, свободной рукой он выхватил из очага здоровенную кочергу с раскалённым концом и двинулся на Фёдора с Максимом.
- Ваша праща, Давид! – сказал Крыжановский за спиной графа.
- Благодарю! – отозвался Американец, принимая тяжёлый Ле-Паж.
Грянул выстрел, пол икнул облаком пыли и из свалившейся туши вырвались звуки еще более мерзкие, чем ранее услышанный рев. Расколотый череп растерял все мозги, а желудок, следуя этому примеру, поспешил избавиться от ужина: не замечающий утрат Прозектор сучил ногами и, казалось, пытался подняться.
- Отрезать ему голову? – ровно спросил Толстой. – А то ещё вздумает ожить?
Ни слова не говоря, Максим Крыжановский подошёл к заискивающе улыбающемуся Франсуа и впечатал кулак ему в челюсть.
Последний из братьев Белье закатил глаза и грохнулся рядом с учителем.
- Полноценного эзотерика из него не вышло, пусть живёт, – лизнув разбитую костяшку на пальце, пояснил Максим, – но и оставлять такую сволочь безнаказанной – выше всяких сил.
Глава 10 Разрушение Башни
13 (24) ноября 1812 г.
Красный замок близ города Мир Гродненской губернии.
Келья мосье Александра встретила тревожной пустотой – оставленные здесь члены отряда исчезли. Только верхняя одежда Максима и Фёдора лежала на узкой койке. Одевшись и коротко посовещавшись, компаньоны решили вдвоём преследовать Радзивилла, благо, в пыточной удалось разжиться фонарём и связкой факелов.
- Эх, как не хватает всезнающего Ленуара. Без него, того и гляди, попадёшь в ловушку, – досадовал Толстой, медленно продвигаясь по коридору, ведущему на нижние ярусы. Он пробовал ногой каждую подозрительную плиту прежде, чем наступить на неё.
Пол круто уходил вниз, пахло могилой. Дважды попадались боковые ходы, но никаких следов человека.
- Допускаю, что уланы с эзотериками следовали другим коридором – из тех, что мы видели перед визитом к Бомбасту, поэтому их следы и не попадаются. Но наши-то люди куда подевались? – недоумевал Крыжановский. – Почему не озаботились оставить какой-никакой ориентир? Видно, из кельи срочная нужда погнала, не иначе!
Внезапно стены раздались в стороны, образуя небольшое помещение с низким потолком, из которого во все стороны вели ходы. Кругом виднелись следы побоища: полтора десятка трупов, кровь на полу и стенах – без сомнений, именно здесь эзотерики настигли улан.
- Вот, б…ь! – выругался Максим, поднимая с пола шапку, ранее украшавшую голову Курволяйнена.
- Чем тебе не ориентир, Максимус? – без выражения констатировал Толстой. – Причин для тревоги не вижу: среди мертвецов наших нет, зато врагов – изрядно поубавилось. Пожалуй, Елена цыганская похлеще Елены Троянской – посмотри, какая из-за неё война разгорелась. Ежели так пойдёт дальше – нам с тобой дел не останется, разве что друг другу глотки резать.
Максим его не слушал, изучая следы побоища. Военный опыт позволял воссоздать картину происшедшего с полной отчётливостью:
Радзивилл оставил часть солдат для отражения атаки преследователей. Уланы встали стеной, но из-за малочисленности их смяли: многих, если не всех, положили. Неожиданно сзади на эзотериков напали Леонтий с Ильёй, о чём свидетельствовали два трупа с плоскими дырами в спинах, каковые оставляет кортик, примкнутый к егерскому штуцеру. Завязался новый бой, но люди Ордена оттеснили финляндцев в боковой проход.
- За мной! – крикнул Максим, бросаясь в этот проход.
На одной стороне коридора многолетняя копоть от факелов была стерта, будто кто-то, пятясь, задевал плечом стену. Брызги крови, рисунок которых живо напомнил созвездие Большой Медведицы, испачкали противоположную стену – значит, ранен не отступающий, а тот, кто атаковал. О, так вон он лежит, в алой рясе – мертвее мёртвого. У поворота – выщерблины на стенах: пара пуль не вкусив человечины, сдохла с голоду, но большинство насытилось всласть: на полу – пятеро застреленных эзотериков.
Наступив на руку одного из убитых, Максим потерял равновесие, чуть не упал, и снова громко выматерился. Тотчас снизу донеслось радостное Ильюшкино:
- Чу, слыхали, кажись ихвысбродие жалують!
Вся четверка оказалась живёхонька и находилась в обширном зале, куда вело с десяток ступеней. К появлению полкового начальника Коренной построил денщика, старика и мальчика по ранжиру, скомандовал «смирно», а сам строевым шагом вышел вперёд и отрапортовал по всей форме:
- Вашвысбродь, осмелюсь доложить! Сидели тихо в келье при потушенных свечках, когда слышим – будто воюеть кто: крики, звон оружия, туды-сюды… Мы и подумали – никак это вы с их сиятельством противу анчихристова войска держитесь. Как было не поспешить на выручку? Обознались, однако – то супостат по своей природной злобе взялся резать друг дружку. А когда мы сзади ударили, он на нас повернул. В смысле, уланы убёгли – им до наших особ не оказалось дела, а попы анчихристовы попёрли, аки бешены собаки. Ну, я и встал в проходе насмерть. А куды деваться? Вообразил, что правая стена – это верный товарищ Поликарп Белуха, слева же представил Матвейку-Молотильню, може, вы его даже вспомните – это тот, что бит шомполами за воровство денег… Так я и сражался, держа равнение в шеренге и отходя помаленьку – ежели Поликарп не побежит, то и Леонтию не с руки, а коль я стою – Молотильня никуды не денется. Илья тоже не сплоховал – как начал палить, так от этих красных попов – пух и перья.
- Я токмо из пистолей стрелял, вашсиятельство, – отозвался Курволяйнен, – из карабина не осмелился, уж больно он лют! А потом всё по-новой зарядил, так что вы уж не серчайте, коль что не так…
- Молодцы, солдатушки! – похвалил полковник, у которого отлегло от сердца. – Но что же неприятель?
- Всех до одного положили! – скромно отозвался Коренной. – Шестерых в проходе, а ещё трое – там дальше… Оне, как нашего дедку узрели, враз воевать расхотели: ещё бы, чай, выходец с того света! Ну, Илья их как куропаток – щёлк, щёлк.
Максим нахлобучил на денщика шапку, а Американец ободряюще похлопал его по плечу и, забрав саквояж, обратился к учёному французу:
- Господин Ленуар, дорогой мой, этот ваш Орден – что за паучья яма?! Только представьте – такие заклятые его ненавистники, как мы с компаньоном, сколько ни старались, нипочём не смогли угнаться за вашими приятелями в желании проредить собственные ряды. Поборнички свободы!
- Всё из-за цыганской… девушки, господа, – вздохнул старик. – Она посеяла рознь между домами. Да будет вам известно…
- Нет уж, будет вам! – вскричал Максим, опасаясь очередной лекции Ленуара. – Ведите нас скорее самой короткой дорогой к подземному ходу. Мы ещё не добыли то, за чем пришли.
- Один вопрос, сударь, – поднял палец Ленуар, – мэтра Гроссмейстера не доводилось встречать?
- Он воссоединился со своим богом, – ответил Крыжановский.
Ленуар издал задорный смешок и, подхватив фонарь, увлёк отряд вглубь катакомб.
Путь привёл в узкую длинную галерею. Неясным изумрудным свечением переливались стены, а непонятного происхождения островки света впереди перемигивались и добавляли к зеленому янтарные и оранжевые сполохи. Воображению рисовались сказочные сокровища Гарун-аль-Рашида. Но за лубочным блеском галерея скрывала смерть. Дальше стены и потолок вдруг избавились от феерического сияния, налились цветом мутной лужи и взбухли; они прижимали к полу, хотелось пасть на брюхо и ползти, не вставая.
По краям галереи стояли виселицы.
- Свободных мест нет, – проговорил Толстой глухо.
Все виселицы действительно были заняты: высокие и низкие, они шеренгой тянулись, покуда хватало света факелов, и исчезали дальше во мраке. Обычные, грубо сколоченные из брёвен; совсем короткие испанские гарроты; длинные сборные столбы с металлическим обручем и затягивающимся винтом – каких только приспособлений тут не было!
Тление более чем коснулось тел: во многих петлях, словно бумажные рождественские снежинки, висели сухие белые костяки.
- Кто они и почему не разваливаются на части? – поинтересовался Толстой. – Думаю, это тоже некий ритуал, не так ли, господин Ленуар?
Учёный с издевкой ответил:
- Здесь те, кто непрошенным пробрался в замок. С давних времён среди местных жителей ходят легенды о несметных богатствах, сокрытых в замковых катакомбах. Нет-нет, да какой-нибудь болван, решается проверить истинность слухов. Все они здесь, включая тех, кто попался в ямы. Осматривать ловушки и извлекать тела – обязанность Прозектора. Он же заботится и о целостности повешенных.
- Бедняги, видимо, они будут сожалеть о добром Бомбасте, – с наигранной грустью молвил Толстой.
Ленуар обернулся, поднял удивлённо брови и уточнил:
- Он что, мёртв?
- Да, – развёл руками Толстой, – Прозектор, подобно Гроссмейстеру, выразил желание воссоединиться со своим богом. «Deus ex machina» – как он любил говорить при жизни.
Далее Фёдор трагическим голосом начал декламировать:
Над нами воронья глумится стая, Рвут бороды, пьют гной из наших глаз… Не смейтесь, на повешенных взирая, А помолитесь Господу за нас! О Господи, открой нам двери рая! Мы жили на земле, в аду сгорая. О люди, не до шуток нам сейчас, Насмешкой мертвецов не оскорбляя, Молитесь, братья, Господу за нас[193]!Юный Плешка, устрашившись повешенных, изо всех сил стиснул руку Крыжановскому.
- Вот уж кого не стоит бояться, малец, так это висельников, – пробурчал полковник, – э-э…дядя Фёдор с ними на короткой ноге!
Испуганный взгляд чёрных глаз мазнул по спине Толстого и мальчик ещё крепче сжал руку Максима.
- А у нас старики сказывали – мёртвые дышать могуть, – горячо зашептал Курволяйнен, – токмо дух у их нездоровый. Чай, зелёный свет по стенам – не иначе как от мертвящего духа висельников.
Галерея повешенных привела в огромное помещение – стены его терялись где-то в темноте.
- Надеюсь, она здесь, – прошептал Ленуар.
- Дайте больше света – не видно ни зги! Не ровён час – Радзивилл устроил засаду, – по-своему истолковал слова учёного Максим.
Солдаты зажгли каждый по факелу и подняли их над головой.
Из темноты выступил алтарь. Именно это слово просилось на язык при виде каменной резной тумбы. Пол в зале состоял из чёрных и белых каменных плит. Но это мало напоминало шахматную доску – чёрные линии выписывали замысловатый лабиринт, в центре которого и находился алтарь. На нём что-то блестело.
- Книга Судьбы, господа, – торжественно провозгласил Ленуар.
Максим удержал за плечо рванувшегося вперёд Фёдора.
- Господин Александр, как насчёт ловушек?
- Нет здесь ничего, – обиженно пробубнил старик и спокойно двинулся к алтарю.
Толстой опередил его, подбежал первым и потряс в воздухе отливающей червонным золотом массивной книгой.
- Полдела сделано! Осталось передать её Елене! Но где же египетская табличка, господин исследователь?
- В Париж отправили, после того как у меня не вышло раскрыть тайну – чтоб другие попытались, – проговорил мосье Александр, разочарованно наблюдая, как граф запихивает Книгу в потерявший всякую форму саквояж. – А с Книгой Гроссмейстер расставаться не захотел – только копии с каждого листа на пергамент велел срисовать. Их и отвезли в Париж.
- Ведите дальше, господин Ленуар, – поторопил Максим. – Ежели охота поговорить, то делайте это на ходу.
Ленуар, недовольно бурча под нос, двинулся через зал и подошёл к высоким воротам с тяжелыми створками. Ворота выглядели невероятно древними.
- Члены Ордена не любят здесь бывать, но это – самый короткий путь, – старик упёрся руками в ворота, но они не сдвинулись с места.
Леонтий Коренной выступил вперёд и поднажал плечом. Ворота застонали, но выдержали натиск. Тогда дядька зарычал и надавил в полную силу – левая створка сорвалась с петель и рухнула внутрь, подняв облачко пыли.
Зал оказался намного меньше предыдущего, в центре его возвышались две монолитных глыбы. Сверху на них лежала третья гигантская плита. Здесь снова были мёртвые: внутри арки виднелись останки трех человек.
- Арка Тамплиеров, – благоговейно прошептал Ленуар. – Давно… хотел её увидеть, да всё как-то не получалось, Книга забирала внимание.
- Что-то не то вы говорите, – возмутился Максим, невольно замедляя шаг. – В каких бы грехах не обвиняли рыцарей Храма, безбожниками они никогда не были, следовательно, с поганым Орденом Башни никаких дел водить не могли.
Ленуар издал смешок и остановился, опустив фонарь.
- Именно так, сударь! – сказал он иронично. – В давние времена не было силы, более преданной христианской вере, чем Орден Тамплиеров. Силы, не только более преданной, но более уважаемой во всём христианском мире. Сами понимаете, указанные качества не могли не заинтересовать Орден. В те годы мы…, ах, я забыл, что теперь уже не с ними, простите… Эзотерики активно пробовали различные способы тайного влияния. Тамплиеры для этих целей подходили идеально. Золото оказалось сильнее глупой фанатичной веры, и очень быстро вся верхушка Ордена Храма стала послушным орудием в руках Ордена Башни. Со временем две организации срослись в единое целое. Это походило на яйцо – сверху никчемная скорлупа из рыцарей-крестоносцев, ведущих бесконечную и бессмысленную войну за несуществующий Гроб Господень, а внутри – хорошо представляющий конечную цель Орден Башни.
Рассказ Ленуара настолько заинтересовал любителя рыцарских историй Крыжановского, что его на время оставила обычная нетерпеливость. На негнущихся ногах Максим вступил под каменную арку. За ним последовал и Фёдор.
Одежда на мертвецах давно истлела, остались только старинные ржавые латы и короткие мечи, так и не выпущенные из рук. У каждого на нагруднике лежала металлическая табличка без всякого следа ржавчины – эти куски железа явно положили намного позже того, как латники навек успокоились.
- Орден Тамплиеров приобрёл невероятное могущество, но однажды Гроссмейстер Жак де Моле допустил ошибку, – продолжил старый учёный, – страшную ошибку, которая повторилась и в наши дни… Так вот, Гроссмейстер доверился Императору…, простите, королю Франции Филиппу Красивому, которого хотел привлечь на свою сторону. И раскрыл ему великий план. Властолюбивый король, когда дело касалось займа денег или использования могущества Ордена для устранения личных врагов, вёл себя лояльно и выказывал овечье послушание, но, узнав обо всём, ни под каким видом не пожелал терпеть над собой кукловодов. Тайно объединившись с Папой Клементом Пятым, он внезапно приказал схватить верхушку Ордена. В результате Гроссмейстер и Капитул взошли на костёр. Из огня Жак де Моле проклял Филиппа и Клемента со всеми их потомками. Предсмертное проклятие Гроссмейстера Ордена Башни исполняется всегда – снять его невозможно, таковы правила… Не прошло и года, как Филипп и папа сошли в могилу, а вскоре пресёкся и королевский род Валуа.
- Подожди-ка, о, учёнейший из рассказчиков, – вмешался Толстой. – Гроссмейстер Август, которого нынче пришибло истуканом, тоже лепетал что-то проклинающее в адрес России-матушки.
- Всё, что он сказал, сбудется в точности, – твёрдо заявил Ленуар. – Можете не сомневаться.
- Это мы ещё посмотрим, – грозно сказал Максим по-русски. – Пока будет существовать Финляндский полк – будет стоять и Российский престол, а всякую революционную нечисть – штыком в брюхо, не так ли, гвардейцы?
- Так точно, вашвысбродь! – гаркнули Леонтий с Ильёй.
Ленуар ничего из услышанного не понял и продолжил:
- После гибели Жака де Моле Орден Башни долго сотрясали внутренние распри. Трое мертвецов под аркой – это те, кто начал вражду.
«Noli me tangere», – прочел Толстой и вслух перевел: «Не тронь меня».
«Alias», – прочел Крыжановский следующую табличку.
- «В другой раз», – перевел Толстой, – А что же третья? «Concedo!» – «Уступаю!»…
- Девизы трёх домов Ордена – Озии, Пенуэлов и Сихемской твердыни.
- Трое составляют Капитул! – сказал Толстой, а на удивленные взгляды ответил, указав вверх, – Тут написано, и опять на латыни[194]! В меня не вселялись духи подземелья, я лишь наблюдательнее вас!
- В последнее время Капитул состоял не из трёх, а из шести членов – по два от каждого дома… Вижу, полковник, эта тема вам уже менее интересна. Спешу предварить очередное понукание и сам предлагаю двигаться дальше, – Ленуар поднял фонарь и скорым шагом пошёл вперёд. – Не беспокойтесь, мы успеем – генерал идёт более длинным путём, к тому же, он вынужден отвлекаться на преследователей. Но – прошу соблюдать тишину: скоро наши и его пути пересекутся, полагаю, выигрыш во внезапности вам, господа, не помешает?
Правота учёного француза выяснилась тотчас: шагов через сто отряд, очутившись в очередном подземном зале, почти нос к носу столкнулся с беглецами.
Улан оставалось человек пять, не более. Доминик Радзивилл с оскаленным ртом и безумными глазами в одной руке держал саблю, а другой сжимал руку Елены. Рот цыганки, чтобы не кричала, плотно завязан платком.
- Эй, троянец! – немедленно заорал Толстой. – Верни украденную девушку – и мы уйдём! Иначе ничто и никто не защитит тебя от гнева героев Эллады.
Поляки ощетинились клинками.
- Вашвысбродь, у них больше зарядов нету, стреляйте, вашвысбродь – торжествующе крикнул Илья, взводя курок штуцера.
- Отставить, – поднял руку Максим, – так можем задеть Её. Пойдём врукопашную.
Противник, однако, совершенно не собирался принимать бой: подскочив к низкой железной дверце, Генерал Ордена открыл её ключом и исчез вместе с девушкой. В мгновение ока за ним последовали и солдаты. Выстрелы русских запоздали – Максим ругался, на чём свет стоит. Он первым подбежал к двери и хотел броситься дальше, но тут донёсся далёкий голос Елены:
- Берегись, Максимушка!
Полковник отпрянул – и вовремя: в узком проходе за дверью пали две гранитные глыбы, лицо обдало каменной крошкой, а осколок побольше расцарапал щеку.
- Тебе, брат, как и мне, похоже, покровительствуют высшие силы, – облегчённо воскликнул подбежавший граф.
- Елена криком предостерегла, – пояснил Максим, отплёвываясь. У самого в голове всё ещё стоял звон серебряных колокольчиков голоса любимой.
- Какая Елена, ежели у ней рот завязан? – подивился граф. – Ну, да ладно, главное – ты живой и, следовательно, дуэль продолжается.
- Ход завален, Теодорус, – чуть не рыча от злости, возопил Максим, – Снова остались мы со своим интересом. Что делать дальше? Ну-ка, господин Ленуар, пожалуйте сюда! – Крыжановский навис над стариком, не ведая, что в точности копирует позу Простого Батиста, когда тот с плёткой в руке вопрошал Франсуа Белье.
- Другие ходы наружу имеются?
- Я знал только этот, – испуганно пролепетал бывший эзотерик.
- Куда он ведёт? Помнится, вы что-то говорили об этом!
- Там несколько выходов, – затараторил старик. – Но Генерал непременно пойдёт к охотничьему домику…
- Почему вы так решили?
- У них нет зимней одежды, а её проще всего взять в домике.
- Сказать по чести, гениальный вывод, – Толстой без тени насмешки зааплодировал. – И вы, конечно, знаете, где он – охотничий домик?
- Да, – старик скромно опустил глаза. – До него не более полутора лье.
Назад возвращались почти бегом. Когда старый учёный начал задыхаться, Крыжановский приказал солдатам по очереди тащить его на спине. Пока выбрались из подземелья, все выбились из сил. Лишь Американец совершенно не показывал признаков усталости: всю дорогу он шутил и декламировал дурные стихи собственного сочинения.
«Кажется, сей человек из железа – оттого плавает как топор, оттого остр на язык и любит рубить с плеча. Всяческие мытарства ему нипочём!» – с лёгкой завистью думал Максим. – И саквояж тяжеленный тащит, будто там – дорожный сюртук и пара белья.
Фёдор тем временем и не думал униматься:
- Орфею боги обещали вернуть Эвридику, ежели он выйдет, ни разу не оглянувшись, из царства мрачного Аида – вот и я тоже решил не оглядываться всю дорогу. Веришь, Максимус, ни разу назад так и не посмотрел. Чем не Орфей? И стихи слагать, и петь умею…
- Помилуй, Фёдор, – взмолился Максим, – У Орфея арфа была, а у тебя арфы нету – какие могут быть песни?
- Как – нету, а это что? – возмутился Американец, хлопнув ладонью по прикладу любимого карабина. – Иль тебе моя музыка не по вкусу?
Крыжановский устало взглянул на друга. В этот момент над головами тяжело ухнула пушка. За ней – другая и третья.
- Вот она – музыка, которую предпочитаю я! – вскричал Крыжановский. – Похоже, сюда пожаловал Чичагов. Вовремя, ничего не скажешь! Думается, Фёдор, в этом оркестре найдётся партия и для твоего инструмента. Выйдем через зал с идолами: в кордегардии нынче столпотворение.
Гром пушек нарастал. Палили с замковых стен, но гораздо чаще доносились выстрелы отдалённые – нападавшие явно превосходили обороняющихся числом орудий.
В главном зале всё осталось по-прежнему – следы разгрома и трупы. Толстой не преминул подвести Ленуара к раздавленному Гроссмейстеру. Учёный раскудахтался от счастья и, состроив желчную мину, долго плевал в мёртвое лицо. Удивительно, откуда столько слюны взялось?!
- Гроссмейстер Карт-то оказался Королем денариев, – каркал старик. – Ты смел судить меня, стоя на самом верху Пирамиды. И вот я плюю в твои мёртвые глаза!
- Передохнули, господин учёный? – отвлёк его Максим. – Теперь проведите нас наверх одной из башен – надо осмотреться на местности, а там уж решим, как пробиваться наружу.
Ленуар молча вышел из зала и пошёл по коридору. У поворота он остановился и сказал:
- За углом, в конце коридора – вход в северо-восточную башню. Генерал превратил её в пороховой склад. Внутри обычно никого не бывает, только на входе – солдат.
- Дело говорите, уважаемый! – оживился Максим. – Во время боя там, пожалуй, поболее одного солдата встретится, но в качестве активного очага обороны башня с порохом не годится, чтоб не привлекать внимания неприятельских артиллеристов.
Солдата у входа не оказалось – низкая железная дверь встретила лишь массивным навесным замком. Не доходя шагов восемь, Толстой вскинул пистолет и на ходу сшиб замок.
Крыжановский аж застонал от подобной дури – там ведь порох! А граф преспокойно пояснил, что не видит необходимости соблюдать тишину – кругом грохочет так, что никто ничего не услышит.
Внутри штабелями выстроилось множество бочек, а ещё – пирамиды разных ядер, вплоть до древних – каменных. Наверх вела крутая лестница. Спешно поднявшись, компаньоны отворили тяжёлую дверь и вышли на крепостную стену. В лицо пахнуло свежим ветром и тут же – запахом гари.
Вид с башни открылся замечательный: прямо перед глазами дымит надвратная брама, две боковые башни также выпячивают опаленные бока, как бы говоря: «А мы – тоже инвалиды! Мы – тоже ветераны!» На замковом дворе суетятся поляки, готовясь отражать штурм. Далеко, у самой кромки леса – линия русских орудий, что неустанно палят по замку да многочисленные серые егерские шинели с белыми косыми крестами ранцевых лямок на груди.
Замысел славных русских командиров понятен: подавить орудия на башнях, затем подвести свои пушки поближе, ударить по воротам прямой наводкой и взять замок приступом.
- Смотри, Максимус, это какое-то издевательство, – сказал Толстой, – вроде, всё как ты хотел: пехота и артиллерия, но возиться им часов пять, не меньше. За это время Радзивилл успеет уйти далеко. Должен признать, что мой план тайного проникновения тоже потерпел фиаско. Только того и добились, что заперли себя здесь – со стен не спуститься, и через ворота не пробиться никак. Надо было не лезть в замок, а, вместо этого, вчера попросить мосье Александра провести нас к охотничьему домику. Там в тепле выспались бы, наутро сытно поели, скоротали время, слушая занимательные истории старика и как раз бы дождались бледного мерзавца с нашей красавицей.
- Я – не Лех Мруз, чтоб наперёд знать, – огрызнулся Максим. – Помолчи немного – сейчас башню взрывать будем! Выйдем через образовавшийся пролом.
- Вот это – по-нашему! – обрадовался Толстой.
Максим предложил протянуть пороховую дорожку до зала с идолами, поджечь её и укрыться от взрыва в подземелье, но Толстой категорически отверг этот план.
- Не хочу, чтобы меня там завалило: судя по числу бочек, рванёт адски. Лучше уж на воздухе, за стенными зубцами и прочими укрытиями, отсидимся.
- А взрывать – как? Пороховую дорожку вверх по лестнице не протянешь, – засомневался полковник.
- Протянем по полу, насколько выйдет, на конце насыплем большую кучу, в которую с самого верху кинем факел. Вот и все дела.
На том и порешили. Но, когда всё уже было готово к взрыву, и отряд, заперев на засов нижний вход в башню, снова выбрался на крепостную стену, Фортуна в очередной раз сыграла весёлую шутку: к башне, видно за порохом, пожаловали уланы – числом в пять человек. Что станешь делать?
- Огонь! – скомандовал Крыжановский.
Пятеро полегли в мгновение ока, но перед смертью успели криками переполошить весь двор. Поляки быстро осознали ту опасность, каковая нависла над пороховой башней, и задались навязчивой идеей извести крошечный русский отряд. Из бойниц соседней башни ударили частые выстрелы так, что не поднять головы. По лестнице, ведущей со двора, на стену полезла гурьба вояк.
- Сдавайтесь, господа! – закричал им по-французски Толстой. – Полковник Радзивилл променял вас на бабу и удрал из замка! Через час-другой крепость падёт, сопротивляться более нет смысла!
- Они солдаты, Фёдор, – мрачно сказал Максим. – А настоящий солдат продолжает драться даже тогда, когда командир выбит из седла. Лучше займись теми, что наверху, в бойницах.
- Ну что ж, сейчас они у меня услышат реквием! – демонически захохотал Американец, и пять раз быстро выстрелил из карабина. – Вот, дьявол, раз-таки промазал!
- Поторопись, Фёдор, а то я слышу, как снизу колотят в дверь порохового склада, – крикнул Максим, разряжая пистолет в первого поднявшегося на стену поляка. – Ежели войдут, останешься без фейерверка.
Толстой, презрев опасность, встал во весь рост и дважды выстрелил, – Готово, mon colonel! Уверяю, минуту-другую они носа не высунут: можно взрывать.
Максим вскочил, но Илья Курволяйнен оказался куда проворнее – припустил к башне, только пятки засверкали. На миг он исчез внутри, и вот уже несётся назад и орёт:
- Щас бабахнет!
Из бойниц по Курволяйнену начали стрелять.
- Давай, братец, давай, – шептали губы Максима.
Бабахнуло от души: уши заложило, а башня раскрылась мартовским первоцветом.
Сорвавшаяся с петель дверь догнала денщика и ударила в спину. Сверху пошёл дождь из камней. Максим, прикрыв голову руками, смотрел на лежащего Илью. Тот не шевелился.
Башня треснула до основания. В торжественном молчании от неё отделился угол и рухнул наружу. В воздух поднялось густое облако красноватой пыли.
Глава 11 Оскал Смерти
13 (24) ноября 1812 г.
Красный замок близ города Мир Гродненской губернии.
Протяжное «ура» донеслось со стороны русских порядков, едва рухнула северо-западная башня, а на её месте образовался внушительный пролом. Тотчас начался приступ: поле перед замком заполнилось бегущими и орущими егерями.
Защитники смешались, их командиры оказались не готовы к разрушению твердыни и подавали противоречивые команды. Назревала паника.
- Я велел сдаваться, а вы посмели ослушаться! – ликуя, кричал полякам Толстой. Укрывшись за выступом стены, он доставал один за другим пистолеты, на миг высовывался из укрытия и, почти не целясь, стрелял. Промахов граф не давал. Цыганёнок сидел рядом и весьма сноровисто перезаряжал оружие.
Крыжановский с Коренным откинули дверь и перевернули на спину лежавшего под ней Ильюшку. У того ртом шла кровь. Серые глаза распахнулись и посмотрели на полковника – будто холодными пальцами сдавило горло. Трясущимися руками Максим приподнял голову денщика и пригладил беспорядок в его волосах.
- Вашвысбродь, – прошептали губы Ильи.
Максим замер.
- Что-то холодно, вашвыс… Вы бы шубейку запахнули, не то снова захвораете…
Максим понял, что, оказывается, умеет плакать – крупные слёзы покатились из глаз, живот свело неистовой болью.
- Что же ты, братец? – он хотел сказать нечто большее, выразить истинное чувство, но получилось только ещё раз глупое: «Что же ты, братец?»
Впрочем, Курволяйнен его уже не услышал – незримая армия, что следовала за Крыжановским по дорогам войны, приняла в строй нового бойца. Приняла – и тут же изготовилась к атаке. Крыжановский бережно уложил на камень голову умершего, медленно поднялся с колен и застегнул пуговицу на груди.
Дальнейшее могло бы послужить неопровержимым доказательством того, что ушедший в вышние Сады Мераб Ордена Ассасинов Абу-Гаяс-аль-Кумар пал сражённый не одним противником, но армией. Ибо Максим совершил непосильное для одного человека – обрушившись на поляков, он вмиг очистил лестницу и спустился во двор. Дамасская сабля и изогнутый мерабов кинжал не знали пощады – без всяких угрызений совести били в спину так же легко, как и в грудь. Поляки стреляли, но, если и попадали, то в кого-то невидимого, а не в полковника.
- Вот дьявол, наш дружочек, кажется, рехнулся! – воскликнул Толстой. – А я, грешный, никогда, собственно, в ум и не приходил – чего же сижу?! А-а! Где наша не пропадала, авось, и на этот раз пронесёт!
Расстреляв последние заряды, граф повесил за спину карабин и устремился вслед за компаньоном, на ходу обнажая саблю. Леонтий Коренной с Плешкой не отставали от Американца ни на шаг. Александр Ленуар в одиночестве остался на стене. Окинув взглядом картину смерти и разрушений, он грустно вздохнул и пошёл догонять остальных.
Откуда-то из дымящихся развалин выбрался Франсуа Белье. Вид ученика Прозектора ужасал: с ног до головы в пыли, лицо с вынужденной полуулыбкой и следами близкого знакомства с кулаком Крыжановского; разметавшиеся жидкие волосы и наполненный растерянностью взгляд; в руке – шпага.
Какие мысли роились в голове «милосердного братоубийцы»? Возможно, его томило раскаяние за подлую жизнь, и в душе он мечтал совершить нечто полезное, как недавно в прозекторской? Или, наоборот – хотел отомстить Максиму за свёрнутую набок челюсть и ударить в спину? Увы, означенные вопросы так и не нашли ответа – рядовой лейб-гвардии Финляндского полка Леонтий Коренной задаваться ими не пожелал, а, шагнув в сторону, коротко повёл снизу вверх штуцером с примкнутым к нему кортиком.
Хляп! – выпущенные кишки последнего из эзотериков Ордена Башни свесились до земли. Франсуа упал на колени и, вперившись выпученными глазами в проходившего мимо Ленуара, попытался что-то сказать. Старик сочувственно покачал головой, Франсуа молча лёг лицом вниз.
На замковом дворе царило вавилонское смешение языков: никто никого не слышал, не слушал и не понимал. Часть солдат, откровенно наплевав на приказы и бросив оружие, дожидалась русских, чтоб сдаться в плен. Иные метались в поисках возможности спастись. Офицерам удалось собрать небольшую группу и поставить на оборону пролома. Но, по мере приближения лавины белых крестов, самих офицеров постепенно стала оставлять решимость вступить в бой. Глядя на командиров, уланы беспокойно переминались с ноги на ногу, бегали по сторонам глазами, а некоторые, позабыв о былом атеизме, шептали: «Иезус Мария». Малого усилия недоставало, чтоб поляки, очертя голову, бросились врассыпную.
Таким усилием стало появление с тыла кошмарного воина-берсерка и его товарищей, идущих на прорыв. Поляков было вдесятеро больше, но они не стали испытывать и без того слишком терпеливую к ним судьбу и убрались с дороги. Когда первая волна атакующих егерей достигла пролома, навстречу ей вышло только пять человек.
Русские солдаты так приучены, что больше боятся начальственного гнева, нежели любого супостата, как бы страшен тот ни был. Потому егерей нисколько не испугали забрызганный с ног до головы кровью вражина и его спутники. Быть бы тем исколотыми штыками, если б вражина не ругался привычно, как ругаться могут лишь русские офицеры. Тут ещё и Коренной гаркнул:
- А ну, посторонись, служивые, или вам повылазило?! Не видите, что ли – их высродие люто осерчать изволили?! Это оттого, что за вас всю работу делать пришлось! Подите от греха – горе у нас!
Максим опустил оружие. Кровавый туман перед глазами исчез, и вовремя, а не то действительно дошёл бы до греха – обагрил руки русской кровушкой. Никого и ничего не замечая вокруг, он отошёл в сторону, зачерпнул пригоршню снега и растёр лицо. Окончательно же пришёл в себя лишь в санях.
- Однако, mon colonel, – с нарочитой укоризной молвил Толстой и протянул большую дядькину бутыль, на дне которой ещё плескалась мутная белёсая жидкость.
- Однако, – снова укорил граф, когда Максим опорожнил всё одним глотком. Ленуар и Плешка сидели рядом, а Коренной выпрягал лошадей. Трех из шести он отвел в сторону, оставшихся поставил в тройку. Перехватив взгляд полковника, Александр Ленуар пояснил:
- Мы сейчас поедем лесом – придётся петлять между деревьев. А тройкой легче управлять.
Максим еле унял дрожь, когда вспомнил, как вчера хотел оставить Илью смотреть за этими треклятыми лошадьми и как граф крикнул: «Что им сделается?» Им, действительно, ничего не сделалось…
Сейчас Толстой молчал, и Максим был этому рад. От Американца не хотелось принимать соболезнования.
Леонтий Коренной, кряхтя, полез на облук[195]. Сел и замер, глядя перед собой – согбенная спина, обвисшие усы и красные глаза. Через миг встрепенулся и схватился за вожжи.
- Простите, вашвысбродь, не по себе… Худо совсем… Парень мне как сын был.
- Иди в сани, дядя Леонтий! Сиди там, а мне невтерпёж, – Максим занял место возницы и взмахнул кнутом.
- Показывайте дорогу, господин Ленуар.
Кони тронулись, в лицо полковнику кинуло снежной крошкой, холодный ветер обжёг щёки. Полегчало. Оставленные на произвол судьбы лишние лошади пронзительно заржали вослед отъезжающим.
Красный замок горел. Чёрный дым заслонил блеклое зимнее солнце. Хлопьями сажи кружили в небе стаи воронья.
- Красное и чёрное! Это вам за Москву, мракобесы! – злорадно провозгласил Толстой. – Пал Вавилон – великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её. В один час погибло такое богатство![196]
- То горит вековой оплот свободы, – возразил Ленуар. – Но я верю: из руин, поправ старые замшелые заблуждения, поднимется новая Башня, и во тьме невежества забрезжит свет свободы…
- Дерьмо – эта ваша свобода. – Не удовлетворившись французским La merde, Толстой повторил по-русски: «Г…о!» – Уж поверьте человеку, который в поисках пресловутой свободы провёл полжизни: поднимался в небо на монгольфьере, обогнул земной шар и обитал среди диких вольных племён. И не нужно так смотреть, господин Александр! Это слово – для черни, чтобы было чем оправдать убийство Помазанников Божьих, грабежи и прочие злодеяния. Но мы-то с вами знаем истинный его смысл – возможность без помех удовлетворить собственные потребности – вот свобода! А помехами, чаще всего, выступают другие представители рода людского, алчущие того же.
- Стремление к свободе – естественная потребность человека, – уверенным тоном, который, очевидно, не раз помогал побеждать в научной полемике, объявил Ленуар. – И ни один здравомыслящий индивидуум от неё не откажется!
- Я откажусь с радостью! – зло улыбнулся Толстой и ткнул пальцем в спину Крыжановскому. – Вот человек, которого ценю превыше всех иных людей, и чьей дружбой дорожу. Посмотрите, как он спешит настигнуть Радзивилла и отбить любимую женщину – им и мной любимую. А дальше что? Кому из нас достанется Елена? Оспорив между собой этот приз, мы прикончим нашу дружбу. Единственный выход – одному из нас добровольно отойти в сторону. Кому? Я пытался предоставить выбор Фортуне, но та рассмеялась в лицо и оставила свободу решать. Дерьмо – эта свобода! Г…о, и всё на этом! В мире есть множество более ценного.
- Вы меня удивляете, граф! – только и нашёлся, что ответить, Ленуар.
Американец опустил голову и стал рыться в саквояже, надеясь найти какой-нибудь пистоль заряженным. При этом ему мешала золотая Книга, с каковой граф совершенно не церемонился и бросал из стороны в сторону.
- А что, Дядя Леонтий, у тебя в сидоре пороху да пуль не осталось?
- Нету сидора, – потупился Коренной. – Мы когда из подземелья наверх выходили, менялись с Ильёй, царствие ему небесное. Один дедку тащит, второй – сидор. Так он у покойника и остался. А как парень преставился, позабыл я всё, ваше сиятельство.
Граф угрюмо кивнул и стал припоминать, было ли ещё когда такое, чтоб у него не оставалось ни единого заряда. Сунув руку под одеяло, он добыл цыганёнка и заставил насвистывать песенку. Повеселело.
Тем временем Максим продолжал погонять лошадей.
«Давно пора бы приехать! Где же он, этот охотничий домик? Может, старик неверно указал дорогу? Заблудился, или…?»
Просторные прогалины сменялись лесистыми оврагами с сугробами, доходящими лошадям до колен. Деревья смотрелись травинками, всунутыми ребёнком в лист бумаги. Но вот впереди в просветах замелькал двухэтажный деревянный сруб. Крыжановский немедленно повернул к нему и запетлял между стволами.
Сани с оглушительным треском вломились на поляну перед домом – его огораживал невысокий заборчик, скрытый сугробом.
Крыжановский вырвал саблю из ножен и по снежной целине махнул к крыльцу. Толстой выбрался из саней, потянулся и крикнул весело:
- Эй, дядька, ты часом штык в дороге не потерял?!
- Обижаете, вашсиятельство! – проворчал Коренной, отряхивая со штуцера еловые иголки со снегом. – Вдарим, как водится – ляхи у чертей на посиделках креститься начнут!
На двор стали выбегать уланы. Пятеро. Ни Радзивилла, ни Елены.
«Помнится, у этих красавчиков ещё в подземелье заряды кончились. Или разжились в домике – он ведь охотничий? Впрочем, к чему гадать, сейчас всё выяснится!» – подумал граф, догоняя друга.
Поляки обнажили сабли.
Максим остановился и громко позвал Елену по имени.
Из дома донёсся женский крик.
Толстой сделал свой выбор:
- Ступай к ней, Максимушка, не заставляй даму ждать! Радзивилл – твой, а этих мы с дядькой как-нибудь уж сами обиходим.
Максим благодарно взглянул на графа, в чьих глазах застыла смертная тоска.
Уланы бросились в атаку. Не долго думая, Крыжановский метнул в ближайшего кинжал Мераба – убийственный инструмент не подумал ослушаться, а точно вошёл в грудь поляка. Перепрыгнув через убитого, полковник взлетел на крыльцо и, распахнув дверь, исчез внутри. Громко стукнул запираемый засов.
«Как вы там говорили, батюшка Ксенофонт? Мол, душа человеческая – поле битвы между божественным замыслом и кознями диавола? – подумал Американец – Что ж, когда я выбрал дружбу – диавол заплакал!»
Коренной сцепился с поседевшим в битвах воином. Штык против сабли при равной сноровке, кто кого – сложная задачка для теоретика фехтования.
Остальные трое гуртом ринулись на графа, подбадривая себя криками. Два голоса осеклось, а третий перешел в вопль: сабля Американца вспорола уланский мундир и по синему сукну зазмеились темно-алые струйки. Раненый ругался не столько от боли, сколько оттого, что получил удар при первом же наскоке.
- Чего орешь, цыпа? – осведомился Толстой. – Я страсть как люблю утиные грудки! А ещё – шейки, – замысловатый финт, уводящий книзу шпагу противника, и его горло взрезано от уха до уха.
Двое оставшихся, отступив на шаг, смотрели на товарища, извивающегося в стремительно краснеющей снежной кашице.
Толстой перевел дух. С двумя он должен справиться. Хоть и устал гораздо больше, чем мог предположить.
Выставив перед собой штуцер с кортиком, Леонтий обходил своего поляка по кругу. Внезапно, страшно закричав, гренадер сделал обманный выпад и, развернувшись, с хрустом опустил приклад на седую голову улана. Совсем как Суворов ещё учил: «Неприятеля надобно колоть прямо в живот, а если кто штыком не приколот, то прикладом его».
Внутри дома на Крыжановского со стен пялились головы кабанов и оленей, будто уверяя:
- И твоя голова будет здесь, место найдётся!
Мертвые твари лесные, устрашить не устрашили, но насторожили. Это зверь прёт, не разбирая дороги, а человеку дано знание о сетях ловчих. Максим снял со стены кабанью голову, и с усилием насадил на саблю – подъял как знаменщик полковой стяг.
Ступени жалобно застонали под твердой поступью.
Свиш-ш-ш! – звериная голова дернулась на сабле и полегчала вполовину. Максим чихнул от попавшей в нос трухи и стянул с клинка останки, подумав: «Памятный ударчик!» Так он и взошел на этаж, держа саблю в одной руке, а пол головы – в другой.
На полу за тяжёлой кроватью, сжавшись в комок, сидит Елена – одежда в беспорядке, на лице – слёзы ярости. У Радзивилла по щеке – борозды от ногтей, в глазах – досада, что не успел довершить начатое. В руке – сабля.
Ох, не зря спешил Максим, понукая лошадей – ещё немного, и не выстояла бы девичья честь.
Двое мужчин, ни говоря ни слова, замерли друг против друга. Но взглядам молчать не прикажешь – у них свой диалог.
- Я проделал долгий путь – руки устали от вожжей, уйди в сторону, не то раздавлю! – говорит один.
- Разве не знаешь, что ждёт в конце всех путей? – отвечает другой.
Противники встали в меру[197].
С едва слышным звоном дамасские клинки поприветствовали друг друга и остались довольны знакомством.
В следующий миг Радзивилл попытался проверить Крыжановского – провел молниеносный кроазе[198], но сабля в руке полковника не дрогнула.
Максим сделал несколько шагов и закрыл девушку собой. Манёвр дорого ему обошёлся – грудь пересекла кровавая борозда.
Костистое лицо противника исказилось в оскале, и он обрушился батманом[199]. Удар оказался такой силы, что парад[200] парализовал Максиму руку до локтя, лишив возможности перенести репри[201].
Генерал привстал на носки, замахнувшись для финального сокрушительного удара, но задохнулся от внезапной боли в паху. Будто черти поворошили кочергой в горниле его похоти – то Максим, перехватив саблю в левую руку, нанёс прицельный рипост[202]. Радзивилл страшно завыл и, крутнувшись, свалился на пол.
- Нельзя, Максимушка, – крикнула Елена, и полковник остановил coup de grace[203]. – Каждому воздастся по заслугам: пусть ещё годик порадуется жизни.
Девушка подбежала к полковнику и нежно провела рукой по раненой груди:
- За это тоже воздастся!
Она подала ему руку, и пара, не оглядываясь, покинула дом.
Посреди двора в позе древнегреческого актёра стоял граф Толстой. Руку он патетически простёр вслед двум улепётывающим во все лопатки уланам.
- Куда же вы, троянцы? Не отнимайте у Одиссея ратных забав! – кричал им Американец.
Радостный визг Плешки заставил Толстого оглянуться. Лицо графа застыло странной маской – будто скульптор взялся ваять трагедию, но на полпути вдохновился комедией.
Коренной, увидав полковника под руку с цыганкой, распушил усы и сказал:
- Вашвысбродь, не извольте беспокоиться, у нас тут тоже полный порядок. А ежели поискать, так и шубка для барышни сыщется.
Раньше всех у саней оказался Толстой, и он же первым заметил, что кое-чего не хватает. Во-первых, пропал мосье Александр, а во-вторых…
- Ё…й старик Книгу украл! – вопль Толстого заставил лошадей испуганно фыркнуть.
- Не уйдеть, б…е вымя! Вона, куды следы ведуть! – закричал дядька Леонтий, указывая направление.
Тонкая нить следов уводила в лес и вливалась в широкую тропинку. В конце ее возвышался малоприметный лысый холмик, возле него на утоптанном снегу грудой лежали вываленные из саквояжа пистолеты. Двигаясь на невидимых пазах, массивная каменная плита со скрежетом закрывала дыру в земле. И прежде, чем плита встала на место, преследователи успели увидеть Александра Ленуара, мягко улыбнувшегося им из сумрака подземелья.
Наполеон Бонапарт, часто наблюдавший эту ухмылку, прозывал её обладателя – "мой Демоний".
Глава 12 Конец игры
13 (24) ноября 1812 г.
Охотничий домик, затерянный в лесу близ города Мир Гродненской губернии.
Фёдор Толстой совершенно не ожидал от учёного подобной гадости. Подняв с земли один из пистолетов, граф заколотил рукояткой по затворному камню, который, оказывается, и снаружи прекрасно открывался.
- Господин Ленуар! Как вы могли на старости лет сделаться вором? Отриньте искушение и вернитесь немедленно: мы всё поймём и не станем укорять! Один на белом свете, куда вы пойдёте?
- Не убивайся так, Феденька, – серебряным голоском сказала Елена. – Он всё равно не вернётся.
Толстой посмотрел на девушку, залюбовался на миг, но усилием воли опустил взгляд.
- Почему же?
Елена поправила шубу, заботливо накинутую ей на плечи Максимом, и пояснила:
- Не знаю, кем назвался этот человек, но на самом деле его зовут Август, Гроссмейстер Ордена Башни…
…Давящую тишину подземелья нарушает неспешный шорох мягких подошв. Мрачные своды обступили одинокую фигуру идущего. Поверх чёрной сюртучной пары на нём овчинный полушубок, в руке – мятый саквояж. Свет фонаря испуганно жмется к стенам, не пробивая тьму и на восемь шагов. На ходу Гроссмейстер размышляет.
Игра получилась захватывающей: сколько неожиданных поворотов и напряжённых моментов! Не раз казалось, что положение безвыходно, но закончилось всё пусть не так, как хотелось, но всё же – неплохо. Да что там говорить – прекрасно закончилось!
Главный приз – Книга Судьбы – приятно тяготит руку. Внутренние враги повержены: даже не верится, что нет больше векового противостояния Пенуэлов, Озии и Сихемской Твердыни, которое так ослабляло Орден. Что касается Башни, то она, подобно фениксу, скоро восстанет из пепла, но уже под единой рукой – его, Августа, последнего из Пенуэлов. И не здесь, в Европе, а за океаном, где тянется к свободе молодое самоуверенное государство.
А ведь был момент, когда он висел привязанным к дереву и жаждал скорейшей кончины – Януарий с Радзивиллом, побоявшись предсмертного проклятия, бросили умирать одного в лесу. Хорошо, что вовремя подвернулись эти русские – граф с полковником, «Висельник» и «Колесница». Считай, всю работу для него сделали: спасли от неминуемой гибели, перебили недоброжелателей и преподнесли Книгу. Сильные карты, нечего сказать! «Император» же, на которого возлагались великие надежды, оказался слаб. Впредь не следует ставить на эту карту. А вот «Влюблённые»[204], ранее не бравшиеся в расчёт, удивили. «Жрица», коварная ведьма, весьма ловко ими воспользовалась. Но, в конце концов, она проиграла – Книга теперь у него, следовательно, ничто не помешает будущим замыслам, разве что собственные просчёты, которых в этот раз случилось немало.
Во-первых, он проглядел момент, когда «Император» стал выходить из-под влияния. Во-вторых, слишком доверял дешёвому интригану Януарию из противостоящего Дома Озии. Не думал, что тот, воспользовавшись моментом, посмеет захватить кресло Гроссмейстера. Что поделаешь – увлёкся главным: близкой возможностью добыть Книгу, а об остальном позабыл. Нельзя было выпускать бразды правления из рук, нельзя! И перед посланцем Горы вышел позор. Хотя тот об этом уже никому не расскажет: кинжал, которым размахивал полковник Крыжановский, ни с каким другим не спутаешь. Стоп, какая блестящая мысль! «Колесница» оказалась сильнее «Сумасшедшего» Абу-Гаяса. «Висельник» превозмог «Силу», то есть Прозектора. Сейчас эти двое, наверняка, передерутся из-за «Жрицы». И один победит другого. А какая карта самая сильная в колоде? Что, если расположить их по возрастанию возможностей – не этот ли порядок и есть ключ к шифру Книги Судьбы?
Гроссмейстер представил, сколько прекрасных часов он проведёт за разгадкой тайны карт, затрясся от предвкушения и невольно ускорил шаг…
… Американец застонал от бессильной ярости.
- Какой же я болван, ведь мог бы и догадаться! Куда только смотрел! Старый негодяй – вылитый Антихрист. Христа зноем убивали, а его – стужей! И одежда у этого осталась нетронутой под деревом, и прочие намёки! Опять же, танец Акима на него не действовал, я это видел, но пропустил мимо себя, голова садовая. А про Орден знал он абсолютно всё, что ни спроси! Откуда? Я те знания объяснял простой пытливостью учёного, но разве позволили бы рядовому члену стать обладателем столь сокровенных тайн? И мнимой честностью меня убедил – сколько проверял его, ни разу на лжи не поймал. Сказать по чести, думал, заведу семью, нарожаю детишек, а Ленуара к ним гувернёром пристрою, – граф истерично захохотал. – Представьте только, гувернером!
- Нужно найти рычаг, коим открывается вход, – крикнул Максим. – Ну-ка, Леонтий, погляди с той стороны холма! Не печалься, Елена, догоним этого…мэтра, вернём Книгу.
- А я и не печалюсь, Максимушка, – улыбнулась цыганка. – Догонять больше никого не надо – игра окончена, пришло время каждому получить по заслугам.
- А как же Книга? – Максим ничего не понимал.
Елена ещё раз улыбнулась и обратилась к Американцу:
- Скажи, Феденька, а что, дедушка Лех ничего мне не передавал?
Толстой нахмурился и почесал за ухом рукояткой пистолета.
- Он не мог оставить внучку без памятного гостинца, – убеждённо объявила девушка.
Рука Американца медленно расстегнула пуговицу на груди и коснулась согретого телом глиняного ожерелья.
Цыганёнок Плешка, что с момента возвращения Елены не отходил от неё ни на шаг, подбежал к графу и попросил:
- Дай мержяли[205], дядя Фёдор!
Толстой снял ожерелье и передал мальчику. В глазах графа плясало пламя.
Елена с трепетом надела на себя безвкусное украшение, оправила волосы и объявила:
- Я своё получила – это и есть Книга Судьбы.
Максим глядел на любимую, путаясь в чехарде, что творилась у него в голове.
- Если это – Книга, то, что же досталось старику?
- Он получил то, что заслужил. В древности всякий знал, что жрецы Египта хранят Книгу Судьбы внутри сооружения, называемого Правильный лабиринт. Никакой охраны, никаких запоров – входи и забирай сокровище. Желающие сделать это время от времени находились, но ни один не вышел наружу. Правильный Лабиринт преодолеть невозможно – кажется, что выход рядом, за следующим поворотом, но всякий раз ждёт разочарование.
- А как же сами жрецы получали доступ к Книге? – спросил Толстой.
- Не было в лабиринте Книги, – улыбнулась Елена. – Её всегда носили на теле. Закон Правильного лабиринта заложен во множество разных головоломок, создававшихся на протяжении веков для того, чтоб обманывать врагов. Золотая книга в совокупности с табличкой Исиды – одна из таких головоломок. Так что гроссмейстеру Августу найдётся, чем занять остаток жизни.
После этих слов Толстой сдёрнул с себя треух, и заявил:
- Снимаю шапку пред мудростью вашего племени, сударыня. В другой раз будет мне наука, чтоб не кичился собственным разумом. Ленуар обвёл меня вокруг пальца как мальчишку, но сам пал жертвой более изощрённого ума. У Ордена и тени сомнения не возникло в подлинности золотой книги. Браво!
Цыганка опустила глаза, затем решительно топнула ногой и объявила:
- Определённо, господа, мне следует рассказать всё. Да будет вам известно, что Лех Мруз прожил на свете больше ста лет – он приходился дедом не мне, а моему деду. Когда-то у Леха был старший брат Марьян. Шестнадцати лет от роду Марьяна захватил Орден вместе с висевшей на шее Книгой. Орден не знал, как выглядит Книга Судьбы, однако, Носитель понимал, что если он покончит с собой, то его тщательно обыщут и наверняка внимательно изучат ожерелье. Парень решил пустить эзотериков по ложному следу и сознательно обрёк себя на страшные пытки, чтоб враг уверился в исключительной ценности информации, оберегаемой столь тщательно. Позже Лех, тогда ещё совсем маленький мальчик, отыскал изувеченное тело брата и взял Книгу из намертво сжатого кулака. Тогда-то он и задумал уничтожить Орден. Не было дня, чтоб дедушка мысленно не просил Книгу дать возможность дожить до начала следующей Игры. И он дожил. Дожил и сделал свой ход, даже собственную кончину употребив для успеха задуманного.
- Выходит, Лех Мруз знал даже то, чем закончится вся эта история, – предположил Толстой.
- Этого он не знал, – возразила девушка. – Игра есть игра – никому не дано знать финала, таковы правила. От них берут начало все существующие на свете игры, только там фигуры – неодушевлённые. Живые же участники наделены собственным умом и волей – сие обстоятельство делает нашу игру непредсказуемой.
- Но кому и зачем нужна эта игра? – спросил Фёдор.
- Кому? Вы и без меня знаете ответ. А зачем – этого не знает никто. Возможно, Высшие Силы так проверяют людей. Ведь лучшего способа определить – чего мы на самом деле стоим – трудно сыскать. Носители искренне надеются, что род человеческий ещё не скоро оскудеет, – Елена ласково посмотрела сначала на Максима и Фёдора, а потом перевела взгляд на Коренного. Пришло время вам, дорогие мои, получить награду!
Максим привлёк её к себе и сказал:
- Ты – моя награда, Еленочка.
Девушка не стала отстраняться, но, грустно покачав головой, сказала:
- Не выйдет у нас ничего, Максимушка. И с тобой, Феденька, тоже не выйдет, хотя, будь моя воля, взяла бы тогда, в таборе, твоё колечко. Увы, не хозяйка я собственной судьбе, ею владеет она, – тонкие пальцы коснулись раскрашенной глины. – Вы ведь оба знаете, что это такое – быть картой на сукне. Но вас Книга брала себе лишь на время игры, и нынче отпустит. А меня не освободит никогда. Без её дозволения я бы даже не посмела рассказать того, что вы услышали!
- Мы с Фёдором проделали сей великий путь, смели все преграды, познали горечь утрат – всё только ради тебя, Елена! – Максим стал белее лежащего вокруг снега, губы затряслись. – Разве всё было игрой? Ты не можешь так поступать! Не можешь!
- Книга избрала меня вашим наваждением, – в глазах девушки стояли слёзы. – Это произошло помимо моей воли. Но, могу уверить: нечаянная страсть скоро покинет ваши сердца, не оставив памяти о цыганке Елене. А захотите вспомнить – голова болеть будет. Помимо прочего, не православная я, или не знаете того? Говорите же скорее, о чём мечтаете, не томите душу!
Цыганка переводила умоляющий взгляд с одного на другого.
- Коль в любви не повезло, пусть тогда в карты, что ли, везёт всякий раз, – бесшабашно потребовал Толстой, который первым уразумел тщетность попыток что-либо изменить в происходящем.
- Как же ты, Феденька, будешь всю жизнь без любви, с одними картами? Имей в виду, речь о серьёзных вещах, перестань манкировать[206],– сквозь слёзы возмутилась Елена.
- Хорошо, ради настоящей любви разок можно и проиграть, – подмигнул ей Американец.
- Быть посему! А ты, Максимушка, о чём попросишь?
- Не нужно мне ничего, – пожал плечами Крыжановский.
- Дай-ка, сама догадаюсь… Ратная слава, генеральские эполеты, награда из рук Императора? – допытывалась цыганка.
Максим вздрогнул, перевёл взгляд на Коренного – дескать, не должно подчинённому знать сокровенных командирских помыслов.
- Вместо перечисленного желаю, чтобы мои финляндцы никогда не срамили полкового знамени и были надёжной опорой Российскому престолу, – полковник вздёрнул подбородок, довольный собой.
- Ещё кое-что от себя тебе добавлю, – Елена прикоснулась к груди Максима, где запеклась кровь.
- Ну а ты, богатырь, валет Чаш[207], чего попросишь? – обратилась цыганка к Коренному.
- Коль на то пошло, – стыдливо опустил взгляд гренадер, – мечтаю, чтоб, дав хороший укорот супостату, домой, к жёнке, вернуться. И чтоб какую-никакую медаль пожаловали, да чтобы жить потом в достатке. А ещё – чего уж мелочиться – Бонапартию хочу один на один сказать пару ласковых, чтоб помнил, вражина, русского солдата!
- Так-то лучше, – удовлетворённо объявила Елена. – За сим, пришло время прощаться.
- Куда же вы с Плешкой пойдёте? Давайте, мы отвезём вас в безопасное место, – предложил Крыжановский.
- Не нужно, Максимушка, – покачала головой Елена. – С юга приближается кырдо, баба Ляля его ведёт. К ночи будут здесь.
- Тогда последний вопрос, – вспомнил Максим. – Каким боком ко всей истории причастен неуловимый князь Понятовский?
Елена развела руками и пояснила:
- За ним вы пошли – ко мне пришли. Но не извольте беспокоиться, судьба князя давно решена – через год его сорока склюёт.
- Как же это? – не понял полковник.
- Вместе с лошадью, – ещё туманнее ответила девушка.
- Прощай, Елена! – Максим болезненно скривился, потер висок и, ничего не прибавив, ушёл.
Американец раскрыл, было, рот, чтобы выдать приличествующую случаю колкость, но решил оставить ее при себе, молча поклонился и отправился вдогонку за Крыжановским.
Елена подождала, пока они скроются за деревьями и, сняв ожерелье, передала его Плешке. Компаньоны ушли, не узнав о том, что появился новый Жрец Гермеса Трижды Великого – Плешка превратился из комара в молодого ястреба. Перемена оказалась столь стремительна, что даже Елена поцокала языком.
Мальчик развязал нить и аккуратно ссыпал раскрашенные кругляши в свою рукавичку. Взяв один черепок в рот, покатал на языке и сплюнул на ладонь. Глина послушно расплылась в детских пальцах, и сияющее зеленое зернышко перекочевало в ладонь Елены.
- Изумруды Гермеса Трисмегиста, – прошептала она, – Здравствуйте! Вы – дар, и вы – проклятие.
Цыганка стала готовиться к ритуалу: предстояло изменить судьбы трёх человек…
…Дядька Леонтий, не спеша, осматривал сани – не пострадали ли от столкновения с забором.
- Вашвысбродь, – молвил он просительно. – Не сказывайте в полку про то, что Леонтий Коренной Анчихриста на закорках катал, не поймуть православные.
- Не стану, дядя, – согласился Максим. – Но и ты храни в тайне все наши похождения!
- Домой, в Итаку! – провозгласил Толстой и повалился в сани. – Передохнём малость, и – снова в путь! Не знаю, о какой такой сороке толковала наша прелестница, но дело чести – есть дело чести, так что дуэль продолжается, mon colonel?
Перед взором Максима проносились лица всех, кого забрало несусветное приключение.
Уж не давила на плечи тяжесть блестящих лат, и не болталось на виселице тело вздорного паяца.
Эпилог
На этом, к величайшему сожалению, придётся расстаться с нашими персонажами. Расстаться, чтобы вернуть их Клио.[208] А как же иначе, ведь они – реальные исторические личности! Авторы и так позволили себе слишком вольную реконструкцию событий. Извинением может служить лишь то обстоятельство, что в повествовании мы обратились к затерявшемуся во мгле веков и оттого неясному периоду жизни героев. Что же касается их дальнейшей судьбы, то она досконально известна и хорошо описана. И никакой Книге Тота не под силу изменить свершившуюся быль.
Хотя, с другой стороны, разве не есть чёрное дело – взять, да, на самом интересном месте бросить читателя, отослав к пыльным архивам, забытым летописям и музейным экспонатам? Мол, иди, узнавай – как оно там происходило на самом деле.
Нет, пожалуй, так поступить мы тоже не в праве. А потому, просто перескажем факты. На этот раз уже без творческих фантазий и авторских допущений, а так как о том повествуют анналы.
…Вскоре после описываемых событий, в декабре 1812 года, остатки великой армии Наполеона покинули пределы России. В начале апреля 1813 года фельдмаршал Кутузов сильно простудился, а 16 (28) апреля того же года, пребывая в зените славы, скончался в Силезском городке Бунцлау. Так закончилась жизнь человека, который ранее чудесным образом дважды излечивался от ран, врачами признанных смертельными. Человека, который однажды с лукавым удивлением (будто не сам приложил к тому руку!) написал жене: «Бонапарте неузнаваем. Порою, начинаешь думать, что он – уже больше не гений. Сколь беден род человеческий!»
Война продолжалась. Русская армия, во главе которой теперь стоял лично Император Александр I, вступила в пределы Европы и погнала Наполеона навстречу бесславному концу на острове Святой Елены. Сражения следовали одно за другим.
18 (30) октября 1813 года в битве при Ганау был смертельно ранен и через десять дней умер уланский полковник Доминик Радзивилл. По другим сведениям, причиной смерти князя послужила старая рана, полученная ещё в России год назад. Как бы там ни было, за этот год Радзивилл пережил множество утрат. Первейшей из них стал крах жизненных идеалов. Далее, земли и богатство Радзивиллов Александр I раздал русским генералам, отличившимся на поле боя. Жена Доминика Теофилия, известная ветреница, покинула супруга и нашла утешение в объятиях русских офицеров, с которыми заводила частые романы. Много позже смерти мужа её свела в могилу чахотка. Последним в ряду блистательных любовников Теофилии стал красавец-кавалергард Сергей Безобразов. Прямая линия рода Несвижских Радзивиллов на том пресеклась, остались лишь дальние родственники – седьмая вода на киселе.
Переломным этапом войны стало масштабное Лейпцигское сражение, вошедшее в историю под именем Битвы народов. В этой битве Наполеону противостояли Россия, Великобритания, Испания, Португалия, Пруссия, Австрия, Швеция и часть мелких немецких государств-княжеств. Воюющие стороны послали в мясорубку более миллиона солдат.
Важнейшим эпизодом Битвы народов явился бой за деревню Госса. Стратегическую важность указанного населённого пункта подтверждает тот факт, что именно сюда Наполеон бросил лучших воинов – непобедимую старую гвардию, которой без крайней нужды предпочитал не рисковать.
Вот тогда и настал час славы лейб-гвардии Финляндского полка, пожалуй, самого доблестного в русской армии, о чём свидетельствует то обстоятельство, что ни одна часть не могла с ним сравниться по числу Георгиевских кавалеров. Командир финляндцев Максим Крыжановский к этому времени, наряду с другими орденами, тоже имел Георгиевский крест, кроме того, из полковников его произвели в чин генерал-майора.
Получив соответствующий приказ лично от Великого князя Константина, Крыжановский атаковал Госсу под жесточайшим огнём неприятеля, и почти сразу был ранен тремя пулями в ноги, однако, не покинул поля боя, а держался в седле и продолжал распоряжаться атакой. Затем его контузило ядром в грудь, но и это не смогло остановить неистового воина. Лишь ружейная пуля, пущенная в упор, выбила Максима из седла.
Повинуясь последнему приказу поверженного генерала, финляндские гвардейцы продолжали теснить французов, однако, сами несли тяжёлые потери. Батальон Александра Карловича Жерве оказался отрезанным от основных сил. Сзади глухая стена забора, с остальных сторон – превосходящие силы противника – та самая старая гвардия, лучшие солдаты Европы. И некому повести за собой финляндцев, командный состав – кто ранен, кто убит. Ранен и сам Жерве.
В эту страшную минуту солдаты услыхали хорошо знакомый голос дядьки Коренного:
- А ну, не трусь! Надо спасать командиров!
С этими словами могучий гренадер одним рывком поднял полковника Жерве и пособил перебраться через каменную ограду. Следуя сему примеру, финляндцы стали помогать раненым – одному за другим – спасаться вслед за батальонным командиром.
А Коренной тем временем возглавил отпор французам. То был неравный бой, и вскоре дядька остался один. Все товарищи либо благополучно оказались в безопасном месте, либо пали в бою.
Ему предлагали сдаться, но Коренной лишь качал головой и продолжал отбиваться от наседавшего неприятеля. Когда сломался штык, Леонтий стал отбиваться прикладом. Увы, сломался и он. Отбросив бесполезное теперь оружие, богатырь смачно плюнул на могучий кулак и стукнул ближайшего супостата так, что медвежья шапка полетела в одну сторону, а её хозяин – в другую. Тогда враги просто стали колоть русского штыками, пока тот не повалился наземь.
Позже во французском лазарете, куда неприятельские гвардейцы притащили снискавшего их уважение Коренного, на теле финляндца насчитали восемнадцать штыковых ран. Врачи в недоумении разводили руками: с такими ранениями не живут! Но дядька жил, да ещё и ругался, на чём свет стоит.
О невероятном случае доложили Наполеону. Тот был так удивлён, что не погнушался лично навестить пленного русского на больничной койке. О чём говорили эти двое – неизвестно, но, уходя, Император велел хорошенько лечить и кормить Солдата. А на другой день издал по армии приказ, в котором прославлялся Леонтий Коренной, а его подвиг ставился в пример всему французскому воинству.
После выздоровления дядьку отпустили из плена, и он вернулся в полк. О дальнейшей жизни Коренного известно то, что стал он подпрапорщиком и жил себе тихо с семьёй на хорошую пенсию. За подвиг герою пожаловали особую серебряную медаль с надписью: «За любовь к Отечеству».
О Коренном сложили песню, которая в течение следующих ста лет служила официальной строевой песней лейб-гвардии Финляндского полка. Это – строчки из неё:
«Вот чудо-богатырь был малый, Лихой фланговый гренадер. Везде, всегда в боях удалых, Геройской храбрости пример».В 1846 году художник Полидор Бабаев написал картину «Подвиг гренадера Леонтия Коренного». На полотне изображено следующее: богатырь замахивается на врагов прикладом, вокруг – павшие товарищи, а на заборе, в несколько пошловатой позе – Александр Жерве. Зад полковника повёрнут к неприятелю, однако это место, как всегда требовал от подчинённых генерал Крыжановский, выглядит гордо и красиво. Сейчас полотно находится в Государственном Русском музее.
В 1906 году, на столетний юбилей Финляндского полка, офицеры за свои деньги поставили у входа в офицерское собрание памятник дядьке Коренному. Всякий входящий, вне зависимости от чина, обязательно отдавал честь бронзовому Солдату. К сожалению, тот памятник до наших дней не сохранился. После революции 1917 года его разрушили: не по душе оказался большевикам пример самопожертвования ради спасения офицеров-дворян и ответного офицерского почтения к рядовому солдату. Ведь это же «коренным» образом противоречило тем отношениям, каковые показаны в знаменитом фильме «Броненосец Потёмкин». В конце двадцатого века Валентин Пикуль вернул Коренного из забвения, написав о нём блестящую новеллу «Восемнадцать штыковых ран».
На свой вековой юбилей Финляндский полк, кроме бронзового памятника, обзавёлся также часовней Святителя Спиридона Тримифунтского, построенной по проекту архитектора С.П. Кондратьева на углу Большого проспекта и 19-й линии в Петербурге, а также и новым знаменем. Старые-то Георгиевские стяги, пожалованные ещё в 1814 году, за столетие поистрепались в сражениях. Говорят, что новые знамёна для гвардии вышивали лично царевны из дома Романовых.
В 1912 году открылась знаменитая Бородинская панорама академика Ф.А. Рубо. На гигантском полотне изображен самый напряженный момент Бородинского сражения – атака французами деревни Семеновское в полдень 26 августа (7 сентября) 1812 года, когда гвардейские полки – Литовский, Измайловский и Финляндский, стоя в нерушимом каре, сдерживали тяжёлую кавалерию противника, давая генералу Дохтурову, прибывшему на смену смертельно раненому Багратиону, возможность привести расстроенные войска в порядок.
В том же юбилейном году по проекту архитектора Ф.С. Былевского на Бородинском поле воздвигли памятник лейб-гвардии Финляндскому полку. Расположен он южнее деревни Семеновское, справа от дороги, ведущей к железнодорожной станции Бородино.
В 1917 году, когда грянула Февральская буржуазная революция, Керенский приказал собирать все флаги и срезать с них царские вензеля. Финляндский полк, единственный в гвардии, отказался отдавать на поругание полковую святыню. И любому, кто пытался настаивать, финляндцы неизменно отвечали: если вы – человек чести, то легко нас поймёте. К счастью, бесчестных не нашлось. Так прославленный полк сохранил знамя в том виде, в каком получил из рук Государя.
В гражданскую полк сражался в составе Белой гвардии. К концу войны финляндцев оставалось так мало, что все они помещались в кузове грузовика. Знамя последовало за ними в эмиграцию. В 1949 году проживавший в Париже хранитель реликвии В. Ушаков передал её в советское посольство. Сегодня знамя лейб-гвардии Финляндского полка хранится в зале №2 Центрального музея Вооруженных Сил в Москве в качестве экспоната особой подачи.
Таким образом, полностью оказались исполненными все желания создателя и первого командира полка Максима Константиновича Крыжановского.
Невероятно, но сам доблестный генерал выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Шутка ли сказать – ядро и четыре пули! Причём, последняя пуля, выпущенная с близкого расстояния, буквально вогнала золотой генеральский эполет в плечо. Вынесенный замертво с поля боя, Крыжановский, тем не менее, нашёл в себе силы доложить встретившемуся на пути Императору Александру о том, что полк сумел захватить Госсу и удержать её за собой. Тут же Император наградил генерала орденом Святой Анны 1-ой степени.
Лечиться Крыжановскому пришлось долго – целых четыре года. Часть из них – за границей. После войны, однако, он службы не бросил: занимал посты казначея Капитула императорских орденов и коменданта Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости. Был удостоен множества наград и звания генерал-лейтенанта. Дожил до старости. В последние годы жизни, являясь директором Чесменской военной богадельни, посвятил себя заботам о старых солдатах – ветеранах Отечественной войны. А ещё, в своём имении Вероле начал строить церковь Святителя и Чудотворца Николая. Для её проектирования пригласил выдающегося архитектора Д.И. Висконти. Достраивали церковь Майковы – родственники Фёдора Толстого-Американца по матери, которым Максим Константинович продал Веролу. Церковь существует и в наши дни, однако, нуждается в серьёзных восстановительных работах.
Похоронить себя Крыжановский завещал в мундире лейб-гвардии Финляндского полка, потому что, по его собственным словам, мундир крепко пришит к нему вражескими пулями и ядрами.
Могила генерал-лейтенанта находится в ограде собора Петропавловской крепости. Его имя неоднократно встречается на стенах Храма Христа-Спасителя в Москве среди других имён, составляющих Галерею Воинской Славы Отечества. Портрет героя кисти художника Д. Доу украшает собой Генеральский зал Военной галереи Зимнего дворца в Государственном Эрмитаже. Там этот портрет может увидеть любой желающий.
В Лейпцигском сражении судьба, наконец, настигла неуловимого Юзефа Понятовского, который за день до этого стал маршалом Франции. Будучи лишь раненым в руку, князь, наверное, остался жив, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что в критический момент битвы генерал Бертье приказал взорвать единственный мост через реку Эльстер для того, чтобы преградить путь наступающим русским войскам и их союзникам. Но сделать это надо было после того, как все французские части покинут город.
Однако взрывники, услыхав неподалёку громкое «ура», в панике взорвали мост раньше времени. В результате значительная часть армии Наполеона не успела покинуть Лейпциг и сдалась на милость победителей. Раненый Понятовский сдаваться не пожелал – пустился вплавь и утонул вместе с лошадью.
В современной Польше его почитают национальным героем. В Варшаве перед Президентским дворцом стоит конный памятник Юзефу Понятовскому работы Торвальдсена, а в Париже, где также чтят память польского воина, на улице Риволи фронтон одного из зданий украшен статуей маршала в полный рост.
Говорят, Александр Дюма, использовал реальные события для описания кончины своего героя д'Артаньяна. Тот, подобно Понятовскому, накануне гибельного для себя сражения, становится маршалом Франции. Но в бою не тонет, а погибает от попадания ядра в грудь. Кстати, в романе «Виконт де Бражелон», д'Артаньян в шутку говорит, что маршал Франции не может утонуть, когда у него есть хотя бы маленький кусочек дерева – маршальский жезл. Понятовскому звание маршала Наполеон присвоил, но жезл вручить не успел.
С гибелью князя Юзефа связана ещё одна легенда. Во время летних маневров 1784 года, он, побившись об заклад с одним из полковых товарищей, переплыл на коне в полном снаряжении Эльбу. Легенда гласит, что, сразу после этого случая, цыганка нагадала князю: «Победил Эльбу, но погибнешь от сороки» (Elster – по-немецки значит «сорока»).
Весьма драматическая жизнь оказалась уготована Фёдору Ивановичу Толстому-Американцу. Войну он закончил в Париже в чине подполковника с орденом Святого Георгия на груди.
Вернувшись на родину, граф подал в отставку и поселился в Москве. Страстью всей его жизни стали карты. Играл виртуозно, практически никогда не проигрывая. Ну, может только тогда, когда сам того желал. Молва, опираясь на прежнюю репутацию Фёдора, легко объяснила небывалое сие везение тем, что Толстой попросту передёргивает. Современники даже высказывали это ему в лицо. Весьма примечательна реакция графа на подобные обвинения. К примеру, в комедии «Горе от ума» Грибоедов устами Репетилова восклицает:
Но голова у нас, какой в России нету Не надо говорить, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист, В Камчатку сослан был, вернулся алеутом И крепко на руку нечист, Да разве умный человек и может быть не плутом. Когда ж о честности высокой говорит, Каким-то демоном внушаем. Глаза в крови, лицо горит, Сам плачет, и мы все рыдаем.А что же наш записной дуэлянт? Чем ответил он на оскорбление? История донесла до нас объяснение Толстого с Грибоедовым:
- Ты что это написал, будто я на руку нечист?
- Так ведь все знают, что ты передергиваешь, играя в карты.
- И только-то? Так бы и писал, а то подумают, что я табакерки со стола ворую.
И всё, инцидент прекратился. Никаких ссор и поединков.
Только когда уже после смерти Грибоедова его комедия увидела свет, сноска под пресловутым отрывком гласила: «Ф.Т. передергивает, играя в карты, табакерки он не ворует».
С Пушкиным вышло сложнее. Как-то, играя с Толстым, юный тогда ещё поэт продулся в пух и прах. Однако платить отказался и заявил:
- Ну что вы, граф, нельзя же платить такие долги.
- Почему? – удивился Американец.
- Вы же играете наверняка.
Сказано было публично. Раньше Толстой убивал на дуэли за меньшее. Но в этот раз взял, да и обратил всё в шутку:
- Только дураки играют на счастье, а я не хочу зависеть от случайностей и поэтому исправляю ошибки фортуны.
Однако дерзкого оскорбления Американец не забыл и, в свойственной изощрённой манере, отомстил-таки Пушкину.
Когда Александра Сергеевича отправили в южную ссылку, Толстой стал рассказывать всем по секрету, что, якобы, за острый язык поэта предварительно высекли розгами в тайной канцелярии. Сплетня быстро распространилась, а когда дошла до Пушкина, тот, находясь в Екатеринославе и не имея возможности немедленно потребовать сатисфакции, разразился блестящей эпиграммой:
В жизни мрачной и презренной Был он долго погружен. Долго все концы вселенной Осквернял развратом он, Но, исправясь понемногу, Он загладил свой позор И теперь он, слава богу, Только что картежный вор.Толстой ответил не столь блистательно по стилю, но гораздо ужаснее по смыслу:
Сатиры нравственной язвительное жало С пасквильной клеветой не сходствует немало. В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл, Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером ты рази, а не стихом пороки И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки.Пушкин пришёл в ярость. Все долгие шесть лет ссылки он копил злобу и готовился к дуэли. Стрелял из пистолета по жестяной мишени, ходил гулять с тяжёлой тростью, которую подолгу удерживал в вытянутой руке: чтоб та не дрожала. Говорят, что нерастраченные чувства к Толстому Александр Сергеевич выразил в рассказе «Выстрел».
По возвращении из ссылки, сразу же после аудиенции у Государя, Пушкин отправил секундантов к графу. Дуэль, однако, не состоялась – Американца не застали на месте. Позже знакомые помирили обоих. Да так крепко помирили, что Александр Сергеевич и Фёдор Иванович стали близкими друзьями. Ни кто иной, как Толстой-Американец познакомил Пушкина с семьёй Гончаровых. И сосватал Натали для друга тоже Фёдор Толстой.
Дружбу водил Толстой со многими. Среди них: Денис Давыдов, Жуковский, Вяземский, Гончаров.
Что касается семьи, то женился Американец на цыганке – Авдотье Максимовне Тугаевой. Вначале он жил с ней пять лет без брака. Но однажды произошёл фатальный случай. За картами граф встретился с помещиком Василием Огонь-Догановским. Был этот помещик ещё большим картёжником, нежели сам Толстой. Современники полагали, что Василий владеет секретом беспроигрышной игры, а современные исследователи даже уверяют, что именно эта загадочная фигура послужила Пушкину прототипом Германа для его «Пиковой дамы». Как бы то ни было, но после игры с Огонь-Догановским Толстой встал из-за карточного стола совершенным банкротом да ещё с изрядной суммой долга. Собрался, было, застрелиться, да Авдотья удержала. На два дня ушла в табор и вернулась с искомыми деньгами. В такой ситуации Фёдор Иванович просто обязан был жениться.
Графиня родила мужу двенадцать детей. Но, по воле рока, одиннадцать из них умерло: выжила только дочь Прасковья. Толстой считал, что это Бог так наказывает за отнятые в дуэлях жизни. Ведь у него было именно одиннадцать дуэлей со смертельным для противников исходом. Несчастье граф сносил стоически. Он завёл синодик[209], в который вписал одиннадцать фамилий. Когда умирал очередной ребёнок, ставил напротив фамилии в синодике пометку: «квиты». Когда число фамилий и пометок сравнялось, Фёдор Иванович сказал:
- Слава Богу, хоть мой цыганенок будет жить.
Прасковья, действительно, дожила до глубокой старости.
Сам Толстой тоже жил долго и, когда его незаурядная жизнь подошла к последней черте, позвал священника и проявил необычайную говорливость. Исповедь умирающего длилась несколько часов, после чего батюшка остался поражён искренностью раскаяния графа.
Могила Фёдора Ивановича Толстого затерялась на Ваганьковском кладбище в Москве. Авдотья пережила мужа на пятнадцать лет. Её зарезал собственный повар.
***
Так закончили своё жизненное путешествие герои, к чьей светлой памяти мы, авторы, дерзнули прикоснуться. С этим и благодарный читатель, наконец, добрался до конца повествования. И если он, читатель, теперь пожелает воскликнуть: «Как порой причудливо переплетаются правда и вымысел!», то окажется совершенно прав, ибо ещё римляне заметили:
«Ad actu ad posse valet consecutio[210]».
ПРИЛОЖЕНИЕ
Произведения В.С. Высоцкого, из которых взяты эпиграфы для книги:
«Баллада о борьбе»
Средь оплывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден Их возраст и быт, – И дрались мы до ссадин, До смертных обид. Но одежды латали Нам матери в срок, Мы же книги глотали, Пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, И сосало под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь Мы, не знавшие войн, За воинственный клич Принимавшие вой, Тайну слова "приказ", Назначенье границ, Смысл атаки и лязг Боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут Столько пищи для маленьких наших мозгов! Мы на роли предателей, трусов, иуд В детских играх своих назначали врагов. И злодея следам Не давали остыть, И прекраснейших дам Обещали любить, И, друзей успокоив И ближних любя, Мы на роли героев Вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать: Краткий век у забав – столько боли вокруг! Постарайся ладони у мертвых разжать И оружье принять из натруженных рук. Испытай, завладев Еще теплым мечом И доспехи надев, Что почем, что почем! Разберись, кто ты – трус Иль избранник судьбы, И попробуй на вкус Настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, И над первой потерей ты взвоешь, скорбя, И когда ты без кожи останешься вдруг Оттого, что убили его – не тебя, – Ты поймешь, что узнал, Отличил, отыскал По оскалу забрал: Это – смерти оскал! Ложь и зло – погляди, Как их лица грубы! И всегда позади – Воронье и гробы. Если, путь прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жарком бою испытал, что почем, – Значит, нужные книги ты в детстве читал! Если мяса с ножа Ты не ел ни куска, Если руки сложа Наблюдал свысока, И в борьбу не вступил С подлецом, с палачом, – Значит, в жизни ты был Ни при чем, ни при чем!«Игра в карты в 1812 году»
На стол колоду, господа. Крапленая колода. Он подменил ее, когда, Барон, вы пили воду. Валет наколот, так и есть. Барон, ваш долг погашен. Вы – проходимец, ваша честь, Вы – проходимец, ваша честь, И я к услугам вашим. Но я не слышу ваш ответ, О, нет, так не годится… А в это время Бонапарт, А в это время Бонапарт Переходил границу. – Закончить не смогли вы кон. Верните бриллианты. А вы, барон, и вы, виконт, Пожалте в секунданты. Ответьте, если я не прав, Но наперед всё лживо… Итак, оружье ваше, граф? Итак, оружье ваше, граф? За вами выбор, живо! Вам скоро будет не до карт, Вам предстоит сразиться, А в это время Бонапарт, А в это время Бонапарт Переходил границу. – Да полно, предлагаю сам. На шпагах? Пистолетах? Хотя сподручней было б вам На дамских амулетах. Кинжал? Ах, если б вы смогли. Я дрался им в походах. Но вы б, конечно, предпочли, Но вы б, конечно, предпочли На шулерских колодах. Вы не получите инфаркт, Вам предстоит сразиться, А в это время Бонапарт, А в это время Бонапарт Переходил границу. Не поднимайте, ничего, Я встану сам, сумею. И снова вызову его, Пусть даже протрезвею. Барон, молчать! Виконт, не хнычь! Плевать, что тьма народу. Пусть он расскажет, старый хрыч, Пусть он расскажет, старый хрыч Чем он кропил колоду. Когда раскроешь тайну карт, Дуэль не состоится… А в это время Бонапарт, А в это время Бонапарт Переходил границу. А коль откажется сказать, Клянусь своей главою, Графиню можете считать Сегодня же вдовою. И, хоть я шуток не терплю, Но я могу взбеситься. Тогда я графу прострелю, Тогда я графу прострелю, Эскьюз ми, ягодицу. Стоял весенний месяц март, Летели с юга птицы. А в это время Бонапарт, А в это время Бонапарт Переходил границу. – Ах, граф, прошу меня простить! – Я вел себя бестактно. Я в долг хотел у вас просить, Но не решался как-то. Хотел просить наедине, Мне на людях неловко, И вот пришлось затеять мне, И вот пришлось затеять мне Дебош и потасовку. Ну да, я выпил целый штоф И сразу вышел червой… Дурак? Вот как? — Что ж, я готов. Итак, ваш выстрел первый. Стоял июль, а может март, Летели с юга птицы, А в это время Бонапарт, А в это время Бонапарт Переходил границу.1
Феодальная конница
(обратно)2
Правящая верхушка Египта, формально подчинённая Османской империи.
(обратно)3
Крестьяне, беднейшие жители мусульманского востока.
(обратно)4
Высший орган власти Французской республики.
(обратно)5
Главная квартира. Местопребывание главнокомандующего и штаба армии (устар.)
(обратно)6
Басурманами называли всех неправославных. Однако чаще – магометан.
(обратно)7
31 августа 1812 года Крыжановский коротко напишет в рапорте: общие потери полка составили 554 человека. Убыль офицерского состава 34,61 процента, а для нижних чинов – 30,4 процента.
(обратно)8
Имеется в виду военная кампания 1808-1809 года против Швеции.
(обратно)9
Пёстрый флажок.
(обратно)10
Раз, два, три, четыре! (фр.)
(обратно)11
Ближайшая к противнику цепь конных сторожевых и разведывательных постов (устар.)
(обратно)12
Генерал (фр.)
(обратно)13
Юзеф Понятовский приходился племянником королю Станиславу-Августу.
(обратно)14
Карточная игра, популярная в первой половине XIХ века.
(обратно)15
Носился повязанным на поясе.
(обратно)16
Торговцы, специализирующиеся на поставках товаров для армии.
(обратно)17
Начальник штаба кутузовской армии.
(обратно)18
Генерал, герой Отечественной войны 1812 г. Слыл кумиром солдат. Был смертельно ранен в спину пулей Каховского и штыком Оболенского на Сенатской площади во время восстания декабристов. Умирая, выразил радость, что убили его не солдаты.
(обратно)19
Генерал, герой Отечественной войны 1812 г., позже стал известен своими жёсткими действиями при умиротворении Кавказа.
(обратно)20
Маршал Франции, ближайший сподвижник Наполеона. Владел титулом короля Неаполя.
(обратно)21
Имеется в виду французский генерал Лористон.
(обратно)22
Это словцо Кутузов обычно употреблял в знак нерасположения к собеседнику.
(обратно)23
Майоры, подполковники, полковники и им равные.
(обратно)24
Гражданская одежда
(обратно)25
По дуэльному кодексу, устанавливает правила и выбирает оружие вызванная сторона.
(обратно)26
Опытный дуэлянт-задира.
(обратно)27
Каждый день (фр.)
(обратно)28
Маркизские острова.
(обратно)29
Наилучшим образом (фр.)
(обратно)30
Ритуал оказался не очень приятным (фр.)
(обратно)31
Речь идёт о Ф.Ф. Беллинсгаузене, будущем великом мореплавателе и первооткрывателе Антарктиды.
(обратно)32
Вахтенный.
(обратно)33
Радость (фр.)
(обратно)34
Одно из сражений Северной войны.
(обратно)35
Полчища (фр.)
(обратно)36
Просто так (фр.)
(обратно)37
Трактир (фр.)
(обратно)38
Севербрик Иван Ефимович. Известный учитель фехтования того времени.
(обратно)39
Впредь (фр.)
(обратно)40
Под сомнением (лат.)
(обратно)41
Бистром К.И. – герой войны 1812 г. Командир 3-й бригады отдельной гвардейской дивизии. В эту бригаду входил л-гв. Финляндский полк.
(обратно)42
Славный сундук! (фр.)
(обратно)43
Послушайте (фр.)
(обратно)44
Дурачество.
(обратно)45
Перекрестие клинка и гарды.
(обратно)46
За веру и честь! (лат.)
(обратно)47
Здесь: противоположная сторона.
(обратно)48
La religion et l'honneur! – Вера и честь! (фр.) Речь идет о девизе на фамильном клинке Крыжановского. autel – чаще употребляется как "вера" в переносном значении, religion – в прямом.
(обратно)49
Видимо, анекдот Толстого основан на "Парцифале" Вольфрама фон Эшенбаха. А именно на игре слов в имени одного из персонажей – "дама Ешута" (dame Jeshut) и "дама лежала" (dame gisoit).
(обратно)50
Гусарский мундир.
(обратно)51
Чехол, закрывающий казённую часть и замок ружья.
(обратно)52
Антраша – (фр.) прыжок в балетных танцах, при котором танцующий ударяет несколько раз ногой об ногу.
(обратно)53
Странность, чудачество (фр.)
(обратно)54
У меня туман в глазах (фр.)
(обратно)55
С места в карьер (нем.)
(обратно)56
Здесь: французский штык.
(обратно)57
Стервятник (фр.) (зоол.)
(обратно)58
Скорый военный суд (нем.)
(обратно)59
Прицельный, меткий (устар.)
(обратно)60
Имеется ввиду знаменитая комета 1811 года.
(обратно)61
Военный лагерь (устар.)
(обратно)62
Хитрого устройства коробка для хранения трубочного табака. Позволяла с большим, нежели кисет, удобством набивать трубку и не допускала выветривания табачного аромата.
(обратно)63
Мелкая карта.
(обратно)64
Помещение для караула.
(обратно)65
Пехотинец.
(обратно)66
Укрылся деспот наш в далёкий свой чертог,Чтоб во дворце никто узреть его не смог.Безжалостная смерть — таков ответ тому, Кто подойти дерзнёт непрошено к нему.(фр)
Здесь приведён отрывок из «Эсфири» Жана Расина, в переводе Д. Смирнова.
(обратно)67
Аббат Никола Трюбле (1697-1770), богослов и литературный критик, не раз выступал против Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ де Вольтера).
(обратно)68
Так иногда называли Наполеона.
(обратно)69
Имеются ввиду два издания «Генриады» Вольтера. Строчка из первого издания «Et força les Français à devenir heureux!» (И принудил французов быть счастливыми!), во втором – превратилась в «Et fut de ses sujets le Vainqueur et le pére!» (И который был победителем и отцом своих подданных!)
(обратно)70
Лицом к лицу (фр.)
(обратно)71
Называлась она так, потому что рукоять заворачивалась в черную материю или черный конский волос. Естественно, такие шпаги не предназначались исключительно для траура, а являлись распространенным «городским» оружием.
(обратно)72
Le premier – (фр.) первый; la deuxième – (фр.) второй.
(обратно)73
Репутация, которую французы снискали до революции. И которую им по привычке приписывали ещё несколько последующих десятилетий.
(обратно)74
Прозвище парижских нищих.
(обратно)75
Карусель – одна из любимых забав высшего света XVIII и начала XIX веков. Представляла собой действо, стилизованное под рыцарский турнир. Последнюю и наиболее масштабную К. организовал в Москве летом 1811 г. генерал от кавалерии С.С. Апраксин, для чего напротив Александровского дворца и Нескучного сада по проекту Ф.И. Кампорези был выстроен амфитеатр с галереями и ложами для пяти тысяч человек, в окружности до 350 саженей. Герольдом на той карусели выступал дед писателя Л.Н. Толстого.
(обратно)76
Ж.А. Лористон, генерал, французский посланник при Российском дворе.
(обратно)77
Речь о Голицынской больнице.
(обратно)78
Впоследствии получил известность под литературным псевдонимом Стендаль.
(обратно)79
Пьер-Антуан Дарю – член Французской академии, маршал, генеральный интендант армии, министр Наполеона.
(обратно)80
Ведущую наблюдение за неприятелем.
(обратно)81
Задница (устар.)
(обратно)82
Москва более не существует для нас – всё пожрано пламенем. (фр.)
(обратно)83
Здесь: надстройка на крыше в виде открытого павильона.
(обратно)84
Итальянская, а позднее и французская комедия масок.
(обратно)85
Жизнь без свободы – ничто! (лат.)
(обратно)86
Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним (лат.)
(обратно)87
Польское блюдо, основу которого составляют мелко нарубленная капуста и такая же колбаса.
(обратно)88
Самка собаки (польск.)
(обратно)89
Граф употребил слово в первоначальном его значении – человек низкого происхождения.
(обратно)90
Иное название: avainviulu. Финнская и шведская клавишная скрипка.
(обратно)91
Вторая книга Паралипоменона, 20:25
(обратно)92
Чужак, не цыган (цыг.)
(обратно)93
Внучка (цыг.)
(обратно)94
Плащ-накидка (цыг.)
(обратно)95
Любит больше жизни (цыг.)
(обратно)96
Породы Орловская рысистая.
(обратно)97
Русский военный (цыг.)
(обратно)98
Польская порода лошадей.
(обратно)99
Faute de mieux – (фр.) нечто, используемое за неимением лучшего.
(обратно)100
Изабрат – парча (плотная узорчатая шелковая ткань с переплетающимися золотыми и серебряными нитями).
(обратно)101
Источник: Дм. Бантыш-Каменский. "БИОГРАФИИ РОССИЙСКИХ ГЕНЕРАЛИССИМУСОВ И ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛОВ". СПб 1840 г.
(обратно)102
Генерал, герой Отечественной войны 1812г, особо отличился в сражениях при Тарутино и при Лейпциге.
(обратно)103
Милорадовича с Мюратом связывали отношения, близкие к приятельским. Именно Милорадович договорился с неаполитанским королём, что тот позволит русской армии после Бородина без боя покинуть Москву. В период Тарутинского сидения, Мюрат и Милорадович неоднократно съезжались на аванпостах и мило беседовали. Существует версия, что генерал специально допустил задержку с атакой в бою при Тарутино, не желая внезапно нападать из рыцарских побуждений. Подобные мотивы поведения сегодня могут показаться предательством. Но в ту эпоху обычным девизом офицера были слова: «Жизнь – Отечеству, честь – никому!»
(обратно)104
За Тарутинский бой Беннигсен получил алмазные знаки ордена св. Андрея Первозванного и 100 тысяч рублей, а через месяц Кутузов удалил его из армии под предлогом «болезненных припадков».
(обратно)105
Данные сильно различаются. Здесь приведена цифра, которую указывал М.И. Кутузов.
(обратно)106
Дорогой друг, примите мой искренний привет (фр.)
(обратно)107
Извините мою забывчивость (фр.)
(обратно)108
Так иногда называли в армии Кутузова
(обратно)109
Командир партизанского отряда.
(обратно)110
Бабник.
(обратно)111
Дохтуров Д.С. – герой войны 1812г. Генерал от инфантерии.
(обратно)112
Современное название деревни – Радищево.
(обратно)113
Лермонтов М.Н. – герой Бородинского сражения, будущий полный адмирал, поэт и дальний родственник М.Ю. Лермонтова.
(обратно)114
Пасынок Наполеона Бонапарта.
(обратно)115
Меллер-Закамельский Е.И. – герой войны 1812г. Командир 1-го кавалерийского корпуса, генерал-майор, впоследствии – генерал-лейтенант.
(обратно)116
Разработанный в России и стоящий на вооружении только русской армии универсальный тип орудия, представляющий собой нечто среднее между собственно пушкой и мортирой. ½ пудовый единорог – самое тяжёлое из подобных орудий, применявшихся в полевой артиллерии. В основном, заряжался бомбами.
(обратно)117
Артиллерийский прицел.
(обратно)118
Тяжёлая пехота: гренадеры и мушкетеры.
(обратно)119
Деревянные рычаги, служившие для поворачивания лафетов в стороны, например, при наводке, или для надвигания (возвращения орудия на место после отката).
(обратно)120
Медный инструмент с отвесом. Служил для измерения углов возвышения и склонения орудия.
(обратно)121
Деревянное древко, имеющее на одном конце железные щипцы с винтом, в которые вставлялся тлеющий конец фитиля, остальная часть фитиля обматывалась вокруг древка.
(обратно)122
Простейшие сооружения из деревянных кольев, делающие преграду штурму.
(обратно)123
В период наполеоновских войн французские драгуны неоднократно сражались в пешем порядке.
(обратно)124
Да здравствует Император! (фр.)
(обратно)125
Rendez-vous – (фр.) свидание; рандеву
(обратно)126
Солдатский вещевой мешок (прост.).
(обратно)127
Графом цитируются первое и последнее четверостишия стихотворения У.Блейка «The clod & the pebble» («Ком глины и камень»):
Love seeketh only Self to please, To bind another to Its delight; Joys in anothers loss of ease, And builds a Hell in Heavens despite. […] Love seeketh not Itself to please, Not for itself hath any cry; But for another gives its ease, And builds a Heaven in Hills despair. (обратно)128
Милостивый Боже! (цыг.)
(обратно)129
Зло (цыг.)
(обратно)130
Pechbrennereifall – (нем.) здесь: происшествие у смолокурни.
(обратно)131
Храбрые воины, богатыри (цыг.)
(обратно)132
Душа (цыг.)
(обратно)133
Предки (цыг.)
(обратно)134
Человечество (цыг.)
(обратно)135
Сабля (цыг.)
(обратно)136
Русский (цыг.)
(обратно)137
Нож (цыг.)
(обратно)138
Император, Фокусник, Колесница, Висельник, Сила, Сумасшедший, Смерть, Жрец, Жрица, Дьявол – названия некоторых Старших Аркан карт Таро.
(обратно)139
Александр 1 в июле 1807г. вынужден был пойти на заключение мирного договора, по которому Россия становилась союзницей Франции, а взамен получала обширные владения в Европе. В том числе Финляндию. Тильзитский договор современниками считался позорным для России.
(обратно)140
В знак уважения к русскому императору (фр.)
(обратно)141
В этом непереводимом французском эпитете заключены два русских понятия, выражаемые словами "шалун" и "вертопрах".
(обратно)142
Sauvage – дикарь (фр.)
(обратно)143
Да, да, почтеннейший мой книжник! Заткни фонтан и не рюми – Ведь косолапый шаромыжник Произошел от cher ami. В. Князев «Патриотическая филология»: Русская стихотворная сатира 1908–1917-х годов»
(обратно)144
Репеёк: здесь, овальный цветной щиток на кивере под султаном.
(обратно)145
Прозвище Даву.
(обратно)146
Считается единственным наполеоновским маршалом, не проигравшим к 1815 году ни одного сражения. Зато на долю маршальского жезла Даву выпали всяческие унижения. Дважды этот трофей доставался русским войскам. Первый раз его захватили казаки в январе 1807 года при местечке Бергфриде в Восточной Пруссии. Ныне жезл хранится в собрании Исторического музея в Москве. Император выдал Даву второй экземпляр жезла. Но его взял в бою л-гв. Финляндский полк 5 (17) ноября 1812г. в с. Доброе. Регалия находится в Государственном Эрмитаже.
(обратно)147
В Древнем Риме жрецы-предсказатели. Часто использовали для гадания внутренности жертвенных животных и птиц.
(обратно)148
Сказочный, несуществующий людоед (фр.) Такого обезвредил Кот в сапогах из сказки Шарля Перро.
(обратно)149
Подходящий момент (фр.)
(обратно)150
Таинственный, молчаливый лес (фр.)
(обратно)151
Иди сюда, мальчик (цыг.)
(обратно)152
Вещь (цыг.)
(обратно)153
Простак (цыг.)
(обратно)154
Без музыкального сопровождения
(обратно)155
Ищи дурака! Ищи дурака!Идти работать, идти в солдаты! Дай мне кнут и седло!Д ай шелковую рубаху и саблю! Я пропащий, мама! Я пропащий, мама! Дай мне резвого коня, Шатёр, телегу и костер! Мне нужны только: Медный котелок
И заполненный котел для замешивания теста! Где ты, моя волюшка! Где же моя дальняя дорога?! Где же моя дальняя дорога?! (цыг.)
(обратно)156
Якобинцы – радикальное политическое движение, одна из движущих сил Великой французской революции. Отличались богоборческими взглядами, для расправы с политическими оппонентами развязали в стране массовый террор. Наиболее видные представители якобинцев: Ж. Дантон; Ж-П. Марат; М. Робеспьер.
(обратно)157
Адмирал Чичагов П.В. – морской министр. В 1812г. командовал 24-тысячной Дунайской армией, которая с начала войны до исхода Наполеона, сдерживала возможное вступление в войну союзной французам Австрии. Когда это сдерживание потеряло смысл, Александр 1 приказал Чичагову двигаться наперерез Наполеону. Встретив отступающих французов на реке Березине, адмирал бездарно провёл сражение, что позволило Наполеону переправиться на другой берег, тем самым, избежав полного разгрома и пленения. За это народная молва жестоко обошлась с адмиралом. Именно о Чичагове басня И. Крылова «Щука и кот», где есть знаменитые слова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».
(обратно)158
Генерал от кавалерии Витгенштейн П.Х. – во время нашествия Наполеона, с 35-тысячной армией прикрывал направление на столичный Петербург. С задачей справился блестяще, однако, запоздал к Березине, не сумев пробиться через неприятельскую оборону и не помог Чичагову. Адмирал остался один против всей армии Наполеона.
(обратно)159
Отступление (устар.)
(обратно)160
Обозы или районы расположения обозов и тыловых учреждений армии (устар.)
(обратно)161
Склады (устар.)
(обратно)162
М. Ней – один из маршалов Наполеона. Обладал титулом князя Московского (prince de la Moscowa). В сражении при Красном 6 ноября 1812 г.,корпус Нея был полностью разгромлен (этот эпизод остался вне рамок настоящего повествования. Авт.). Желая избежать плена, маршал с 3000 человек бросился переходить Днепр по неокрепшему льду, в результате чего много солдат утонуло, а другие, побывав в ледяной воде, умерли по дороге. Выжило около 800 человек.
(обратно)163
Н.Ш. Удино; Виктор (настоящее имя Клод-Виктор Перрен) – маршалы Наполеона.
(обратно)164
Говорящий труп (фр.)
(обратно)165
Понедельник.
(обратно)166
Кошт – (устар.) расходы на содержание.
(обратно)167
Груз (цыг.)
(обратно)168
О, славные воины! Приветствую вас, славные воины! (лат.)
(обратно)169
Лицо, находящееся в зоне боевых действий, но не воюющее с оружием в руках.
(обратно)170
Парижский университет.
(обратно)171
Профессор Гильотен умер 26 марта 1814 года от естественных причин, а не был гильотинирован, как многие ошибочно считают. Однако вызывает любопытство следующий факт: в июне 1794 г. Гильотена по приказу Робеспьера арестовали и бросили в тюрьму. Ему грозила неминуемая казнь. Но через месяц на гильотине казнили самого Робеспьера, а Гильотена выпустили.
(обратно)172
Поль Анри Гольбах – французский философ XVIII века. В объяснении общественных явлений отстаивал материалистическое положение о формирующей роли среды по отношению к личности. Идеи Гольбаха повлияли на утопический социализм XIX века. Главное сочинение – "Система природы" (1770). Автор остроумных атеистических произведений.
(обратно)173
Ричард Тревитик в 1804 году изобрёл паровую тележку, двигавшуюся по рельсам. Эту тележку иногда называют «бабушкой паровоза».
(обратно)174
Савойя – историческая область на юго-востоке Франции. Некоторое время существовала в качестве самостоятельного герцогства, которое в период своего расцвета включало территории Ниццы, Генуи, Женевы и Пьемонта.
(обратно)175
Нужно подождать (цыг.)
(обратно)176
Нужно просыпаться (цыг.)
(обратно)177
Быстро (цыг.)
(обратно)178
Имя Батист может быть истолковано как «простак».
(обратно)179
Prosector – (лат.) рассекатель.
(обратно)180
Не подпускай сюда мальчишку! (фр.)
(обратно)181
С филологической точки зрения объяснение довольно безграмотно, но оно задокументировано в "Malleus Maleficarum" (Молот ведьм) Шпенглера. Этот труд является своеобразным руководством по допросу лиц, подозреваемых в ведьмовстве.
(обратно)182
На протяжении допроса речь Николя Белье являет собой искаженные и прямые цитаты из Книги пророка Исайи.
(обратно)183
Большой подсвечник для нескольких свечей.
(обратно)184
Предводитель, вождь (ар.)
(обратно)185
Официальный титул главы Ордена Ассасинов, Крестоносцы обычно называли его Старец Горы
(обратно)186
Сен-Жан-Д’Акр – город-крепость, некогда последний оплот Крестоносцев в Святой земле. В 1799 г. Наполеон осадил, но из-за фатального стечения обстоятельств не смог захватить город. Тогда Наполеон бросил армию и убыл в Париж. Позже он точно так же поступил в России.
(обратно)187
Волк-оборотень (фр.)
(обратно)188
Колонна с верхом (капителью) без украшений. Равномерно утолщается книзу, что создаёт впечатление мощи.
(обратно)189
Латинское местоименное сочетание, эквивалентное русскому «туда-сюда». В начале XIX века часто использовалось для обозначения полового акта.
(обратно)190
Калоши – расхожее название одного из племён индейцев-алеутов.
(обратно)191
Так евреи называли Вавилон.
(обратно)192
Дерево, которому поклонялись язычники-зыряне (коми). Его срубил православный Святой Стефан Пермский.
(обратно)193
Quant de la chair, que trop avons nourrie, Elle est pieça devenons cendre et pouldre. De nostre mal personne ne s’en rie; Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! […] Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie, Garde qu’Enfer n’ait de nous seigneurie: A luy n’ayons que faire ne que souldre. Hommes, icy n’a point de mocquerie; Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!"Баллада повешенных" Франсуа Вийон ("Ballade des pendus" François Villon)
(обратно)194
Tres faciunt capitulum (лат.)
(обратно)195
Облук, облучок – край кузова телеги или саней.
(обратно)196
Толстой цитирует выдержки из главы 18 Откровения Святого Иоанна Богослова.
(обратно)197
Встать в меру – то есть продвинуться к противнику, чтобы достать его клинок концом своего клинка.
(обратно)198
Выбивание клинка противника вскользь, мгновенным ударом по его слабой части.
(обратно)199
Удар по клинку.
(обратно)200
Отбив.
(обратно)201
Возобновленный удар.
(обратно)202
Ответный удар или ответный укол после парирования.
(обратно)203
Удар милосердия (фр.)
(обратно)204
Ещё один из старших арканов «Таро».
(обратно)205
Ожерелье (цыг.)
(обратно)206
Небрежно относиться к чему-либо (устар.)
(обратно)207
«Чаши» – масть Таро. Чаши иногда соотносят с русскими и прочими северными народами. Соответственно, денарии (монеты) – с народами запада, мечи – с народами востока, посохи – с южными народами.
(обратно)208
Муза истории.
(обратно)209
Записная книжка.
(обратно)210
По действительному можно судить о возможном (лат.)
(обратно)



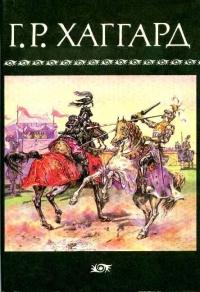
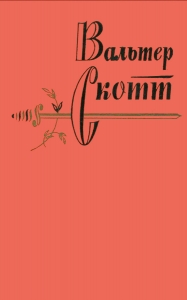
Комментарии к книге «Висельник и Колесница», Константин Геннадьевич Жемер
Всего 0 комментариев