Вальтер Скотт Собрание сочинений в двадцати томах. Том 19
ТАЛИСМАН
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ТАЛИСМАНУ»
«Обрученные» не очень понравились некоторым моим друзьям, которые сочли, что сюжет этого романа плохо согласуется с общим названием «Крестоносцы». Они утверждали, что при отсутствии прямых упоминаний о нравах восточных племен и о неистовых страстях героев той эпохи заглавие «Повесть о крестоносцах» напоминало бы театральную афишу, в которой, как говорят, была объявлена трагедия о Гамлете, хотя принца датского из числа действующих лиц исключили. Однако мне трудно было дать яркую картину почти неизвестной мне — если не считать детских воспоминаний о сказках «Тысячи и одной ночи» — части света; и во время работы я не только ощущал свою несостоятельность невежды (если говорить о восточных нравах, то мое невежество было столь же полным, как тьма, ниспосланная на египтян), но и сознавал, что многие из моих современников осведомлены в этих вопросах так хорошо, как будто сами жили в благословенной стране Гошен. Любовь к путешествиям охватила все слои общества и привела подданных Британии во все части света. Греция, влекущая к себе памятниками искусства, борьбой за независимость против мусульманской тирании, самим своим названием, Греция, где с каждым ручейком связана какая-нибудь античная легенда, и Палестина, дорогая нашему сердцу благодаря еще более священным воспоминаниям, были недавно исследованы англичанами и описаны современными путешественниками. Поэтому если бы я, поставив перед собой трудную задачу, попытался заменить придуманными мною нравами подлинные обычаи Востока, то каждый знакомый мне путешественник, побывавший за пределами «Большого круга», как его называли в старину, имел бы право очевидца упрекнуть меня за мои домыслы. Каждый член «Клуба путешественников», который вправе утверждать, что пересек границу Эдома, становится по одному этому моим законным критиком. И вот, мы видим, что автор «Анастазиуса» и автор «Хаджи-Бабы» описали нравы и пороки восточных народов не только с большой точностью, но и с юмором Лесажа и комическим талантом самого Филдинга, между тем как люди, не сведущие в этом вопросе, неизбежно создают произведения, весьма далекие от совершенства. Поэт-лауреат в очаровательной поэме «Талаба» также показал, насколько глубоко образованный и талантливый человек, пользуясь одними только письменными источниками, может проникнуть в древние верования, историю и нравы восточных стран, где, вероятно, следует искать колыбель человечества; Мур в «Лалла-Рук» успешно шел той же стезею, следуя которой и Байрон, соединив опыт очевидца с обширными знаниями, почерпнутыми из книг, создал некоторые из своих самых увлекательных поэм. Одним словом, восточные темы были уже так широко использованы писателями — признанными мастерами своего дела, что я с робостью приступил к работе.
Таковы были высказанные мне серьезные возражения; они не потеряли силы, когда стали предметом тревожных размышлений, хотя в конце концов и не возобладали. Доводы в пользу противоположного мнения сводились к тому, что я, не имея надежды стать соперником упомянутых современников, мог бы все же
выполнить поставленную перед собой задачу, не вступая в соревнование с ними.
Эпоха, относящаяся непосредственно к крестовым походам, на которой я в конце концов остановился, была эпохой, когда воинственный Ричард I, необузданный и благородный, образец рыцарства, со всеми его нелепыми добродетелями и столь же несуразными заблуждениями, встретился с Саладином; христианский и английский монарх проявил тогда жестокость и несдержанность восточного султана, в то время как Саладин обнаружил крайнюю осмотрительность и благоразумие европейского государя, и оба они старались перещеголять друг друга в рыцарской храбрости и благородстве. Этот неожиданный контраст дает, по моему мнению, материал для романа, представляющий особый интерес. К числу второстепенных действующих лиц, введенных мною, относится вымышленная родственница Ричарда Львиное Сердце; это нарушение исторической правды оскорбило мистера Милса, автора «Истории рыцарства и крестовых походов», не понявшего, по-видимому, что романтическое повествование, естественно, требует такого рода выдумки — одного из необходимых условий искусства.
Принц Давид Шотландский, который действительно находился в рядах войска крестоносцев и, возвращаясь на родину, стал героем весьма романтических похождений, также был завербован мною на службу и стал одним из моих dramatis personae.[1]
Правда, я уже однажды вывел на сцену Ричарда с львиным сердцем. Но тогда он был скорее частным лицом — переодетым рыцарем, между тем как в «Талисмане» он будет изображен в своей истинной роли короля-завоевателя; я не сомневался, что личностью столь дорогого англичанам короля Ричарда I можно воспользоваться для их развлечения не только один раз.
Я ознакомился со всем, что в старину приписывалось, будь то реальные факты или легенды, этому великому воину, которым превыше всего гордилась Европа и ее рыцарство и страшное имя которого сарацины, как рассказывают историки их страны, имели обыкновение упоминать, увещевая своих испуганных коней. «Уж не думаешь ли ты, — говорили они, — что король Ричард преследует нас, и потому так дико мчишься куда глаза глядят?» Весьма любопытное описание жизни короля Ричарда мы находим в старинной поэме, некогда переведенной с норманского; в первоначальном виде ее, несомненно, можно было отнести к числу рыцарских баллад, но впоследствии она была дополнена самыми удивительными и чудовищными небылицами. Нет, пожалуй, другого известного нам стихотворного произведения, в котором наряду с интересными подлинными событиями описывались бы самые нелепые и невероятные случаи. В приложении к этому предисловию мы приводим отрывок из поэмы, где Ричард изображен настоящим людоедом-великаном.[2]
Главное событие в этом романе связано с предметом, название которого стало его заглавием. Из всех народов, когда-либо живших на земле, персы отличались, вероятно, самой непоколебимой верой в амулеты, заклинания, талисманы и всякого рода волшебные средства, созданные, как утверждали, под влиянием определенных планет и обладавшие ценными лечебными свойствами, а также способностью различными путями содействовать благополучию людей. На западе Шотландии часто рассказывают историю о талисмане, принадлежавшем одному знатному крестоносцу, и семейная реликвия, о которой в ней упоминается, сохранилась до сих пор и даже все еще служит предметом почитания.
Сэр Саймон Локарт из Ли и Гартленда представлял собою заметную фигуру во времена царствования Роберта Брюса и его сына Давида. Он был одним из предводителей отряда шотландских рыцарей, сопровождавшего Джеймса, доброго лорда Дугласа, в его походе в святую землю с сердцем короля Роберта Брюса. Дуглас, горя нетерпением сразиться с сарацинами, начал войну с неверными в Испании и был там убит.
Локарт и те шотландские рыцари, что избежали участи их вождя, продолжали путь в святую землю и некоторое время принимали участие в войнах против сарацин.
Как рассказывает легенда, с ним произошел следующий случай.
В одной битве он захватил в плен богатого и знатного эмира. Престарелая мать пленника пришла в лагерь христиан, чтобы выкупить сына из неволи. Локарт якобы назначил сумму выкупа, и старуха, вытащив большой расшитый кошелек, принялась отсчитывать деньги; как всякая мать, она не думала о золоте, когда дело шло о свободе ее сына. Вдруг из кошелька выпала монета (как утверждают некоторые, эпохи Нижнего Царства) со вделанным в нее камнем; по той поспешности, с какой почтенная сарацинка бросилась поднимать монету, шотландский рыцарь заключил, что она представляет большую ценность, нежели золото или серебро. «Я не соглашусь, — сказал он, — даровать твоему сыну свободу, если к выкупу не будет добавлен этот амулет». Старуха не только согласилась, но и объяснила сэру Саймону Локарту, как следует пользоваться талисманом и в каких случаях он приносит пользу. Вода, в которую его погружали, действовала как вяжущее и противолихорадочное средство и обладала некоторыми другими целебными свойствами.
Сэр Саймон Локарт, неоднократно имевший случай убедиться в чудесном действии талисмана, привез его к себе на родину и завещал своим наследникам, среди которых, как и повсюду в клайдсдейлской долине, он и до сих пор известен под названием Ли-пенни, происходящим от родового поместья Локарта — Ли.
Самым замечательным в истории этого талисмана можно, пожалуй, считать то, что только он не подвергся запрету, когда шотландская церковь сочла нужным осудить многие другие чудодейственные исцеляющие средства, объявив их колдовскими, и запретила прибегать к ним, «за исключением амулета, носящего название Ли-пенни, которому богу было угодно придать некоторые исцеляющие свойства и который церковь не намерена осуждать». Как мы уже говорили, он все еще существует, и к его целительной силе иногда прибегают и теперь. В последнее время его применяют главным образом для лечения людей, укушенных бешеной собакой; и так как болезнь в этих случаях часто возникает под влиянием воображения, то не приходится удивляться, что вода, настоянная на Ли-пенни, оказывает целебное действие.
Такова легенда о талисмане, которую автор позволил себе несколько изменить, чтобы приспособить к своим целям.
Я также позволил себе значительные вольности в отношении исторической правды при описании как жизни, так и смерти Конрада Монсерратского. Впрочем, на том, что Конрад считался врагом Ричарда, сходятся и история и романы. О всеми признанных расхождениях в их взглядах можно судить по предложению сарацин, чтобы некоторые части Сирии, которые они должны были уступить христианам, были отданы под власть маркиза Монсерратского. Ричард, как рассказывается в романе, названном его именем, «не мог больше сдерживать свое бешенство. Маркиз, сказал он, предатель, укравший у рыцарей-госпиталь-еров шестьдесят тысяч фунтов, подарок его отца Генриха; он ренегат, измена которого явилась причиной потери Аккры; и он в заключение торжественно поклялся, что прикажет разорвать маркиза на части, привязав его к диким лошадям, если тот когда-либо осмелится осквернить лагерь христиан своим присутствием. Филипп попытался вступиться за маркиза и, бросив перчатку, заявил, что готов стать поручителем его верности христианству; однако предложение Филиппа было отвергнуто, и ему пришлось уступить буйной запальчивости Ричарда». — «История рыцарства».
Конрад Монсерратский, представлявший собою заметную фигуру среди крестоносцев, был в конце концов убит одним из сторонников Шейха, или Горного Старика; но и на Ричарда пало подозрение, что он был вдохновителем его убийства.
В общем можно сказать, что большая часть событий, описанных в предлагаемом вниманию читателей романе, вымышлена и что историческая правда, если она присутствует, сохранена только в изображении героев повествования.
Эбботсфорд, 1 июля 1832 г.
Глава I
…И они ушли
В пустыню, но с оружием в руках.
«Возвращенный рай»[3]Палящее солнце Сирии еще не достигло зенита, когда одинокий рыцарь Красного Креста, покинувший свою далекую северную отчизну и вступивший в войско крестоносцев в Палестине, медленно ехал по песчаной пустыне близ Мертвого моря, там, где в него вливает свои воды Иордан. У этого внутреннего моря, называемого также «озером Асфальтитов», нет ни одного истока.
С раннего утра странствующий воин с трудом пробирался среди скал и ущелий. Затем, оставив позади опасные горные ущелья, он выехал на обширную равнину, где некогда стояли древние города, навлекшие на себя проклятие и страшную кару всевышнего. Когда путник вспомнил об ужасной катастрофе, превратившей прекрасную плодородную долину Сиддим в сухую и мрачную пустыню, он забыл усталость, жажду и все опасности пути. Здесь когда-то был земной рай, орошаемый многочисленными ручьями. Теперь же на этом месте расстилалась голая, иссушенная солнцем пустыня, обреченная на вечное бесплодие.
Путник вздрогнул и перекрестился при виде темных вод, так непохожих на воды других озер: он вспомнил, что под этими ленивыми волнами лежат некогда горделивые города. Могилы их были вырыты громом небесным или извержениями подземного огня, и море скрыло их останки; ни одна рыба не находит приюта в его пучинах, ни один челнок не бороздит его поверхности, и оно не шлет своих даров океану, подобно другим озерам, как будто его страшное ложе лишь одно способно хранить эти мрачные воды. Как в дни Моисея, вся местность вокруг была «покрыта серой и солью: ее не засевают, на ней не растут ни плоды, ни трава». Землю, подобно озеру, можно было назвать мертвой: она не производила ничего, что хоть отдаленно походило бы на растительность. Даже в воздухе нельзя было увидеть его обычных пернатых обитателей: их, по-видимому, отгонял запах серных и соляных паров, густыми облаками поднимавшихся из озера под действием палящих солнечных лучей. Облака эти временами напоминали смерчи и гейзеры. Испарения клейкой и смолистой жидкости, называемой нефтью, которая плавала на поверхности этих темных вод, смешивались с клубящимися облаками, как бы подтверждая правдивость страшной легенды о Моисее.
Солнце заливало ослепительно ярким светом этот пустынный ландшафт, и все живое словно спряталось от его лучей. Лишь одинокая фигура всадника медленно двигалась по сыпучему песку; она казалась единственным живым существом на этой широкой равнине.
Доспехи всадника и упряжь его коня мало подходили для путешествия по такой стране. Кольчуга с длинными рукавами, стальной нагрудник и латные рукавицы в те времена не считались слишком громоздким вооружением. С шеи рыцаря свешивался треугольный щит. На голове был стальной шлем с накинутым поверх него капюшоном, который закрывал плечи и шею и заполнял промежуток между латами и шлемом Бедра и голени всадника, так же как и тело, были надежно защищены гибкой кольчугой, ноги, подобно рукам, были закованы в латы. С левой стороны висел длинный, широкий, прямой меч с крестообразной рукоятью; с правой стороны — короткий кинжал. Вооружение рыцаря дополняло прикрепленное к седлу длинное копье со стальным наконечником; нижний его конец упирался в стремя. На ходу оно отклонялось назад, и флажок на нем то развевался, словно играя с легким ветерком, то свисал неподвижно при полном безветрии. Все это громоздкое снаряжение было прикрыто вышитым плащом, сильно потертым и обтрепанным, защищавшим его от палящих солнечных лучей, без такой защиты железные латы слишком накалялись бы от солнца, и всадник не мог бы вынести их прикосновения. На плаще в нескольких местах был вышит герб его владельца, правда изрядно выцветший. Насколько можно было разобрать, на нем был изображен спящий леопард; девиз гласил: «Я сплю — не буди меня». Изображение герба было также на его щите, но многочисленные удары вражеских мечей почти совершенно стерли его. Плоский верх тяжелого цилиндрического шлема не имел обычного украшения в виде гребня. Не расставаясь со своими тяжелыми доспехами, северные крестоносцы словно бросали вызов климату и природе той страны, куда они пришли воевать.
Снаряжение коня едва ли было менее грузным и громоздким, чем доспехи его всадника. На нем было седло, обитое стальным листом; спереди оно соединялось с латами, защищающими грудь, сзади продолжением седла служил стальной панцирь, прикрывающий круп. С луки седла свешивалась булава, наподобие стального топора или молота. Уздечка была скреплена цепочкой. Стальная пластинка с отверстиями для глаз и ушей прикрывала голову; в середине этой пластинки находился короткий острый шишак, напоминающий рог фантастического единорога.
Привычка, однако, делается второй натурой: и рыцарь и его благородный конь свыклись с этим тяжелым бременем. Правда, немало воинов из западных стран, отправившихся в Палестину, погибало, так и не свыкнувшись с ее знойным климатом. Некоторым же он не приносил вреда и даже шел на пользу. К числу этих немногих счастливцев принадлежал и одинокий всадник, медленно ехавший по берегу Мертвого моря.
Природа одарила его такой силой, что он носил тяжелую кольчугу, как будто ее кольца были сотканы из паутины. Она выковала и его здоровье, он легко переносил перемену климата, усталость и всевозможные лишения. В его характере, казалось, было что-то от этого могучего телосложения. В то время как тело его отличалось силой и выносливостью, характер под внешним спокойствием и невозмутимостью таил в себе ту пламенную и восторженную любовь к славе, которая всегда являлась неотъемлемой чертой славной норманской расы, делая норманнов властителями во всех концах Европы, где они обнажали свои отважные мечи.
Но не всем представителям этой расы уготовила фортуна столь соблазнительные награды. Нашему одинокому рыцарю за двухлетнее его странствование по Палестине удалось обрести лишь мимолетную славу и, как его учили верить, некоторые духовные блага. Тем временем его скудные деньги таяли с каждым днем; он никогда не прибегал к тем обычным средствам, какими крестоносцы часто пополняли свои кошельки за счет населения Палестины: он не вымогал у несчастных жителей никаких подарков за то, что щадил их имущество во время войны с сарацинами, и никогда не пользовался возможностью обогащения при помощи выкупов за знатных пленников. Немногочисленная свита, сопровождавшая его с начала путешествия, постепенно уменьшалась из-за недостатка средств на ее содержание. Единственный оставшийся у него оруженосец заболел и не мог сопровождать своего господина, который, как мы видели, путешествовал в одиночестве. Это, однако, не имело большого значения для крестоносца: он привык смотреть на свой верный меч как на самую надежную защиту, а на свои благочестивые размышления — как на лучших спутников.
Но рыцарь Спящего Леопарда, несмотря на свое железное здоровье и выносливость, все же нуждался в подкреплении и отдыхе; и в полдень, когда Мертвое море находилось в некотором отдалении от него с правой стороны, он с радостью увидел несколько пальм, росших около источника, у которого он собирался устроить себе полуденный отдых. Его добрый конь, медленно двигавшийся вперед с тем же упорством, какое отличало всадника, поднял голову, расширил ноздри и ускорил шаг, как бы почуя вдали живительную влагу, предвещавшую отдых и корм. Но прежде чем конь и всадник достигли желанной цели, им пришлось столкнуться с опасностями и перенести немало испытаний.
Внимательно всматриваясь в эти пальмы, рыцарь Спящего Леопарда заметил среди них какую-то движущуюся точку. Она отделилась от пальм, отчасти скрывавших ее движения, и стала приближаться к рыцарю с такой быстротой, что вскоре он мог распознать в ней всадника. Когда тот приблизился еще больше, по тюрбану, по развевающемуся зеленому плащу и длинному копью он узнал в нем сарацина. «В пустыне нельзя встретить друга», — говорит восточная пословица. Но крестоносец не беспокоился о том, друг или враг этот неверный, приближавшийся на своем арабском коне, словно на крыльях орла. Верный воин креста, пожалуй, предпочел бы, чтобы он оказался врагом. Высвободив из стремени копье, он взял его на изготовку, подобрал левой рукой поводья, слегка пришпорил своего ретивого коня и приготовился к встрече с незнакомцем со спокойной уверенностью рыцаря, привыкшего выходить победителем из схваток.
Арабский всадник приближался быстрым галопом, управляя конем больше ногами и легким наклоном всего тела, чем поводьями, свободно свешивавшимися с его левой руки. Благодаря этому он мог свободно держать небольшой круглый щит из кожи носорога, украшенный серебром, размахивая им во все стороны, как бы намереваясь отразить этим легким диском сокрушительный удар рыцарского копья.
Вместо того чтобы взять свое собственное длинное копье на изготовку, как это сделал его противник, сарацин держал его за середину вытянутой правой рукой и размахивал им над головой. Приближаясь к неприятелю на полном скаку, он, видимо, предполагал, что рыцарь Спящего Леопарда также галопом на скаку приблизится к нему. Но христианский рыцарь, которому хорошо были известны все повадки восточных воинов, не хотел бесполезными усилиями утомлять своего верного коня. Он остановился, сознавая, что если враг приблизится для удара, то тяжесть его собственных доспехов, а также его коня явится достаточной гарантией превосходства над противником и без добавочной силы стремительного движения. Видимо, поняв грозившую ему опасность, сарацинский всадник приблизился к христианину на расстояние двойной длины копья, быстро и с поразительной ловкостью повернул коня влево и сделал два круга вокруг своего противника. Последний, не двигаясь с места, лишь поворачивался, чтобы встретить его лицом к лицу, предупреждая попытки сарацина напасть на него с незащищенной стороны. Наконец сарацин был принужден описать большой круг и отъехать шагов на сто. Затем, словно ястреб, нападающий на цаплю, мусульманин возобновил атаку, однако опять ему пришлось отступить. Повторил он это и в третий раз. Но христианский рыцарь, намереваясь покончить с игрой, в которой он мог бы истощить свои силы, внезапно схватил привешенную к седлу булаву и, нацелившись, метко бросил ее в голову эмира — таков был высокий титул его противника. Сарацин успел только прикрыть свою голову легким щитом. Но все же от сильного удара щит упал на его тюрбан, и хотя эта защита несколько ослабила силу удара, мусульманин был сшиблен с коня. Но прежде чем рыцарь сумел воспользоваться его падением, ловкий мусульманин вскочил на ноги и, позвав своего коня, который тотчас прискакал к нему, не касаясь стремени прыгнул в седло и вернул себе все преимущества, которых рыцарь Спящего Леопарда надеялся его лишить. Рыцарь тем временем поднял свою булаву. Восточный же воин, увидав, как искусно и ловко его враг владеет ею, решил отъехать и держаться подальше от этого оружия, мощь которого он только что испытал на себе, по-видимому намереваясь сражаться на почтительном расстоянии, применяя свое собственное метательное оружие. Воткнув копье в песок, на некотором расстоянии от места схватки, он ловко натянул тетиву небольшого лука, висевшего у него за спиной. Подскакав к противнику, он опять описал два-три широких круга, более широких, чем прежде, и выпустил шесть стрел так метко, что только сталь лат спасла рыцаря от такого же числа ран. Седьмая стрела нашла, по-видимому, менее защищенное место, и христианин тяжело рухнул на землю. Но каково же было изумление сарацина, когда он, сойдя с коня, чтобы посмотреть, что случилось с его поверженным врагом, внезапно очутился в железных объятиях рыцаря, который прибегнул к этой хитрости, чтобы приманить к себе противника. Но даже в этой смертельной схватке ловкость и присутствие духа сарацина спасли его. Он быстро отстегнул пояс с мечом, за который ухватился рыцарь Леонарда, и, таким образом, ускользнул из его объятий. Сарацин вскочил на коня, который почти с человеческой наблюдательностью следил за движениями своего хозяина, и ускакал прочь. Однако в этой схватке эмир потерял меч и колчан со стрелами, прикрепленные к поясу, с которым ему пришлось расстаться. Он потерял также свой тюрбан. Все эти неудачи заставили мусульманина искать перемирия. Протянув руку, он приблизился к христианину, но в повадке его >же не было ничего угрожающего.
— Между нашими народами заключено перемирие, — сказал он на лингва-франка — языке, обычно употреблявшемся между крестоносцами и сарацинами. — Почему же должна быть война между тобой и мной? Пусть наступит мир между нами!
— Я согласен, — отвечал рыцарь Спящего Леопарда. — Но где порука в том, что ты будешь соблюдать перемирие?
— Слово служителя пророка нерушимо, — ответил эмир. — Скорее от тебя, храбрый назареянин, мне нужно было бы потребовать залог, если бы я не знал, что измена редко уживается с мужеством.
Подобная доверчивость мусульманина заставила крестоносца устыдиться своих сомнений.
— Клянусь крестом своего меча, — сказал он, положив руку на эфес, — я буду тебе верным товарищем, сарацин, пока судьбе будет угодно, чтобы мы не разлучались!
— Клянусь Мухаммедом, пророком божьим, и аллахом, богом пророка, — сказал его недавний враг, — в сердце моем нет измены в отношении тебя. А теперь пойдем к источнику: ведь настал час отдыха, я едва успел прикоснуться губами к его прохладной струе, когда твое появление заставило меня приготовиться к схватке с тобой.
Рыцарь Спящего Леопарда учтиво выразил свое согласие, и недавние враги, ни взглядами, ни жестами не выказав больше вражды и недоверия друг к другу, бок о бок поехали к группе видневшихся вдали пальм.
Глава II
В те времена, когда люди сталкиваются с опасностями, всегда бывают промежутки, когда устанавливается взаимное доверие и расположение. Проявлялось это особенно часто в феодальные времена; по тогдашним нравам война считалась главным и самым достойным занятием, а поэтому периоды мира, или, вернее, перемирия, особенно ценились воинами, столь редко ими пользующимися: мимолетность этих передышек делала их еще более желанными. Стоит ли хранить вечную ненависть к врагу, с которым ты сражался сегодня и, быть может, снова встретишься в кровавой схватке завтра утром? Обстоятельства и время давали такой простор бурным проявлениям сильных страстей и насилия, что люди, если у них не было особых причин для вражды или если их не подогревали воспоминания о личных обидах, с удовольствием входили в мирное общение друг с другом в течение коротких передышек, которые им давала военная жизнь.
Различие религий и даже то фанатическое рвение, которое возбуждало взаимную ненависть у последователей креста и полумесяца, смягчались великодушием, свойственным всем благородным воинам, и особенно близким духу рыцарства. От христиан эту славную традицию мало-помалу стали воспринимать их смертельные враги сарацины как в Испании, так и в Палестине. И действительно, они не были уже теми фанатиками-дикарями, которые когда-то нахлынули из необъятных аравийских пустынь с саблей в одной руке и с кораном в другой, сея смерть и веру в Мухаммеда или в лучшем случае обращая в рабство или облагая данью всех, кто осмеливался противиться вере пророка из Мекки. Таков был выбор, который они навязали миролюбивым грекам и сирийцам. Но в столкновении с христианами Запада, обладавшими таким же неукротимым мужеством и ловкостью и прославившими себя многими подвигами, сарацины постепенно начали воспринимать их нравы и в особенности те рыцарские обычаи, которые не могли не поразить воображение этого гордого и отважного народа. Они устраивали турниры и рыцарские состязания, у них даже появились собственные рыцари или подобные им звания. Но самым важным было то, что сарацины всегда были верны данному слову, эта их черта могла бы устыдить приверженцев более совершенной религии. Они свято соблюдали перемирия между народами и отдельными людьми. Поэтому война, может быть — худшее из всех зол, представляла им случай проявить верность, великодушие, милосердие и даже добрые чувства. Может быть, чувства эти не так часто проявляются в более спокойные времена, когда страсти, вызванные обидами и распрями, таятся в людских сердцах, не находя выхода.
Под влиянием таких добрых чувств, часто смягчающих ужасы войны, христианин и сарацин, незадолго до этого старавшиеся уничтожить друг друга, медленно двигались к источнику под пальмами, куда направлялся рыцарь Спящего Леопарда, когда на него напал его ловкий и опасный противник. Как бы давая себе отдых после схватки, грозившей каждому роковым исходом, они погрузились в размышления. Их верные кони, видимо, в равной мере наслаждались этими минутами отдыха. Конь сарацина, которому хоть и пришлось гораздо больше двигаться, казался менее усталым, чем конь европейского рыцаря. С последнего еще струился пот, в то время как благородному арабскому скакуну достаточно было нескольких минут, чтобы обсохнуть, — лишь клочья пены виднелись кое-где под уздой и на попоне. Зыбкая почва, по которой они передвигались, усиливала усталость коня христианского рыцаря, — ведь он, помимо своего тяжелого снаряжения, нес на себе закованного в латы всадника. Сойдя с коня, рыцарь повел его по мягкой густой пыли, под жгучими лучами солнца превратившейся в мельчайшие песчинки. Этим он давал отдых своему верному коню, увеличивая собственную усталость. Ноги рыцаря, закованного в тяжелые латы, при каждом шаге глубоко уходили в сыпучий песок.
— Ты хорошо делаешь, — сказал сарацин, и это были первые его слова после заключения перемирия. — Твой добрый конь стоит твоих забот. Но как в такой пустыне иметь дело с конем, который ногами уходит так глубоко в песок, будто хочет достать корни финиковой пальмы?
— Ты говоришь правду, сарацин, — сказал христианский рыцарь, не очень одобряя тот пренебрежительный тон, с каким сарацин говорил о его любимом коне, — правду, которой научила тебя жизнь в пустыне. Но в моей стране мой конь не раз переносил меня через озеро столь же широкое, как то, что раскинулось позади нас, не замочив ни волоска над копытами.
Сарацин посмотрел на него с изумлением, насколько это позволяла ему его природная вежливость: оно выразилось лишь в легкой презрительной улыбке, скользнувшей под его густыми усами.
— Правду говорят, — сказал он, и к нему сразу вернулось его обычное невозмутимое спокойствие, — послушай франка — услышишь басню.
— Не очень-то ты учтив, басурман, — отвечал крестоносец. — Ты сомневаешься в словах рыцаря. И если бы ты говорил это не по невежеству, а по злобе, то наше перемирие кончилось бы, не успев как следует начаться. Ты думаешь, что я лгу, когда говорю, что вместе с пятьюстами всадников, закованных, как и я, в тяжелые латы, я проехал много миль по воде, твердой как хрусталь и в десять раз менее хрупкой?
— Что ты мне говоришь? — отвечал мусульманин. — Вон то озеро, на которое ты указываешь, из-за проклятия всевышнего ничего не принимает в свои волны и все выбрасывает на берег. Но ни Мертвое море, ни один из семи океанов, омывающих землю, не может выдержать тяжести конского копыта, как в свое время Чермное море не могло выдержать фараона с его войском.
— Ты говоришь правду по своему разумению, сарацин, — сказал христианский рыцарь. — Но поверь мне: я не рассказываю тебе басни. В этой пустыне жара делает землю почти такой же зыбкой, как вода, а в моей стране холод часто делает воду твердой, как скала. Но лучше не будем больше говорить об этом. Воспоминания о голубой, прозрачной поверхности наших озер, зимой отражающих блеск луны и звезд, усугубляет для меня ужасы этой знойной пустыни, где воздух, которым мы дышим, подобен дыханию раскаленной печи.
Сарацин внимательно посмотрел на него, как бы недоумевая, как ему понять эти слова — скрывалась ли за ними какая-то тайна или это была просто ложь. Наконец он сообразил, как ему надо понять слова своего спутника.
— Как видно, — сказал он, — ты принадлежишь к племени, которое любит посмеяться. Вы любите посмеяться над другими, рассказывая небылицы. Ведь ты принадлежишь к французским рыцарям, а их первое удовольствие дурачить друг друга, хвастаясь сверхчеловеческими подвигами. Если бы я стал спорить с тобой, я все равно был бы неправ, поскольку хвастовство свойственно вам больше, чем правда.
— Я не из их страны и не следую их повадкам, — сказал рыцарь, — или привычке дурачить людей, как ты сказал, хвастаясь выдумками или начиная дело, которое не может быть доведено до конца. Но я уподобился этим безумцам, рассказывая тебе, храбрый сарацин, о вещах, которые ты не можешь понять: я оказался в твоих глазах хвастливым лгуном, хоть я и сказал тебе чистую правду. Поэтому, прошу, не обращай внимания на мои слова.
В это время они подъехали к тенистым пальмам, из-под которых бил искрящийся источник.
Мы говорили о коротком перемирии во время войны: столь же отрадным был этот прелестный уголок среди бесплодной пустыни. В другом месте его красота не привлекла бы особого внимания. Но здесь, в безграничной пустыне, где этот оазис был единственным местом, сулившим живительную влагу и тень — блага, которыми мы не дорожим, когда имеем их в изобилии, он казался маленьким раем. В те далекие времена, когда для Палестины еще не наступили черные дни, чья-то добрая и милосердная рука обнесла стеной этот источник, прикрыв его сводом, чтобы он не просочился в землю и чтобы облака пыли, поднимавшиеся при малейшем дуновении ветра, не засыпали бы его. Этот свод был полуразрушен, но часть его по бокам прикрывала источник, защищая его от солнца. Лишь случайно лучи кое-где освещали поверхность воды. В то время как все кругом было иссушено и пылало от нестерпимого зноя, ничем не нарушаемый покой оазиса ласкал глаз и воображение. Выбиваясь из-под арки, вода стекала в мраморный бассейн, правда полуразрушенный, но все еще веселящий взор. Все свидетельствовало о том, что это место еще в древности предназначалось для отдыха путников и что когда-то здесь трудилась заботливая человеческая рука. Все напоминало усталому путнику, что и другие испытывали те же невзгоды, и отдыхали на том же месте, и, несомненно, благополучно достигали более гостеприимных краев. Едва заметный ручеек, вытекавший из бассейна, орошал несколько деревьев, окружавших источник; здесь он уходил в землю и пропадал, и лишь бархатный зеленый ковер напоминал о его благодетельном присутствии.
Здесь, в этом прекрасном уголке, воины сделали привал; каждый из них, согласно своему обычаю, снял с коня узду и расседлал его, напоив в бассейне. Они сами напились из источника под сводом. Затем они пустили коней пастись, зная их привычки: чистая вода и свежая трава не дадут им далеко уйти от своих хозяев.
Христианин и сарацин сели рядом на лужайке и достали из своих сумок скудные запасы еды, которые они захватили с собой. Однако, прежде чем приступить к своей скромной трапезе, они пристально оглядели друг друга. Подобное любопытство было вызвано тем, что после недавней схватки не на жизнь, а на смерть каждому хотелось измерить силы своего грозного противника, да и по возможности составить себе представление о его характере. И каждый должен был признать, что, пади он в бою, он пал бы от благородной руки.
По внешнему виду и чертам лица соперники являли собой полный контраст — каждый из них был характерным представителем своей нации. Франк отличался физической силой и был похож на древнего гота. Целый лес каштановых волос рассыпался по плечам, лишь только он снял шлем. Смуглое лицо его загорело от солнца больше, чем шея, менее подверженная загару. Загар этот не гармонировал ни с его большими голубыми глазами, ни с цветом его кудрей и густых усов, свисавших над верхней губой. По норманскому обычаю его подбородок был тщательно выбрит. У него был правильный греческий нос, рот — несколько велик, но с прекрасными белыми зубами; его небольшая голова отличалась горделивой посадкой. Ему едва ли было больше тридцати лет, но возраст этот можно было бы уменьшить года на три-четыре, если принять во внимание невзгоды боевой жизни и тяжелый климат. Если вся его фигура в будущем и могла бы стать более тяжеловесной благодаря высокому росту и атлетическому сложению, то теперь она еще отличалась легкостью и подвижностью. У него были поразительно мощные мускулистые руки. Сняв латные рукавицы, он обнажил красивые, не тронутые загаром длинные кисти рук с очень широкими и сильными запястьями. Воинственная смелость и беспечная откровенность отличали его речь и движения. Голос же изобличал человека, привыкшего скорее командовать, чем повиноваться. Он открыто и смело выражал свои чувства.
Сарацинский эмир являл собой резкий контраст с западным крестоносцем. Роста он был выше среднего, но все же дюйма на два-три ниже европейца, почти гиганта. Стройные ноги и тонкие руки хоть и гармонировали с его внешностью, на первый взгляд не указывали на силу и ловкость, которые он только что проявил. Но, приглядевшись к нему внимательнее, можно было заметить, что на его руках и ногах совершенно не было лишнего мяса или жира и они состояли лишь из костей, мускулов и сухожилий; это придавало легкость и свободу всем его движениям. Поэтому он обладал гораздо большей выносливостью и легче переносил усталость, чем какой-нибудь сильный, грузный великан, парализованный тяжестью собственного тела и изнемогающий от своих движений. Лицо сарацина отличалось всеми характерными для его восточного племени чертами, в нем не было ничего общего с тем искаженным образом, который менестрели тех дней обычно придавали языческим воинам, а равно фантастическими изображениями «головы сарацина», все еще красующимися на указательных столбах. Его сильно загоревшее под лучами южного солнца лицо с тонкими и, несмотря на загар, изящными чертами заканчивалось густой, волнистой черной бородой, подстриженной с необыкновенной заботливостью. У него был прямой, правильный нос, его глубоко сидящие черные глаза светились пронзительным светом, а зубы по красоте не уступали слоновой кости. Внешность сарацина, растянувшегося на траве рядом со своим мощным противником, можно было бы сравнить с его сверкающей саблей, изогнутой в виде полумесяца, с ее узким и легким, но острым дамасским клинком, так непохожим на длинный, тяжелый готский меч, лежавший на земле рядом с ним. Эмир был во цвете лет и мог бы считаться красавцем, если бы не его слишком узкий лоб и заостренные, худые черты лица, не совсем соответствовавшие европейскому понятию о красоте.
Манеры восточного воина были сдержанные, но изящные и указывали отчасти на привычку вспыльчивых людей сдерживать свой темперамент, а отчасти на чувство собственного достоинства, порождавшее некоторую церемонность в обращении.
Сознание собственного превосходства можно было наблюдать и у его европейского спутника, но проявлялось оно иначе: в то время как христианину оно диктовало смелость, резкость и некоторую беззаботность, как бы указывая на то, что он знает себе цену и ему безразлично мнение других, сарацину оно предписывало вежливость, более усердную в соблюдении церемоний. Оба они были учтивы, но вежливость христианина проистекала из сознания его долга в отношении к окружающим, тогда как учтивость сарацина — из его гордости и сознания собственного достоинства.
Трапеза обоих путников была весьма неприхотливая, у сарацина — даже более чем скромная. Горсти фиников и куска ячменного хлеба было достаточно, чтобы утолить голод восточного воина, привыкшего довольствоваться скудными дарами пустыни, хотя, со времен завоевания Сирии сарацинами, простота в жизни арабов часто уступала место безграничной роскоши. Несколькими глотками воды из источника он закончил свою трапезу. Еда христианина, хоть и грубая, была куда более обильной. Существенной частью ее была возбуждающая отвращение у мусульман вяленая свинина; из обтянутой кожей фляги он пил нечто лучшее, чем простая вода. Ел и пил он с большим аппетитом, это коробило сарацина, ибо на еду он смотрел лишь как на удовлетворение телесной потребности. То презрение, какое втайне каждый испытывал к другому, как к последователю ложной религии, несомненно усугублялось благодаря этим различиям в пище и манерах. Но каждый уже испытал на себе силу другого, и взаимного уважения, возникшего после, смелого поединка, было достаточно, чтобы заставить умолкнуть более мелкие чувства. Сарацин, однако, не мог удержаться от неодобрительных замечаний по поводу того, что ему не нравилось в поведении и манерах христианина. Наблюдая за рыцарем, который ел с большим аппетитом и закончил еду намного позднее его, он наконец прервал молчание:
— Храбрый назареянин, к лицу ли тому, кто так доблестно сражался, пожирать еду как собака или волк? Неверующий еврей — и тот бы пришел в негодование от пищи, которую ты смакуешь, да еще с таким видом, словно это плод с райского дерева.
— Храбрый сарацин, — отвечал на этот неожиданный упрек христианин, с удивлением взглянув на собеседника, — знай, что я пользуюсь своей христианской свободой, когда ем то, что запрещено евреям, пребывающим, как они сами считают, под игом у древних заповедей Моисея. Да будет тебе известно, сарацин, что в своих деяниях мы подчиняемся более высокому закону. Ave Maria![4] — И, как бы бросая вызов упрекам своего спутника, он закончил краткую молитву на латинском языке жадным глотком из своей кожаной фляги.
— И это ты тоже называешь свободой? — сказал сарацин. — Ты не только жрешь как животное, но еще и унижаешь себя, обращаясь в скотское состояние, когда лакаешь это ядовитое пойло, от которого отвернулась бы даже скотина.
— Пойми ты, глупый сарацин, — не задумываясь ответил христианин, — что ты вместе с твоим отцом Измаилом хулишь дары божьи. Сок винограда дается тому, кто умеет с толком его пить: он услаждает душу человека после трудной работы, освежает его в болезни и утешает в горести. Тот, кто им услаждается в меру, может благодарить бога за свою чашу с вином, как благодарит он его за хлеб насущный. Но тот, кто злоупотребляет этим даром небесным, в своем опьянении не глупее, чем ты в своем воздержании.
Услышав эту злую насмешку, сарацин сверкнул глазами и схватился за рукоять кинжала. Но мимолетный порыв замер, стоило ему только вспомнить о страшной силе своего недавнего противника, об этом могучем человеке, с которым он уже имел дело, и об отчаянной схватке, которая давала еще себя чувствовать во всем теле; и он предпочел продолжать спор на словах, находя это более безопасным.
— Твои слова, о назареянин, — сказал он, — могли бы вызвать гнев, но твое невежество достойно лишь сожаления. Разве ты сам не видишь, слепец еще более слепой, чем всякий нищий, просящий милостыню у входа в мечеть, что та свобода, которой ты похваляешься, ограничена даже в том, что является самым дорогим для счастья человека и его домочадцев. А твой закон, если ты ему подчиняешься, ограничивает тебя, позволяя иметь только одну жену, безразлично, здорова она или больна, плодовита или бесплодна, приносит она в твой домашний очаг утешение и радость или распри и ссоры. Вот это, назареянин, я называю рабством, тогда как пророк разрешил правоверным жить на земле, как патриарх Авраам, отец наш, и Соломон, самый мудрый среди людей: здесь мы можем выбирать каких угодно красавиц, а за гробом лицезреть чернооких гурий, дев райских.
— Клянусь именем того, кого я больше всего чту на небесах, — сказал христианин, — и именем той, которую я превыше всех ценю на земле, что ты лишь ослепленный и заблудший неверный! Этот бриллиантовый перстень, что ты носишь на пальце, — ты ведь, несомненно, считаешь бесценным?
— В Бальсоре и Багдаде нельзя найти подобного, — ответил сарацин, — но к чему твой вопрос? Он не относится к делу.
— Нет, даже очень, — отвечал франк, — как ты сам сейчас должен будешь признать. Возьми мою булаву и расколи этот камень на двадцать осколков. Разве каждый из них будет равноценен целому камню или, если их собрать опять вместе, разве ценность их составит хоть десятую часть целого?
— Ты говоришь, как ребенок, — отвечал сарацин, — осколки такого камня не составили бы и сотой доли его стоимости.
— Та любовь, мой сарацин, — продолжал воин-христианин, — искренняя и честная, которая связывает настоящего рыцаря лишь с одной, — вот это и есть драгоценность! Та любовь, что ты даришь женам, рабыням и наложницам, стоит не больше, чем блестящие осколки разбитого бриллианта.
— Клянусь святой Каабой, — воскликнул эмир, — ты просто сумасшедший, который любуется своей железной цепью, принимая ее за золотую! Взгляни на вещи более внимательно! Мой перстень потерял бы половину своей красоты, если бы он не был окружен и отделан мелкими бриллиантами, которые его украшают и оттеняют его блеск. Большой алмаз в середине— это мужчина, стойкий и цельный, его ценность зависит только от его собственных качеств. Вот этот круг более мелких камней — женщины, заимствующие от него его блеск и сияние, которыми он их наделяет согласно своим желаниям и прихотям. Вынь из перстня главный камень, он по-прежнему останется драгоценным алмазом, тогда как мелкие утратят свою ценность. Вот истинное толкование твоей притчи. Поэт Мансур сказал: «Благосклонность мужчины дает красоту и обаяние женщине, подобно тому как ручей перестает сверкать, если солнце больше не светит».
— Сарацин, — отвечал рыцарь, — ты говоришь так, как будто никогда не видел женщины, достойной любви воина. Поверь мне: если бы ты мог увидеть европейских женщин, которым мы, рыцари, перед небом даем клятву в верности и преданности, ты бы навсегда возненавидел тех жалких сладострастных рабынь, которые наполняют твой гарем. Красота наших избранниц заостряет наши копья и оттачивает наши мечи. Их слово для нас — закон. Если у рыцаря нет той, которая владеет его сердцем, он никогда не сможет отличиться в ратных подвигах, так же как не зажженный светильник не может дать света.
— Слышал я все эти бредни от западных воинов, — возразил эмир, — и считаю их признаками того безумия, которое несет вас сюда для захвата пустой гробницы. Однако поскольку франки, с которыми мне приходилось встречаться, так прославляют красоту своих женщин, я не прочь был бы взглянуть своими глазами на чары тех, которые могут обратить таких смелых воинов в предмет своих любовных утех.
— Храбрый сарацин, — сказал рыцарь, — если бы не мое паломничество ко гробу господню, я был бы счастлив охранять твою жизнь, сопровождая тебя до лагеря короля Ричарда Английского, который лучше других знает, как отдать почести благородному противнику. Хоть я и беден и одинок, я мог бы обеспечить тебе или любому из твоего племени не только безопасность, но также уважение и почет. Ты увидел бы красивейших женщин Франции и Англии, блеск которых в тысячу раз превосходит сверкание твоего бриллианта и всех алмазных россыпей мира.
— Клянусь краеугольным камнем Каабы, — сказал сарацин, — я приму приглашение так же охотно, как ты приглашаешь меня, если ты отложишь свое дальнейшее путешествие. И поверь мне, храбрый назареянин, лучше было бы тебе повернуть назад к стану твоего народа, ибо продолжать путь в Иерусалим без охранной грамоты — все равно что добровольно расстаться с жизнью.
— Есть у меня грамота, да еще за подписью и печатью Саладина, — ответил рыцарь, показывая кусок пергамента.
Узнав подпись и печать прославленного султана Египта и Сирии, сарацин склонил голову до земли и, со знаками глубокого уважения целуя пергамент, приложил его ко лбу, после чего вернул христианину, сказав:
— Неосторожный франк, ведь ты согрешил против своей и моей крови, не показав мне эту грамоту при встрече.
— Но ведь ты напал на меня с поднятым копьем, — сказал рыцарь. — Если бы на меня напало целое войско сарацин, я думаю, что не запятнал бы своей чести, показав грамоту султана, но я встретился с врагом один на один.
— Но и одного человека достаточно было, чтобы прервать твой путь, — надменно возразил сарацин.
— Верно, храбрый мусульманин, — отвечал христианин, — но таких, как ты, не много. Такие соколы не летают стаями и, конечно, не бросятся все на одного.
— Ты воздаешь нам должное, — сказал сарацин, видимо польщенный этой похвалой. Его самолюбие было задето предыдущими хвастливыми словами европейца, в которых слышалось явное презрение. — Мы не причинили бы тебе зла. Хорошо еще, что я не заколол тебя, у кого есть охранная грамота от короля королей! Нет сомнения, что веревка или удар сабли справедливо покарали бы меня за такое преступление.
— Рад слышать, что эта грамота может сослужить мне службу, — сказал рыцарь. — Слыхал я, что дорога кишит разбойниками, которые только и ищут случая пограбить.
— Тебе сказали правду, храбрый христианин, — сказал сарацин. — Но тюрбаном пророка клянусь тебе, что если б ты только попал в руки этих негодяев, я пришел бы на выручку и отомстил за тебя с пятью тысячами всадников. Я убил бы всех мужчин и отослал бы их жен в рабство так далеко, что за пятьсот миль от Дамаска никто больше не услышал бы об их племени. Я засыпал бы солью все развалины их жилищ, так что ни одна живая душа не смогла бы в них больше обитать.
— Мне хотелось бы, чтобы все эти заботы достались тебе на долю не из-за меня, а из-за более важной особы, благородный эмир, — ответил рыцарь, — но я дал обет перед небом и исполню его, что бы ни случилось. Я был бы обязан тебе, если бы ты указал мне дорогу к такому месту, где я мог бы сегодня вечером отдохнуть.
— Ты сможешь отдохнуть под черным пологом палатки моего отца, — сказал сарацин.
— Эту ночь я должен провести в молитве и покаянии с одним святым человеком по имени Теодорик Энгаддийский. Он живет среди этих дикарей, проводя время в служении богу.
— Я по крайней мере провожу тебя туда, — сказал сарацин.
— Такой провожатый мне был бы очень приятен, — сказал христианин. — Однако это может навлечь опасность на святого старца. Ведь руки твоих жестоких соплеменников запятнаны кровью служителей бога, поэтому мы и явились сюда в латах и кольчуге, с копьем и мечом, чтобы проложить путь ко гробу господню и защищать святых избранников и отшельников, еще живущих в этой обетованной, чудесной земле.
— Назареянин, — сказал мусульманин, — греки и сирийцы оклеветали нас. Мы следуем законам Абубекра Альвакеля, преемника пророка и после него первого вождя правоверных. «Отправляйся в поход, Иезед бен-Софиан, — сказал он, посылая этого именитого военачальника отвоевать Сирию у неверных. — Веди себя как подобает воину, не убивая ни стариков, ни калек, ни женщин, ни детей. Страну не опустошай, не уничтожай ни посева, ни фруктовых деревьев: это дары аллаха. Свято храни данный обет, даже если это принесет вред тебе самому. Если ты встретишь святых людей, обрабатывающих землю своими руками и служащих богу в пустыне, не причиняй им зла и не разрушай их жилищ. Но если только встретишь бритые головы, то знай, что это они из синагоги сатаны! Убивай, руби их саблей до тех пор, пока не обратятся в нашу веру или не станут нашими данниками». Как приказал нам калиф, друг пророка, так мы и поступаем, и наше правосудие карает только тех, кто служит сатане. Тех же добрых людей, которые искренне исповедуют веру в Исса бен-Мариам, не сея вражды между народами, охраняет наш щит. Таков тот, кого ты ищешь, и хоть вера в пророка не осенила его своим светом, он всегда будет пользоваться моей любовью, уважением и защитой.
— Тот отшельник, которого я хочу навестить, — сказал воин-пилигрим, — как я слышал, не священник. Но если он принадлежит к этому святому сословию, я бы своим копьем показал язычникам и неверным…
— Не будем презирать друг друга, брат мой, — прервал его сарацин. — Каждый из нас найдет достаточно франков и мусульман, на которых можно было бы направить меч и копье. Этот Теодорик пользуется покровительством турок и арабов. Иногда он ведет себя странно, но он верный служитель своего пророка и заслуживает защиты того, кто был послан…
— Клянусь пресвятой девой, сарацин! — воскликнул христианин. — Если ты только дерзнешь произнести имя этого погонщика верблюдов из Мекки рядом с именем…
Гневная дрожь, словно электрический ток, пробежала по телу эмира. Но это была лишь мимолетная вспышка, и ответ его дышал спокойствием, достоинством и сознанием своей правоты, когда он сказал:
— Не поноси того, кого не знаешь. Тем более что мы уважаем основателя твоей религии, хоть и порицаем учение, которым опутали вас ваши священники. Я сам тебя провожу до пещеры отшельника, которую, думаю, без моей помощи тебе трудно будет найти. А пока предоставим муллам и монахам спорить о божественном происхождении нашей веры и будем говорить на темы, более подходящие молодым воинам: о битвах, красивых женщинах, острых мечах и блестящих доспехах.
Глава III
После недолгого отдыха, окончив свою скромную трапезу, воины поднялись с места, и каждый любезно помог другому приладить упряжь и доспехи, от которых на время были освобождены их верные кони. Видно было, что они прекрасно владели этим искусством, составлявшим в те времена весьма важную часть ратного дела. Их кони, верные товарищи во всех странствиях и войнах, выказывали им доверие и привязанность, поскольку это допускает разница между животным и разумным существом. Для сарацина эта дружба с конем была привычной с раннего детства: в шатрах воинственных племен Востока конь воина занимает почти такое же важное место, как его жена и дети. Для западного же воина его боевой конь, деливший с ним все невзгоды, был верным собратом по оружию. Поэтому кони спокойно расстались со своим пастбищем и свободой, они приветливо ржали, обнюхивая своих хозяев, пока те прилаживали седла и доспехи для предстоящего трудного пути. Каждый воин, занимаясь своим делом или любезно помогая своему товарищу, с пытливым любопытством разглядывал снаряжение своего попутчика, замечая все, что казалось ему необычным в его приемах.
Прежде чем сесть на коней и продолжать путь, христианский рыцарь снова смочил губы и окунул руки в живительный источник.
— Хотел бы я знать название этого чудесного источника, — сказал он своему товарищу-мусульманину, — чтобы запечатлеть его в моей благодарной памяти: никогда еще столь живительная влага не утоляла жажды более томительной, чем я испытал сегодня.
— На арабском языке, — отвечал сарацин, — его название означает «Алмаз пустыни».
— Правильно его назвали, — ответил христианин. — В моей родной долине тысяча родников, но ни с одним из них у меня не будет связано таких дорогих воспоминаний, как с этим одиноким источником, дарящим свою драгоценную влагу там, где она не только дает наслаждение, но и необходима для жизни.
— Правду ты говоришь, — сказал сарацин, — ибо на том море смерти все еще лежит проклятие, и ни человек, ни зверь не пьет ни из него, ни из реки, что его питает, но не может насытить. Из нее пьют лишь за пределами этой негостеприимной пустыни.
Они сели на коней и продолжали путь через песчаную пустыню. Полуденный зной спадал, и легкий ветерок немного смягчил зной пустыни, хоть и нес на своих крыльях мельчайшую пыль. Сарацин мало обращал на нее внимания, в то время как его тяжело вооруженному спутнику это так досаждало, что он снял свой железный шлем, повесил его на луку седла и заменил его легким колпачком, носившим в те времена название mortier[5] из-за его сходства со ступкой. Некоторое время они ехали молча. Сарацин взял на себя роль проводника, указывая дорогу и всматриваясь в едва заметные очертания скал горного хребта, к которому они приближались. Казалось, он был всецело поглощен этим занятием, как кормчий, ведущий корабль по узкому проливу. Но не проехав полумили и убедившись в правильности выбранной им дороги, он, вопреки характерной для своего народа сдержанности, пустился в разговор:
— Ты спрашивал о названии того источника, напоминающего живое существо. Да простишь ты меня, если я спрошу тебя об имени моего спутника, с которым я сначала померился силами в опасной схватке, а потом разделил минуты отдыха. Оно, вероятно, небезызвестно даже здесь, в Палестине?
— Оно еще недостойно славы, — сказал христианин. — Однако знай, что среди крестоносцев я известен под именем Кеннета — Кеннет, рыцарь Спящего Леопарда. На родине у меня есть еще много имен, но для слуха восточных племен они показались бы слишком резкими и грубыми. Теперь, храбрый сарацин, позволь и мне спросить, к какому арабскому племени принадлежишь ты и под каким именем ты известен?
— Рыцарь Кеннет, — сказал мусульманин, — я рад, что мои уста легко могут произнести твое имя. Хоть я и не араб, но происхождение свое веду от рода не менее дикого и воинственного. Да будет тебе известно, рыцарь Леопарда, что я — Шееркоф, Горный Лев, и что в Курдистане, откуда я происхожу, нет рода более благородного, чем род сельджуков.
— Я слышал, — отвечал христианин, — что ваш великий султан происходит из того же рода.
— Слава пророку, так почтившему наши горы: из их недр он послал в мир того, чье имя — победа, — отвечал язычник. — Пред королем Египта и Сирии я — лишь червь, но все же мое имя на моей родине кое-что значит. Скажи, чужестранец, сколько воинов вышло с тобой вместе на эту войну?
— Клянусь честью, — сказал рыцарь Кеннет, — с помощью друзей и сородичей я едва снарядил десяток хорошо вооруженных всадников и пятьдесят воинов, включая стрелков из лука и слуг. Одни покинули несчастливое знамя, другие пали в боях, некоторые умерли от болезней, а мой верный оруженосец, ради которого я предпринял это паломничество, лежит больной.
— Христианин, — сказал Шееркоф, — здесь у меня в колчане пять стрел, и на каждой — перо из орлиного крыла. Стоит мне послать одну к шатрам моего племени, как тысяча воинов сейчас же сядет на коней, пошлю другую — встанет еще такое же войско, а пять стрел заставят пять тысяч всадников повиноваться мне. Отправлю туда лук — и пустыня сотрясется от десяти тысяч всадников. А ты со своими пятьюдесятью пришел сюда покорить эту страну, в которой я — один из самых ничтожных.
— Клянусь распятием, сарацин, — возразил западный воин, — прежде чем похваляться, подумай о том, что одна железная рукавица может раздавить целый рой ос.
— Да, но сначала железная рукавица должна поймать их, — сказал сарацин с такой саркастической улыбкой, которая могла бы испортить их новую дружбу, если бы он не переменил тему разговора, и сразу добавил: — А разве храбрость так высоко ценится среди знатных, что ты, без денег и без войска, можешь стать, как ты говорил, моим покровителем и защитником в стане твоих собратьев?
— Знай же, сарацин, — сказал христианин, — что имя рыцаря и его благородная кровь дают ему право занять место в рядах самых знатных властелинов и равняться с ними во всем, кроме королевской власти и владений. Если бы сам Ричард, король Англии, задумал оскорбить честь рыцаря, хоть бы и такого бедного, как я, он по рыцарским законам не мог бы отказаться от поединка.
— Хотел бы посмотреть на такое странное зрелище, — сказал эмир, — где какой-то кожаный пояс и пара шпор позволяют самому бедному стать рядом с самым могущественным.
— Не забудь прибавить к этому благородную кровь и неустрашимое сердце, — сказал христианин, — тогда бы ты не судил ложно о благородстве рыцарства.
— И вы так же смело можете обращаться с женщинами, принадлежащими вашим военачальникам и вождям? — спросил сарацин.
— Видит бог, — сказал рыцарь Спящего Леопарда, — самый ничтожный рыцарь в христианской стране волен посвятить свою руку и меч, славу своих подвигов и непоколебимую преданность сердца благородному служению прекраснейшей из принцесс, чело которой когда-либо было увенчано короной.
— Однако ты только что говорил, — сказал сарацин, — что любовь — это высшее сокровище сердца. И твоя любовь, наверно, посвящена знатной, благородной женщине?
— Чужестранец, — отвечал христианин, густо краснея, — мы не разглашаем опрометчиво, где мы храним наше драгоценное сокровище. Достаточно тебе знать, что моя любовь посвящена даме самой благородной, самой родовитой. Если ты хочешь услышать о любви и сломанных копьях, отважься, как ты намеревался, приблизиться к стану крестоносцев, и, если захочешь, ты найдешь дело и для своих рук, да и уши всего наслышатся.
Приподнявшись в стременах и потрясая в воздухе копьем, восточный воин воскликнул:
— Боюсь, что среди крестоносцев не найдется ни одного, кто бы померился со мной в метании копья.
— Не могу обещать тебе этого, — отвечал рыцарь. — Хотя, конечно, в стане найдется несколько испанцев, весьма искусных в ваших восточных состязаниях с метанием копья.
— Собаки и собачьи сыны! — воскликнул сарацин. — И на что потребовалось этим испанцам идти сюда покорять правоверных, когда в их собственной стране мусульмане — их владыки и хозяева? Уж с ними бы я не стал затевать никаких военных игр.
— Смотри, чтобы рыцари Леона или Астурии не услышали, как ты о них говоришь, — сказал рыцарь Леопарда. — Но, — добавил он, улыбнувшись при воспоминании об утренней схватке, — если бы вместо стрелы ты захотел выдержать удар секирой, нашлось бы достаточно западных воинов, которые могли бы удовлетворить твое желание.
— Клянусь бородой моего отца, благородный рыцарь, — сказал сарацин, подавляя смех, — такая игра слишком груба, чтобы заниматься ею просто ради забавы, но в бою я никогда не старался бы избежать с ними встречи; голова же моя, — тут он приложил руку ко лбу, — никогда не позволит мне искать таких встреч ради забавы.
— Хотел бы я, чтобы ты посмотрел на секиру короля Ричарда, — отвечал западный воин, — та, что привешена к луке моего седла, перышко в сравнении с ней.
— Мы много слышали об этом властелине на острове, — сказал сарацин. — Ты тоже принадлежишь к числу его подданных?
— Я один из его соратников в этом походе, — отвечал рыцарь, — и служу ему верой и правдой. Но я не родился его подданным, хоть и принадлежу к уроженцам того острова, которым он правит.
— Как это надо понимать? — спросил восточный воин. — Разве у вас два короля на одном маленьком острове?
— Это именно так, как ты говоришь, — сказал шотландец (сэр Кеннет был родом из Шотландии). — Хоть население обеих окраин этого острова находится в постоянной войне, страна, как ты видишь, может снарядить войско, способное совершить далекий поход, чтобы освободить города Сиона, томящиеся под нечестивым игом твоего властелина.
— Клянусь бородой Саладина, назареянин, ведь это безумие и ребячество. Я бы мог посмеяться над простодушием вашего великого султана: он приходит завоевывать пустыни и скалы, сражаясь с государями в десять раз сильнее его, оставляя часть своего узкого островка, где он царствовал, под скипетром другого властелина. Право же, сэр Кеннет, и ты и все твои добрые товарищи — вы должны были бы подчиниться власти короля Ричарда, прежде чем оставить свою родную землю, разделенную на два лагеря, и отправиться в этот поход.
Горячим и стремительным был ответ Кеннета:
— Нет, клянусь небесным светилом! Если бы английский король не начал крестовый поход до того, как стал властелином Шотландии, полумесяц мог бы вечно сиять над стенами Сиона — ни я, да и никто из верных сынов Шотландии и пальцем не шевельнул бы.
Зайдя так далеко в своих рассуждениях и как бы спохватившись, он прошептал: «Меа culpa! Меа culpa![6] Разве мне, воину креста, подобает вспоминать о войнах между христианскими народами?»
От мусульманина не ускользнул этот внезапный порыв, сдержанный чувством долга, и хотя он не совсем понимал, что все это означало, все же он услышал достаточно, чтобы убедиться, что у христиан, как и у мусульман, есть свои личные обиды и национальные распри, не всегда примиримые. Но сарацины принадлежали к племени, у которого вежливость стояла на первом месте, как им указывала их религия, и высоко ценили правила учтивости, и он пропустил мимо ушей слова, выражающие противоречивые чувства сэра Кеннета, в сознании которого крестоносец и шотландец спорили друг с другом.
По мере их продвижения вперед ландшафт заметно менялся. Теперь они повернули к востоку и приблизились к крутым голым склонам гор, окружающих пустынную равнину. Эти горы вносят некоторое разнообразие в пейзажи, не скрашивая, однако, облик этой унылой пустыни. С обеих сторон дороги появились скалистые остроконечные вершины, а далее — глубокие ущелья и высокие кручи с узкими, труднопроходимыми тропинками. Все это создавало для путников иные препятствия по сравнению с теми, какие они преодолевали до сих пор. Мрачные пещеры и бездны среди скал гроты, так часто упоминаемые в библии, грозно зияли по обе стороны по мере того, как путники продвигались вперед. Шотландский рыцарь слушал рассказы эмира о том, как зачастую все эти ущелья были убежищем хищных зверей или людей еще более свирепых. Доведенные до отчаяния постоянными войнами и притеснениями со стороны воинов как креста, так и полумесяца, они становились разбойниками и не щадили никого, без различия звания, религии, пола и возраста своих жертв.
Шотландский рыцарь, уверенный в своей отваге и силе, без особого любопытства прислушивался к рассказам о нападениях диких зверей и разбойников. Однако его обуял какой-то непонятный страх при мысли, что он теперь находится среди той ужасной пустыни сорокадневного поста, где злой дух искушал сына человеческого. Он рассеянно слушал, постепенно переставая обращать внимание на речи воина-язычника, ехавшего рядом с ним: в другом месте веселая болтовня его спутника, пожалуй, и занимала бы его. Но Кеннет чувствовал, что какой-нибудь босоногий монах больше подходил бы ему в спутники, чем этот веселый язычник — в особенности в этих пустынных, иссохших местах, где витали злые духи, изгнанные из тел смертных, где они раньше обитали.
Эти мысли тяготили его тем сильнее, чем веселее становился сарацин по мере их продвижения вперед: чем дальше он двигался среди этих мрачных, уединенных скал, тем непринужденнее становилась его болтовня. Она даже перешла в песню, когда он увидел, что его слова остаются без ответа.
Кеннет достаточно знал восточные языки, чтобы убедиться в том, что он пел любовные песни, полные пламенного восхваления красоты, столь щедро расточаемого восточными поэтами; это никак не гармонировало с его серьезными и благочестивыми мыслями, сосредоточенными на созерцании Пустыни великого искушения. Вопреки заповедям своей веры, сарацин начал также петь песни, восхвалявшие вино, этот влажный рубин персидских поэтов, и веселость его стала в конце концов настолько противной чувствам, одолевшим рыцаря-христианина, что если бы не клятва в дружбе, которой они сегодня обменялись, сэр Кеннет, несомненно, заставил бы своего спутника петь совсем иные песни. Крестоносцу казалось, что его сопровождает веселый, беспутный демон, старающийся его обольстить, угрожая его вечному спасению, вселяя в него вольные мысли о земных благах и оскверняя его набожность, — ведь верующая душа христианина и обет пилигрима призывали его к самым серьезным и покаянным помыслам. Он пришел в недоумение и не знал, как ему поступить. С запальчивостью и негодованием он, наконец нарушив молчание, прервал песню знаменитого Рудаки, в которой тот воспевает родинку на груди своей возлюбленной, предпочитая ее всем сокровищам Бухары и Самарканда.
— Сарацин, — сурово воскликнул крестоносец, — ты ослеп и погряз в заблуждениях своей ложной веры, но ты должен понять, что есть на земле места более священные, чем другие; а есть и такие, где дьявол получает еще больше власти над грешными смертными. Я тебе не скажу, какие ужасные причины заставляют считать это место, эти скалы и пещеры с их мрачными сводами, как бы ведущие в преисподнюю, излюбленным обиталищем сатаны и падших ангелов. Скажу тебе только, что мудрые и святые люди, которым хорошо известны эти проклятые места, давно уже предупреждали меня, чтобы я избегал их. Поэтому, сарацин, воздержись от своего неразумного легкомыслия, так не вовремя проявленного, и обрати свои мысли в другую сторону, помышляя об этих местах, хотя, увы, твои молитвенные воздыхания обращены лишь в сторону греха и богохульства.
Сарацин выслушал все это с некоторым удивлением и затем ответил со свойственным ему добродушием и непринужденностью, несколько умеренной требованиями вежливости:
— Добрый рыцарь Кеннет! Мне кажется, ты поступаешь несправедливо со своим товарищем, или, быть может, правила учтивости толкуются иначе у западных племен. Когда я видел, как ты поглощал свинину и пил вино, я не произнес никаких обидных слов и позволил тебе наслаждаться твоим пиршеством: ведь вы, христиане, относите это к вашей христианской свободе; я лишь в глубине души жалел о столь недостойном препровождении времени. Почему же ты протестуешь, когда я, как могу, стараюсь скрасить этот мрачный путь веселыми песнями? Как сказал поэт: «Песня — это небесная роса, павшая на лоно пустыни: она освежает путь странника!»
— Друг мой сарацин, — сказал христианин, — я не осуждаю твою склонность к песне и веселью, хотя мы часто и уделяем им слишком много места в наших мыслях и забываем о вещах более достойных. Молитвы и святые псалмы, а не любовные или заздравные песни подобает петь странникам, путь которых лежит через Долину Смерти, населенную демонами и злыми духами. Ведь молитвы святых заставили их покинуть людские селения, чтобы скитаться в проклятых богом местах.
— Не говори так о духах, христианин, — отвечал сарацин. — Знай, что ты говоришь о том, кто принадлежит к племени, происходящему от этого бессмертного рода, а ваша секта боится и проклинает его.
— Я так и думал, — отвечал крестоносец, — что твоя слепая раса происходит от этих нечистых демонов: ведь без их помощи вам не удалось бы удержать в своих руках святую землю Палестины против такого количества доблестной божьей рати. Мои слова относятся не только лично к тебе, сарацин, я говорю вообще о твоем племени и религии. И странным мне кажется не то, что ты произошел от нечистых духов, но что ты еще и кичишься этим.
— Как же храбрейшим не хвалиться происхождением от того, кто храбрее всех? — сказал сарацин. — От кого же самому гордому племени вести свою родословную, как не от духа тьмы, который скорее пал бы в борьбе, чем преклонил колена добровольно. Эблиса можно ненавидеть, чужестранец, но его нужно бояться, и Эблису подобны его потомки из Курдистана.
Сказки о магии и колдовстве в те времена заменяли науку, и Кеннет доверчиво и без особого удивления слушал признание своего попутчика о его дьявольском происхождении. Однако он испытывал какую-то тайную дрожь, находясь в этих мрачных местах в обществе того, кто открыто признавался в своем ужасном родстве и гордился им. От рождения не знавший чувства страха, он все же перекрестился. Сарацина же Кеннет настойчиво попросил рассказать о своей родословной, которой он так похвалялся, и тот с готовностью согласился.
— Да будет тебе известно, смелый чужестранец, — сказал он, — что когда жестокий Зоххак, один из потомков Джамшида, овладел троном Персии, он заключил союз с силами тьмы в тайных подземельях Истакара, которые были высечены духами в первобытных скалах еще задолго до появления Адама. Здесь жертвенной человеческой кровью он ежедневно поил двух кровожадных змей, и, по свидетельству многих поэтов, они стали как бы частью его собственного тела. Чтобы поддержать жизнь змей, он приказал каждый день приносить им в жертву людей. Наконец терпение его подданных иссякло, и они, взявшись за оружие, подняли восстание, подобно храброму Кузнецу и непобедимому Феридуну. Тиран был ими свергнут с трона и навсегда заключен в мрачные пещеры горы Демавенд. Однако перед тем, как произошло это освобождение, и в то время, как власть кровожадного тирана дошла до предела, шайка его рабов, которых он послал добыть жертвы для своих ежедневных жертвоприношений, привела к сводам дворца Истакара семь сестер такой красоты, что они походили на семь гурий. То были дочери одного мудреца; у него не было никаких сокровищ, кроме этих красавиц и своей собственной мудрости. Но последней было недостаточно, чтобы предвидеть это несчастье, а первые были не в состоянии предотвратить его. Старшей из его дочерей не минуло еще двадцати лет, младшей — едва тринадцать. Они были так похожи друг на друга, что их можно было различить лишь по росту: когда они стояли рядом, по старшинству, одна немного выше другой, то это походило на лестницу, ведущую к воротам рая.
Стоя перед мрачными сводами, эти семь сестер, одетые лишь в белые шелковые хитоны, были так прекрасны, что чары их тронули сердца бессмертных. Раздался гром, земля пошатнулась, стена раздвинулась, и появился юноша в одежде охотника, с луком и стрелами, за ним следовали шесть его братьев. Все они были рослые, красивые, хоть и смуглые, но глаза их светились неподвижным, холодным блеском, подобно глазам мертвецов: в них не было света, согревающего взгляд живых людей. «Зейнаб, — сказал их предводитель, взяв старшую за руку; его тихий голос звучал нежно и печально. — Я — Котроб, король подземного царства и властелин Джиннистана. Мы принадлежим к тем, кто создан из чистого, первозданного огня и кто с презрением отказался, даже вопреки воле всемогущего, склониться перед глыбой земли лишь потому, что ей было дано имя «Человек». Ты, может быть, слышала о нас как о жестоких и неумолимых притеснителях? Это неверно. По природе мы храбры и великодушны, мы становимся мстительными только тогда, когда нас оскорбляют, и жестокими — когда на нас нападают. Мы храним верность тому, кто доверяет нам. Мы слышали мольбы твоего отца, мудреца Митраспа, который оказывает почести не только доброму началу, но и злому. Ты и сестры твои — накануне гибели. Пусть каждая из вас в залог верности даст нам по одному волосу из своих светлых кос, и мы перенесем вас за много миль отсюда в укромное место, и там вы можете уже не страшиться Зоххака и его приспешников». «Боязнь скорой смерти, — сказал поэт, — подобна жезлу пророка Гаруна; обратясь в змею, этот жезл на глазах у фараона пожрал все другие жезлы, превратившиеся в змей». Дочери персидского мудреца, менее других подверженные боязни, не испугались, услышав эти слова духа. Они отдали ту дань, что у них просил Котроб, и в то же мгновение были перенесены в волшебный замок в горах Тугрута в Курдистане, и никто из смертных их больше не видел. Через некоторое время семеро юношей, отличившихся в войне и на охоте, появились в окрестностях замка демонов. Они были более смуглыми, более рослыми, более смелыми и более воинственными, чем жители селений в долинах Курдистана. Они взяли себе жен и стали родоначальниками семи курдистанских племен, доблесть которых известна всему миру.
С удивлением слушал рыцарь-христианин эту дикую легенду, которая еще доныне сохраняется в пределах Курдистана, затем, подумав немного, он ответил:
— Верно ты говоришь, мой рыцарь: твоя родословная может внушать ужас и ненависть, но ее нельзя презирать. Я больше не удивляюсь твоей упорной приверженности к ложной вере, унаследованной тобой от предков, этих жестоких охотников, как ты их описывал, которым свойственно любить ложь больше правды. Я больше не удивляюсь и тому, что вас охватывает восторг и вы поете песни при приближении к местам, где нашли себе прибежище злые духи. Это должно тебя волновать и вызывать чувство радости, подобное тому, какое многие испытывают, приближаясь к стране своих земных предков.
— Клянусь бородой моего отца, ты говоришь правду, — сказал сарацин, скорее забавляясь, чем обижаясь, услышав такие откровенные слова христианина. — Хотя пророк (да будет благословенно его имя!) и посеял в нас семена лучшей веры, чем та, какой учили нас предки в населенных духами мрачных убежищах Тугрута, мы не осуждаем, подобно другим мусульманам, тех могучих первобытных духов, от которых ведем наш род. Мы верим и надеемся, что эти духи осуждены не окончательно, но лишь проходят свое испытание и могут еще быть впоследствии наказаны или вознаграждены. Предоставим муллам и имамам судить об этом. Нам довольно того, что почитание этих духов не отвергнуто учением корана, и многие из нас еще воспевают старую веру наших отцов в таких стихах.
При этих словах он запел очень старое по складу и стиху песнопение, по преданию сочиненное почитателями злого духа Аримана:
АРИМАН Дух мрака, темный Ариман, Доныне для восточных стран Ты — злое божество Склоняясь в капище твоем, Где в мире царство мы найдем Сильнее твоего? Дух блага повелит — и вмиг Для путников пустынь родник Забрызжет из земли А ты у неприступных скал Завихришь смерч, запенишь вал — И тонут корабли Бог повелел — и травы нам Дают целительный бальзам Для немощей людских, Но разве одолеть ему Горячку, язву и чуму — Отраву стрел твоих? Ты властно в мысли к нам проник, И, что бы ни твердил язык Пред алтарем чужим, В толпе покорных прихожан Тебя, великий Ариман, Мы тайно в сердце чтим Ты преднамеренно ль жесток Ты можешь ли, как мнит Восток, Знать, мыслить, ощущать? Плащом из туч окутать твердь, Раскинув крылья, сеять смерть, Клыками жертву рвать? Иль просто ты — природы часть, Стихийная, немая власть, Которой нет преград? Иль, в сердце затаясь людском, Ты источаешь над добром Победоносный яд? Так или нет, но ты один И всех событий властелин И ощущений всех Все, что живет в людских сердцах Страсть, гнев, любовь, гордыню, страх — Ты превращаешь в грех Как только солнце поднялось Смягчить удел юдоли слез, Ты неизменно тут Ты мигом скромный хлебный нож На острый меч перекуешь — Орудье грозных смут От первой жизненной черты До судорог предсмертных ты — Хозяин бытия И можно ль знать нам, что за той, Дух тьмы, последнею чертой Исчезнет власть твоя?Эта песня, может быть, и была плодом фантазии какого-нибудь полупросвещенного философа, который в этом сказочном божестве Аримане видел лишь преобладание духовного и телесного злого начала, на слух Кеннета это произвело иное впечатление спетая тем, кто только что похвалялся своим происхождением от демонов, она звучала как похвала самому сатане Слыша такое богохульство в пустыне, где был побежден возгордившийся сатана, он стал раздумывать, как ему поступить достаточно ли будет лишь расстаться с этим сарацином, чтобы выразить свое возмущение, или, следуя обету крестоносца, он должен немедленно вызвать этого басурмана на поединок, оставив его труп в пустыне на съедение диким зверям? Но внезапно его внимание было отвлечено неожиданным происшествием.
Хотя наступали сумерки, рыцарь разглядел, что в этой пустыне они больше не одни: какое-то высокое и изможденное существо наблюдало за ними, ловко перескакивая через кусты и скалы. Вид этого волосатого дикаря напомнил ему фавнов и сильванов, изображения которых он видел в древних храмах Рима. И прямодушный шотландец, ни на минуту не сомневавшийся в том, что боги этих древних язычников действительно являются демонами, сразу поверил, что богохульный гимн сарацина вызвал этого духа ада.
«Но что мне до того? — подумал про себя Кеннет. — Чтоб они сгинули, эти бесы и все их приспешники!»
Однако он не счел нужным бросить вызов двум противникам, что, несомненно, сделал бы, имея дело лишь с одним. Его рука все же коснулась булавы, и, может быть, неосторожный сарацин поплатился бы за свою персидскую легенду — он без всякой видимой причины тут же разнес бы сарацину череп. Но судьба уберегла шотландского рыцаря от поступка> который мог опорочить его оружие. Видение, за которым он некоторое время наблюдал, сначала следовало за ними, прячась за скалы и кусты, проворно преодолевая все препятствия и ловко используя любую возможность, чтобы укрыться от их взоров. Но в ту минуту, когда сарацин прервал свое пение, призрак этот, оказавшийся высоким человеком, одетым в козью шкуру, выскочил на середину тропы и вцепился обеими руками в узду коня сарацина, заставив его круто осадить назад. Благородный конь, не выдержав внезапного нападения незнакомца, схватившего его за удила и мундштук, состоявший, по восточному обычаю, из толстого железного кольца, взвился на дыбы и опрокинулся назад, упав на своего хозяина, которому все же удалось избегнуть гибели, оттолкнувшись от него при падении.
Затем нападающий, бросив коня, быстро обхватил обеими руками шею всадника, навалился на отбивающегося сарацина и, несмотря на его юность и ловкость, прижал к земле. Пленник сердито, но в то же время полусмеясь закричал:
— Хамако, дурак ты этакий, отпусти меня! Как ты смеешь! Отпусти, или я заколю тебя кинжалом!
— Кинжалом? Собака ты неверная, — сказал человек в козьей шкуре. — Удержи его в своей руке, коли можешь! — И в одно мгновение он выхватил кинжал из рук сарацина и взмахнул им над головой.
— На помощь, назареянин! — закричал Шееркоф, не на шутку испугавшись. — Ведь Хамако заколет меня!
— И стоило бы заколоть! — отвечал житель пустыни. — Разве ты не заслуживаешь смерти за твои богохульные гимны, которые ты тут распеваешь, восхваляя не только своего лжепророка — предвестника дьявола, но и самого сатану!
Рыцарь-христианин все еще в изумлении смотрел на эту странную сцену — столь неожиданным было это внезапное нападение. Наконец он почувствовал, что долг повелевает ему вмешаться и прийти на помощь своему побежденному спутнику; и он обратился к победителю в козьей шкуре со следующими словами.
— Кто бы ты ни был, — сказал он, — приверженец ли добрых или злых духов, знай, что я поклялся быть верным товарищем сарацину, которого ты держишь под собой. Поэтому, прошу тебя, дай ему встать, иначе я вступлюсь за него.
— Хорош бы ты был, крестоносец, — ответил Хамако, — сражаясь с человеком своей святой веры из-за какой-то некрещеной собаки. Разве ты пришел в эту пустыню сражаться против креста и защищать полумесяц? Хорош ты, воин господень, слушающий тех, кто воспевает сатану!
Говоря это, он все же встал, позволив сарацину подняться, и возвратил ему кинжал.
— Ты видишь, к каким опасностям тебя привела твоя гордыня, — продолжал человек в козьей шкуре, обращаясь к Шееркофу, — и с какими ничтожными средствами можно одолеть твою хваленую ловкость и силу, если на то будет воля господня! Берегись же, Ильдерим, и знай, что если бы в звезде, под которой ты родился, не было отблеска, предвещающего тебе что-то хорошее и угодное небу, я не отпустил бы тебя, пока не перерезал бы глотку, из которой только что извергались эти богохульства.
— Хамако, — спокойно сказал сарацин, не обращая внимания ни на его грубые слова, ни на еще более яростное нападение, которому он подвергся. — Прошу тебя, добрый Хамако, будь осторожнее и не пытайся снова злоупотреблять своим нравом. Хоть я, мусульманин, и уважаю тех, у кого небо отняло разум, чтобы одарить их духом пророчества, я не потерплю, чтобы кто-либо схватил за узду моего коня или задел меня самого. Говори что хочешь и будь уверен, я не обижусь на тебя. Но образумься и пойми, что если ты еще раз попытаешься напасть на меня, я снесу твою косматую голову с твоих тощих плеч. Тебе же, друг мой Кеннет, я должен сказать, — добавил он, садясь на своего коня, — что в пустыне я предпочел бы получить от своего попутчика дружескую помощь, чем слушать его высокопарные речи. Довольно я их от тебя наслушался, и было бы лучше, если б ты мне помог в схватке с этим Хамако, который в своем бешенстве чуть не прикончил меня.
— Клянусь честью, — сказал рыцарь, — я действительно виноват в том, что немного запоздал со своей помощью. Но все произошло так внезапно и твой противник выглядел так странно. Сначала я подумал, что твоя дикая и нечестивая песня вызвала дьявола, который встал между нами. Я так был ошеломлен, что прошло две-три минуты, прежде чем я взялся за оружие.
— Вижу, что ты холодный и рассудительный друг, — сказал сарацин. — Будь Хамако более яростен, твой товарищ был бы убит у тебя на глазах к твоему вечному позору. А ты и пальцем не пошевельнул, чтобы мне помочь, оставаясь на коне во всем вооружении.
— Даю тебе слово, сарацин, — сказал христианин, — и сознаюсь откровенно, я принял это странное существо за дьявола, и, поскольку он должен был, как мне казалось, принадлежать к твоему племени, я не мог догадаться, какие там семейные тайны могли вы сообщать друг другу, катаясь на песке в дружеских объятиях.
— Твоя насмешка не ответ, брат Кеннет, — сказал сарацин. — Будь нападавший на меня самим князем тьмы, ты тем не менее обязан был вступить с ним в бой, выручая своего товарища. Знай также: что бы ни говорилось о Хамако дурного и злого, он больше сродни твоему племени, чем моему. По правде сказать, этот Хамако на самом деле и есть тот отшельник, которого ты намерен был навестить.
— Этот? — воскликнул Кеннет, бросив взгляд на стоявшую перед ним атлетическую, но несколько изнуренную фигуру. — Это он? Да ты смеешься надо мной, сарацин! Это не может быть почтенный Теодорик!
— Спроси его самого, если не веришь мне, — отвечал Шееркоф. Но только он успел сказать это, как отшельник сам заговорил о себе.
— Я — Теодорик Энгаддийский, — сказал он, — отшельник этой пустыни. Я друг креста и бич неверных, еретиков и поклонников сатаны. Беги, беги от них! Пусть сгинут Магунд, Термагант и иже присные! — С этими словами он вытащил из-под своей лохматой одежды что-то похожее на цеп или окованную железом дубинку, которой он очень проворно стал размахивать над головой.
— Полюбуйся на своего святого, — сказал сарацин, впервые рассмеявшись и видя неподдельное удивление, с которым Кеннет смотрел на дикую жестикуляцию Теодорика и слушал его угрюмое бормотание. Помахав дубинкой и, видимо, совершенно не беспокоясь о том, что он может задеть за головы стоящих рядом, отшельник показал наконец свою собственную силу и крепость своего оружия, ударив по лежащему вблизи камню и разбив его на куски.
— Это сумасшедший! — сказал Кеннет.
— Не хуже других святых, — возразил мусульманин, разумея известное на Востоке поверье о том, что сумасшедшие действуют под влиянием мгновенного наития. — Знай, христианин, что когда один глаз выколот, другой делается более зорким, а когда одна рука отрезана, другая делается более сильной. Так и когда разум наш, обращенный к делам людским, потрачен, проясняется наш взор, обращенный к небу.
Тут голос сарацина был заглушен голосом отшельника, который дико стал выкрикивать нараспев:
— Я — Теодорик Энгаддийский, я — светоч в пустыне, я — бич неверных! И лев и леопард станут моими друзьями и будут укрываться в моей келье, козы не будут бояться их когтей. Я — светильник и факел! Господи помилуй!
Он закончил свои причитания и, сделав три прыжка, ринулся вперед. Эти прыжки получили бы, пожалуй, хорошую оценку в школе гимнастики, но все это настолько не вязалось с его ролью отшельника, что шотландский рыцарь пришел в полное недоумение.
Казалось, сарацин понимал его лучше.
— Видишь, — сказал он, — Теодорик ждет, чтобы мы последовали за ним в его келью: ведь только там мы сможем найти ночлег. Ты — леопард, как видно по изображению на твоем щите, я — лев, как и говорит мое имя, а коза, судя по его наряду из козьей шкуры, — это он сам. Однако не надо терять его из виду: ведь он бегает как верблюд.
Эта задача оказалась нелегкой, хотя досточтимый проводник иногда и останавливался и махал рукой, как бы поощряя их следовать за ним. Хорошо знакомый со всеми лощинами и проходами и обладая необычайной подвижностью, свойственной людям с помраченным рассудком, он вел всадников по таким тропинкам и крутизнам, что даже легко вооруженный сарацин со своим испытанным арабским скакуном подвергался постоянному риску, а закованный в броню европеец и его обремененный тяжелыми доспехами конь каждое мгновение смотрели в лицо такой опасности, что рыцарь предпочел бы очутиться на поле битвы, чем продолжать это путешествие. После этой дикой скачки он с облегчением увидел святого человека, их проводника, стоящего перед входом в пещеру с большим факелом в руке — куском дерева, пропитанным горной смолой, который озарял все окружающее мерцающим светом, издавая сильный серный запах.
Не обращая внимания на удушливый дым, рыцарь слез с коня и вошел в пещеру, довольно скудно обставленную. Келья была разделена на две части. В передней части стояли каменный алтарь и распятие из тростника: она служила отшельнику часовней. После некоторого колебания, вызванного благоговением перед окружавшими его святынями, рыцарь-христианин привязал своего коня в противоположном углу пещеры и расседлал его, устроив ему ночлег: он следовал примеру сарацина, который дал ему понять, что таков был местный обычай. Отшельник тем временем занялся приведением в порядок внутренней половины для приема гостей, которые скоро к нему присоединились. В глубине первой половины узкий проход, прикрытый простой доской, вел в спальню отшельника, обставленную немного лучше. Поверхность пола трудами хозяина была выровнена и посыпана белым песком; он его ежедневно поливал из небольшого родника, который бил из расщелины скалы в одном углу. В таком жарком климате это давало прохладу, ласкало слух и утоляло жажду. Циновки из сплетенных водорослей лежали по бокам. Стены, как и пол, также были обтесаны и увешаны травами и цветами. Две восковые свечи, зажженные отшельником, придавали привлекательный и уютный вид этому жилищу, напоенному благоуханиями и прохладой.
В одном углу лежали инструменты для работы, в другом была ниша с грубо высеченной из камня статуей богоматери. Стол и два стула говорили о ручной работе отшельника, ибо отличались своей формой от восточных образцов. На столе лежали не только тростник и овощи, но и куски вяленого мяса, которые Теодорик старательно разложил как бы для того, чтобы вызвать аппетит своих гостей. Подобные признаки внимания, хоть молчаливые и выраженные лишь жестами, в глазах Кеннета совсем не вязались с бурными и дикими выходками отшельника, свидетелем которых он только что был. Движения отшельника стали спокойными, а черты его лица, изможденные аскетическим образом жизни, можно было бы назвать величественными и благородными, если бы на них не было отпечатка религиозного смирения. Его поступь указывала на то, что он был рожден властвовать над людьми, но отказался от власти, чтобы стать служителем неба. Нужно признаться, что гигантский рост, длинные косматые волосы и борода и огонь свирепых впалых глаз придавали ему облик скорее воина, чем отшельника.
Даже сарацин, казалось, стал относиться к отшельнику с некоторым уважением; пока тот был занят приготовлением трапезы, он прошептал Кеннету:
— Хамако теперь в лучшем настроении, однако он не будет с нами разговаривать, пока мы не покончим с едой: таков его обет.
Теодорик молча указал шотландцу его место на низком стуле, Шееркоф по обычаю своего племени расположился на циновке. Отшельник поднял обе руки, как бы благословляя еду, которую разложил перед гостями, и они приступили к трапезе, сохраняя такое же глубокое молчание, как и их хозяин. Для сарацина эта суровая молчаливость была привычной, и христианин следовал его примеру, раздумывая о странности своего положения и о контрасте между дикими, свирепыми выходками и криками Теодорика при их первой встрече и его смиренным, чинным, молчаливым и благопристойным поведением и усердием, какое он выказал в роли гостеприимного хозяина.
Когда еда была закончена, отшельник, сам не притронувшийся к пище, убрал со стола остатки и поставил перед сарацином кувшин с шербетом, а шотландцу подал флягу с вином.
— Пейте, дети мои, — сказал он; то были первые слова, что он произнес, — вкушайте дары божьи, вспоминая его.
Сказав это, он удалился во внешнюю половину кельи, вероятно для молитвы, оставив гостей во внутренней половине. Тем временем Кеннет всячески пытался выведать от Шееркофа, что тот знал об их хозяине; побуждало его к этому не только простое любопытство. Нелегко было сочетать буйство и воинственный пыл отшельника при первом появлении с его кротким и скромным поведением в дальнейшем. Но еще труднее было примирить это с тем исключительным уважением, которым, насколько было известно Кеннету, отшельник пользовался в глазах самых просвещенных богословов христианского мира. Теодорик, энгаддийский отшельник, вел переписку со многими духовными лицами и даже соборами епископов. В своих письмах, полных пылкого красноречия, он описывал те несчастья и невзгоды, какие претерпевали латинские христиане на святой земле, гонимые неверными, и письма эти по своей выразительности не уступали проповедям Петра Пустынника на Клермонском соборе, когда он призывал к Первому крестовому походу. И когда христианский рыцарь увидел, как этот столь высокочтимый старец бесновался, словно безумный факир, он невольно призадумался — можно ли посвятить его в важные дела, доверенные ему вождями крестовых походов.
Одна из главных целей паломничества Кеннета, предпринятого таким необычайным путем, заключалась именно в том, чтобы передать ему это важное послание. Однако то, что он увидел сегодня ночью, заставило его призадуматься, прежде чем приступить к выполнению своей миссии. От эмира он не мог получить много сведений; все же главнейшие сводились к следующему. По слухам, отшельник был когда-то храбрым и доблестным воином, мудрым в советах и счастливым в битвах: последнему легко можно было поверить, видя ту силу и ловкость, которые он часто проявлял. Он прибыл в Иерусалим не как странник: он решил остаться в святой земле до конца дней своих. Вскоре он окончательно поселился в этой безлюдной пустыне, в которой они теперь нашли его. Латиняне уважали отшельника за его аскетическую жизнь и преданность вере, а турки и арабы — за случавшиеся с ним припадки сумасшествия, которые они принимали за религиозный экстаз. От них же он получил кличку Хамако, что означает на турецком языке— «вдохновенный безумец». Шееркоф, по-видимому, сам затруднялся, к какой категории людей следует отнести их хозяина. Он говорил, что отшельник — человек мудрый, что он часами мог произносить проповеди о добродетели и мудрости и никогда не заговаривался. Временами, однако, он становился свирепым и буйным; все же он никогда еще не видел его в таком бешенстве, в каком он предстал передними в этот день; по его словам, он впадал в такое бешенство, как только оскорбляли его религию. Сарацин поведал о том, как однажды странствующие арабы подвергли оскорблению его веру и разрушили его алтарь; он напал на этих арабов и убил их своей короткой дубинкой, заменявшей ему всякое другое оружие. Это событие наделало много шума, а страх перед окованной дубинкой отшельника и уважение к его особе заставили кочевников относиться с почтением к его жилищу и часовне. Слава о нем разнеслась так далеко, что Саладин издал даже особый приказ о том, чтобы его оберегали и защищали. Он сам и многие знатные мусульмане не раз посещали его келью, отчасти из любопытства, отчасти ожидая от этого ученого христианина Хамако откровений и предсказаний будущего.
— На большой высоте, — продолжал сарацин, — он построил башню вроде тех, что строят звездочеты, чтобы наблюдать за небесными светилами и планетами, ибо как христиане, так и мусульмане верят в то, что по их движению можно предсказать все события на земле и их предупредить.
Таковы были сведения, какими располагал эмир Шееркоф. У Кеннета они вызвали некоторое сомнение: он не мог решить, происходило ли подобное умопомешательство отшельника от чрезмерного религиозного рвения или это было просто притворством, при помощи которого он хотел обеспечить себе неприкосновенность. Видно было однако, что неверные проявляли к нему очень большую терпимость, принимая во внимание фанатизм последователей Мухаммеда, среди которых жил он, заклятый враг их веры. Ему казалось, что между отшельником и сарацином существовало более близкое знакомство, чем это можно было заключить из слов последнего. От него не ускользнуло и то, что отшельник называл сарацина не тем именем, которое тот сам ему назвал. Все эти соображения подсказывали ему если не подозрительность, то, во всяком случае, осторожность. Он решил зорко наблюдать за своим хозяином и не спешить с исполнением своего важного поручения.
— Берегись, сарацин, — сказал он, — мне сдается, что путает он также и имена, не говоря уже о других вещах. Ведь тебя зовут Шееркоф, а он только что называл тебя другим именем.
— Дома, в отцовском шатре, — отвечал курд, — меня звали Ильдерим, и многие знают меня под этим именем. В походах и среди воинов мне дали прозвище Горный Лев: меч мой завоевал это имя. Но тише! Вот идет Хамако сказать нам, чтобы мы легли отдыхать. Я знаю его обычай: никто не имеет права смотреть, как он молится.
Отшельник действительно вошел в келью, скрестил руки на груди и торжественно сказал:
— Да будет благословенно имя того, кто ниспослал тихую ночь после трудового дня и покойный сон, чтобы дать отдых усталому телу и успокоить встревоженную душу!
Оба воина ответили: «Аминь» и, встав из-за стола, приготовились лечь в постели, на которые им хозяин указал мановением руки. Поклонясь каждому из них, он снова вышел из кельи.
Рыцарь Леопарда начал снимать с себя тяжелые доспехи. Сарацин любезно помог ему снять щит и отстегнуть застежки, пока он не остался в замшевой одежде, которую рыцари носили под своими панцирями. Сарацин, прежде восхищавшийся силой своего противника, закованного в броню, был не меньше поражен стройностью его мускулистой и хорошо сложенной фигуры. В свою очередь, рыцарь, в ответ на любезность, помог сарацину снять верхнюю одежду, чтобы ему было удобнее спать. Он также удивлялся, как такое тонкое и гибкое тело могло гармонировать с той силой и ловкостью, какие он выказал в их схватке.
Каждый из них, прежде чем лечь, помолился. Мусульманин повернулся лицом к кебле, то есть к тому месту, куда каждый верующий в пророка должен возносить молитвы, и стал шептать слова языческих молитв. Христианин же, удалившись от нечестивого соседства неверного, водрузил перед собой свой меч с крестообразной рукоятью и, став перед ним на колени как перед символом спасения, начал перебирать четки с рвением, усиленным воспоминаниями о событиях минувшего дня и об опасностях, которых ему удалось избежать. Оба воина, утомленные трудной и длинной дорогой, каждый на своем соломенном ложе, вскоре уснули крепким сном.
Глава IV
Шотландец Кеннет не знал, сколько времени он был погружен в глубокий сон, когда он очнулся с ощущением, будто кто-то давит ему на грудь. Сначала ему казалось, что во сне он сражается с каким-то могучим противником, потом он окончательно проснулся. Он хотел было спросить, кто это, как вдруг, открыв глаза, увидел отшельника все с тем же свирепым выражением лица, как уже было сказано выше. Правую руку он положил ему на грудь, а левой держал небольшую серебряную лампаду.
— Тише! — сказал отшельник, видя удивление рыцаря. — Мне надо тебе сказать нечто такое, чего не должен слышать этот неверный.
Эти слова он произнес по-французски, а не на лингва-франка — той смеси западного и восточного наречий, на котором они до этого изъяснялись.
— Встань, — продолжал он, — накинь плащ и молча следуй за мной. — Кеннет встал и взял свой меч. — Он не понадобится тебе, — шепотом сказал отшельник. — Мы идем туда, где важнее всего духовное оружие, а телесное столь же излишне, как тростник или прогнившая тыква.
Рыцарь положил меч на прежнее место у постели и, вооружившись лишь кинжалом, с которым он в этой опасной стране никогда не расставался, приготовился следовать за своим таинственным хозяином.
Отшельник медленно двинулся вперед. За ним шел рыцарь, недоумевая, не была ли эта фигура, показывающая ему дорогу, призраком, привидевшимся ему во сне. Как тени, перешли они в наружную часть хижины отшельника, не потревожив спящего эмира. Перед распятием и алтарем еще горела лампада и лежал раскрытый молитвенник, а на полу валялась веревочная плеть, переплетенная проволокой. На ней виднелись пятна крови: это свидетельствовало о суровой епитимье, которой отшельник подвергал себя. Теодорик встал на колени и велел рыцарю опуститься около себя на острые камни: по-видимому, они должны были сделать молитвенное бдение менее удобным. Он прочел несколько католических молитв и пропел тихим, но проникновенным голосом три покаянных псалма. Последние сопровождались вздохами, слезами и судорожными стонами — видимо, он глубоко переживал читаемое. Шотландский рыцарь с глубоким сочувствием наблюдал за этими подвигами благочестия. Его мнение о старце начало понемногу меняться: он спрашивал себя, не следует ли ему, видя всю суровость епитимьи и тот пыл, с которым отшельник молился, счесть его за святого. Когда они поднялись, он почтительно склонил голову, как ученик перед чтимым наставником. В течение нескольких минут отшельник молча стоял около него, погруженный в размышления.
— Посмотри туда, сын мой, — сказал он, указывая на дальний угол кельи. — Там ты найдешь покрывало; принеси его сюда.
Рыцарь повиновался. В небольшой нише, высеченной в стене и прикрытой дверью, сплетенной из прутьев, он нашел требуемое покрывало. Поднеся его к свету, он заметил, что оно изорвано и покрыто темными пятнами. Отшельник с еле скрываемым волнением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но судорожный стон сдавил ему горло. Наконец он произнес:
— Ты увидишь сейчас величайшее сокровище, каким когда-либо обладал мир. Горе мне! Глаза мои недостойны смотреть на него. Увы! Я, грубый и презренный, только веха, которая указывает усталому путнику мирный приют, но я сам не смею туда войти. Напрасно я удалился в самую глубину скал и в самое сердце иссушенной пустыни. Мой враг нашел меня: тот, от кого я отрекся, преследовал меня до моей твердыни.
Он опять замолк на минуту, но потом, обернувшись к шотландскому рыцарю, спросил более твердым голосом:
— Ты привез мне привет от Ричарда, короля Англии?
— Я послан Советом христианских монархов, — сказал рыцарь. — Король Англии заболел, и я не был удостоен чести передать личное послание его величества.
— Твой пароль? — спросил отшельник.
Кеннет колебался: прежние подозрения и признаки сумасшествия, недавно выказанные отшельником, вдруг пришли ему на ум. Но как подозревать в чем-то человека, у которого был такой святой облик?
— Мой пароль, — произнес он наконец, — «Короли просили милостыни у нищего».
— Верно, — сказал отшельник, помолчав. — Я хорошо тебя знаю: но часовой на посту (а мой пост очень важен) должен окликнуть друга, так же как и врага.
Затем он пошел вперед со светильником, указывая дорогу в келью, которую они только что оставили. Сарацин все еще сладко спал. Отшельник остановился у постели и посмотрел на него.
— Он спит во тьме, — сказал он, — и не надо его будить.
И действительно, поза эмира говорила о полнейшем покое. Он полуобернулся к стене, и широкий и длинный рукав прикрывал большую часть лица. Виден был лишь широкий лоб. Черты его лица, столь подвижные, когда он бодрствовал, теперь как бы застыли. Лицо казалось высеченным из темного мрамора, и длинные шелковистые ресницы закрывали его пронзительные, ястребиные глаза. Откинутая рука и глубокое, мерное дыхание говорили о крепком сне. Все это представляло собой весьма выразительную картину: спящий эмир — и худая высокая фигура отшельника в мохнатой козьей шкуре, держащего в руке светильник, с мрачным, аскетическим лицом, и рыцарь в замшевом камзоле с выражением тревожного любопытства на мужественном лице.
— Он крепко спит, — сказал отшельник, повторив слова так же глухо, как и раньше; лишь интонация голоса была иная, как бы придающая словам особое, скрытое значение. — Он спит во мраке, но и для него наступят светлые дни. Ах, Ильдерим, мысли твои, когда ты бодрствуешь, так же суетны и безумны, как и сновидения, вихрем кружащиеся в твоем спящем мозгу. Но раздастся звук трубы, и сны исчезнут.
Сказав это и сделав рыцарю знак следовать за собой, отшельник подошел к алтарю и, обойдя его, нажал на пружину. Бесшумно растворилась железная дверца, вделанная в стенку пещеры; ее едва можно было разглядеть. Прежде чем настежь открыть дверцу, он накапал масла из светильника на петли. Когда дверца открылась, можно было разглядеть узкую лесенку, высеченную в скале.
— Возьми покрывало, — с грустью сказал отшельник, — и завяжи мне глаза. Я не должен смотреть на сокровище, которое ты сейчас увидишь, чтобы не поддаться греховной гордыне.
Рыцарь молча закрыл голову отшельника покрывалом, и последний начал подниматься по лестнице. Он, по-видимому, уже так хорошо знал этот путь, что ему не нужен был свет. Светильник он передал шотландцу, который следовал за ним по узкой лестнице вверх. Наконец они остановились на небольшой площадке несимметричной формы. В одном ее углу лесенка заканчивалась, а в другом виднелись дальнейшие ступеньки. В третьем углу была готическая дверь с очень грубыми украшениями в виде обычных колонн и резьбы. Эта дверь была защищена калиткой, окованной толстым железом и обитой большими гвоздями. К ней отшельник и направился; казалось, чем ближе подходил он к двери, тем нерешительнее становилась его поступь.
— Сними обувь, — сказал он своему спутнику. — Место, на котором ты стоишь, священно. Изгони из самых сокровенных тайников своего сердца все нечестивые и плотские помыслы: предаваться им в этом месте — смертный грех!
Рыцарь снял башмаки и отложил их в сторону, как ему было сказано. Отшельник тем временем стоял, погруженный в молитву. Затем, пройдя еще несколько шагов, он приказал рыцарю постучать в дверь три раза. Дверь открылась сама собой: во всяком случае, Кеннет никого не видел. Его ослепил луч яркого света, и он почувствовал сильный, почти дурманящий аромат дивных благовоний. Резкая перемена от мрака к свету заставила его сначала отступить на два-три шага.
Вступив в помещение, сплошь залитое ярким светом, Кеннет заметил, что он исходил от множества серебряных лампад, наполненных чистым маслом и издающих острый аромат. Они висели на серебряных же цепочках, прикрепленных к потолку небольшой готической часовни, высеченной, как и большая часть этой странной кельи отшельника, в твердой скале. Но в то время как во всех других помещениях применялся обычный труд каменотесов, в этой часовне чувствовался резец самых искусных зодчих. Крестовые своды с каждой стороны поддерживали шесть колонн, высеченных с редким искусством. Соединения и пересечения этих вогнутых арок, украшенные орнаментами, отличались тончайшими расцветками, какие только могла дать архитектура того времени. Против каждой колонны были высечены шесть богато украшенных ниш, в каждой нише — статуя одного из двенадцати апостолов.
На возвышении с восточной стороны стоял алтарь. За алтарем расшитый золотом роскошный занавес из персидского шелка закрывал нишу, хранящую, очевидно, изображение или реликвию святого, в честь которого была воздвигнута эта небольшая часовня. Погруженный в благочестивые мысли, рыцарь приблизился к святыне и, став на колени, ревностно повторил слова молитвы. Но тут внимание его привлек занавес: чья-то невидимая рука распахнула его. В открывшейся нише он увидал раку из черного дерева и серебра с двустворчатыми дверцами, напоминающую готический храм в миниатюре. В то время как он с любопытством разглядывал священную реликвию, двустворчатые дверцы тоже распахнулись, и он увидел большой кусок дерева, на котором была надпись «Vera Crux».[7] В то же время хор женских голосов запел гимн «Gloria Patri».[8] Когда окончилось пение, рака закрылась, и занавес снова задернулся. Рыцарь, коленопреклоненный перед престолом, мог теперь спокойно продолжать молиться, воздавая хвалу святой реликвии, которая открылась его взору. Он предался молитвам, глубоко потрясенный этим величественным доказательством истины своей религии. Через некоторое время, закончив молитву, он поднялся и осмотрелся, ища глазами отшельника, который привел его к этому святому и загадочному месту. Он вскоре увидел его; голова старца все еще была закрыта покрывалом, которым он сам его прикрыл, и он лежал распростертый, как загнанная гончая, у порога часовни, видимо и не пытаясь его перейти. Весь его облик выражал строгое благоговение и искреннее покаяние, как будто человек этот был повержен на землю и пал под бременем своих страданий. Шотландцу казалось, что лишь чувство глубочайшего раскаяния, угрызения совести и смирение могли повергнуть ниц это мощное тело и эту пламенную душу.
Рыцарь приблизился к нему, как бы желая заговорить, но отшельник предупредил его, что-то бормоча из-под покрывала, которое окутывало его голову: «Подожди! Подожди! О, как ты счастлив! Видение еще не кончилось!» Голос его прозвучал как бы из-под савана покойника. Он поднялся, отошел от порога, где до этого лежал, и закрыл дверь часовни на пружинный засов. Стук этот глухо отдался по всей часовне. Дверь стала почти невидимой, слившись со скалой, в которой была высечена пещера, так что Кеннет едва мог различить, где находился выход. Он теперь остался один в освещенной часовне, хранившей в себе реликвию, которой он только что поклонялся. У него не было оружия, кроме кинжала, и он остался наедине со своими благочестивыми мыслями и отвагой.
Не зная, что может произойти дальше, но с твердым намерением перенести все, что бы с ним ни случилось, Кеннет в полном одиночестве стал ходить взад и вперед по часовне. Так продолжалось почти до пения первых петухов. В тишине, когда ночь встречается с утром, он услышал откуда-то нежный звон серебряного колокольчика, в который звонят во время возношения даров на литургии. В этот час и в таком месте звон этот показался ему необыкновенно торжественным. Несмотря на свою неустрашимость, рыцарь отошел в дальний угол часовни, против алтаря, откуда он мог наблюдать за зрелищем, которое должно было последовать за этим сигналом.
Ему не пришлось долго ждать — шелковый занавес опять раздвинулся, и реликвия вновь представилась его взору. Благоговейно преклонив колена, он услышал мелодию хвалебных гимнов, которые поются в католической церкви во время литургии. Их пел хор женских голосов, который он уже слышал раньше. Рыцарь мог различить, что хор не стоял на месте, а приближался к часовне; пение становилось все громче. Внезапно на другом конце часовни открылась потайная дверь вроде той, через которую он сам вошел, и мощные звуки ворвались под стрельчатые своды.
Затаив дыхание, все еще стоя на коленях в молитвенной позе, подобающей этому священному месту, рыцарь стал всматриваться в открытую дверь и ожидать событий, которые должны были последовать за этими приготовлениями. Процессия приближалась к двери. Сперва появились четыре красивых мальчика; они шли парами, шеи, руки и ноги их были обнажены; бронзовая кожа резко выделялась на фоне белоснежных туник. Первая пара размахивала кадилами, это усиливало аромат, которым уже была полна часовня. Вторая пара разбрасывала цветы.
За ними в строгом порядке величественной поступью шли девушки, которые составляли хор. Шесть из них, судя по черным наплечникам и покрывалам, накинутым на белые одеяния, принадлежали к монахиням кармелитского ордена. Шесть с белыми покрывалами были или послушницами, или случайными обитательницами монастыря, еще не связанными обетом и не принявшими постриг. В руках первых были крупные четки. Остальные, более молодые, несли по букету белых и красных роз. Они шли вокруг часовни, казалось не обращая никакого внимания на Кеннета, хоть и проходили так близко, что их одежды почти касались его.
Слушая это пение, рыцарь решил, что находится в одном из тех монастырей, где в старину знатные христианские девушки открыто посвящали себя служению церкви. Большинство из них было закрыто, когда мусульмане вновь покорили Палестину, однако многие монастыри получили право на существование; задабривая власти подарками и всячески стараясь снискать их расположение, они все еще продолжали тайно соблюдать обряды, к которым их обязал данный ими обет. Однако, хотя Кеннет и сознавал, что все это происходит на самом деле, торжественная обстановка, неожиданное появление этих девственниц и их призрачное шествие так подействовали на его воображение, что ему трудно было представить, что эта процессия состояла из земных созданий, так напоминали они хор сверхъестественных существ, прославляющих святыню, которой поклонялся весь мир.
Таковы были мысли рыцаря, когда процессия проходила мимо него, медленно двигаясь вперед. При этом неземном, мистическом свете, который лампады распространяли сквозь фимиам, слегка затуманивший часовню, монахини, казалось, не шли, а лишь тихо скользили по полу.
Проходя по часовне во второй раз мимо того места, где преклонил колена Кеннет, одна из девушек в белом одеянии, скользя мимо него, оторвала бутон розы из своей гирлянды и, может быть нечаянно, уронила к его ногам. Рыцарь вздрогнул, как будто пронзенный стрелой: когда разум напряжен до крайних пределов в ожидании чего-то, всякая неожиданность воспламеняет и без того уже возбужденное воображение. Однако он подавил волнение, говоря себе, что тут простая случайность, и эпизод этот показался ему необычным только благодаря тому, что нарушил монотонность движения монахинь.
Однако, когда процессия начала в третий раз обходить вокруг часовни, его взгляд и мысли неотступно следовали за той послушницей, которая уронила бутон розы. Нельзя было заметить каких-нибудь особых черт в ее облике: ее походка, лицо и фигура ничем решительно не отличали ее от других. Тем не менее сердце Кеннета забилось, как пойманная птица, рвущаяся из клетки, как бы желая внушить ему, что послушница во втором ряду справа дороже для него не только всех присутствующих, но и вообще всех женщин на свете. Романтическая любовь, столь дорогая рыцарскому духу, прекрасно уживалась с не менее романтическими религиозными чувствами, и эти чувства не только не мешали друг другу, но скорее даже усиливали одно другое. И он испытывал светлую радость волнующего ожидания, граничащего с религиозным экстазом, когда ждал вторичного знака со стороны той, которая, как он твердо верил, бросила ему розу; его охватила дрожь, пробежав от груди до кончиков пальцев. Хоть и немного времени понадобилось процессии, чтобы совершить третий круг, но время это показалось ему вечностью! Наконец та, за которой он следил с таким благоговейным вниманием, приблизилась к нему. Эта девушка в белом одеянии ничем не отличалась от других девушек, плавно двигавшихся в той же самой процессии. Но когда она в третий раз проходила мимо коленопреклоненного крестоносца, прелестная ручка, говорящая о столь же совершенном телосложении той, кому она принадлежала, мелькнула среди складок покрывала, словно лунный луч летней ночью сквозь серебристое облако, и опять бутон розы лег к ногам рыцаря Леопарда.
Этот второй знак не мог быть случайностью, не могло быть случайным и сходство этой промелькнувшей перед его взором прекрасной женской руки с той, которой однажды коснулись его уста. Целуя ее, он поклялся в верности ее прекрасной обладательнице. И если бы потребовалось еще одно доказательство, то этим доказательством было сверкание несравненного рубинового кольца на белоснежном пальце. Но для Кеннета малейшее движение этого пальца было бы дороже самого драгоценного перстня. Может быть, он случайно увидит непокорный локон темных кос, хоть и прикрытых покрывалом, каждый волосок которых был ему в сто раз дороже цепи из массивного золота. Да, то была дама его сердца! Но неужели она здесь в далекой, дикой пустыне, среди девственниц, живущих в этих диких местах и пещерах, чтобы тайно выполнять христианские обряды, не смея никому их показывать, неужели он видит все это наяву, а не во сне — все было слишком неправдоподобно, было лишь обманом, сказкой! В то время как эти мысли проносились в голове Кеннета, процессия медленно уходила в двери, через которые она вошла в часовню. Молодые иноки и монахини в своем черном одеянии прошли в открытую дверь. Наконец и та, от которой он дважды получал знаки внимания, тоже прошла мимо, но, проходя, хотя слегка, но все же заметно повернула голову в ту сторону, где он стоял как изваяние. Последнее колебание складок ее покрывала — и все исчезло! Мрак, непроницаемый мрак объял его душу и тело. Как только последняя монахиня перешагнула через порог и дверь с шумом захлопнулась, голоса поющих монахинь смолкли, огни в часовне сразу же погасли и Кеннет остался во тьме один. Но одиночество, мрак и непонятная таинственность происходящего — все это было ничто, не этим были заняты его мысли. Все это было ничто в сравнении с призрачным видением, которое только что проскользнуло мимо него, и знаками внимания, которыми он был награжден. Ощупать пол в поисках бутонов, которые она уронила, прижать к губам, то каждый порознь, то вместе; припасть губами к холодным камням, по которым ступала ее нога, предаться сумасбродным поступкам, порожденным сильными чувствами, которыми иногда охвачены люди, — все это доказательство и следствие страстной любви, свойственной любому возрасту. В те романтические времена охваченный любовным экстазом рыцарь не мог и помышлять о том, чтобы следовать за предметом своего обожания. Она была для него божеством, которое удостоило показаться на мгновение своему преданному почитателю, чтобы вновь исчезнуть во мраке своего святилища, подобно тому как яркая звезда, блеснув на мгновение, вновь окутывается мглой. Все действия, все поступки его дамы сердца были в его глазах деяниями высшего существа, за которым он не смел следовать. Она радовала его своим появлением или огорчала своим отсутствием, воодушевляла своей добротой или приводила в отчаяние своей жестокостью, повинуясь лишь собственным желаниям. А он подвигами стремился превознести ее славу, посвятив служению своей избраннице преданное сердце и меч рыцаря и видя цель своей жизни в исполнении ее приказаний.
Таковы были законы рыцарства и той любви, которая была его путеводной звездой. Но преданность Кеннета получила романтический оттенок по другим и совершенно особенным причинам. Он никогда даже не слышал голоса своей дамы сердца, хотя часто с восхищением любовался ее красотой. Она вращалась в кругу, к которому он по своему положению мог лишь приблизиться, но в который не мог войти. Хоть и высоко ценились его воинское искусство и храбрость, все же бедный шотландский воин принужден был лишь издалека поклоняться своему божеству, на таком расстоянии, какое отделяет перса от солнца, которому он поклоняется. Но разве гордость женщины, как бы высокомерна она ни была, способна скрыть от ее взора страстное обожание поклонника, на какой бы низкой ступени он ни стоял? Она наблюдала за ним на турнирах, она слышала, как прославляли его в рассказах о ежедневных битвах. И хотя ее благосклонности добивались графы, герцоги и лорды, ее сердце, быть может, против ее желания или даже бессознательно стремилось к бедному рыцарю Спящего Леопарда, который для поддержания своего достоинства не имел ничего, кроме своего меча. Когда она смотрела на него и прислушивалась к тому, что о нем говорили, любовь, тайком прокравшаяся в ее сердце, становилась все сильнее. Если красота какого-нибудь рыцаря составляла предмет восхваления, то даже многие самые щепетильные дамы английского двора отдавали предпочтение шотландцу Кеннету. Часто случалось, что, несмотря на очень значительные щедрые дары, которыми вельможи оделяли менестрелей, такого певца охватывало вдохновение, просыпался дух независимости, и арфа воспевала героизм того, кто не имел ни красивого коня, ни пышных одежд, чтобы наградить прославлявшего его певца.
Те минуты, в которые благородная Эдит внимала прославлениям своего возлюбленного, становились для нее все более дорогими, помогая забыть лесть, слушать которую ей так надоело, и в то же время давая ей пищу для тайных размышлений о том, кто по общему признанию был достойнее других, превосходивших его богатством и знатностью. По мере того как внимание ее постепенно привлекал Кеннет, она все больше и больше убеждалась в его преданности и начала верить, что шотландец Кеннет предназначен ей судьбой, чтобы делить с ней в горе и в радости (а будущее казалось ей мрачным и полным опасностей) страстную любовь, которой поэты того времени приписывали такую беспредельную власть, а мораль и обычаи ставили наряду с благочестием.
Не будем скрывать правду от читателей. Когда Эдит отдала себе отчет в своих чувствах, так же носящих рыцарский отпечаток, как и подобало девушке, близко стоящей к английскому трону, хотя ее гордости льстили непрестанные, пусть даже молчаливые проявления поклонения со стороны избранного ею рыцаря, были моменты, когда ее чувства любящей и любимой женщины начинали роптать против ограничений придворного этикета и когда она готова была осуждать робость своего возлюбленного, который, по-видимому, не решался его нарушать. Этикет (употребляя современное выражение), налагаемый происхождением и рангом, очертил вокруг нее какой-то магический круг, за пределами которого Кеннет мог поклоняться и любоваться ею, но который он не имел права преступить, подобно тому как вызванный дух не может преступить границу, начертанную магической палочкой могущественного волшебника. Невольно у нее зародилась мысль, что она сама должна преступить порог недозволенного хотя бы кончиком своей прелестной ножки; она надеялась, что сможет придать храбрости своему сдержанному и робкому поклоннику, если в знак своей благосклонности позволит ему коснуться устами бантика на ее туфельке. Тому уже был пример в лице «дочери венгерского короля», которая таким способом ободрила одного «оруженосца низкого происхождения». Эдит, хоть и королевской крови, все же не была королевской дочерью. Ее возлюбленный также не был низкого происхождения, так что судьба не ставила таких преград для их чувств. Однако какое-то смутное чувство в сердце девушки (вероятно, скромность, налагающая оковы даже на любовь) запрещало ей, несмотря на преимущества ее положения, сделать первый шаг, который, согласно правилам вежливости, принадлежит мужчине. Кроме того, Кеннет был в ее представлении рыцарем столь благородным, столь деликатным, столь благовоспитанным во всем, что касалось выражения чувств к ней, что, несмотря на сдержанность, с которой она принимала его поклонение, как божество, равнодушное к обожанию своих поклонников, кумир все же не решался слишком рано сойти с пьедестала, чтобы не унизиться в глазах своего преданного почитателя.
Однако преданный обожатель настоящего идола может найти знаки одобрения даже в суровых и неподвижных чертах лица мраморной статуи. Нет ничего удивительного в том, что в светлых, прекрасных глазах Эдит отразилось нечто такое, что можно было отнести к проявлению ее благосклонности. Красота ее заключалась не столько в правильных чертах или цвете лица, сколько в необычайной его выразительности. Несмотря на свою ревнивую бдительность, она все же чем-то проявила свое расположение. Иначе как бы мог Кеннет так быстро и с такой уверенностью распознать ее красивую руку, лишь два пальца которой виднелись из-под покрывала? Или как он с такой уверенностью мог бы утверждать, что оба оброненные ею цветка означали, что возлюбленная его узнала? Мы не беремся указать, благодаря каким приметам, по каким скрытым признакам, взглядам, жестам или инстинктивным знакам любви установилось взаимопонимание между Эдит и ее возлюбленным: ведь мы уже стары, и неприметные следы привязанности, быстро улавливаемые молодыми глазами, ускользают от нашего взора. Достаточно сказать, что такое чувство зародилось между двумя людьми, которые никогда не обменялись ни единым словом, хотя у Эдит это чувство сдерживалось сознанием больших трудностей и опасностей, которые неизбежно должны были встретиться на их пути. А рыцарь должен был испытывать тысячи страхов и сомнений, боясь переоценить значение даже самых ничтожных знаков внимания его дамы сердца; они неминуемо чередовались с продолжительными периодами известной холодности с ее стороны. Причина тому крылась в боязни вызвать толки и этим подвергнуть опасности своего поклонника или выказать слишком большую готовность быть побежденной и потерять его уважение. Все это заставляло ее временами выказывать безразличие и как бы не замечать его присутствия.
Это повествование, может быть, несколько утомительно, но оно необходимо, ибо должно объяснить внутреннюю близость между влюбленными (если здесь можно употребить это слово) в тот момент, когда неожиданное появление Эдит в часовне произвело столь сильное впечатление на рыцаря.
Глава V
Напрасно призраки толпой
Летят в наш лагерь боевой…
Мы остановим их полет:
Прочь, Термагант! Прочь, Астарот!
УортонГлубокая тишина и полный мрак царили в часовне больше часа. Рыцарь Леопарда все еще стоял на коленях и возносил благодарственные молитвы, мысленно благодаря свою даму сердца за милость, которая была ему оказана. Мысль о собственной безопасности, о собственной судьбе, о чем он никогда особенно не беспокоился, стала сейчас легче пылинки. Он находился рядом с леди Эдит, он получил доказательства ее благоволения; он находился в месте, увенчанном самыми священными реликвиями. Христианин-воин, преданный любовник, он не мог больше ничего бояться, не мог ни о чем думать, кроме своего долга перед богом и служения даме сердца.
По прошествии часа вдруг раздался резкий свист, похожий ка свист охотника, приманивающего сокола. Звук этот не очень гармонировал со святостью места и напомнил Кеннету, что он должен всегда быть начеку.
Он быстро поднялся с колен и схватился за рукоять кинжала. Затем послышался скрип каких-то винтов или блоков; яркий луч света озарил часовню снизу, указывая на то, что в полу открылась потайная дверь. Меньше чем через минуту из этого отверстия показалась полуобнаженная костлявая рука, прикрытая рукавом из красной парчи. Она высоко держала светильник. Человек, которому принадлежала эта рука, шаг за шагом поднялся по лестнице до уровня пола часовни. Появившееся существо оказалось безобразным карликом с огромной головой и причудливо разукрашенным колпаком с тремя павлиньими перьями. Его платье из яркой парчи, богатый убор, который еще больше подчеркивал его уродство, было украшено золотыми нарукавниками и браслетами; к белому шелковому поясу был пристегнут кинжал с золотой рукоятью. В левой руке это странное существо держало нечто вроде метлы. Некоторое время оно стояло не двигаясь и, вероятно, чтобы лучше показать себя, стало медленно водить перед собой светильником, освещая свирепые и причудливые черты лица и уродливое мускулистое тело. Однако при всем своем безобразии карлик не производил впечатления калеки. При виде этого урода Кеннету припомнилось поверье о гномах или подземных духах, жителях подземных пещер. Внешность карлика до такой степени соответствовала его представлению об этих созданиях, что он смотрел та него с отвращением, к которому примешивался не страх, а тот благоговейный ужас, какой охватывает даже самых смелых в присутствии сверхъестественного существа.
Карлик снова свистнул, вызывая еще кого-то из подземелья. Второе существо появилось так же, как и первое. Но на этот раз это была женская рука, державшая светильник над подземельем, из которого она поднималась, и из-под пола медленно появилась женщина, телосложением очень напоминавшая карлика; она медленно выходила из отверстия в полу. Ее платье было тоже из красной парчи, с оборками и причудливо скроенное, будто она нарядилась для пантомимы или каких-то фокусов. Неторопливо, как и ее предшественник, она поднесла светильник к лицу и телу, которое могло бы поспорить в уродстве с карликом. С непривлекательным наружным видом связывалась одна общая для обоих особенность, которая предупреждала, что их надо весьма остерегаться. Поражал какой-то особенный блеск их глаз, глубоко сидящих под нависшими густыми бровями; подобно блеску в глазах жабы, он до некоторой степени сглаживал их ужасную уродливость.
Кеннет стоял как зачарованный, пока эта уродливая пара, двигаясь рядом, не начала подметать часовню, исполняя как бы роль уборщиков. Пол от этого чище не становился, ибо они работали лишь одной рукой, как-то странно ею жестикулируя. Это вполне соответствовало их фантастической наружности. Они постепенно приблизились к рыцарю и перестали мести. Став против Кеннета, они медленно подняли светильники, чтобы он мог лучше рассмотреть их лица, не ставшие вблизи более привлекательными, и чтобы он мог видеть необычайно яркий блеск их черных глаз, отражавших свет лампад. Затем они навели свет на рыцаря и, подозрительно посмотрев на него, а потом друг на друга, разразились громким, воющим смехом, который звонко отдался в его ушах. Смех этот был настолько ужасен, что Кеннет содрогнулся и поспешно спросил их, во имя неба, кто они и как смеют осквернять это святое место своими кривляньями и выкриками.
— Я — карлик Нектабанус, — ответил уродец голосом, вполне подходящим к его фигуре и похожим больше на пронзительный крик какой-то ночкой птицы; такой звук в дневное время не услышишь.
— А я — Геневра, дама его сердца, — ответила женщина еще более пронзительно и дико.
— Зачем вы здесь? — спросил опять рыцарь, не вполне уверенный, действительно ли он видит человеческие существа.
— Я двенадцатый имам, — отвечал карлик с напускной важностью и достоинством. Я — Мухаммед Мохади, вождь правоверных. Сто оседланных коней стоят наготове для меня и моей свиты в святом городе и столько же — в городе спасения. Я — тот, который свидетельствует о пророке, а это одна из моих гурий.
— Ты лжешь, — отвечала карлица, обрывая его тоном еще более пронзительным. — Совсем я не твоя гурия, да и ты совсем не тот оборвыш Мухаммед, о котором ты говоришь. Да будет проклят его гроб! Говорю тебе, иссахарский осел, ты Артур, король Британии, которого феи похитили с Авалонского поля. А я — Геневра, прославленная своей красотой.
— Сказать по правде, благородный сэр, — сказал карлик, — мы обнищавшие монархи, жившие под крылышком короля Гвидо Иерусалимского до тех пор, пока он не был изгнан из своего гнезда погаными язычниками, да поразят их громы небесные!
— Тише! — послышался голос со стороны двери, в которую вошел рыцарь. — Тише, дураки, убирайтесь вон! Ваша работа кончена!
Услышав это приказание, карлики сейчас же погасили свои светильники и, что-то нашептывая друг другу, оставили рыцаря в полном мраке, к которому, как только в отдалении замерли их шаги, присоединилась его верная спутница — мертвая тишина.
С уходом этих злосчастных созданий рыцарь почувствовал облегчение. Их речь, манеры и внешность не оставляли ни малейшего сомнения в том, что они принадлежали к числу тех несчастных, которые из-за своего уродства и слабоумия становились как бы жалкими нахлебниками в больших семействах, где их внешность и глупость давали пищу для насмешек всем домочадцам.
Шотландский рыцарь был по своему образу мыслей нисколько не выше своей эпохи, а потому в другое время мог бы позабавиться маскарадом этих жалких подобий человека. Однако теперь их появление, жестикуляция и речь прервали его глубокие размышления, и он искренне порадовался исчезновению этих злополучных созданий.
Через несколько минут после их ухода дверь, в которую вошел рыцарь, тихонько приоткрылась и пропустила слабый луч света от фонаря, поставленного на порог. Этот неверный, мигающий огонек слабо озарял темную фигуру у порога. Подойдя ближе, Кеннет узнал отшельника, остановившегося в той же самой униженной позе, в какой он находился с самого качала, в то время как его гость оставался в часовне.
— Все кончено, — сказал отшельник, услыхав шаги рыцаря, — и самый недостойный из всех грешников должен покинуть это место вместе с тем, кто может считать себя счастливейшим из смертных. Возьми светильник и проводи меня вниз: я только тогда могу развязать глаза, когда буду далеко от этого святого места.
Шотландский рыцарь молча повиновался; торжественность и глубокое значение всего, что он видел, заставили его пересилить свое любопытство. Он уверенно шел вперед по потайным коридорам и лестницам, по которым они только что поднялись, пока не очутились во внешней келье пещеры отшельника.
— Осужденный преступник возвращен в свое подземелье. Здесь он влачит свое существование изо дня в день до той поры, пока его страшный судия не повелит свершить над ним заслуженный приговор.
Произнося эти слова, отшельник откинул покрывало, которым были завязаны его глаза, посмотрел на рыцаря с подавленным вздохом и положил обратно в нишу, откуда раньше его вынул шотландец; затем он торопливо и строго сказал своему спутнику:
— Иди, иди, отдохни, отдохни! Ты можешь, ты должен уснуть, а я не могу и не смею.
Повинуясь взволнованному тону, с каким это было сказано, рыцарь удалился во внутреннюю келью. Однако, обернувшись при выходе из наружной пещеры, он увидел, как отшельник с неистовой поспешностью срывал с себя козью шкуру, и, прежде чем тот успел прикрыть тонкую дверь, разделявшую обе половины пещеры, Кеннет услышал удары плетью и стоны кающегося под самобичеванием. Холодная дрожь пробежала по телу рыцаря, когда он подумал о том, как ужасен должен быть совершенный отшельником грех и какие глубокие угрызения совести он должен был испытывать. Даже такая суровая епитимья не могла ни искупить этот грех, ни успокоить угрызения совести. Он помолился, перебирая четки. Взглянув на все еще спящего мусульманина, он бросился на свою жесткую постель и заснул сном ребенка, утомленный дневными и ночными приключениями. Проснувшись утром, он побеседовал с отшельником о некоторых важных делах, причем выяснилось, что он должен остаться в пещере еще дня на два. Как и подобает пилигриму, он добросовестно предавался молитве, но никогда больше не получил доступа в часовню, где видел столько чудес.
Глава VI
Смените декорации — пусть трубы
Звучат, чтоб льва из логовища выгнать.
Старинная пьесаКак было сказано, действие теперь должно перенестись в другое место: из диких пустынных гор Иордана— в стан Ричарда, короля Англии. Тогда он находился между Аккрой и Аскалоном с армией, с которой Львиное Сердце решил выступить и идти триумфальным маршем на Иерусалим. Вероятно, он и преуспел бы в этом, если бы ему не помешала зависть христианских рыцарей, участвовавших в походе; мешало этому и необузданное высокомерие английского монарха и его явное презрение к своим собратьям-властелинам. Хотя они и считали себя равными ему, они значительно уступали ему в смелости, неустрашимости и военном искусстве. Эти раздоры, в особенности между Ричардом и Филиппом, королем Франции, влекли за собой пререкания и создавали недоразумения и преграды, которые препятствовали всем начинаниям смелого, но пылкого Ричарда. А ряды крестоносцев редели с каждым днем, и не только из-за дезертирства, но и потому, что целые отряды, возглавляемые феодалами, решили больше не принимать участия в походе, в успех которого они перестали верить.
Как и следовало ожидать, непривычный климат оказался гибельным для северных воинов, тем более что распущенное поведение крестоносцев, противоречащее их принципам и целям войны, еще легче делало их жертвами палящей жары и холодной росы. Помимо болезней, значительный урон наносил им меч неприятеля. Саладин, величайшее имя, самый прославленный из полководцев в истории Востока, узнал по горькому опыту, что его легко вооруженные всадники не были способны в рукопашном бою противостоять закованным в латы франкам; в то же время ему внушал ужас отважный характер его противника Ричарда. Но если его армии и были не раз разбиты в больших сражениях, численность его войск давала сарацину преимущество в мелких схватках, столь частых в этой войне.
По мере того как уменьшалась наступающая армия, численность войск султана увеличивалась; они становились смелее, все чаще прибегая к партизанской войне. Лагерь крестоносцев был окружен и почти осажден лавинами легкой кавалерии, напоминающими осиные рои, — их легко уничтожить, когда они пойманы, но у каждой осы есть крылья, чтобы ускользнуть от более сильного противника, и жало, чтобы причинить ему боль. Происходили постоянные безрезультатные стычки передовых постов и фуражиров, которые стоили жизни не одному храброму воину, перехватывались обозы, перерезывались пути сообщения. Средства для поддержания жизни крестоносцам приходилось покупать ценой самой жизни. А вода, подобно воде Вифлеемского источника, предмету вожделения одного из древних вифлеемских монархов — царя Давида, как и раньше, покупалась лишь ценою крови.
В большинстве случаев непреклонная решимость и неутомимая энергия короля Ричарда спасали крестоносцев от поражения Вместе со своими лучшими рыцарями он всегда был на коне, готовый ринуться туда, где была наибольшая опасность. Он не только часто оказывал неожиданную помощь христианам, но и наносил поражения и расстраивал ряды мусульман в тот момент, когда они уже были уверены в победе. Но даже железное здоровье Львиного Сердца не могло безнаказанно выдержать перемен этого губительного климата при таком умственном и физическом напряжении Его поразила одна из изнурительных и ползучих лихорадок, столь характерных для азиатских стран. Несмотря на большую силу и еще большее мужество, он уже не мог сесть на коня. Позднее он уже не мог и посещать военные советы, временами созываемые крестоносцами. И когда военный совет принял решение заключить с султаном Саладином перемирие на тридцать дней, трудно сказать, почувствовал ли английский монарх облегчение или его вынужденное бездействие стало для него еще более нестерпимым. И если, с одной стороны, неизбежная задержка в осуществлении великой миссии крестоносцев приводила Ричарда в ярость, с другой — его немного успокаивала мысль, что и остальные его соратники, в то время как он оставался прикованным к постели, тоже не пожнут лавров.
Меньше всего Львиное Сердце мог примириться с общим бездействием, которое наступило в стане крестоносцев, как только болезнь его приняла серьезный характер. Из ответов своих приближенных, которые они весьма неохотно давали на его настойчивые расспросы, он понимал, что по мере усиления его болезни, гасли и надежды среди воинов. Для него было ясно, что перемирие это было заключено не в целях пополнить войско, поднять его дух и укрепить волю к победе, не для того, чтобы сделать необходимые приготовления для быстрого и решительного наступления на священный город, что являлось целью всего похода, но чтобы укрепить лагерь, занятый все уменьшающимся числом его последователей, при помощи рвов, палисадов и других укреплений. Все эти приготовления делались скорее с целью отражения атаки сильного противника, атаки, которой следовало ожидать, как только военные действия возобновятся, нежели для победоносного наступления гордых завоевателей.
Получая такие донесения, английский король приходил в сильное раздражение, подобно пойманному льву, взирающему на добычу сквозь железные прутья своей клетки. Пылкий и опрометчивый по натуре, он становился жертвой своей собственной раздражительности. Он внушал страх своим приближенным, и даже его лекари не решались пользоваться властью, которую врач должен проявлять по отношению к своему пациенту для его же блага. Лишь один барон из всего его окружения, быть может благодаря сходству своего характера с характером короля, был слепо предан ему. Он один отваживался становиться между драконом и его яростью и спокойно, но решительно подчинял своей власти грозного больного, чего не осмелился бы сделать никто другой. Томас де Малтон поступал так потому, что жизнь и честь своего повелителя он ценил выше, чем его милость, не обращая внимания на риск, которому мог бы подвергнуться, ухаживая за столь упрямым пациентом, нерасположение которого было всегда чревато последствиями.
Томас, лорд Гилсленд из Камберленда, в те времена, когда прозвища и титулы не жаловали по заслугам, как теперь, был прозван норманнами лордом де Во, а англосаксы, верные своему родному языку и гордившиеся тем, что в жилах этого прославленного воина текла англосаксонская кровь, звали его Томасом или просто Томом из Гилла либо Томом из Узких Долин — по названию его обширных поместий.
Этот воин принимал участие почти во всех войнах, которые возникали между Англией и Шотландией, а также во всех ратных распрях, раздиравших тогда страну. Он отличался своим военным искусством и храбростью. В остальном же это был грубый солдат с небрежными, резкими манерами, молчаливый и даже угрюмый в обществе, не признававший ни правил вежливости, ни этикета. Находились, правда, люди, считавшие себя глубокими знатоками человеческой души, которые утверждали, что де Во не только резок и смел, но также хитер и честолюбив. Они утверждали, что он подражает смелой, но грубоватой натуре самого короля, чтобы снискать его благоволение и осуществить свои честолюбивые планы. Однако никто не стремился перечить его планам, если они вообще существовали, и соперничать с ним в его опасном занятии. Де Во каждый день проводил у постели больного, болезнь которого считали заразной. Из приближенных за это никто не брался, памятуя, что больной был не кто другой, как Львиное Сердце: ведь его одолевало бешеное нетерпение воина, которого не пускают в бой, или властелина, временно лишенного власти. Рядовой же воин (по крайней мере английской армии) думал, что де Во ухаживает за королем лишь по-товарищески, с тем честным и бескорыстным прямодушием солдатской дружбы, какое устанавливается между людьми, ежедневно подвергающимися общей опасности.
Однажды, когда южный день уже клонился к вечеру, Ричард лежал прикованный к своей постели, истомленный докучливой болезнью, терзавшей его душу и тело. Его ясные голубые глаза, всегда сиявшие необыкновенной проницательностью и блеском, казались еще более живыми из-за этой лихорадки и скрытого нетерпения. Они сверкали из-под длинных вьющихся локонов его светлых волос, как последние лучи солнца сквозь тучи надвигающейся грозы, позолоченные этими лучами. Изнурительная болезнь оставила следы на его мужественном лице. Его всклокоченная борода закрывала губы и подбородок. То ворочаясь с боку на бок, то хватаясь за покрывало, то сбрасывая его, лежал он на своей измятой постели; его беспокойные жесты указывали одновременно на энергию и еле сдерживаемое нетерпение человека, привыкшего к кипучей деятельности.
Около постели стоял Томас де Во; вид и поза его являли полный контраст с обликом страдающего монарха. Своим гигантским ростом и гривой волос он напоминал Самсона, правда лишь после того, как локоны этого израильского богатыря были острижены, филистимлянами, чтобы их можно было удобнее носить под шлемом. Блеск его больших карих глаз напоминал рассвет осеннего утра, взгляд их только тогда выражал беспокойство, когда его внимание привлекали бурные вспышки нетерпения Ричарда. Его крупные, как и вся фигура, черты лица можно было бы назвать красивыми, если бы они не были обезображены шрамами. По норманскому обычаю, верхнюю губу закрывали темные усы, слегка тронутые сединой: длинные и густые, они доходили до висков. Видно было, что он легко переносил усталость и жаркий климат. Он был худощав, у него была широкая грудь и длинные мускулистые руки. Он уже три ночи подряд не снимал свою кожаную куртку с крестообразными разрезами на плечах, пользуясь лишь теми моментами отдыха, какие урывками мог себе позволить, охраняя покой больного монарха. Барон лишь изредка делал движение, чтобы подать Ричарду лекарство или питье, которое никто из приближенных не сумел бы убедить его проглотить. Было что-то трогательное в том, как он любовно, хотя довольно неуклюже, исполнял свои обязанности, столь чуждые его грубым солдатским привычкам и манерам.
Шатер, в котором они находились, в соответствии с духом того времени и характером самого Ричарда, отличался не столько королевской роскошью, сколько обилием принадлежностей воинского ремесла. Повсюду было развешано оружие, как наступательное, так и оборонительное, иногда странной формы и, как видно, нового образца. Шкуры зверей, убитых на охоте, покрывали пол и украшали стены шатра. На одной груде этих лесных трофеев лежали три больших белоснежных алана, как их тогда называли, то есть борзых самой крупной породы. Морды их со шрамами от когтей и клыков как бы указывали на то, что они участвовали в добывании трофеев, на которых лежали. Потягиваясь и зевая, они изредка поглядывали на постель Ричарда, как бы выказывая ему свою преданность и жалуясь на вынужденное бездействие. То были соратники короля-солдата и охотника. На маленьком столе у постели лежал чеканный щит из кованой стали треугольной формы с изображением трех идущих львов — герб, впервые присвоенный королем-рыцарем. Перед ним лежал золотой обруч, напоминавший герцогскую корону, только спереди он был выше, чем сзади. Вместе с пурпурной бархатной расшитой тиарой он был символом английского владычества. Около него, как бы наготове для защиты этой королевской эмблемы, лежала тяжелая секира, которую вряд ли смогла бы поднять рука какого-либо воина, кроме Львиного Сердца.
В другой половине шатра находились два-три офицера королевской внутренней службы. Вид у них был подавленный: они были встревожены состоянием здоровья повелителя, а равно и своей судьбой в случае его кончины. Их мрачные опасения как бы передавались наружным часовым, шагавшим кругом в молчаливом раздумье или неподвижно стоявшим на постах, опираясь на свои алебарды; они были похожи скорее на каких-то вооруженных кукол, чем на живых воинов.
— Значит, у тебя нет добрых вестей для меня, сэр Томас? — сказал король после длительного и тревожного молчания, снедаемый лихорадочным волнением, которое мы пытались описать. — Все наши рыцари обратились в баб, наши дамы стали монахинями, и нигде не видно ни искры мужества, ни доблести, ни храбрости, чтобы оживить наш стан, в котором собран цвет европейского рыцарства.
— Перемирие, государь, — сказал де Во с терпением, с которым он уже двадцать раз повторял эту фразу, — перемирие мешает нам действовать как подобает воинам. Как известно вашему величеству, я не поклонник пиров и разгула и не часто склонен менять сталь и кожу на бархат и золото. Но, насколько я знаю, наши милые красавицы отправились с ее королевским величеством и принцессами в паломничество в Энгаддийский монастырь, чтобы исполнить обет и помолиться об избавлении вашего величества от болезни.
— А разве, — сказал Ричард с видимым раздражением и гневом, — наши почтенные дамы и девушки могут подвергать себя такому риску, отправляясь в страну, оскверненную этими собаками, у которых так же мало правды для людей, как и веры в бога?
— Но ведь Саладин поручился за их безопасность, — возразил де Во.
— Верно, верно, — отвечал Ричард, — я несправедлив к этому султану-язычнику — я у него в долгу. Если бы только бог дал мне возможность сразиться с ним на глазах и христиан и язычников!
С этими словами Ричард вытянул правую руку, обнаженную до плеча, и, с трудом приподнявшись на постели, потряс сжатым кулаком, как будто сжимал рукоять меча или секиры, размахивая им над украшенным драгоценностями тюрбаном султана. Де Во пришлось прибегнуть к силе. Этого король не снес бы ни от кого другого, но де Во, выполняя роль сиделки, заставил своего властелина лечь обратно в постель и укрыл его мускулистую руку, шею и плечи так же заботливо, как мать укладывает нетерпеливого ребенка.
— Ты добрая, хоть и грубая нянька, де Во, — сказал король с горьким смехом уступая силе, которой не мог противостоять. — Думаю, что чепчик кормилицы подошел бы к твоему угрюмому лицу, как мне — детский капор. При виде такого младенца и такой няньки все девушки разбежались бы в страхе.
— В свое время мы наводили страх на мужчин, — сказал де Во, — и думаю, что еще поживем, чтобы снова внушить им ужас. Приступ лихорадки — это пустяки; надо лишь иметь терпение, чтобы от него избавиться.
— Приступ лихорадки! — воскликнул Ричард вспылив. — Ты прав, меня одолел приступ лихорадки. А что же случилось со всеми остальными христианскими монархами— с Филиппом Французским, с этим глупым австрийцем, с маркизом Монсерратским, с рыцарями госпитальеров, с тамплиерами? Что с ними со всеми? Так знай же: это застойный паралич, летаргический сон, болезнь, которая отняла у них речь и способность действовать, — какой-то червь, который вгрызается в сердце всего, что есть благородного, рыцарского и доблестного. И это сделало их лживыми даже в выполнении рыцарского обета и заставило пренебречь своей славой и забыть бога.
— Ради всего святого, ваше величество, — сказал де Во, — не принимайте это близко к сердцу. Здесь ведь нет дверей, и вас услышат; а такие речи уже можно услыхать и среди воинов; это вносит ссоры и распри в христианское войско. Не забывайте, что ваша болезнь теперь главная пружина их начинаний. Скорее баллиста будет стрелять без винта и рычага, чем христианское войско — без короля Ричарда.
— Ты льстишь мне, де Во, — сказал Ричард: он все же не был безразличен к похвалам. Он опустил голову на подушку с намерением отдохнуть, более решительным, чем выказывал до сих пор. Однако Томас де Во не принадлежал к числу льстивых царедворцев: эта фраза как-то случайно сорвалась у него с языка. Он не сумел продолжать разговор на столь приятную тему, чтобы продлить созданное им хорошее настроение, и замолк. Король, опять впадая в мрачные размышления, резко сказал: — Боже мой! Ведь это сказано только для того, чтобы успокоить больного. Разве подобает союзу монархов, объединению дворянства, собранию всего рыцарства Европы падать духом из-за болезни одного человека, хотя бы и короля Англии? Почему болезнь Ричарда или его смерть должна остановить наступление тридцати тысяч таких же смельчаков, как он сам? Когда олень-вожак убит, стадо ведь не разбегается. Когда сокол убьет журавля-вожака, другой продолжает вести стаю. Почему державы не соберутся, чтобы избрать кого-нибудь, кому они могут доверить руководство войском?
— Это верно. Но если вашему величеству угодно знать, — сказал де Во, — то я слышал, что по этому поводу уже были встречи между королями.
— Ага! — воскликнул Ричард, и его честолюбие сразу проснулось, дав иное направление его раздражительности. — Я уже забыт союзниками прежде, чем принял последнее причастие? Они уже считают меня мертвым? Но нет, нет, — они правы. А кого же они выбрали вождем христианского воинства?
— По чину и достоинству, — сказал де Во, — это король Франции.
— Вот оно что! — отвечал Ричард. — Филипп Французский и Наваррский, Дени Монжуа — его наихристианнейшее величество — все это пустые слова. Здесь, правда, может быть риск: он способен перепутать слова en arriere и en avant[9] и увести нас обратно в Париж, вместо того чтобы идти на Иерусалим. Этот политик уже заметил, что можно достигнуть большего, притесняя своих вассалов и обирая своих союзников, чем воюя с турками за гроб господень.
— Они могут также избрать эрцгерцога Австрийского, — сказал де Во.
— Как? Только потому, что он велик ростом, статен как ты сам, Томас, и почти столь же тупоголов, но без твоего презрения к опасности и равнодушия к обидам? Говорю тебе, что во всей этой австрийской туше не больше смелости и решительности, чем у злобной осы или храброго кобчика. Вон его! Разве может он быть предводителем рыцарей и вести их к победе? Дай ему лучше распить флягу рейнвейна вместе с его дармоедами и ландскнехтами.
— Есть еще гроссмейстер ордена тамплиеров, — продолжал барон, не жалея, что отвлек внимание своего властелина от его болезни, хотя это и сопровождалось нелестными замечаниями по адресу принцев и монархов. — Есть гроссмейстер тамплиеров, — продолжал он, — неустрашимый, опытный, храбрый в бою и мудрый в совете. К тому же он владеет королевством, которое могло бы отвлечь его от завоевания святой земли. Что думает ваше величество о нем как о предводителе христианской рати?
— Да, — отвечал король, — возражений против брата Жиля Амори нет: он знает, как построить войска в боевом порядке, и сам всегда сражается в первых рядах. Но, сэр Томас, справедливо ли было бы отнять святую землю у язычника Саладина, отличающегося всеми добродетелями, которые могут быть и у неверного, и потом отдать ее Жилю Амори? Он хуже язычника: идолопоклонник, последователь сатаны, колдун. Он совершает во мраке своих подвалов самые жуткие и жестокие преступления.
— А гроссмейстер ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского? Его слава не запятнана подозрениями в ереси или в магии, — сказал Томас де Во.
— Этот жалкий скряга? — поспешно возразил Ричард. — Разве его не подозревали (даже больше, чем подозревали) — в продаже неверным наших секретов, которые они никогда не получили бы силой оружия? Ну уж нет, барон! Лучше предать армию, продав ее венецианским шкиперам и ломбардским торгашам, чем доверить ее гроссмейстеру ордена святого Иоанна.
— Тогда я решусь сделать другое предложение, — сказал барон де Во. — Что вы скажете о доблестном маркизе Монсерратском? Он так умен, изящен и в то же время хороший воин.
— Умен? Хитер, ты хочешь сказать, — отвечал Ричард, — изящен в дамских покоях, если хочешь. Конрад Монсерратский — кто не знает этого щеголя? Шаткий политик, он способен менять свои намерения так же часто, как ленты своего камзола. Никогда нельзя угадать, что он хочет сказать — откровенен он или это только маска? Воин? Нет, прекрасный наездник и ловок на турнирах и в скачках с препятствиями, когда мечи притуплены, а на копья надеты деревянные наконечники. Тебя ведь не было со мной, когда я раз сказал весельчаку маркизу: «Нас здесь трое добрых христиан, а вот там вдали десятков пять-шесть сарацин; что, если мы их внезапно атакуем? На каждого рыцаря придется лишь по двадцать басурман».
— Да, помню его ответ, — сказал де Во, — он сказал, что тело его из плоти, а не из железа, и что он предпочел бы иметь сердце человека, а не хищного зверя, хотя бы и льва. Но я знаю, на чем мы порешим: мы закончим тем, с чего начали. Нет никакой надежды, что мы сможем помолиться у гроба господня, пока небо не пошлет исцеление королю Ричарду.
Услышав эти мрачные слова, Ричард весело рассмеялся, чего с ним давно не случалось.
— Великая вещь совесть, — сказал он, — если даже ты, тупоголовый северный лорд, можешь заставить своего короля сознаться в безумии. Поистине, если бы они не считали себя способными занять мое место, я и не подумал бы о том, чтобы срывать шелковые украшения с кукол, которых ты мне показал. Что мне до того, в какой мишуре они щеголяют, но я не могу допустить, чтобы они соперничали со мной в благородном деле, которому я себя посвятил. Да, де Во, я сознаюсь в своей слабости, упрямстве и честолюбии. Несомненно, в нашем христианском лагере найдется немало рыцарей получше Ричарда Английского, и было бы благоразумно назначить одного из них вождем войска. Но, — продолжал воинственный монарх, приподнимаясь на постели и срывая повязку с головы; его глаза сверкали, словно он чувствовал себя накануне сражения, — но если бы такой рыцарь водрузил знамя крестоносцев на Иерусалимском храме в то время, как я прикован к постели и не в состоянии принять участие в этом благородном подвиге, то как только я смог бы снова держать копье, я вызвал бы его на поединок за то, что он отнял мою славу и достиг цели раньше меня. Но слушай, что это за трубные звуки вдали?
— Это, вероятно, трубы короля Филиппа, — сказал дородный англичанин.
— Ты туг на ухо, Томас, — сказал король, стараясь приподняться. — Разве ты не слышишь шум и лязг оружия? Боже мой, ведь это турки вошли в стан — я слышу их военный клич.
Он опять попытался встать с постели, и де Во должен был приложить всю свою могучую силу, да еще позвать на помощь приближенных из внутреннего шатра, чтобы удержать его.
— Ты вероломный изменник, де Во, — сказал разъяренный монарх, когда, с трудом переводя дыхание и измученный борьбой, он вынужден был покориться силе и снова улечься. — Ох, если бы… если бы я был настолько силен, чтобы размозжить тебе голову секирой!
— Как бы я хотел, чтобы вы обладали такой силой, государь, — сказал де Во, — даже с риском стать ее жертвой. Христианский мир только выиграл бы, если б Томас Малтон был убит, а Ричард Львиное Сердце вновь стал самим собой.
— Мой верный и преданный слуга, — сказал Ричард, протянув руку, которую барон почтительно поцеловал, — прости своему государю его нетерпение. Это пылающая во мне лихорадка, а не твой добрый король Ричард Английский бранит тебя. Но прошу — пойди и узнай, что это за чужестранцы появились в лагере: это шум не от христианского войска.
Де Во вышел из шатра исполнить поручение, приказав камергерам, пажам и слугам удвоить внимание к государю на время своего краткого отсутствия и угрожая им наказанием в случае неповиновения. Однако угрозы эти скорее увеличили, чем уменьшили робость, которую они испытывали при исполнении своего долга, так как гнева сурового и неумолимого лорда Гилсленда они страшились едва ли меньше, чем гнева самого монарха.
Глава VII
Кто когда-нибудь видел на границе
двух стран
Встречу горцев и англичан,
Тот видел, как кровь их бежала
струей,
Словно с гор поток дождевой.
«Битва при Оттерборне»Большой отряд шотландских воинов присоединился к крестоносцам, став под знамена английского монарха. Как и его собственные войска, большинство из них были саксонцами и норманнами и говорили на тех же языках. Некоторые владели поместьями в Англии и Шотландии, многие были в кровном родстве между собой. Период этот предшествовал тому времени, когда жадный и властолюбивый Эдуард I придал войнам между этими двумя нациями столь жестокий и неумолимый характер: англичане вдевали за покорение Шотландии, а шотландцы отстаивали свою независимость с решимостью и упорством, столь характерными для этой нации, сражаясь в самой неблагоприятной обстановке, не останавливаясь ни перед чем, подвергаясь величайшим опасностям. До сих пор войны между двумя нациями, как бы часты и жестоки они ни были, велись с соблюдением принципов справедливости, и каждый стремился проявить благородство и уважение к своему великодушному противнику, что смягчало и ослабляло ужасы войны. Поэтому в мирное время, в особенности когда обе нации, как сейчас, вступали в войну, преследуя общую цель, цель эта становилась им близкой еще и потому, что они исповедовали одну и ту же веру. Искатели приключений из обеих стран часто сражались бок о бок; соперничество двух наций лишь возбуждало у них стремление превзойти друг друга на поле брани, в борьбе против общего врага.
Великодушный, но воинственный характер Ричарда, не делавшего никакого различия между своими подданными и подданными Вильгельма Шотландского и различавшего их лишь по поведению на поле сражения, во многом способствовал примирению между ними. Однако из-за его болезни и неблагоприятных условий, в которых находились крестоносцы, между различными группами войск понемногу возникала национальная рознь совершенно так же, как старые раны снова дают себя чувствовать под влиянием болезни или слабости.
Шотландцы и англичане, в равной мере ревностные и отважные, не способны сносить обиды, в особенности первые, как нация более бедная и слабая, и начали предаваться междоусобным распрям, когда перемирие запрещало им совместно вымещать свою злобу на сарацинах. Подобно враждовавшим вождям древнего Рима, шотландцы не желали признавать ничьего превосходства, а их южные соседи не терпели никакого равенства в отношениях. Возникли раздоры и распри. Как воины, так и все их начальники, дружившие во время победного наступления, стали угрожать друг другу несмотря на то, что их единение, казалось, должно было бы стать теперь нерушимым, как никогда, для успеха общего дела, а также для безопасности всей армии. Такая же рознь начала чувствоваться между французами и англичанами, итальянцами и германцами и даже датчанами и шведами. Но здесь речь будет идти прежде всего о том, что разъединяло две нации, жившие на одном острове. Казалось, что именно эта причина усугубляла их взаимную вражду.
Из всех знатных англичан, последовавших в Палестину за своим королем, де Во был одним из наиболее ярых противников шотландцев. Они были его ближайшими соседями, с которыми он всю жизнь вел тайную и открытую войну, кому он причинил немало страданий и от которых сам немало претерпел.
Его любовь и преданность королю походила на преданность старого пса своему хозяину. Он был резок и неприступен в обращении даже с теми, к кому был равнодушен, а к навлекшим его нерасположение был груб и придирчив. Де Во не мог без чувства негодования и ревности относиться к проявлению симпатии и внимания короля к представителям нечестивой, вероломной и жестокой, по его мнению, нации, родившейся по ту сторону реки или за какой-то воображаемой чертой; проведенной через дикую, пустынную местность. Он даже сомневался в успехе крестового похода, в котором было разрешено участвовать этим людям; по его мнению, они были немногим лучше сарацин, с которыми он пришел сражаться. Можно добавить, что, будучи прямым и откровенным англичанином, не привыкшим утаивать ни малейшего проявления любви или неприязни, он считал искренние выражения вежливости и обходительности со стороны шотландцев, которым они научились, или подражая своим частым союзникам — французам, или выказывая эти черты благодаря гордости и скрытности своего характера, лишь опасным проявлением вероломства и хитрости по отношению к их соседям, над которыми, как он думал со свойственной англичанам самоуверенностью, они никогда не возвысятся, несмотря на свою храбрость.
Однако, хотя де Во питал эти чувства ко всем своим северным соседям, лишь немного смягчая их по отношению к участникам крестового похода, его почитание короля и чувство долга, диктуемое обетами крестоносца, не позволяли ему обнаружить их публично. Он постоянно избегал общения со своими шотландскими собратьями по оружию. Когда ему приходилось встречаться с ними, он хранил угрюмое молчание, а при встрече во время похода или в лагере окидывал их презрительным взглядом. Шотландские бароны и рыцари не могли не замечать и не оставлять без ответа подобные знаки презрения, и все считали де Во заклятым врагом этой нации, которую на самом деле он только недолюбливал, выказывая ей свое пренебрежение. Более того: внимательными наблюдателями было замечено, что хоть он и не испытывал к ним провозглашенного писанием милосердия, прощающего обиды и не осуждающего ближнего, ему нельзя было отказать в более скромной добродетели, помогающей ближнему в нужде. Богатство Томаса Гилсленда позволяло ему заботиться о приобретении продовольствия и медикаментов, часть которых как-то попадала и в лагерь шотландцев. Такая угрюмая благотворительность руководствовалась принципом: после друга важнее всех для тебя твой враг, а все остальные люди слишком безразличны, чтобы о них думать. Эти пояснения необходимы, чтобы читатель мог понять то, о чем будет речь впереди.
Едва Томас де Во успел сделать несколько шагов, покинув королевский шатер, как услышал то, что сразу же различил более острый слух английского монарха, отличного знатока искусства менестрелей, а именно, что звуки музыки, достигшие их слуха, производились дудками, свирелями и литаврами сарацин. В конце дороги, между линиями палаток, ведущих к шатру Ричарда, он различил толпу праздных воинов, собравшихся там, откуда слышалась музыка, почти в самом центре стана. К своему удивлению, среди разных шлемов крестоносцев всех наций он увидел белые тюрбаны и длинные копья, что указывало на появление вооруженных сарацин, а также возвышавшиеся над толпой безобразные головы нескольких верблюдов-дромадеров с несуразно длинными шеями.
Неприятно удивленный при виде столь неожиданного зрелища (по установившемуся обычаю, все парламентерские флаги оставлялись за пределами стана), барон осмотрелся, думая найти кого-нибудь, у кого он мог бы разузнать о причинах этого опасного новшества. В первом, кто шел ему навстречу, он тотчас же по надменной осанке признал испанца или шотландца и невольно пробормотал:
— Да, это шотландец, рыцарь Леопарда. Я видел, как он сражался — не так уж плохо для уроженца этой страны.
Не желая обращаться к нему, он собрался было уже пройти мимо с угрюмым и недовольным видом, как бы говоря: «Я тебя знаю, но не намерен вступать в разговоры». Однако его намерение было расстроено северным рыцарем, который сразу направился к нему и, отдав учтивый поклон, сказал:
— Милорд де Во Гилсленд, мне нужно поговорить с вами.
— Вот как, — ответил английский барон, — со мной? Но что вам угодно? Говорите скорее: я иду по поручению короля.
— Мое дело касается короля Ричарда еще ближе, — отвечал Кеннет. — Я надеюсь, что верну ему здоровье.
Окинув его недоверчивым взглядом, лорд Гилсленд отвечал:
— Но ведь ты же не лекарь, шотландец, я скорее поверил бы тебе, если б услышал, что ты несешь королю богатство.
Раздраженный ответом барона, Кеннет все же спокойно ответил:
— Здоровье Ричарда — это слава и счастье всего христианства. Однако время не ждет! Скажите, могу я видеть короля?
— Конечно нет, дорогой сэр, — сказал барон, — пока ты не изложишь яснее, что у тебя за поручение. Шатер больного короля не может быть открыт для каждого, словно шотландская харчевня.
— Милорд, — сказал Кеннет, — на мне такой же крест, как и на вас, а важность того, что я имею вам сказать, вынуждает меня не придавать значения вашему вызывающему поведению, которого в ином случае я бы не снес. Одним словом, я привез с собой мавританского лекаря, который берется излечить короля Ричарда.
— Мавританского лекаря? — повторил де Во. — А кто поручится, что он не привез какую-нибудь отраву вместо лекарства?
— Его собственная жизнь, милорд, которую он предлагает в залог.
— Знавал я не одного отчаянного головореза, — сказал де Во, — ценившего свою жизнь не больше того, что она стоила, и готового шагать на виселицу так же весело, как если бы палач был его партнером в танцах.
— Совершенно верно, милорд, — отвечал шотландец. — Саладин, которому никто не откажет в мужестве и благородстве, прислал своего лекаря с почетной свитой, стражей и конвоем, подобающим тому высокому положению, которое эль-хаким[10] занимает при дворе султана, с плодами и напитками для королевского стола и с посланием, достойным благородных врагов. Он шлет ему пожелания скорейшего избавления от лихорадки, с тем чтобы он мог принять султана с обнаженной саблей в руке и конвоем в сто тысяч всадников. Не соблаговолите ли вы, как член королевского Тайного совета, приказать развьючить верблюдов и распорядиться о приеме ученого лекаря?
— Поразительно! — сказал де Во как бы про себя. — А кто поручится за Саладина, если он прибегнет к хитрости и захочет сразу избавиться от своего самого могущественного противника?
— Я сам, — сказал Кеннет, — ручаюсь за него своей честью, жизнью и состоянием.
— Странно, — воскликнул де Во, — север ручается за юг, шотландец — за турка! Могу ли я спросить вас, сэр рыцарь, а вы-то как вмешались в это дело?
— Мне было поручено, — сказал Кеннет, — вовремя паломничества по святым местам вручить послание отшельнику энгаддийскому.
— Может ли мне быть доверено его содержание, сэр Кеннет, а также ответ святого отца?
— Нет, милорд, — ответил шотландец.
— Но я член Тайного совета Англии, — надменно возразил англичанин.
— Этой стране я не подвластен, — сказал Кеннет. — Хотя я добровольно следовал в войне за знаменами английского короля, все же я был послан от Совета королей, принцев и высших полководцев воинства святого креста, и только им я отдам отчет.
— Ах, вот как! — сказал гордый барон де Во. — Так знай же, посланец королей и принцев, как ты себя называешь, что никакой лекарь не приблизится к постели короля Ричарда Английского без согласия Томаса Гилсленда, и жестоко поплатится тот, кто нарушит этот запрет.
С надменным видом он повернулся, чтобы уйти, но шотландец, подойдя к нему ближе, спокойным голосом, в котором также звучала гордость, спросил, считает ли его лорд Гилсленд джентльменом и благородным рыцарем.
— Все шотландцы рождаются джентльменами, — с некоторой иронией отвечал Томас де Во. Но, почувствовав свою несправедливость и видя, что Кеннет покраснел, он добавил: — Грешно было бы сомневаться в твоих достоинствах. Я сам видел, как смело ты исполняешь свой воинский долг.
— Но в таком случае, — сказал шотландский рыцарь, довольный искренностью, прозвучавшей в этом признании, — позвольте мне поклясться, Томас Гилсленд, что как верный шотландец, гордящийся своим происхождением и предками, и как рыцарь, пришедший сюда, чтобы обрести славу в земной жизни и заслужить прощение своих грехов в жизни небесной, именем святого креста, что я ношу, я торжественно заявляю, что желаю лишь спасения Ричарда Львиное Сердце, когда предлагаю ему услуги этого мусульманского лекаря.
Англичанин, пораженный этой торжественной клятвой, с большей сердечностью ответил ему:
— Скажи мне, рыцарь Леопарда: признавая, что ты сам уверен в искренности султана (в чем я не сомневаюсь), правильно ли бы я поступил, если бы предоставил этому неизвестному лекарю возможность испробовать свои зелья на том, кто так дорог христианству, в стране, где искусство отравления людей — такое же обычное дело, как приготовление пищи?
— Милорд, — отвечал шотландец, — на это я могу ответить лишь так: мой оруженосец, единственный из моих приближенных, которого оставила мне война и болезни, недавно заболел такой же лихорадкой, которая в лице доблестного короля Ричарда поразила сердце нашего святого дела. Не прошло и двух часов, как этот лекарь, эль-хаким, дал ему свои лекарства, а он уже впал в спокойный, исцеляющий сон. Что эль-хаким в состоянии излечить эту губительную болезнь— я не сомневаюсь; что он готов это сделать — я думаю, доказывается тем, что он послан султаном, который настолько правдив и благороден, насколько может им быть ослепленный неверный. В случае успеха лекаря ждет щедрая награда, при намеренной ошибке — наказание — вот что может послужить достаточной гарантией.
Англичанин слушал, опустив взор, как бы в сомнении, хотя, видимо, он готов был поверить словам своего собеседника.
Наконец он поднял глаза и спросил:
— Могу я повидать вашего больного оруженосца, дорогой сэр?
Шотландский рыцарь задумался и смутился, но затем ответил:
— Охотно, милорд Гилсленд, но вы должны помнить, когда увидите мое скромное жилище, что кормимся мы не так обильно, спим не на мягком и не заботимся о столь роскошном жилище, как это свойственно нашим южным соседям. Я живу в бедности, милорд Гилсленд, — добавил он с подчеркнутой выразительностью. И как бы нехотя он пошел вперед, показывая дорогу к своему временному жилищу.
Каковы бы ни были предубеждения де Во против нации, к которой принадлежал его новый знакомый, и хотя мы не склонны отрицать, что причиной их была ее всем известная бедность, он был слишком благороден, чтобы радоваться унижению этого храбреца, открыто признавшего свою нищету, которую из гордости он хотел бы скрыть.
— Воину-крестоносцу, — сказал де Во, — стыдно мечтать о мирском великолепии пли роскошном жилье, когда он идет в поход для покорения святого города. Хоть нам и не сладко живется, но все же мы живем лучше, чем те мученики и святые, что странствовали по этим местам, а теперь предстоят на небесах с горящими золотыми светильниками и пальмовыми ветвями.
То была одна из самых метафорических и напыщенных речей, когда-либо произнесенных Томасом Гилслендом: тем более что она далеко не выражала его собственных чувств: сам он любил хороший стол, веселые пиры и роскошь. Тем временем они подошли к тому месту, где расположился лагерь рыцаря Леопарда.
Действительно, внешний вид его жилища говорил о том, что законы аскетизма, которым, по словам Гилсленда, должны следовать крестоносцы, здесь не были нарушены. Согласно правилам крестоносцев, для рыцаря была оставлена свободной площадь, достаточная, чтобы раскинуть тридцать шатров. Из тщеславия рыцарь потребовал себе такой участок, якобы для первоначальной своей свиты. Половина участка осталась свободной, а на другой половине стояло несколько убогих хижин, сплетенных из прутьев и прикрытых пальмовыми ветвями; все они казались пустыми, а некоторые были полуразрушены. Над главной хижиной, предназначенной для вождя, на вершине копья было водружено знамя в форме ласточкиного хвоста. Его длинные складки, как бы увядшие под палящими лучами азиатского солнца, неподвижно свисали вниз. Но возле этой эмблемы феодального могущества и рыцарского достоинства не было видно ни одного пажа или оруженосца, ни даже одинокого часового. Стражем, охранявшим его от оскорбления, была лишь репутация его владельца.
Кеннет окинул печальным взором все кругом, но, поборов свои чувства, вошел в хижину, сделав знак барону Гилсленду следовать за ним. Де Во также окинул хижину пытливым взглядом, выражавшим отчасти жалость, отчасти презрение, которому это чувство, быть может, так же сродни, как любви. Слегка нагнувшись, чтобы не задеть высоким шлемом за косяк, он вошел в низкую хижину и, казалось, заполнил ее всю своей тучной фигурой.
Большую часть хижины занимали две постели. Одна была пуста; сделана она была из листьев и покрыта шкурой антилопы. По доспехам, разложенным рядом, и серебряному распятию, с благоговением воздвигнутому у изголовья, видно было, что то была постель самого рыцаря. На соседней лежал больной, о котором говорил Кеннет. Это был хорошо сложенный человек с суровыми чертами лица; он, по-видимому, перешагнул за средний возраст. Его постель была более мягкой, чем постель его господина; было ясно, что парадные одежды, которые рыцари носили при дворе в мирное время, а также различные мелочи в одежде и украшения были предоставлены Кеннетом для удобства его больного слуги. Недалеко от входа английский барон заметил мальчика: он сидел на корточках перед жаровней, наполненной древесным углем, обутый в грубые сапоги из оленьей шкуры, в синей шапке и сильно потертом камзоле. Он жарил на железном листе лепешки из ячменной муки, которые в то время, да и теперь еще, являлись любимой едой шотландцев. Часть туши антилопы была развешана на подпорках хижины. Нетрудно догадаться, как она была поймана: большая борзая, превосходившая породой даже тех, что стерегли постель больного короля Ричарда, лежала тут же, наблюдая за тем, как пеклись лепешки. Чуткий пес, завидя вошедших, глухо зарычал: это рычание походило на раскаты отдаленного грома. Но при виде хозяина он завилял хвостом и вытянул голову, как бы воздерживаясь от бурного выражения своего' приветствия: казалось, благородный инстинкт заставлял его вести себя тише в присутствии больного.
Рядом с постелью, на подушке, сделанной тоже из шкур, по восточному обычаю скрестив ноги, сидел мавританский лекарь, о котором говорил Кеннет. При тусклом свете его трудно было разглядеть; можно было лишь разобрать, что нижняя часть его лица была скрыта длинной черной бородой, свисавшей на грудь, и что на нем была круглая татарская барашковая шапка такого же цвета и темный широкий турецкий кафтан. Во тьме виднелись лишь два проницательных глаза, светившихся необычайным блеском.
Английский лорд молча стоял с выражением почтительного благоговения. Несмотря на его обычную грубость, вид нищеты и страданий, переносимых без жалоб и ропота, всегда внушал Томасу де Во больше уважения, чем великолепие королевских покоев, если только покои не принадлежали самому королю Ричарду. Не было ничего слышно, кроме тяжелого, но мерного дыхания больного, который спал глубоким сном.
— Он не спал уже шесть ночей, — сказал Кеннет, — как мне говорил тот малыш, что за ним ухаживает.
— Мой благородный шотландец, — сказал Томас де Во, схватив руку шотландского рыцаря и сжимая ее с сердечностью, какую не решался придать своим словам, — так не может продолжаться. У твоего оруженосца слишком скудная пища, и за ним плохой уход.
Последние слова он произнес обычным решительным тоном, невольно повысив голос. Больной беспокойно зашевелился.
— Господин мой, — пробормотал он как бы в полусне, — благородный сэр Кеннет, как отрадно утолить жажду холодной водой Клайда после соленых источников Палестины…
— Это он грезит о родной земле и, видно, счастлив в своих грезах, — шепнул Кеннет Томасу де Во. Едва он произнес эти слова, как лекарь, внимательно наблюдавший за пульсом больного, осторожно опустил его руку на постель, встал, подошел к обоим рыцарям, знаком призывая их хранить молчание, и, взяв их под руки, вывел из хижины.
— Во имя Иссы бен-Мариам, — сказал он, — того, кого мы чтим так же, как и вы, хоть и не с таким слепым суеверием, не мешайте действию святого снадобья, которое он принял. Разбудить теперь означало бы умертвить его, или он может лишиться рассудка. Возвращайтесь в тот час, когда муэдзин будет с минарета призывать верующих для вечерних молитв в мечети. Если никто не нарушит его сна, я обещаю вам, что этот франкский воин без вреда для здоровья сможет уже говорить с вами и ответить на вопросы, которые захочет задать ему его хозяин.
Рыцари ушли, уступая настояниям лекаря, видимо вполне понимавшего все значение восточной пословицы: «Комната болящего — царство лекаря».
Они стояли около входа в хижину: Кеннет — ожидая, что посетитель с ним простится, а де Во, видимо, обдумывал что-то, не решаясь уйти. Пес выбежал за ними из хижины и ткнулся длинной мордой в руку хозяина, как бы требуя от него внимания. Услышав ласковое слово своего господина и почувствовав легкое прикосновение его руки, он, видимо, спеша выказать признательность за благоговение и радость по поводу возвращения хозяина, стал носиться взад и вперед, виляя хвостом, мимо полуразрушенных хижин по эспланаде, о которой мы упомянули. При этом он ни разу не нарушил ее границ, как будто умное животное понимало, что они охраняются знаменем его хозяина. После нескольких прыжков пес, подойдя к хозяину, оставил свой игривый пыл, вернувшись к обычной важности и словно стыдясь, что поддался слабости и не сдержал себя.
Оба рыцаря с удовольствием смотрели на него. Кеннет справедливо гордился своим благородным животным. Английский барон тоже был страстным любителем охоты и большим знатоком борзых.
— Ловкий, сильный пес, — сказал он. — Думаю, дорогой мой, что у короля Ричарда нет собаки, которая могла бы помериться с ним, если верность его не уступает его ловкости. Но я позволю себе спросить — при всем уважении и добрых чувствах, которые я к тебе питаю, разве ты не слышал о приказе, запрещающем всем ниже ранга графа держать в лагере собак без королевского разрешения? Полагаю, что у тебя нет такого разрешения, сэр Кеннет? Я говорю это как королевский шталмейстер.
— А я отвечаю как свободный шотландский рыцарь, — с достоинством ответил Кеннет. — В настоящее время я следую за знаменем Англии, но не припомню, чтобы я когда-нибудь подчинялся охотничьим законам этого королевства, и я не настолько их уважаю, чтобы им подчиниться. Но как только протрубят сбор — моя нога уже в стремени, не позже других, а едва прозвучит сигнал к атаке — копье мое никогда еще не было среди последних. Что же касается моего досуга и свободы, то король Ричард не вправе ставить им преграды.
— Все-таки, — сказал де Во, — это безумие не слушаться приказов короля. Итак, с вашего позволения, так как это поручено мне, я пришлю вам охранную грамоту на этого красавца.
— Благодарю вас, — сказал шотландец холодно, — но он хорошо знает отведенное мне место, и здесь я сам могу его защитить. Однако, — сказал он, внезапно меняя тон, — негоже мне так отвечать на вашу сердечность. От души спасибо вам, милорд. Но конюшие и доезжачие короля могу схватить Рос-валя. Я отвечу обидой на обиду, а это может привести к неприятностям. Вы видели так много в моем хозяйстве, милорд, — добавил он с улыбкой, — что мне не стыдно признаться: Росваль — наш главный фуражир. Надеюсь, что наш лев Ричард не будет похож на льва в сказке менестрелей, который на охоте всю добычу присвоил себе. Я не думаю, чтобы он сердился на бедного джентльмена, его верного соратника, если тот в свободное время добудет себе немного дичи, в особенности когда другой пищи и не достанешь.
— Поистине, ты лишь отдаешь должное королю, — сказал барон, — однако это слово — «дичь» — сможет вскружить голову нашим норманским баронам.
— Мы недавно слышали, — сказал шотландец, — от менестрелей и пилигримов, что ваши йомены, объявленные вне закона, образовали целые банды в графствах Йорк и Ноттингем, а их вождь — отважный стрелок по прозвищу Робин Гуд со своим помощником Маленьким Джоном. По-моему, лучше бы Ричард смягчил свои охотничьи законы в Англии, вместо того чтобы навязывать их святой земле.
— Это сумасшествие, сэр Кеннет, — ответил де Во, пожимая плечами, видимо желая избежать неприятного и опасного разговора. — Мы живем в сумасшедшем мире, сэр. Я должен теперь вас покинуть, так как мне нужно вернуться в королевский шатер. Во время вечерних молитв я, с вашего разрешения, посещу ваше жилище и переговорю с этим мусульманским лекарем. Если вы не обидитесь, я охотно пришлю что-нибудь, чтобы улучшить ваши трапезы.
— Благодарю, вас, сэр, — сказал Кеннет, — не нужно. Росваль уже наготовил мне припасов недели на две, а ведь солнце Палестины хоть и приносит болезни, но в то же время сушит нам оленину.
Два воина расстались лучшими друзьями, чем при встрече. Однако, прежде чем разойтись, Томас де Во разузнал наконец о подробностях появления восточного лекаря и получил от шотландского рыцаря верительные грамоты Саладина, чтобы вручить их королю Ричарду.
Глава VIII
Врач, от недугов знающий лекарства,
Важней солдат для блага государства.
«Илиада» Попа— Странная история, сэр Томас, — сказал больной король, выслушав доклад верного барона Гилсленда. — Ты уверен в благонадежности этого шотландца?
— Утверждать не могу, милорд, — ответил ревностный житель границы. — Я живу слишком близко к шотландцам, чтобы мог на них полагаться; люди эти бывают и откровенны и лживы. Но, судя по его поведению, сказать по совести, будь он или сам сатана, или шотландец, он человек правдивый.
— А что ты скажешь о его поведении как рыцаря? — спросил король.
— Это скорее дело вашего величества, чем мое, по я уверен, что вы и сами видели, как себя ведет этот рыцарь Леопарда. И слава о нем хорошая.
— Это правда, Томас, — сказал король. — Мы сами видели его в бою. Мы намеренно идем в первые ряды, чтобы видеть, как сражаются наши вассалы и подданные, а вовсе не для того, как думают многие, чтобы обрести себе славу. Мы знаем всю тщету человеческих похвал: это дым. И не за этим поднимаем мы оружие.
Де Во не на шутку встревожился, услышав подобные признания короля, которые так не соответствовали его натуре. Сначала он решил, что лишь близость смерти заставила монарха говорить в столь откровенно пренебрежительном тоне о военной славе, необходимой ему как воздух, но, вспомнив, что, входя в шатер, он встретил королевского духовника, он был достаточно проницателен, чтобы понять, что временное самоуничижение было продиктовано внушением священника. Поэтому он ничего не ответил.
— Да, — продолжал Ричард, — я заметил, как он исполняет свой долг. Если бы он ускользнул от моего наблюдения, мой предводительский жезл не стоил бы и погремушки шута. Я давно оказал бы ему знаки моей милости, если бы не заметил его вызывающе гордый вид и самоуверенность.
— Ваше величество, — сказал барон Гилсленд, видя, как меняется выражение лица короля. — Боюсь, что я навлеку на себя ваш гнев, если скажу, что слегка потворствовал его поступкам.
— Как, де Малтон, ты? — сказал король, нахмурив брови и негодующим тоном выражая свое изумление. — Ты мог потворствовать его дерзости? Этого не может быть.
— С разрешения вашего величества, — сказал де Во, — я беру на себя смелость напомнить, что мне дано право разрешать людям наиболее знатного происхождения содержать по одной или две борзых в пределах стана для поощрения благородного искусства псовой охоты: да и кроме того, было бы грехом искалечить или уничтожить такого замечательного и благородного пса.
— У него действительно такой красивый пес? — спросил король.
— Самое совершенное создание, — сказал барон, большой любитель охоты, — и притом самой благородной северной породы: широкая грудь, крепкая спина, черная шерсть с сероватыми пятнами на груди и ногах, сила — хоть быка повалит, быстрота — загонит антилопу.
Король рассмеялся, услышав эту восторженную речь.
— Ну, раз ты разрешил ему держать этого пса, то не будем больше говорить об этом. Но все-таки будь осторожен в выдаче разрешений таким рыцарям-авантюристам, которые не подчиняются никакому государю или вождю: на них нет никакой управы, и они, пожалуй, не оставят больше дичи в Палестине. Ну, а теперь вернемся к ученому язычнику. Ты говоришь, что шотландец встретил его в пустыне?
— Нет, ваше величество; вот что рассказывает шотландец. Он был послан к старому Энгаддийскому отшельнику, о котором столько говорят.
— Проклятие! — воскликнул Ричард, вскакивая с постели. — Кем он послан и для чего? Кто посмел послать туда кого бы то ни было, когда наша королева была в Энгаддийском монастыре, совершая паломничество и молясь о нашем выздоровлении?
— Его послал Совет крестоносцев, милорд, — отвечал барон де Во. — Он отказался сообщить мне, по какому делу. Думаю, мало кому известно, что ваша августейшая супруга отправилась в паломничество: и даже монархи едва ли знали об этом, так как королева лишена была возможности быть с вами, потому что из любви к ней вы запретили ей ухаживать за вами, боясь заразы.
— Ну хорошо, об этом я разузнаю, — сказал Ричард. — Итак, ты говоришь, что этот шотландец встретился с кочующим лекарем в Энгаддийской пещере?
— Не совсем так, ваше величество, — ответил де Во. — Но, кажется, в тех местах он встретил сарацинского эмира; по дороге они вступили в бой и померились силами, состязаясь в храбрости. Признав его достойным спутником, он, как это принято среди странствующих рыцарей, вместе с ним отправился к Энгаддийской пещере.
Здесь де Во умолк: он не принадлежал к тем, кто способен сразу рассказать длинную историю.
— И там они встретили лекаря? — нетерпеливо спросил король.
— Нет, ваше величество, не там, — отвечал де Во, — но сарацин, узнав о том, что ваше величество тяжело больны, добился, чтобы Саладин прислал к вам личного лекаря, известного своим искусством. Он пришел в пещеру, где шотландский рыцарь прождал его несколько дней. Он окружен большим почетом, словно владетельный государь; барабаны, трубы, конный и пеший конвой. Он привез верительные грамоты от Саладина.
— Джакомо Лоредани прочел их?
— Перед тем как принести их сюда, я показал их переводчику, и вот английский текст.
Ричард взял свиток, на котором были начертаны следующие слова: «Благословение аллаха и его пророка Мухаммеда».
— Нечестивый пес! — воскликнул Ричард, сплюнув в знак презрения. «Саладин, король королей, султан Египта и Сирии, светоч и оплот земли, посылает приветствие великому Мелеку Рику — Ричарду, королю Англии. Так как мы были осведомлены, что тяжкий недуг одолел тебя, нашего высочайшего брата, и что при тебе находятся лишь лекари — назареяне и иудеи, не осененные благословением аллаха и нашего святого пророка («Безумец»! — опять пробормотал английский монарх), то мы посылаем для ухода за тобой нашего личного лекаря Адонбека эль-хакима, перед которым ангел смерти Азраил простирает крылья и тотчас же покидает шатер болящего. Ему известны все свойства трав и камней, пути солнца, луны и звезд, и он может спасти человека от всего, что не начертано роком на его челе. Поступая так, мы просим тебя от души принять его и использовать его знания и опытность. Мы не только хотели бы оказать услуги тебе, чья доблесть составляет славу всех народов Франгистана: мы этим можем привести к окончанию всей распри между нами либо путем заключения достойного соглашения, либо поединком в открытом поле. Мы сознаем, что неуместно тебе, носителю столь высокого сана и обладающему такой доблестью, умирать смертью раба, как бы замученного своим надсмотрщиком. Слава наша не может допустить, чтобы такой недуг сразил столь храброго противника. Поэтому да позволено будет святому…»
— Стой, стой, — сказал Ричард, — хватит с меня об этом псе — пророке. Мне противно думать, что храбрый и достойный султан может верить в дохлую собаку. Да, я приму его лекаря; я отдам себя на попечение этого хакима, я не останусь в долгу перед великодушием благородного султана, я встречусь с Саладином в открытом поле, как он мне предлагает, и не дам ему повода называть Ричарда, короля Англии, неблагодарным: своей булавой я сброшу его на землю. Ударами, какие он редко на себе испытывал, я обращу его в христианскую веру. Я заставлю его отречься от своих заблуждений перед моим мечом с крестом-рукоятью, и я окрещу его на поле брани из собственного шлема, хоть очистительная вода, может быть, и будет смешана с кровью. Торопись, де Во, что же ты медлишь с выполнением столь приятного поручения? Приведи сюда хакима.
— Милорд, — отвечал барон; он чувствовал, что в потоке этих признаний может усилиться лихорадка. — Подумайте о том, что султан — язычник и что вы — его опасный враг.
— И потому тем более он обязан оказать мне услугу, если только эта подлая лихорадка не положит конец спорам между двумя такими королями. Говорю тебе: он любит меня, и я его, как могут любить друг друга два благородных противника. Клянусь честью, было бы грешно сомневаться в его добрых намерениях и честности.
— Все же, милорд, было бы лучше дождаться результата действия этих лекарств на шотландского оруженосца, — сказал лорд Гилсленд. — Моя собственная жизнь зависит от этого. Если бы я поступил неосторожно в этом деле, я погубил бы христианство и заслуживал бы смерти, как собака.
— До сих пор я не знал, что ты способен опасаться за свою жизнь, — укоризненно произнес Ричард.
— Я не колебался бы и сейчас, — отвечал смелый барон, — если бы и ваша жизнь также не подвергалась опасности.
— Ну хорошо. Иди, недоверчивый человек, — отвечал Ричард, — и посмотри, как действует это лекарство. Я хотел бы, чтобы оно скорее или убило, или исцелило меня; уж очень тяжело мне валяться здесь, как быку, издыхающему от чумы, да еще в то время, когда бьют барабаны, слышится топот коней и звуки труб.
Барон поспешил удалиться, решив, однако, посоветоваться с кем-нибудь из духовенства. Он все же чествовал на себе бремя ответственности при мысли о том, что его господин будет пользоваться услугами неверного.
Свои сомнения он прежде всего поведал архиепископу Тирскому, зная, какое влияние тот оказывает на короля Ричарда, любившего и уважавшего этого рассудительного прелата. Архиепископ выслушал сомнения, которые ему изложил де Во, выказывая свойственные римско-католическому духовенству остроту мысли и проницательность. Он не счел религиозные сомнения де Во достойными особого внимания, насколько это допускало приличие в беседе с мирянином, и отнесся к этому очень легко.
— Лекари, — сказал он, — и их снадобья часто приносили пользу, несмотря на то, что сами они по рождению и манерам являют собой все, что есть низменного в человечестве, а их снадобья извлекаются из самых скверных веществ. Люди могут прибегать к помощи язычников и неверных в своих нуждах, — продолжал он, — и есть основания полагать, что одна из причин, почему им разрешается продолжать свое существование на земле, — это то, что они оказывают помощь правоверным христианам. Таким образом, мы на законном основании превращаем пленных язычников в рабов. Скажу еще, — продолжал прелат, — что нет сомнения в том, что первобытные христиане пользовались услугами некрещеных язычников. Так, например, на корабле, на котором святой апостол Павел плыл из Александрии в Италию, матросы были, без сомнения, язычниками. А что сказал святой, когда явилась в них нужда? Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis — «вы не можете быть спасены, если эти люди не останутся на судне». Для христиан евреи — такие же неверные, как и мусульмане. Но ведь в стране большинство лекарей — евреи, и их услугами пользуются без колебаний. Поэтому мы можем пользоваться услугами лекарей-мусульман, quod erat demonstrandum.[11]
Доводы эти окончательно устранили сомнения Томаса де Во. Особенно сильное впечатление произвели на него латинские цитаты, хотя он не понял в них ни одного слова.
Архиепископ проявил гораздо меньше сговорчивости при обсуждении вопроса о возможности злого умысла со стороны сарацина. Тут он не пришел к быстрому решению. Барон показал ему верительные грамоты. Он прочел их, перечитал еще раз и сравнил перевод с оригиналом.
— Это блюдо приготовлено на славу, — сказал он, — оно придется по вкусу королю Ричарду, и потому у меня есть подозрения в отношении этого хитрого сарацина. В искусстве отравлять они очень изворотливы и могут так приноровить отраву, что она начнет действовать лишь через несколько недель, а преступник тем временем может легко исчезнуть. Они даже могут напитать тончайшим ядом материю, кожу, бумагу и пергамент. Да простит мне божья матерь! А я, зная это, почему-то держу эти письма близко к лицу! Возьмите их, сэр Томас, уберите скорее.
Он поспешно отдал грамоты барону, держа их как можно дальше от лица.
— Но пойдемте, милорд де Во, — продолжал он, — проводите меня в хижину болящего оруженосца: мы узнаем, действительно ли хаким обладает искусством исцеления, как он уверяет, прежде чем решим, можно ли безопасно испытать его лечение на короле Ричарде. Однако постойте, я захвачу с собой свой лекарственный ящик: ведь эти лихорадки весьма заразительны. Я советовал бы вам употреблять розмарин, смоченный в уксусе, милорд. Я ведь тоже кое-что смыслю в искусстве врачевания.
— Благодарю вас, ваше преосвященство, — отвечал Томас Гилсленд. — Если бы я был восприимчив к лихорадке, я бы давно ее схватил, находясь у постели моего повелителя.
Архиепископ Тирский покраснел, ибо сам избегал общения с больным королем. Он попросил барона показать ему дорогу. Остановившись перед убогой хижиной, в которой жили рыцарь Леопарда и его слуга, архиепископ сказал де Во:
— Наверно, милорд, эти шотландские рыцари меньше заботятся о своих приближенных, чем мы — о своих собаках. Этот рыцарь, говорят, храбр в бою и удостоен важными поручениями во время перемирия, а жилище его оруженосца хуже самой последней собачьей конуры в Англии. Что вы скажете о ваших соседях?
— А то, что хозяин только тогда действительно заботится о своем слуге, когда помещает его там же, где живет сам, — сказал де Во и вошел в хижину.
Архиепископ с явной неохотой последовал за ним; хоть он и не лишен был некоторого мужества, оно несколько умерялось постоянной заботой о собственной безопасности. Он вспомнил однако, что прежде всего ему необходимо лично составить себе суждение об искусстве арабского лекаря, а потому вошел в хижину с важным и величественным видом, который, как он думал, должен был внушить почтение чужестранцу.
По правде сказать, фигура прелата была довольно приметна и внушительна. В молодости он отличался красотой и, даже достигнув зрелых лет, старался казаться таким же красивым. Его епископская одежда отличалась роскошью: она была оторочена ценным мехом и отделана вышивкой. За кольца на его пальцах можно было бы купить целое графство; клобук, хоть и отстегнутый и свешивавшийся назад из-за жары, имел застежки из чистого золота, которыми закреплялся под подбородком. Его длинная борода, посеребренная годами, закрывала грудь. Один из двух прислужников, находившихся при нем, держал над его головой зонт из пальмовых листьев, создавая искусственную тень, как принято на Востоке, тогда как другой, махая веером из павлиньих перьев, навевал на него прохладу.
Когда архиепископ Тирский вошел в хижину шотландского рыцаря, хозяина там не было. Мавританский лекарь, на которого он пришел посмотреть, сидел около своего пациента в той же позе, в какой де Во оставил его несколько часов тому назад; он сидел на циновке из скрученных листьев, поджав под себя ноги. Больной, казалось, был погружен в глубокий сон, и лекарь время от времени щупал его пульс. Архиепископ в течение двух-трех минут молча стоял перед ним, как бы ожидая почтительного приветствия; он думал, что сарацин по крайней мере будет поражен при виде его внушительной фигуры. Но Адонбек эль-хаким едва обратил на него внимание, бросив в его сторону лишь беглый взгляд. Когда же прелат приветствовал его на франкском языке, принятом в этой стране, лекарь ответил лишь обычным восточным приветствием: Salam alicum — «да будет мир с тобой».
— Это ты лекарь-язычник? — спросил архиепископ, слегка обиженный холодным приемом. — Я хотел бы поговорить с тобой о твоем искусстве.
— Если бы ты что-нибудь смыслил в медицине, — отвечал эль-хаким, — тебе было бы известно, что лекари не вступают в разговоры в комнате своих пациентов. Слышишь, — добавил он, когда из хижины донеслось глухое рычание борзой, — даже пес может поучить тебя уму-разуму: ведь чутье учит его не лаять, чтобы не тревожить больного. Выйдем из хижины, — сказал он, встав и идя к выходу, — если у тебя есть что мне сказать.
Несмотря на убогость одежды сарацинского лекаря и его малый рост по сравнению с фигурой прелата и гигантским ростом английского барона, в его облике и выражении лица было нечто такое, что удерживало Тирского архиепископа от того, чтобы резко выразить свое неудовольствие по поводу столь бесцеремонного нравоучения. Выйдя из хижины, он молча в течение нескольких минут пристально смотрел на Адонбека, прежде чем избрать надлежащий тон для продолжения разговора. Никаких волос не видно было из-под высокой шапки араба, которая скрывала часть его высокого и широкого лба без единой морщины. На гладких щеках, видневшихся из-под длинной бороды, также не было видно морщин. Выше мы уже говорили о пронзительном взгляде его темных глаз.
Прелат, пораженный молодостью эль-хакима, наконец прервал молчание (лекарь, видимо, не торопился его нарушить) испросил араба, сколько ему лет.
— Годы простых людей, — сказал сарацин, — исчисляются количеством морщин, годы мудрецов — их ученостью. Я не смею считать себя старше, чем сто круговращений хиджры.[12]
Барон Гилсленд, приняв эти слова за чистую монету и считая, что ему и впрямь минуло сто лет, нерешительно посмотрел на прелата, который, лучше уразумев значение слов эль-хакима, с таинственным видом покачал головой, как бы отвечая на его вопросительный взгляд. Снова приняв важный вид, он властным голосом спросил Адонбека, как может он доказать, что обладает такими познаниями.
— На это ты имеешь поручительство могущественного Саладина, — сказал ученый, в знак уважения притронувшись к своей шапке. — Он никогда не изменяет своему слову, будь то друг или недруг. Чего же, назареянин, ты еще хочешь от меня?
— Я бы хотел собственными глазами увидеть твое искусство, — сказал барон, — без этого ты не сможешь приблизиться к постели короля Ричарда.
— Выздоровление больного, — сказал араб, — вот в чем заключается похвала лекарю Посмотри на этого воина: кровь его иссохла от лихорадки, которая усеяла ваш лагерь скелетами и против которой искусство ваших назареянских лекарей можно сравнить лишь с шелковым плащом, выставленным против стальной стрелы. Посмотри на его пальцы и руки, похожие на когти и ноги журавля. Еще сегодня утром смерть сжимала его в своих объятиях. Но она не вырвала его духа из тела, ибо я стоял на одной стороне его постели, а Азраил по другую сторону. Не мешай мне, не спрашивай меня больше ни о чем, но жди решительной минуты и с молчаливым удивлением смотри на чудесное исцеление.
Взяв в руки астролябию, этот оракул восточных мудрецов, лекарь с серьезным видом стал делать свои вычисления. Когда настала пора вечерних молитв, он опустился на колени, повернувшись лицом к Мекке, и начал произносить вечерние молитвы, которыми мусульмане заканчивают трудовой день. Тем временем архиепископ и английский барон смотрели друг на друга, и взгляд их выражал презрение и негодование, однако ни один не решался прерывать эль-хакима в его молитвах, какими бы святотатственными они их ни считали.
Распростертый на земле араб поднялся и, войдя в хижину, где лежал больной, вынул из маленькой серебряной шкатулки губку, очевидно смоченную какой-то ароматной, жидкостью. Он приложил ее к носу спящего, тот чихнул, проснулся и мутными глазами посмотрел вокруг себя. Когда он, почти голый, приподнялся на постели, он был похож на привидение. Сквозь кожу были видны его кости и хрящи, как будто они никогда не были облечены плотью. Длинное лицо было изборождено морщинами, его блуждающий взгляд постепенно принимал более осмысленное выражение. Видимо, он отдавал себе отчет в присутствии высоких посетителей, так как слабым жестом пытался в знак уважения обнажить голову, стараясь глухим голосом позвать своего хозяина.
— Узнаешь ты нас, вассал? — спросил лорд Гилсленд.
— Не совсем, милорд, — слабым голосом отвечал оруженосец. — Я спал так долго и видел столько снов. Но я узнаю в вас знатного английского лорда, это видно по красному кресту. А это святой прелат; я прошу благословить меня, бедного грешника.
— Даю тебе его: Benedictio Domini sit vobiscum,[13] — сказал прелат, осеняя его крестным знамением, но не приближаясь к постели больного.
— Ваши глаза — свидетели, — сказал араб, — лихорадка прекратилась. Говорит он спокойно и разумно, пульс бьется так же ровно, как ваш, попробуйте сами.
Прелат отклонил это предложение, но Томас Гилсленд, желая довести опыт до конца, взял руку больного и убедился, что лихорадка действительно исчезла.
— Поразительно, — сказал рыцарь, посмотрев на архиепископа, — этот человек, несомненно, выздоровел. Я должен сейчас же отвести лекаря в шатер короля Ричарда. Как вы думаете, ваше преосвященство?
— Подождите немного, дайте мне закончить одно лечение, прежде чем начать другое, — сказал араб. — Я пойду с вами, как только дам пациенту вторую чашку этого священного эликсира.
Сказав это, он достал серебряную чашку и, налив в нее воды из стоявшей около постели тыквы, взял маленький, отороченный серебром вязаный мешочек, содержимое которого присутствующие не могли разглядеть. Погрузив его в чашку, он в течение пяти минут молча смотрел на воду. Как им показалось, сначала послышалось какое-то шипение, но оно скоро исчезло.
— Выпей, — сказал лекарь больному, — усни и проснись уже совсем здоровым.
— И таким простым питьем ты хочешь вылечить монарха? — спросил архиепископ Тирский.
— Я излечил нищего, как вы можете видеть, — отвечал мудрец. — Разве короли Франгистана сделаны из другого теста, чем самые последние из их подданных?
— Отведем его немедленно к королю, — сказал барон Гилсленд. — Он показал, что обладает секретом, чтобы вернуть Ричарду здоровье. Если это ему не удастся, я отправлю его туда, где ему не поможет никакая медицина.
Как только они собрались уходить, больной, пересиливая слабость, воскликнул:
— Святой отец, благородный рыцарь и вы, мой добрый лекарь, если мне нужно уснуть, чтобы поправиться, то скажите, умоляю вас, что случилось с моим хозяином?
— Он отправился в дальний путь, друг мой, — ответил прелат, — с печальным поручением и задержится на несколько дней.
— Зачем обманывать бедного малого? — сказал барон Гилсленд. — Друг мой, хозяин твой вернулся в лагерь, и ты его скоро увидишь.
Больной как бы в знак благодарности воздел исхудалые руки к небу и, не в силах больше противостоять действию снотворного эликсира, погрузился в спокойный сон.
— Вы более искусный лекарь, чем я, сэр Томас, — сказал прелат, — такая успокоительная ложь лучше для больного, чем неприятная истина.
— Что вы хотите этим сказать, уважаемый лорд? — сказал де Во раздраженно. — Вы думаете, я способен солгать, чтобы спасти десяток таких жизней, как его?
— Вы говорите, — отвечал архиепископ с видимыми признаками беспокойства, — что хозяин оруженосца, этот рыцарь Спящего Леопарда, вернулся?
— Да, он вернулся, — сказал де Во. — Я говорил с ним всего несколько часов назад. Этот ученый лекарь приехал с ним вместе.
— Святая дева Мария! Что же вы мне ничего не сказали‘о его возвращении? — сказал архиепископ в явном смущении.
— Разве я не сказал, что рыцарь Леопарда вернулся вместе с этим лекарем? Я думал, что говорил вам об этом, — небрежно проронил де Во. — Но какое значение имеет его возвращение для искусства лекаря и для выздоровления его величества?
— Большое, сэр Томас, очень большое, — сказал архиепископ, стиснув кулаки, топнув ногой и невольно выражая признаки нетерпения. — Где же он теперь, этот рыцарь? Боже мой, здесь может произойти роковая ошибка.
— Его слуга, — сказал де Во, удивляясь волнению архиепископа, — вероятно, может сказать нам, куда ушел его хозяин.
Мальчика позвали. На еле понятном языке он в конце концов объяснил, что какой-то воин разбудил его хозяина и повел в королевский шатер незадолго до их прихода. Беспокойство архиепископа, казалось, достигло апогея, и де Во это ясно понял, хоть и не отличался наблюдательностью и подозрительностью. По мере того как росла его тревога, все сильнее становилось желание побороть ее и скрыть от окружающих. Он поспешно простился с де Во. Тот удивленно посмотрел ему вслед, молча пожал плечами и повел арабского лекаря в шатер короля Ричарда.
Глава IX
Он — князь врачей: чума, и лихорадка,
И ревматизм, лишь взглянут на него,
Вмиг жертву выпускают из когтей.
Неизвестный авторПолный тревожных дум, барон Гилсленд медленно шел к королевскому шатру. У него не было веры в свои способности — доверял он им только на поле битвы. Сознавая, что не обладает особенной остротой ума, он довольствовался тем, что принимал события лишь как должное там, где другой, с более живым разумом, старался бы вникнуть в суть дела или по крайней мере поразмыслить о нем. Но даже ему показалось странным, что такое незначительное событие, как путешествие какого-то нищего шотландского рыцаря, могло так внезапно отвлечь внимание архиепископа от удивительного исцеления, свидетелями которого они были и которое сулило возвращение здоровья и Ричарду. Среди людей благородной крови Томас Гилсленд не смог бы назвать человека более ничтожного и презренного, чем Кеннет. Несмотря на привычку равнодушно относиться ко всяким мимолетным событиям, он напрягал свой ум, стараясь уяснить себе причину столь странного поведения прелата.
Наконец у него блеснула мысль, что все это могло быть заговором против короля Ричарда, исходящим из лагеря союзников: не было ничего невероятного в том, что архиепископ, которого некоторые считали хитрым и неразборчивым в средствах политиком, мог принимать в нем участие. По его мнению, лишь его властелин обладал высшими нравственными качествами. Ведь Ричард являл собою цвет рыцарства, он возглавлял все христианское воинство и исполнял все заповеди церкви. Дальше этого представления де Во о совершенстве не шли. Все же он знал, что по воле судьбы эти благородные свойства характера его господина не только рождали уважение и преданность, но также, хотя и совершенно незаслуженно, навлекали на него упреки и даже ненависть. В том же самом стане среди монархов, связанных присягой крестоносцев, было много таких, которые с радостью отказались бы от надежды победить сарацин, лишь бы погубить или хотя бы унизить Ричарда, короля английского.
«Поэтому, — сказал себе барон, — нет ничего невероятного в том, что исцеление — или мнимое исцеление — шотландского оруженосца эль-хакимом лишь хитрый обман, к которому причастен рыцарь Леопарда и где может быть замешан архиепископ Тирский».
Однако такое предположение не легко было согласовать с беспокойством, которое выказал архиепископ при известии о неожиданном возвращении крестоносца в стан. Но де Во прислушивался лишь к голосу своих предрассудков, который подсказывал ему, что хитрый итальянский прелат, коварный шотландец и лекарь-мусульманин — заговорщики, от которых можно ожидать лишь зла, а не добра. Он решил высказать напрямик свои соображения королю, ум которого ставил почти так же высоко, как его доблесть.
Между тем дальше все пошло совсем не так, как думал Томас де Во. Едва он покинул королевский шатер, как Ричард под влиянием свойственной ему нетерпеливости, усугубленной лихорадкой, начал выражать недовольство его отсутствием и настойчивое желание, чтобы он скорее вернулся. Он уже не способен был сам бороться с раздражительностью, которая усиливала его недуг. Он надоедал своим приближенным, требуя развлечений: но ни требник священника, ни рыцарские романы чтеца, ни даже арфа любимого менестреля — ничто не могло успокоить его. Наконец часа за два до захода солнца, задолго до того времени, когда он мог бы ожидать доклада о результате лечения, предпринятого этим мавром или арабом, он послал за рыцарем Леопарда, решив получить от него более подробный отчет как о причине его отсутствия из стана, так и о встрече со знаменитым лекарем.
Следуя повелению монарха, шотландский рыцарь вошел в королевский покой с видом человека, привыкшего к такой обстановке. Английскому королю он был почти неизвестен, даже по виду. Держась с достоинством, хотя пользуясь своим знатным происхождением, верный в тайном поклонении своей даме сердца, он не упускал случая, когда щедрость и гостеприимство открывали доступ ко двору монарха тем, кто занимал известное положение в рыцарстве. Король пристально смотрел на приближавшегося Кеннета. Рыцарь преклонил колено, затем поднялся и встал так, как подобает в присутствии монарха, в позе почтительного внимания, но отнюдь не покорности или слепого подчинения.
— Тебя зовут, — сказал король, — Кеннет, рыцарь Леопарда? Кто посвятил тебя в рыцари?
— Я был посвящен мечом Вильгельма Льва, короля Шотландского, — ответил шотландец.
— Оружие, — сказал король, — достойное этой почетной церемонии, и плечо, которого оно коснулось, вполне заслужило эту честь. Мы видели, как ты проявлял свою рыцарскую доблесть в пылу сражения, в самых опасных схватках. Ты уже давно мог бы узнать, что мы ценим твои заслуги, если бы не твое высокомерие. Твоя гордость так непомерна, что лучшей наградой за твои подвиги может быть лишь прощение твоих проступков! Что ты на это скажешь?
Кеннет хотел было заговорить, но не мог связно выразить свои мысли. Сознание несоответствия между его скромным положением и высоким положением его дамы сердца, а также пронзительный, соколиный взгляд, которым, как ему казалось, Львиное Сердце проникал в самую глубину его души, приводили его в замешательство.
— Но хотя воины, — продолжал король, — обязаны подчиняться приказам, а вассалы — быть почтительны к своим властителям, мы могли бы простить храброму рыцарю еще больший проступок, чем борзого пса, хотя это и запрещено нашим особым указом
Ричард не спускал глаз с лица шотландца и, увидев, какое облегчение испытал рыцарь при том обороте, который он придал своей обвинительной речи, едва мог сдержать улыбку.
— С вашего позволения, милорд, — сказал шотландец, — ваше величество должны снисходительно отнестись к нам, бедным благородным шотландцам. Мы ведь находимся вдали от дома, у нас скудные доходы, и мы не можем жить на них, как ваши богатые лорды, пользующиеся кредитом у ломбардцев. Если мы иногда и съедим кусок сушеной оленины с нашими овощами и ячменными лепешками, то тем больнее почувствуют сарацины наши удары.
— Ты не нуждаешься в моем разрешении, — сказал Ричард, — ведь Томас де Во, который, как и все мои приближенные, поступает так, как ему заблагорассудится, уже дал тебе разрешение на охоту с борзой и с соколом.
— Только с борзой, если вам угодно знать, — сказал шотландец, — но если вашему величеству угодно будет пожаловать мне разрешение охотиться также с соколом и если бы вы пожелали одарить меня соколом на руку, я надеюсь, что мог бы доставить к королевскому столу отборную дичь.
— Боюсь, что, дай тебе сокола, — сказал король, — ты едва ли дождался бы разрешения охотиться. Я знаю, что о нас, потомках династии Анжу, говорят, что мы так же сурово караем нарушение нашего охотничьего устава, как измену нашей короне. Однако храбрым и достойным людям мы могли бы простить как тот, так и другой проступок. Но довольно об этом. Я хочу знать, сэр, зачем и с чьего разрешения вы предприняли путешествие к Энгаддийской пещере, что в пустыне у Мертвого моря?
— По повелению Совета монархов святого крестового похода, — отвечал рыцарь.
— А кто посмел дать такой приказ, когда я, не последний в этом союзе, ничего не знал об этом?
— Не подобало мне, ваше величество, — сказал шотландец, — расспрашивать о таких вещах. Я, воин креста, несу службу под знаменем вашего величества, гордясь разрешением ее нести. Но все же я один из тех, кто возложил на себя символ креста для защиты прав христиан, и, чтобы отвоевать гроб господень, я обязан беспрекословно подчиняться приказам государей и военачальников, стоящих во главе этого святого похода. Вместе со всем христианским миром я печалюсь о том, что ваша болезнь — надеюсь, не надолго — лишает вас возможности участвовать в советах, где голос ваш звучит с такой силой. Однако как воин я обязан подчиняться тем, на кого возлагается законное право повелевать, иначе я подал бы плохой пример христианскому войску.
— Ты говоришь правильно, — сказал король Ричард, — и вина ложится не на тебя, а на тех, с кем я сведу счеты, если небу угодно будет, чтобы я встал с этого проклятого ложа страдания и бездействия. В чем заключалась твоя миссия?
— Мне кажется, ваше величество, — ответил Кеннет, — лучше было бы спросить об этом тех, кто меня послал и кто мог бы объяснить, зачем я был послан. Я же лишь вкратце могу рассказать о своем путешествии.
— Не криви душой, шотландец, если хочешь сохранить свою жизнь, — сказал рассерженный монарх.
— Когда я давал обет участвовать в этом походе, милорд, — твердо отвечал рыцарь, — я меньше всего думал о сохранении своей жизни и больше заботился о своей бессмертной душе, чем о своем бренном теле.
— Поистине ты храбрый малый, — сказал король Ричард. — Я люблю шотландский народ, мой благородный рыцарь: он смел, хоть и упрям; на шотландцев можно положиться, хоть иногда обстоятельства заставляли их хитрить. И с вашей стороны я заслуживаю признательности, ибо добровольно сделал для вас то, что вы не могли бы вырвать у меня с помощью оружия и тем более у моих предшественников. Я восстановил крепости Роксбург и Берик, находившиеся в залоге у англичан, я восстановил ваши прежние границы, и, наконец, я отказался от обязательств с вашей стороны приносить клятву верности английской короне, ибо это было навязано вам силой. Я стремился сделать из вас уважаемых и независимых друзей, тогда как прежние короли Англии старались лишь поработить непокорных и мятежных вассалов.
— Все это вы сделали, ваше величество, — сказал Кеннет, почтительно склонив голову. — Все это вы сделали, заключив договор с нашим государем в Кентербери. Поэтому я и множество других, более достойных шотландцев сражаемся против язычников под вашими знаменами. В противном случае мы бы нападали на ваши границы в Англии. Если нас теперь не много, то лишь потому, что мы не щадили своей жизни и погибали.
— Признаю, что все это правда, — сказал король. — Вы не должны забывать все то, что я сделал для вашей страны и что я — предводитель христианского союза. Я вправе знать о переговорах в среде моих союзников. Расскажите мне откровенно обо всем, что я имею право знать; я уверен, что от вас я скорее узнаю всю правду, чем от кого-либо другого.
— Раз вы настаиваете, милорд, — сказал шотландец, — я скажу вам всю правду. Я искренне верю, что ваши намерения, что касается главной цели вашего похода, откровенны и честны, чего нельзя сказать о других членах священного союза. Поэтому знайте, что мне было поручено при посредстве Энгаддийского отшельника, этого святого человека, уважаемого и защищаемого самим Саладином…
— …предложить продолжить перемирие, не сомневаюсь в этом, — прервал его Ричард.
— Нет, клянусь святым Андреем, нет, мой повелитель, — сказал шотландский рыцарь, — но установить длительный мир и вывести наши армии из Палестины.
— Святой Георгий! — воскликнул удивленный Ричард. — Хоть и нехорошо я думал о них, но все же не мог представить, что они унизят себя до такого позора. Скажите, сэр Кеннет, с каким чувством вы передали это послание?
— С горячим одобрением, милорд, — сказал Кеннет. — Когда мы потеряли нашего благородного вождя, под эгидой которого я надеялся на победу, я не видел, кто мог бы ему наследовать и, как он, вести нас к победе. Поэтому я считал, что лучше избегнуть поражения, заключив мир.
— А на каких условиях пришлось бы нам заключить этот благословенный мир? — спросил король Ричард, еле сдерживая душивший его гнев.
— Об этом мне не дано знать, милорд, — отвечал рыцарь Спящего Леопарда. — Я передал Отшельнику послание в запечатанном пакете.
— А за кого вы принимаете этого почтенного отшельника: за дурака, сумасшедшего, изменника или святого? — спросил Ричард.
— Его дурачество притворное, государь, — отвечал хитрый шотландец, — и я думаю, что он лишь хочет снискать благоволение и уважение со стороны неверных, которые считают такое средство ниспосланным с неба. Мне казалось, что это находит на него лишь случайно, и я не счел это за подлинное безумие, которое расстраивает ум.
— Тонкий ответ! — сказал монарх, снова откинувшись на постель. — Ну, а теперь — о его покаянии.
— Покаяние его, — продолжал Кеннет, — мне кажется искренним и является следствием угрызений совести из-за какого-то ужасного преступления, за которое, по его мнению, он осужден на вечное проклятие.
— А какова его политика? — спросил король Ричард.
— Мне сдается, милорд, — сказал шотландский рыцарь, — что он отчаялся в защите Палестины так же, как и в собственном спасении. Он считает, что должно только ждать чуда, в особенности в то время, когда рука Ричарда Английского перестала сражаться за это дело.
— Значит, трусливая политика этого отшельника схожа с политикой злосчастных монархов, которые, позабыв честь рыцарства и верность слову, проявляют решимость, лишь когда дело идет об отступлении, а не тогда, когда нужно идти против вооруженных сарацин. Они предпочитают бежать и в своем бегстве топтать умирающего союзника!
— Позволю себе заметить, ваше величество, — сказал шотландский рыцарь, — что этот разговор может лишь усилить вашу болезнь — врага, которого христиане боятся больше, чем вооруженных полчищ сарацин.
Действительно, лицо короля Ричарда еще больше покраснело, жесты стали лихорадочно резкими. Стиснутые кулаки, вытянутые руки и блестящие глаза показывали на страдание как от физической боли, так и от душевных мук. Однако это волнение заставляло его продолжать разговор, пренебрегая страданием.
— Вы можете мне льстить, сэр, — сказал он, — но вы от меня не уйдете. Я должен узнать от вас больше того, что вы мне сказали. Вы видели мою царственную супругу, когда были в Энгадди?
— Мне кажется, что нет, милорд, — сказал Кеннет с видимым смущением: ему припомнилась ночная процессия в часовне на горе.
— Я спрашиваю, — сказал король более сурово, — были ли вы в часовне Энгаддийского монастыря и видели ли там Беренгарию, королеву Англии, и ее придворных дам, которые отправились туда в паломничество?
— Милорд, — сказал Кеннет, — я чистосердечно признаюсь вам, как на исповеди! В подземной часовне, куда отшельник привел меня, я видел женский хор, поклонявшийся святым реликвиям. Их лиц я не видел, а их голоса слышал только, когда они пели церковные гимны, и я не могу сказать, была ли среди них королева Англии.
— И ни одна из этих женщин не показалась вам знакомой?
Кеннет молчал.
— Я вас спрашиваю, — сказал Ричард, приподнимаясь и опираясь на локоть, — как рыцаря и джентльмена и по вашему ответу узнаю, как вы цените эти звания: была ли среди этих паломниц хоть одна знакомая вам женщина?
— Милорд, — сказал Кеннет не без колебания, — я могу только догадываться…
— Я тоже, — сказал король, угрюмо нахмурив брови. — Но довольно об этом! Вы — Леопард, сэр, но берегитесь львиной лапы. Лишь сумасшедший мог бы влюбиться в луну, но прыгать с зубчатых стен высокой башни в сумасбродной надежде достичь далекого светила — это безумие самоубийцы.
В этот момент у входа в шатер послышался какой-то шум, и король, быстро меняя тон на более обычный, сказал:
— Довольно, идите. Поспешите к де Во и пришлите его сюда вместе с арабским лекарем. Моя жизнь доверяется султану! Если бы он только отрекся от своей ложной веры, я бы сам своим мечом помог ему прогнать эту французскую и австрийскую нечисть из его владений; я думаю, Палестина могла бы благоденствовать под его властью, как в те времена, когда цари ее были помазанниками самого неба.
Рыцарь Леопарда удалился. Затем камергер доложил, что его величество хотят видеть послы от совета.
— Хорошо, что они еще считают меня живым, — последовал ответ. — Кто эти уважаемые посланцы?
— Гроссмейстер ордена тамплиеров и маркиз Монсерратский.
— Наш французский собрат не любит посещать больных, — сказал Ричард. — Вот если бы Филипп был болен, я уж давно стоял бы у его постели. Джослин, приведи в порядок мою постель: она взбаламучена, как бурное море. Дай мне стальное зеркало, причеши гребнем волосы и бороду. Они и впрямь больше похожи на львиную гриву, чем на локоны христианина, Принеси воды.
— Милорд, — сказал дрожащим голосом камергер, — лекари говорят, что от холодной воды можно умереть…
— К черту лекарей! — ответил монарх. — Если они не могут меня вылечить, неужели ты думаешь, что я позволю им мучить меня? Ну вот, — сказал он, завершив омовение, — зови этих уважаемых посланцев. Я думаю, теперь они едва ли заметят, каким неряшливым сделала Ричарда болезнь.
Прославленный гроссмейстер ордена тамплиеров был высокий, худой, закаленный в сражениях воин, с тяжелым, но проницательным взглядом и лицом, на котором бесчисленные темные замыслы оставили свои следы. Он стоял во главе этого необычайного союза, для членов которого сам орден был все, а люди — ничто. Орден этот, домогаясь лишь распространения своей власти с риском поколебать религию, для защиты которой это братство первоначально было основано, обвиняемый в ереси и колдовстве, хотя он состоял из христианских священников, подозреваемый в секретном союзе с султаном, хотя дал присягу охранять святой храм, — весь этот орден, как и его глава гроссмейстер, являл собой полную загадку, перед которой содрогалось все. Гроссмейстер был облачен в пышные белые одежды, в руках он держал мистический жезл, своеобразная форма которого порождала много догадок и внушала подозрение, что знаменитое братство христианских рыцарей олицетворяло собою самые бесстыдные символы язычества.
Наружность Конрада Монсерратского была гораздо привлекательней, чем вид сопровождающего его смуглого и загадочного воина-монаха. Это был красивый мужчина старше средних лет, храбрый на полях сражений, рассудительный в совете, приветливый и веселый в часы досуга. С другой стороны, его обвиняли в непостоянстве, в мелком и эгоистическом честолюбии, в заботе об увеличении своих владений за счет латинского королевства в Палестине и, наконец, в тайных переговорах с Саладином в ущерб христианским союзникам.
По окончании обычных приветствий этих высоких особ и учтивого ответа короля Ричарда маркиз Монсерратский начал говорить о причинах их визита: они, по его словам, были посланы обеспокоенными королями и принцами, которые составляли Совет крестоносцев, чтобы «осведомиться о здоровье их могущественного союзника, храброго короля Англии».
— Нам известно, насколько важным для общего дела считают члены совета вопрос о нашем здоровье, — отвечал король, — и как они страдали, подавляя в себе любопытство в течение четырнадцати дней, боясь, без сомнения, усилить нашу болезнь, если они обнаружат свое беспокойство.
Так как этот ответ прервал поток красноречия маркиза и привел его в замешательство, его более суровый товарищ возобновил разговор и серьезным и сухим тоном, насколько это допускал высокий сан того, к кому он обращался, вкратце сообщил королю, что они пришли от имени совета и всего христианского мира просить, чтобы он не давал пробовать на себе снадобья лекаря-язычника, который, как говорят, послан Саладином, пока совет подтвердит или отвергнет подозрения, которые вызывает эта личность.
— Гроссмейстер святого и храброго ордена тамплиеров и вы, благородный маркиз Монсерратский, — ответил Ричард, — если вам угодно будет пройти в соседний шатер, вы увидите, какое значение мы придаем дружественным увещаниям наших королевских соратников в этой священной войне.
Маркиз и гроссмейстер удалились. Через несколько минут после этого в шатер вошел восточный лекарь в сопровождении барона Гилсленда и Кеннета.
Барон, однако, немного задержался, прежде чем войти, видимо, отдавая приказания стоящим перед шатром стражникам.
Входя, арабский лекарь по восточному обычаю приветствовал маркиза и гроссмейстера, на высокое звание которых указывали их одежда и осанка.
Гроссмейстер ответил приветствием с холодным презрением, маркиз — с обычной вежливостью, с какой он неизменно обращался к людям различных званий и народностей. Воцарилось молчание. Ожидая прихода де Во, шотландский рыцарь не счел себя вправе войти в шатер английского короля.
Тем временем гроссмейстер с суровым видом обратился к мусульманину:
— Неверный! Хватит ли у тебя смелости показать свое искусство на помазаннике божьем — повелителе христианского войска?
— Солнце аллаха, — отвечал мудрец, — светит как на назареян, так и на правоверных, и служитель его не смеет делать различия между ними, коль скоро он призван применить свое искусство исцеления.
— Неверный хаким, — сказал гроссмейстер, — или как там тебя, некрещеного слугу тьмы, еще называют, ты должен помнить, что будешь разорван дикими конями, если король Ричард умрет от твоего лечения.
— Суровая расправа, — отвечал лекарь. — Но ведь я могу пользоваться только человеческими средствами, а исход врачевания записан в книге света.
— Нет, уважаемый и храбрый гроссмейстер, — сказал маркиз Монсерратский, — не забывайте, что этот ученый муж незнаком с решением нашего совета, принятым во славу божью и ради благополучия его помазанника. Да будет тебе известно, мудрый лекарь, в искусстве которого мы не сомневаемся, что для тебя было бы лучше всего предстать перед советом нашего союза и разъяснить мудрым и ученым лекарям способ лечения, которым ты собираешься исцелить нашего высокопоставленного больного. Так ты избегнешь опасности, которой легко можешь подвергнуться, беря на себя ответственность в таком важном деле.
— Милорды, — сказал эль-хаким, — я вас прекрасно понял. Но наука так же имеет своих поборников, как и ваше военное искусство, и даже своих мучеников, подобно мученикам за веру. Мой повелитель султан Саладин приказал мне исцелить короля назареян, и, с благословения пророка, я подчиняюсь его приказаниям. Если меня постигнет неудача, вы пустите в ход мечи, жаждущие крови правоверных, и я подставлю свое тело под удары вашего оружия. Но я не буду спорить ни с одним несведущим о достоинствах снадобий, которыми я научился пользоваться по милости пророка, и прошу вас без промедления допустить меня к больному.
— Кто говорит о промедлении? — сказал барон де Во, поспешно входя в шатер. — У нас их и так было немало. Приветствую вас, лорд Монсерратский, и вас, храбрый гроссмейстер, но мне нужно провести этого ученого лекаря к постели моего повелителя.
— Милорд, — сказал маркиз на франко-норманском наречии, или на языке уи, как его тогда называли. — Известно ли вам, что мы пришли сюда, чтобы от имени Совета монархов и принцев-крестоносцев обратить ваше внимание на тот большой риск, который возникнет, если язычнику и восточному лекарю будет позволено играть драгоценным здоровьем вашего повелителя короля Ричарда.
— Благородный маркиз, — резко ответил англичанин, — я не могу сейчас тратить много слов и не имею ни малейшего желания выслушать их. Кроме того, я склонен больше доверять тому, что видели мои глаза, чем тому, что слышали мои уши. Я убежден, что этот язычник может излечить короля Ричарда, и я верю и надеюсь, что он сделает все возможное. Нам дорого время. Если бы сам Мухаммед — да будет он проклят богом! — стоял у порога шатра с тем же искренним намерением, как этот Адонбек эль-хаким, я считал бы грехом хоть на минуту удержать его.
— Итак, прощайте, милорд.
— Но ведь сам король хотел, чтобы мы присутствовали при лечении, — сказал Конрад Монсерратский.
Барон пошептался с камергером, вероятно, чтобы узнать, правду ли сказал маркиз, и затем ответил:
— Милорды, если вы проявите достаточно терпения, вы можете войти с нами. Но если вы действием либо угрозами станете мешать этому искусному лекарю в исполнении его обязанностей, да будет вам известно, что, невзирая на ваше высокое положение, я силой выведу вас из шатра Ричарда. Знайте: я настолько уверовал в лекарства этого человека, что даже если бы Ричард отказался их принять, я думаю, что нашел бы в себе силы заставить его сделать это, даже против его желания. Иди вперед, эль-хаким.
Последние слова были сказаны на лингва-франка; лекарь немедленно подчинился. Гроссмейстер угрюмо посмотрел на бесцеремонного старого воина, но, обменявшись взглядом с маркизом, постарался смягчить суровое выражение лица, и оба пошли за де Во и арабом в шатер, где лежал Ричард. Последний ждал их с нетерпением, с каким больной всегда прислушивается к шагам своего лекаря. Сэр Кеннет, присутствию которого не противились, хотя никто и не просил его уйти, чувствовал, что обстоятельства дают ему право следовать за этими высокопоставленными лицами; однако, помня о своем подчиненном положении и ранге, он держался в некотором отдалении.
Как только они вошли, Ричард воскликнул:
— Ох, добрые друзья пришли посмотреть, как Ричард совершит прыжок во мрак! Мои благородные союзники, приветствую вас, представителей нашего братства. Или Ричард будет опять среди вас в своем прежнем виде, или вы опустите в могилу его бренные останки. Де Во, останусь я жив или умру, прими благодарность твоего государя. Здесь есть еще кто-то, но я плохо вижу, лихорадка затуманила мне глаза… Храбрый шотландец, который хотел без лестницы взобраться на небо, приветствую также и его… Подойди ко мне, сэр хаким, и… к делу, к делу!
Лекарь, уже успевший узнать о различных симптомах болезни короля, долго и с большим вниманием щупал его пульс. Все кругом стояли молча, ожидая с затаенным дыханием. Мудрец наполнил чашку ключевой водой и погрузил в нее небольшой красный мешочек, который он вытащил из-за пазухи. Когда он решил, что вода достаточно насыщена, он хотел было предложить ее монарху, но последний воспротивился, сказав:
— Подожди минуту. Ты испробовал мой пульс. Позволь мне положить палец на твою руку. Я, как подобает настоящему рыцарю, тоже кое-что смыслю в твоем искусстве.
Не задумываясь, араб дал свою руку, и его длинные, тонкие темные пальцы на одно мгновение скрылись, как бы утонув в широкой ладони короля Ричарда.
— Пульс его бьется ровно, как у ребенка, — сказал король. — Не таков он у тех, кто собирается отравить государя. Де Во, останемся мы жить или умрем, отпусти этого хакима с честью и с миром. Передай, приятель, наш привет благородному Саладину. Если мне суждено умереть, я умру с верой в его честность, останусь жить — сумею отблагодарить его как подобает воину.
Затем он приподнялся, взял в руку чашу и, обернувшись к маркизу и гроссмейстеру, сказал:
— Запомните мои слова, и пусть царственные собратья выпьют кипрского вина за мое здоровье. Пью за бессмертную славу того крестоносца, который первым вонзит копье или меч в ворота Иерусалима, и да будет покрыт позором и вечным бесчестием тот, кто повернет вспять от начатого дела и бросит плуг, за который взялась его рука.
Он залпом осушил чашу до дна и передал ее арабу, откинувшись на подушки, как бы обессиленный. Затем лекарь выразительным жестом дал понять, чтобы все покинули шатер, за исключением де Во, которого никакие увещания не могли заставить отойти от больного. Шатер опустел.
Глава X
Теперь я тайную раскрою книгу
И к вашему, как видно, огорченью
Прочту о важном и опасном деле
«Генрих IV», ч. 1Маркиз Монсерратский и гроссмейстер ордена тамплиеров стояли перед королевским шатром, где произошла вышеописанная сцена, глядя на стражу со стрелами и алебардами, поставленную у шатра, чтобы никто не потревожил спящего монарха. Молча, опустив угрюмые лица и склоняя оружие, словно на похоронах, стражники ступали так осторожно, что не было слышно ни шума щитов, ни звона мечей, несмотря на то что вокруг шатра беспрерывно сновали вооруженные воины. Когда знатные посетители проходили мимо их рядов, воины с глубоким почтением склоняли перед ними свое оружие, ничем не нарушая тишину.
— Видно, приуныли эти собаки островитяне, — произнес гроссмейстер, обращаясь к Конраду, когда они миновали стражу Ричарда. — Какое шумное веселье царило раньше перед этим шатром! Только и слышен был лязг железа, удары мяча, борьба, хриплые песни, звон кубков и бутылей, как будто эти дюжие йомены справляли сельский храмовой праздник, собравшись вокруг майского дерева вместо королевского знамени.
— Мастифы — порода преданная, — сказал Конрад, — и их хозяин король снискал их любовь тем, что готов бороться, спорить, пировать со своими любимцами, как только на него найдет веселье.
— Он полон причуд и веселья, — сказал гроссмейстер. — Вы слышали, какой заздравный тост он произнес вместо молитвы, осушая свою чашу?
— Он нашел бы этот напиток слишком крепким и пряным, — сказал маркиз, — если бы Саладин был похож на прочих турок, носящих тюрбан и обращающих лица к Мекке при криках муэдзина. Но Саладин только притворяется верным, честным и великодушным, как будто эта некрещеная собака может подражать христианским добродетелям рыцаря. Говорят, что он обратился к Ричарду с просьбой, чтобы его посвятили в рыцари.
— Святой Бернард! — воскликнул гроссмейстер. — Тогда остается только скинуть пояса и шпоры, сэр Конрад, и уничтожить наши гербы, если эта высочайшая честь христианства будет оказана некрещеному турку, не стоящему и десяти пенсов.
— Вы слишком низко цените султана, — отвечал маркиз, — но, хоть он и красивый мужчина, я видел еще более красивого язычника, проданного в рабство за сорок пенсов.
Тем временем они приблизились к своим коням, находившимся недалеко от шатра, где они гарцевали среди блестящей свиты оруженосцев и пажей. Помолчав, Конрад предложил воспользоваться прохладой вечера, отпустить свиту и коней и пройтись до своих шатров по широко раскинувшемуся христианскому лагерю. Гроссмейстер согласился, и они пошли пешком, как бы по молчаливому уговору минуя более населенные части палаточного городка, по широкой эспланаде между шатрами и наружными укреплениями, где могли тайно вести беседу, незамеченные никем, кроме караульных, мимо которых они проходили.
Разговор шел о военных делах и приготовлениях к защите лагеря, но, видимо, он мало интересовал собеседников и скоро прекратился. Воцарилось длительное молчание. Его нарушил маркиз Монсерратский: он вдруг остановился, как человек, принявший внезапное решение. Всматриваясь в неподвижное и мрачное лицо гроссмейстера, он наконец обратился к нему с такими словами:
— Если это совместимо с вашим достоинством и священным саном, уважаемый сэр Жиль Амори, я бы просил вас хоть раз приподнять темное забрало и побеседовать с другом с открытым лицом.
Тамплиер улыбнулся.
— Есть светлые маски, — сказал он, — как и темные забрала, но и те и другие одинаково скрывают естественное выражение лица.
— Будь по-вашему, — сказал маркиз, коснувшись рукой подбородка и быстро отдернув ее, как бы срывая с себя маску. — Вот и я без маски. А теперь — что вы думаете о судьбе вашего ордена и об исходе крестового похода?
— Вы срываете покрывало с моих мыслей, не обнаруживая своих, — сказал гроссмейстер. — Я отвечу вам притчей, которую слышал от одного святого пустынника: некий земледелец молил небо о ниспослании дождя и роптал, когда дождь был не слишком сильным. В наказание за его нетерпение аллах, так рассказывал мне пустынник, направил реку Евфрат на его хижину, и он погиб вместе со всем своим скарбом, хоть его желание и было исполнено.
— Очень верно сказано, — сказал маркиз Конрад, — хоть бы океан поглотил девятнадцать частей из вооружения этих западных принцев! Оставшаяся часть могла бы лучше служить делу благородных иерусалимских христиан и спасти жалкие остатки Латинского иерусалимского королевства. Предоставленные самим себе, мы либо склонились бы перед бурей, либо, получив небольшую подмогу деньгами и войском, принудили бы Саладина уважать нашу честь и достоинство, согласиться на мир и даровать нам свое покровительство. Но этот крестовый поход грозит Саладину серьезными опасностями. Если они его минуют, он не потерпит, чтобы мы сохранили владения или княжества в Сирии, и, конечно, не допустит существования военных христианских братств, которые причинили ему столько зла.
— Да, но эти отважные крестоносцы, — сказал тамплиер, — могут достичь своей цели и водрузить крест на стенах Сиона.
— Но какую пользу принесет это ордену тамплиеров и Конраду Монсерратскому? — спросил маркиз.
— Вам это может принести пользу, — ответил гроссмейстер, — Конрад Монсерратский может стать Конрадом, королем Иерусалимским.
— Это звучит не так уж плохо, — сказал маркиз, — но все же это лишь звук пустой. Готфрид Бульонский может избрать терновый венец своей эмблемой. Должен сознаться, гроссмейстер, что мне очень нравится восточная форма правления: чистая и простая монархия должна состоять лишь из короля и подданных. Это самая примитивная структура: пастух и его стадо. А вся связующая внутренняя цепь феодальной зависимости создается искусственно: она слишком сложна. Я предпочел бы держать жезл моего убогого маркиза-та, но твердой рукой, и управлять им как я хочу, чем держать скипетр монарха, ограниченный и униженный гордыми феодальными баронами, владеющими землей под защитой иерусалимского кодекса.[14] Король должен править свободно, гроссмейстер, а не под контролем: здесь — канава, там — забор, тут — феодальная привилегия, там — закованный в латы барон, с мечом в руке отстаивающий эти привилегии. Словом, я убежден, что притязания Гвидо де Лузиньяна на престол будут иметь предпочтение перед моими, если Ричард поправится и получит голос при избрании иерусалимского государя.
— Довольно, — сказал гроссмейстер. — Ты меня убедил в своей искренности. Другие могут быть того же мнения, но не всякий, за исключением Конрада Монсерратского, имеет смелость признаться, что желает не восстановления Иерусалимского королевства, но хотел бы владеть частью его обломков, как варвары-островитяне, которые не пытаются спасти прекрасное судно от волн, а думают лишь о том, как бы обогатиться за счет кораблекрушения.
— Уж не хочешь ли ты донести о моем намерении? — спросил Конрад, подозрительно и сурово глядя на собеседника. — Так знай же, что мой язык никогда не выдаст моей головы, а моя рука не дрогнет, защищая их. Если хочешь, обвиняй меня публично, я готов защищаться, приняв вызов храбрейшего тамплиера, когда-либо бравшего в руки копье.
— Ты наскакиваешь на меня, как сорвавшийся конь, — сказал гроссмейстер. — Но клянусь святым храмом, который наш орден поклялся защищать, что я, как верный товарищ, буду всегда советоваться с тобой.
— Каким это храмом? — спросил маркиз Монсерратский, который любил пошутить и часто забывал сдержанность и осторожность. — Ты клянешься храмом на горе Сион, который был построен царем Соломоном, или этим символическим, аллегорическим зданием, которое, как слышно, члены ваших тайных советов считают символом расширения вашего доблестного и почетного ордена?
Тамплиер бросил на него уничтожающий взгляд, но спокойно ответил:
— Каким бы храмом я ни клялся, будь уверен, маркиз, моя клятва священна. Хотел бы я знать, как связать тебя такой же клятвой.
— Клянусь моей графской короной, — сказал, смеясь/маркиз, — которую я надеюсь до окончания этих войн обратить во что-нибудь более драгоценное. Эта легкая корона холодит мой лоб. Теплая герцогская корона лучше бы охраняла его от этого ночного ветерка, что сейчас дует, а королевская корона, отороченная теплым горностаем и бархатом, была бы еще лучше. Одним словом, наши общие интересы связывают нас. И не подумай, лорд-гроссмейстер, что если эти государи завоюют Иерусалим и посадят своего короля, они потерпят существование вашего ордена, а также моего жалкого маркизата. Нам не удержать независимость, которой мы теперь пользуемся. Клянусь пресвятой девой — этого не будет. Ведь тогда гордые рыцари Святого Иоанна должны будут опять накладывать пластыри и лечить чумные язвы в госпиталях. А вы, могучие и почтенные рыцари ордена тамплиеров, должны будете стать простыми воинами, спать втроем на жалкой постели, садиться по двое на одного коня, словом — жить по старому обычаю, запечатленному на вашей печати.
— Достоинства, привилегии и богатство нашего ордена избавят нас от унижения, которым вы нам угрожаете, — с гордостью возразил тамплиер.
— В этом и заключается ваше несчастье, — сказал Конрад Монсерратский, — и вы, досточтимый гроссмейстер, как и я, знаете, что если союзные государи одержат верх в Палестине, первым делом они постараются сломить независимость вашего ордена. Если его святейшество папа вам не покровительствовал бы и крестоносцы не нуждались бы в вашей помощи при завоевании Палестины, это давно бы уже произошло. Одержи они победу, и вас вышвырнут вон, как осколки сломанного копья за пределы турнирной арены.
— Может быть, и есть доля правды в том, что вы говорите, — сказал тамплиер, хмуро улыбаясь, — нона что мы могли бы надеяться, если союзники отступят со своими войсками и оставят Палестину во власти Саладина?
— Уверенный в своем могуществе, — отвечал Конрад, — султан согласился бы отдать в качестве лена свои обширные владения, чтобы иметь хорошо вооруженных франкских всадников. В Египте и Персии сотня таких иноземных воинов, приданная его легкой кавалерии, обеспечила бы победу над самым страшным противником. Но такая зависимость была бы лишь временной (может быть, лишь при жизни этого предприимчивого султана), но ведь на Востоке империи растут как грибы. Предположим, что он умрет, а мы будем усиливаться благодаря постоянному притоку смелых и отважных воинов из Европы. Что бы только мы ни создали, избавившись от монархов, которые затмевают нас своим величием. И если они останутся здесь и успешно закончат поход, они всегда будут держать нас в унижении и навяжут нам вечную зависимость.
— Вы прекрасно все это говорите, маркиз, — сказал гроссмейстер, — и ваши слова находят отзвук в моем сердце. Но мы должны быть осторожны: мудрость Филиппа Французского не уступает его доблести.
— Верно! И потому нетрудно будет убедить его отказаться от участия в походе, к которому он так опрометчиво примкнул, подчиняясь мимолетному порыву или уговорам своих приближенных. Он завидует королю Ричарду, своему заклятому врагу, и жаждет вернуться, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы ближе к Парижу, чем к Палестине. Любой благовидный предлог послужит ему поводом, чтобы сойти со сцены, ибо здесь он лишь попусту тратит силы своего королевства.
— А эрцгерцог австрийский? — спросил тамплиер.
— Что касается эрцгерцога, — отвечал Конрад, — то самодовольство и глупость приведут его к тому же решению, что и хитрость и мудрость Филиппа. Он считает, что с ним поступили неблагородно, потому что людская молва — и даже его собственные миннезингеры[15] — только и восхваляют короля Ричарда, которого он боится и ненавидит и несчастью которого он радовался бы, подобно тому, как трусливые дворняжки, видя, что волк схватил ту, что впереди, скорее сами схватят ее сзади, чем придут ей на помощь. Все это я говорю, чтобы ты понял, как искренне я желаю, чтобы этот союз распался и страна освободилась бы от этих великих монархов со всем их войском. И ты отлично знаешь и видишь сам, что все эти владетельные и могущественные монархи, за исключением одного, горят желанием заключить с султаном мир.
— Согласен, — сказал тамплиер. — Слеп был бы тот, кто не заметил бы этого во время последних обсуждений. Но приподними еще немного свою маску и расскажи, где кроется истинная причина того, что ты навязал совету этого северного англичанина, или шотландца, или как там еще называют этого рыцаря Леопарда, для передачи мирных предложений?
— Тут есть веские причины, — заметил итальянец. — Как уроженец Британии, он удовлетворял требованиям Саладина, который знал, что он служит в войске Ричарда, но его шотландское происхождение и личное нерасположение к нему Ричарда делают маловероятным, чтобы наш посланец по возвращении мог получить доступ к постели больного короля, для которого его присутствие всегда было невыносимым.
— Какая хитрая политика, — сказал гроссмейстер. — Поверь мне, вам никогда не опутать итальянской паутиной этого неостриженного Самсона с Британских островов; хорошо, если вам удастся связать его новыми веревками, да и то самыми крепкими. Разве вы не видите, что посланец, которого вы избрали с таким старанием, привез нам лекаря, чтобы вылечить этого англичанина с львиным сердцем и бычьей шеей, дабы он мог продолжать свой крестовый поход? А коль скоро он еще раз будет способен ринуться вперед, кто из монархов посмеет остаться позади? Они должны из чувства стыда последовать за ним, хотя с таким же удовольствием они стали бы сражаться под знаменем сатаны.
— Не беспокойтесь, — сказал Конрад Монсерратский. — Прежде чем лекарь своими волшебными зельями вылечит Ричарда, и если только ему не будут помогать сверхъестественные силы, можно будет вызвать раздор между французом, австрийцем и его английскими союзниками, да так, что брешь эту уже нельзя будет заделать. Если Ричард и встанет с одра болезни, то он сможет командовать лишь своими собственными войсками, но никогда больше, как бы энергичен он ни был, он не сможет возглавить весь крестовый поход.
— Ты искусный стрелок, — сказал тамплиер, — но, Конрад Монсерратский, лук твой слишком слаб, чтобы домчать стрелу до такой цели.
Тут он остановился и подозрительно оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не подслушивает. Взяв Конрада за руку, он крепко сжал ее, испытующе всматриваясь в лицо итальянца, и медленно произнес:
— Ричард встанет с постели, говоришь ты? Конрад, он не должен встать никогда!
Маркиз Монсерратский вздрогнул:
— Что? Так ты говоришь о Ричарде Английском, Львином Сердце, защитнике христианства?
Он побледнел, и колени у него задрожали. Тамплиер посмотрел на него холодным взглядом, и презрительная улыбка искривила его лицо.
— Знаешь, на кого ты похож в этот момент, сэр Конрад? Не на расчетливого и храброго маркиза Монсерратского, руководящего Советом монархов и вершащего судьбы империй, а на новичка, который, наткнувшись на заклинания в волшебной книге своего учителя, вызвал дьявола, совершенно не думая о нем, и теперь в ужасе стоит перед появившимся духом.
— Я согласен с тобой, — сказал Конрад, приходя в себя, — что если только нет другого надежного пути, то ты намекнул на тот, что ведет прямо к нашей цели. Но святая дева Мария! Мы станем проклятием всей Европы, проклятием каждого — от папы на его троне до жалкого нищего: сидя на церковной паперти, в лохмотьях, покрытый проказой, испивший до дна чашу людских страданий, он будет благословлять небеса, что имя его не Жиль Амори и не Конрад Монсерратский.
— Если так, — сказал гроссмейстер с прежним хладнокровием, — будем считать, что между нами ничего не было, что мы разговаривали во сне: проснулись, и видение исчезло.
— Оно никогда не исчезнет, — отвечал Конрад.
— Ты прав, — сказал гроссмейстер, — видения герцогских и королевских корон не легко отогнать.
— Ну что ж, — ответил Конрад, — прежде всего я попытаюсь посеять раздор между Австрией и Англией.
Они расстались. Конрад стоял, провожая взглядом развевающийся белый плащ тамплиера; он медленно удалялся и скоро исчез в темноте быстро надвигавшейся восточной ночи. Гордый, честолюбивый, неразборчивый в средствах и расчетливый, маркиз Монсерратский не был жестоким по натуре. Сластолюбивый эпикуреец, он, как и многие люди этого типа, не любил причинять боль другим даже из эгоистических побуждений и чувствовал отвращение ко всяким проявлениям жестокости. Ему удалось также сохранить уважение к своей собственной репутации, которое иногда возмещало отсутствие более высоких принципов, поддерживающих репутацию.
«Да, я действительно вызвал демона и получил по заслугам, — подумал он, устремляя взгляд туда, где в последний раз мелькнул плащ тамплиера. — Кто бы мог подумать, что этот строгий аскет гроссмейстер, чье счастье и несчастье так слиты с его орденом, способен сделать для его процветания больше, чем могу я в заботах о своих выгодах? Правда, я хотел положить конец этому безумному крестовому походу, но я не дерзал и помыслить о том плане, который этот непреклонный жрец осмелился предложить мне. Но это самый верный, быть может, самый безопасный путь».
Таковы были размышления маркиза, когда его немой монолог был нарушен донесшимся издали звуком человеческого голоса, возвещавшего зычным тоном герольда: «Помни о гробе господнем!»
Призыв этот, словно эхо, передавался от одного часового к другому; повторять его входило в обязанности часовых, чтобы все крестоносцы помнили о той цели, ради которой они взялись за оружие. Хотя Конрад был знаком с этим обычаем и привык часто слышать этот предостерегающий голос, в эту минуту он так гармонировал с его собственными мыслями, что ему показалось, будто он слышит голос с неба, предостерегающий его от злодеяния, которое он замышлял. Он с тревогой посмотрел вокруг, словно, подобно древнему патриарху, хотя и при совсем других обстоятельствах, ожидал увидеть запутавшегося в чаще ягненка — замену той жертвы, которую его сообщник предлагал ему принести, но не всевышнему, а Молоху их собственного честолюбия. Озираясь кругом, он увидел широкие складки английского знамени, развевающегося под дуновением слабого ночного ветерка. Оно стояло на искусственном холме почти в центре лагеря. Быть может, в древние времена какой-нибудь еврейский вождь или воин воздвиг этот памятник на месте, избранном им для своего вечного успокоения. Как бы тони было, древнее его название было забыто; крестоносцы назвали его холмом святого Георгия, ибо на этой высоте английское знамя царило над знаменами всех знатных и благородных вельмож и даже королей, как бы олицетворяя верховную власть короля Англии.
В остром уме Конрада мысли рождались с быстротой молнии. Один взгляд на знамя сразу развеял его нерешительность. Быстрыми и твердыми шагами направился он к своему шатру с видом человека, решившего осуществить свой план. Он отпустил великолепную свиту, которая ждала его возвращения. Улегшись в постель, он повторил про себя уже несколько измененное намерение сначала испробовать более мягкие средства, прежде чем прибегнуть к более решительным.
— Завтра я буду сидеть за столом у эрцгерцога австрийского. Посмотрим, нельзя ли осуществить нашу цель, не прибегая к жестоким замыслам тамплиера.
Глава XI
Известно в нашей северной стране,
Что знатность, мужество, богатство, ум
Друг другу уступают по значенью
Но зависть, что идет за ними вслед,
Как гончая за молодым оленем,
По очереди всех их низлагает
Сэр Дэвид ЛиндсейЛеопольд, великий герцог Австрии, был первым властителем этой благородной страны, обладавшим столь высоким титулом. Он получил герцогский титул в Германской империи благодаря близкому родству с императором Генрихом и владел самыми прекрасными провинциями, орошаемыми Дунаем. Репутация его была запятнана вероломным поступком, совершенным в связи с походом в святую землю. Запятнал он свою репутацию, взяв Ричарда в плен, когда последний, переодетый и без всякой свиты, возвращался на родину через его владения. Поступок этот не соответствовал, однако, характеру Леопольда. Его скорее можно было назвать слабохарактерным и тщеславным, чем честолюбивым и деспотическим правителем. Его умственные способности гармонировали с его внешностью. Он был высок ростом, красив и силен, на белой коже его лица играл яркий румянец Длинные светлые волосы ниспадали на плечи красивыми локонами. Однако в его походке была заметна какая-то неловкость, как будто ему не хватало силы, чтобы приводить в движение свое статное тело, и хотя он носил роскошные одежды, казалось, что они ему не к лицу. Как правитель он недостаточно сознавал свое достоинство; часто не зная, как заставить приближенных подчиняться своей власти, он прибегал к грубым выражениям и даже стремительным насильственным действиям, чтобы вновь завоевать потерянную территорию, которую легко можно было бы сохранить, выказав больше присутствия духа при возникновении конфликта.
Эти недостатки были видны не только окружающим: сам эрцгерцог иной раз с горечью сознавал, что не вполне подходит к несению своих высоких обязанностей. К этому надо добавить нередко мучившее его, иногда вполне оправданное подозрение, что окружающие не уважают его.
Впервые присоединившись к крестовому походу со своей великолепной свитой, Леопольд пожелал установить дружбу и близкие отношения с Ричардом. Для этого он предпринял действия, на которые английский король должен был ответить. Однако эрцгерцог, хоть и не лишенный храбрости, совершенно не обладал дерзновенной пылкостью характера Львиного Сердца, который искал опасности, как влюбленный юноша домогается благосклонности своей возлюбленной. Король очень скоро почувствовал к нему презрение.
Кроме того, Ричард, норманский властитель (а этому народу вообще была свойственна умеренность), презирал германцев за склонность к веселым пиршествам, а в особенности за их пристрастие к вину. По этим, а также другим личным причинам король Англии вскоре стал смотреть на австрийского принца с презрением, которое даже не старался скрывать или смягчать. Это немедленно было замечено подозрительным Леопольдом, который ответил ему глубокой ненавистью. Вражда искусно разжигалась тайными интригами Филиппа Французского, одного из самых дальновидных монархов того времени. Последний, опасаясь вспыльчивого и властного характера Ричарда и видя в нем своего главного соперника, чувствовал себя оскорбленным тем, что Ричард, имевший владения на континенте и будучи поэтому вассалом Франции, относился по-диктаторски к своему сюзерену. Филипп старался укрепить свою партию и ослабить партию Ричарда, привлекая к себе менее влиятельных монархов-крестоносцев с целью убедить их не подчиняться королю Англии. Таковы были расчеты и настроения эрцгерцога австрийского, когда Конрад Монсерратский решил разжечь его ненависть к Англии и тем привести союз крестоносцев если не к распаду, то по крайней мере к ослаблению.
Для визита был избран полдень; он явился под предлогом преподнести эрцгерцогу кипрского вина, которое незадолго до того попалось ему в руки, чтобы тот мог убедиться в его преимуществе перед венгерским и рейнским. В ответ на это эрцгерцог любезно пригласил Конрада к столу. Все было сделано, чтобы пиршество оказалось достойным единовластного государя. Но итальянец, обладавший утонченным вкусом, увидел в обилии яств, от которых ломился стол, не изысканность и блеск, а скорее обременительную роскошь.
Хотя германцы унаследовали воинственный и открытый характер своих предков, покоривших Рим, они сохранили немало следов былого варварства. Рыцарские обычаи и законы не достигли среди них утонченности, свойственной французским и английским рыцарям. Они не соблюдали строго предписанных правил поведения в обществе, которые свидетельствовали о высокой культуре и воспитании французов и англичан. Сидя за столом эрцгерцога, Конрад был ошеломлен, его со всех сторон оглушали звуки тевтонских голосов. Все это отнюдь не гармонировало с торжественностью роскошного банкета. Их платье тоже казалось ему вычурным. Многие из знатных австрийцев сохраняли свои длинные бороды и носили короткие куртки разных цветов, скроенные и разукрашенные по образцу, не принятому в Западной Европе.
Большое число приближенных, старых и молодых, прислуживало в шатре, иногда вмешиваясь в разговор. Они получали остатки пиршества и поглощали их тут же за спинами гостей. Было там и много шутов, карликов и менестрелей, которые вели себя шумнее и развязнее, чем это им было бы позволено в более светском обществе. Так как им разрешалось принимать участие в попойке (а вино там лилось рекой), то их бесчинства становились все более непристойными.
Во время пира, среди говора и суматохи, что делало шатер больше похожим на немецкую таверну во время ярмарки, эрцгерцогу все же прислуживали согласно этикету. Это говорило о том, что он стремился сохранить торжественный церемониал, к которому его обязывало высокое положение. Ему прислуживали с колена, и притом лишь пажи дворянского происхождения; еда подавалась ему на серебряных блюдах, токайское и рейнское вино он пил из золотого кубка. Его герцогская мантия была роскошно оторочена горностаем, а корона могла бы поспорить с королевской. Ноги его, обутые в бархатные сапоги, длиной вместе с острыми концами около двух футов, покоились на скамеечке из массивного серебра. Желая оказать внимание и честь маркизу Монсерратскому, он посадил его с правой стороны от себя. Тем не менее он обращал больше внимания на своего Spruchsprecher’a, то есть рассказчика, стоящего справа, позади него.
Этот человек был пышно одет в плащ и камзол из черного бархата, украшенный золотыми и серебряными монетами в память щедрых монархов, которые осыпали его подарками. В руках у него был короткий жезл, к которому тоже была прикреплена связка серебряных монет, соединенных кольцами. Им он бряцал, чтобы обратить на себя внимание, когда собирался что-то сказать. Его положение при дворе эрцгерцога было чем-то средним между личным советником и менестрелем. Он был то льстецом, то поэтом, то оратором; и тот, кто хотел снискать расположение герцога, обычно сперва старался заслужить благоволение этого рассказчика.
Чтобы избыток мудрости этой особы не слишком утомлял герцога, слева от него стоял его Hofnarr, или придворный шут, по имени Йонас Шванкер. Он так же звенел своим шутовским колпаком с колокольчиками и бубенчиками, как рассказчик своим жезлом.
Слушая мудрые нелепости одного и смешные прибаутки другого, смеясь и хлопая в ладоши, хозяин их тщательно наблюдал за выражением лица своего знатного гостя, чтобы угадать, какое впечатление производят на него австрийское красноречие и остроумие. Трудно сказать, что больше содействовало общему веселью и что больше ценил герцог — мудрые изречения рассказчика или прибаутки шута. Во всяком случае, те и другие находили у гостей отменный прием. Иногда они перебивали друг друга, побрякивая своими бубенцами и бойко соперничая друг с другом. Но в общем они, видимо, были в приятельских отношениях и так привыкли подыгрывать друг другу, что рассказчик снисходил до разъяснения острот шута, чтобы сделать их более понятными, а шут не оставался в долгу, то и дело оживляя скучную речь рассказчика меткой шуткой.
Каковы бы ни были его настоящие чувства, Конрад был озабочен лишь тем, чтобы выражение его лица говорило о полном удовольствии от всего, что он слышит; он улыбался и усердно аплодировал, как и сам эрцгерцог, напыщенным глупостям рассказчика и тарабарщине шута. На самом деле он лишь настороженно выжидал того момента, когда тот или другой коснется темы, которая имела отношение к его плану.
Вскоре шут заговорил об английском короле. Он привык прохаживаться насчет Дикона, рыцаря Метлы (таков был непочтительный эпитет, которым он наградил Ричарда Плантагенета). Это всегда было неисчерпаемой темой насмешек. Рассказчик сначала молчал. Лишь когда Конрад обратился к нему, он заметил, что Тениста, или дрок, служит эмблемой скромности, и хорошо было бы, чтоб об этом помнил тот, кто носит это имя.
Намек на знаменитый герб Плантагенета стал, таким образом, достаточно очевидным, и Йонас Шванкер заметил, что только скромность возвышает человека.
— Воздадим честь всем, кто ее заслужил, — отозвался маркиз Монсерратский. — Мы все участвовали в этих походах и сражениях, и я думаю, что и другие монархи могли бы получить хоть долю славы, которую воздают ему менестрели и миннезингеры. Не споет ли кто-нибудь песню во славу эрцгерцога Австрии, нашего высокого хозяина?
Три менестреля, соперничая друг с другом, выступили вперед с арфами. Двух из них рассказчик, игравший роль церемониймейстера, с трудом заставил замолчать, когда воцарилась тишина. Наконец поэт, которому было отдано предпочтение, стал петь по-немецки строфы, которые можно перевести так:
Кто из рыцарей достоин Здесь главою стать над всеми? Лучший всадник, лучший воин. Гордый, с перьями на шлеме!Тут оратор, бряцая жезлом, остановил певца, чтобы дать объяснения тем, кто мог не понять, что под смелым полководцем подразумевается высокий хозяин. Полный кубок пошел по рукам, послышались приветственные возгласы: «Hoch lebe der Herzog Leopold!»[16]
Далее последовала еще одна строфа:
Не дивись, что поднимает Австрия всех выше знамя: Диво ль, что орел летает Выше всех над облаками?— Орел, — сказал толкователь, — это эмблема его светлости, нашего благородного эрцгерцога, его королевского высочества, сказал бы я, и орел парит выше всех, ближе всех пернатых к солнцу.
— Лев прыгнул выше орла, — небрежно заметил Конрад.
Эрцгерцог покраснел и уставился на говорившего, а рассказчик после минутного молчания ответил:
— Да простит мне маркиз, но лев не может летать выше орла, ибо у него нет крыльев.
— За исключением льва святого Марка, — откликнулся шут.
— Это венецианское знамя, — сказал эрцгерцог. — Но ведь эта земноводная порода — полудворяне, полукупцы — не посмеет равняться с нами?
— Нет, я говорил не о венецианском льве, — сказал маркиз Монсерратский, — но о трех идущих львах английского герба; говорят, что раньше это были леопарды, а теперь они стали настоящими львами и должны главенствовать над зверьми, рыбами и птицами. Горе тому, кто станет перечить им.
— Вы это серьезно говорите, милорд? — спросил австриец, раскрасневшийся от вина. Вы думаете, что Ричард Английский претендует на превосходство над свободными монархами, его добровольными союзниками в этом крестовом походе?
— Я сужу по тому, что вижу, — отвечал Конрад. — Вон там, в середине нашего лагеря, красуется его знамя, как будто он король — главнокомандующий всем христианским войском.
— И вы с этим спокойно миритесь и хладнокровно об этом говорите? — сказал эрцгерцог.
— Нет, милорд, — отвечал Конрад, — я, бедный маркиз Монсерратский, не могу бороться против несправедливости, которой покорно подчинились такие могущественные государи, как Филипп Французский и Леопольд Австрийский. Бесчестие, которому подчиняетесь вы, не может быть позором для меня.
Леопольд сжал кулак и яростно ударил по столу.
— Я говорил об этом Филиппу, — сказал он. — Я часто говорил ему, что наш долг защищать ниже нас стоящих монархов против притязаний этого островитянина. Но он всегда холодно отвечал мне, что таковы взаимоотношения между суверенными монархами и вассалами и что неполитично, с его точки зрения, идти в такое время на открытый разрыв.
— Мудрость Филиппа известна всему свету, — сказал Конрад. — Свою покорность он будет объяснять политическими соображениями. Вы же, милорд, можете полагаться лишь на собственную политику. Но я не сомневаюсь, что у вас есть веские причины подчиняться английскому господству.
— Мне — подчиняться, — сказал Леопольд с негодованием. — Мне, эрцгерцогу австрийскому, опоре Священной Римской империи, подчиняться этому королю половины острова, этому внуку норманского ублюдка? Нет, клянусь небом, весь стан и все христианство увидят, как я могу постоять за себя и уступлю ли я хоть вершок земли этому английскому догу. Вставайте, мои вассалы и друзья! За мной! Не теряя ни минуты, мы заставим австрийского орла взлететь так высоко, как никогда не реяли эмблемы короля или кайзера.
С этими словами он вскочил с места и под бессвязные крики своих гостей и приближенных направился к двери шатра. Затем он схватил свое собственное знамя, развевавшееся перед шатром.
— Остановитесь, милорд, — сказал Конрад, делая вид, что хочет помешать ему, — не нужно поднимать переполох в лагере в такой час. Может быть, лучше еще немного потерпеть, примирившись с английской узурпацией, чем…
— Ни часа, ни минуты дольше! — крикнул эрцгерцог и со знаменем в руке, провожаемый восклицаниями гостей и приближенных, быстро направился к холму, где развевалось английское знамя. Там он схватил рукой древко, как бы желая вырвать его из земли.
— Господин мой, дорогой господин — сказал Йонас Шванкер, обнимая эрцгерцога, — берегитесь: у львов есть зубы.
— А у орлов — когти, — сказал эрцгерцог, не выпуская из рук древка, но еще не решаясь выдернуть его из земли.
Рассказчик, несмотря на то, что выдумки были его профессией, временами проявлял и здравый рассудок. Он загремел жезлом, что заставило Леопольда по привычке обернуться к своему советчику.
— Орел — царь пернатых, — сказал рассказчик. — А лев — царь зверей на земле. Каждый имеет свои владения, отдаленные друг от друга, как Англия от Германии. Благородный орел не причиняет никакого бесчестия царственному льву, но пусть оба ваши знамени остаются здесь и мирно развеваются рядом.
Леопольд выпустил из рук древко и обернулся, ища глазами Конрада Монсерратского. Но маркиза и след простыл, ибо как только он увидел, что надвигается беда, он тотчас же скрылся, выразив некоторым из присутствующих сожаление, что эрцгерцог избрал столь поздний час после обеда, чтобы отплатить за обиду, которую, как он считал, нельзя было стерпеть. Не видя своего гостя, с которым ему так хотелось обменяться мыслями, эрцгерцог громко объявил, что, не желая вносить раскол в армию крестоносцев, он отстаивает лишь свои привилегии и право быть на равной ноге с королем Англии, но не желает ставить свое знамя, которое он унаследовал от императоров, своих предков, выше знамени потомка каких-то графов Анжу. Закончив свою речь, он приказал принести бочонок вина. Под барабанный бой и музыку гости осушили не один кубок в честь австрийского знамени.
Их буйное веселье сопровождалось шумом, который переполошил весь лагерь.
Настал решительный час, когда, как предсказал лекарь, согласно правилам своего искусства, можно было спокойно разбудить царственного пациента. Для этого он поднес к его лицу губку. Через некоторое время он объявил барону Гилсленду, что лихорадка окончательно покинула короля и что, принимая во внимание его крепкую натуру, уже не надо, как обычно, давать ему вторую дозу этого сильного снадобья. Ричард был, по-видимому, того же мнения: сидя ка постели и протирая глаза, он спросил де Во о том, сколько денег в королевской казне.
Барон не мог назвать точную цифру.
— Это ничего не значит, — сказал Ричард, — сколько бы там ни было, отдай всё этому ученому лекарю, который, как я верю, возвратил меня к делам крестового похода. Если там меньше тысячи бе-зантов, дополни сумму драгоценностями.
— Я не продаю мудрость, которой меня наделил аллах, — отвечал арабский лекарь, — и знай, великий государь, что то божественное лекарство, которое ты’ на себе испытал, утратило бы свою силу в моих недостойных руках, если бы я обменял ее на золото или бриллианты.
«Лекарь отказывается от вознаграждения! — подумал де Во. — Это еще более удивительно, чем то, что ему сто лет».
— Томас де Во, — сказал Ричард, — как ты знаешь, храбрость — это удел войны, а щедрость и добродетель— удел рыцарства. А вот этот мавр, отказывающийся принять награду, может быть поставлен в пример всем тем, кто считает себя цветом рыцарства.
Сложив руки на груди с видом человека, исполненного чувством собственного достоинства, и вместе с тем выказывая знаки глубокого уважения, мавр произнес:
— Для меня достаточная награда слышать, что великий король Мелек Рик[17] так говорит о своем слуге. Но теперь прошу вас опять лечь! Я думаю, вам больше не придется принимать божественное зелье, но все же не следует вставать с постели, пока силы окончательно не восстановятся, ибо это может принести вред.
— Я должен повиноваться тебе, хаким, — сказал король, — хотя поверь мне: я чувствую, как грудь моя освободилась от изнурительного жара, который сжигал меня столько дней, и готов вновь подставить ее под копье любого храбреца. Но что это? Что за крики и музыка в стане? Томас де Во, пойди и разузнай, в чем дело.
— Это эрцгерцог Леопольд, — сказал де Во, возвратившись через несколько минут, — прогуливается со своими собутыльниками.
— Этот пьяный болван! — воскликнул Ричард. — Неужели он не может зверски пьянствовать в своем шатре? Нет, ему, видите ли, нужно позорить себя перед всем христианским миром! Что скажете, маркиз? — добавил он, обращаясь к Конраду Монсерратскому, который в это время входил в шатер.
— Скажу только, — ответил маркиз, — что я счастлив видеть ваше величество в добром здравии, и не каждый на моем месте произнес бы такую длинную речь после того, как удостоился гостеприимства эрцгерцога австрийского.
— Как? Вы обедали у этого тевтонского пьяницы? — воскликнул король. — Какую еще штуку он придумал, чтобы вызвать беспорядки? По правде сказать, сэр Конрад, я считал вас завзятым гулякой и не понимаю, как это вы могли уйти с пира в самом его разгаре.
Де Во стоял позади короля и взглядом и жестами старался дать понять маркизу, чтобы тот ничего не говорил. Но Конрад не понял или сделал вид, что не понял его предостережения.
— Проделки эрцгерцога мало кого могут занимать, да и сам он не сознает того, что делает. Но, по правде говоря, я бы не хотел принимать участие в этой веселой выходке: ведь он посреди стана, на холме святого Георгия, сбрасывает знамя Англии и водружает вместо него свое собственное.
— Что ты говоришь? — закричал король голосом, который мог бы разбудить и мертвого.
— Но не стоит, ваше величество, — сказал маркиз, — из-за того, что какой-то сумасшедший поступает так, как подсказывает ему его безумие…
— Замолчи, — сказал Ричард, вскочив с кровати и одеваясь с необыкновенной быстротой, — не говори мне ничего, маркиз! Де Малтон, запрещаю тебе произносить хоть слово: тот, кто вымолвит хоть одно слово, не друг Ричарду Плантагенету. Хаким, заклинаю тебя, замолчи!
Продолжая торопливо одеваться, он схватил висевший на столбе меч и, без всякого иного оружия, не взяв с собой никого из приближенных, бросился из шатра. Конрад как бы в изумлении всплеснул руками, желая что-то сказать де Во, но сэр Томас, грубо отстранив его, прошел мимо и, подозвав одного из королевских конюших, быстро дал ему приказание:
— Беги к лорду Солсбери: скажи, чтобы он собрал своих людей и немедленно шел за мной к холму святого Георгия. Скажи ему, что лихорадка бросилась королю в голову.
Не расслышав ничего толком и плохо понимая, что значат слова де Во, наспех отдавшего приказание, конюший вместе со своими товарищами поспешил в ближние шатры, занятые знатными вельможами. Не разбираясь в причинах переполоха, они подняли тревогу среди британских войск. Английские солдаты, разбуженные во время полдневного отдыха, которому они любили предаваться, приученные к тому жарким климатом, растерянно спрашивали друг друга о причинах переполоха; не ожидая ответа/некоторые из них восполняли недостаток сведений домыслом своего воображения. Одни говорили, что сарацины ворвались в лагерь, другие — что было покушение на жизнь короля, третьи — что он умер ночью от лихорадки или убит австрийским эрцгерцогом. Как высшие чины, так и воины, не имея достоверных вестей об истинной причине всей этой суматохи, заботились лишь о том, чтобы собрать вооруженных людей и чтобы всеобщая растерянность не внесла беспорядка в армию крестоносцев. Громко и пронзительно затрубили английские трубы. Тревожные крики: «За луки и алебарды!» — неслись из конца в конец и подхватывались вооруженными людьми, смешиваясь с возгласами: «Да хранит святой Георгий дорогую Англию!»
Сначала тревога охватила ближайшие войска, и люди самых различных национальностей, среди которых были представители чуть ли не всех христианских народов, бежали за оружием и собирались группами среди всеобщей сумятицы, о причине которой никто не знал. К счастью, во всей этой страшной мешанине граф Солсбери, спешивший на вызов де Во с несколькими вооруженными англичанами, не потерял присутствия духа. Ему удалось выстроить английские части в боевой порядок под надлежащей командой, чтобы в случае необходимости двинуть их на помощь Ричарду, избегая торопливости и суматохи, которые могли бы вызвать их собственная тревога и забота о спасении короля. Он приказал построить армию в боевой порядок и держать ее наготове. Надлежало действовать без шума и спешки.
Между тем, не обращая внимания на крики и царившую кругом суматоху, Ричард в беспорядочно наброшенном платье и с вложенным в ножны мечом спешил как можно скорее добраться до холма святого Георгия; за ним бежали де Во и двое-трое приближенных.
Он даже опередил тех, кто был поднят на ноги тревогой, еще более подогревая их своей стремительностью. Когда он проходил мимо своих доблестных воинов из Нормандии, Пуату, Гаскони и Анжу, до них еще эта тревога не докатилась; все же шум, поднятый пьяным германцем, заставил многих подняться и прислушаться. Небольшая часть шотландцев, расквартированная поблизости, тоже не была еще поднята на ноги. Однако облик короля и его стремительность были замечены рыцарем Леопарда, который понял, что грозит какая-то опасность, и поспешил на помощь. Схватив щит и меч, он присоединился к де Во, который с трудом поспевал за своим пылким и нетерпеливым повелителем. В ответ на вопросительный взгляд шотландского рыцаря, де Во пожал своими широкими плечами, и они продолжали свой путь, следуя за Ричардом.
Скоро король оказался у подножия холма святого Георгия. На самой площадке и вокруг нее толпились приближенные эрцгерцога австрийского. Они шумно праздновали событие, которое, как они считали, было защитой их национальной чести. Были там и люди других национальностей, не питавшие особой симпатии к англичанам или просто любопытные, желающие поглазеть на необычайное происшествие.
Как гордый корабль под парусами, рассекающий грозные валы, не боясь, что они с ревом сомкнутся за его кормой, ворвался Ричард в толпу.
Вершина холма представляла собой небольшую ровную площадку, на которой развевались два соперничающих знамени. Кругом находились друзья и свита эрцгерцога. В середине стоял сам Леопольд, с довольным видом любуясь делом своих рук и прислушиваясь к одобрительным крикам, которыми его щедро награждали его приверженцы. В тот момент, когда он находился в апогее своего торжества, Ричард ворвался в середину с помощью лишь двух человек; но его натиск был так стремителен, что, казалось, будто целое войско заняло холм.
— Кто посмел? — закричал он голосом, похожим на гул землетрясения, и схватил австрийское знамя. — Кто посмел повесить эту жалкую тряпку рядом с английским знаменем?
Эрцгерцог не был лишен храбрости, и невозможно было предполагать, чтобы он не слышал вопроса и не ответил на него. Но он был настолько взволнован и удивлен неожиданным появлении Ричарда и настолько подавлен страхом перед его вспыльчивым и неустойчивым характером, что королю пришлось дважды повторить свой вопрос таким тоном, будто он бросал вызов небу и земле. Наконец эрцгерцог, набравшись храбрости, ответил:
— Это сделал я, Леопольд Австрийский.
— Так пусть Леопольд Австрийский, — ответил Ричард, — теперь увидит, как уважает его знамя и его притязания Ричард Английский.
С этими словами он выдернул древко из земли, разломал его на части, швырнул знамя на землю и стал топтать его ногами.
— Вот, — сказал он, — как я топчу знамя Австрии! Найдется ли среди вашего тевтонского рыцарства кто-нибудь, кто осудит мой поступок?
Последовало минутное молчание: но ведь храбрее германцев нет никого.
— Я! Я! Я! — послышались возгласы многих рыцарей, приверженцев эрцгерцога. Наконец он и сам присоединил свой голос к тем, кто принял вызов короля Англии.
— Что мы смотрим? — вскричал граф Валленрод, рыцарь огромного роста из пограничной с Венгрией провинции. — Братья, благородные дворяне, нога этого человека топчет честь нашей родины. На выручку посрамленного знамени! Сокрушим английскую гордыню!
С этими словами он выхватил меч, с намерением нанести королю такой удар, который мог бы стать роковым, не вмешайся шотландец, принявший удар на свой щит.
— Я дал клятву, — сказал король Ричард, и голос его был услышан даже среди шума, который становился все сильнее, — никогда не наносить удара тому, кто носит крест; поэтому ты останешься жить, Валленрод, чтобы помнить о Ричарде Английском.
Сказав это, он обхватил высокого венгерца и, непобедимый в борьбе, как и в прочих военных упражнениях, отбросил его назад с такой силой, что грузная масса отлетела прочь, будто выброшенная из катапульты. Она пронеслась над толпой свидетелей этой необычной сцены и через край холма покатилась по крутому откосу. Валленрод катился головой вниз, но наконец, задев за что-то плечом, вывихнул его и остался лежать замертво. Проявление этой почти сверхъестественной силы не ободрило ни эрцгерцога, ни кого-либо из его приближенных настолько, чтобы возобновить борьбу, закончившуюся столь плачевно. Те, что стояли в задних рядах, начали бряцать мечами, выкрикивая: «Руби его, островного дога!» Но те, что находились ближе, из страха и будто желая навести порядок закричали: «Успокойтесь, успокойтесь ради святой церкви и нашего отца папы!»
Эти противоречащие друг другу выкрики противников указывали на их нерешительность. Ричард, топча ногой эрцгерцогское знамя, озирался кругом, как бы выискивая себе противника. Все знатные австрийцы отшатывались от его взора, словно от грозной пасти льва. Де Во и рыцарь Леопарда стояли рядом с королем. Хоть их мечи все еще были в ножнах, было ясно, что они готовы до последней капли крови защищать Ричарда, а их рост и внушительная сила ясно говорили, что защита эта могла бы быть самой отчаянной.
Тут подоспел и Солсбери со своими людьми, с алебардами наготове и натянутыми луками.
В этот момент король Франции Филипп в сопровождении двух-трех человек из своей свиты поднялся на площадку, чтобы узнать о причинах суматохи. Он жестом выразил удивление при виде короля Англии, так быстро покинувшего свое ложе и стоявшего в угрожающей позе перед их общим союзником, эрцгерцогом австрийским. Сам Ричард смутился и покраснел при мысли о том, что Филипп, которого он не любил, но уважал за ум, застал его в позе, не подобающей ни монарху, ни крестоносцу. Все видели, как он как бы случайно отдернул и снял ногу с обесчещенного знамени и постарался изменить выражение лица, напустив на себя хладнокровие и безразличие. Леопольд тоже старался казаться спокойным, но он был подавлен сознанием того, что Филипп заметил безвольную покорность, с какой он сносил оскорбления вспыльчивого короля Англии.
Обладая многими превосходными качествами, за которые он был прозван своими подданными Августом, Филипп мог быть также назван Одиссеем, а Ричард — Ахиллом крестового похода. Французский король, дальновидный, мудрый, осмотрительный в советах, уравновешенный и хладнокровный в поступках, видящий все в ясном свете, настойчиво преследовал благие цели в интересах своего государства, отличаясь сознанием собственного королевского достоинства и умением держать себя. Он был скорее политик, чем воин. Он не принял бы участия по собственному желанию в этом крестовом походе, но дух времени был заразителен. Кроме того, поход этот был навязан ему церковью и единодушным желанием его приближенных. При других обстоятельствах или в менее суровую эпоху он мог бы снискать большее уважение, чем смелый Ричард Львиное Сердце. Но в крестовом походе, этом безрассудном начинании, здравый смысл ставился ниже всех других душевных качеств, а рыцарская доблесть — качество, столь обычное в ту эпоху и столь необходимое для этого похода, считалась обесцененной, если только к ней примешивалась малейшая осторожность. Таким образом, характер Филиппа в сравнении с характером его высокомерного соперника, казалось, походил на яркое, но маленькое пламя светильника, поставленного рядом с ослепительным пламенем огромного факела: он, вдвое менее полезный по сравнению с первым, производит в десять раз больше впечатления на глаз. Филипп чувствовал, что общественное мнение относится к нему менее благосклонно, и это причиняло ему, как гордому монарху, известную боль. Неудивительно, что он пользовался всяким удобным предлогом, чтобы выставить собственную репутацию в более выгодном свете по сравнению со своим соперником. В данном случае как раз можно было ожидать, что осторожность и спокойствие могли бы одержать верх над упорством и стремительностью.
— Что означает сей недостойный спор между братьями по оружию — его величеством королем Англии и герцогом австрийским Леопольдом? Возможно ли, что вожди и столпы этого священного похода…
— Перемирие при твоем посредничестве, Франция? — сказал взбешенный Ричард, видя, что он очутился на одном уровне с Леопольдом, и не зная, как выразить свое негодование. — Этот герцог, или принц, или столп, как вы его называете, оскорбил меня, и я его наказал — вот и все. Вот отчего тут суматоха — ведь дают же собаке пинка?!
— Ваше величество, — сказал эрцгерцог, — я взываю к вам и к каждому владетельному принцу по поводу отвратительного бесчестия, которому я подвергся: король Англии оскорбил мое знамя. Он разорвал его в клочья и растоптал.
— Он осмелился водрузить его рядом с моим, — возразил Ричард.
— Мне это позволили мой титул и положение, равное твоему, — сказал эрцгерцог, ободренный присутствием Филиппа.
— Доказывай и защищай свои права, как хочешь, — сказал Ричард. — Клянусь святым Георгием, я поступлю с тобой так же, как я поступил с твоим расшитым платком, достойным самого низкого употребления.
— Немного терпения, мой английский брат, — сказал Филипп, — и я докажу австрийскому герцогу, что он неправ. Не подумайте, благородный эрцгерцог, — продолжал он, — что, позволяя английскому знамени занимать преобладающее место в стане, мы, независимые монархи, участвующие в крестовом походе, признаем какое-то превосходство за королем Ричардом. Неправильно было бы так думать, потому что даже орифламма, великое знамя Франции, по отношению к которой сам король Ричард со своими французскими владениями является вассалом, занимает второстепенное место, ниже, чем британские львы. Но, как поклялись давшие обет братья по кресту, как воины-паломники, оставившие в стороне пышность и тщеславие этого мира, мы своими мечами прокладываем путь ко гробу господню. Поэтому я сам, а также и другие монархи, из уважения к славе и великим подвигам короля Ричарда уступили ему это первенство, которого в другой стране и при других условиях мы бы ему не предоставили. Я уверен, что его величество эрцгерцог австрийский признает это и выразит сожаление, что водрузил свое знамя на этом месте, а его величество король Англии даст удовлетворение за нанесенное оскорбление.
Рассказчик и шут отошли в более безопасное место, видя, что дело может дойти до драки, но вернулись, когда слова, их собственное оружие, опять вышли на первый план.
Знаток пословиц был в таком восторге от искусной речи Филиппа, что в избытке чувств потряс своим жезлом, забывая о присутствии столь знатных особ, и громко заявил, что сам он никогда в жизни не изрекал более мудрых слов.
— Может быть, это и так, — прошептал Йонас Шванкер, — но если ты будешь говорить так громко, нас высекут.
Эрцгерцог угрюмо ответил, что он перенесет этот спор на рассмотрение Генерального совета крестоносцев. Филипп горячо одобрил его решение: оно позволило ему покончить со скандалом, столь порочащим христианский мир.
Ричард, сохраняя все тот же небрежный вид, слушал Филиппа до тех пор, пока не иссякло его красноречие, и затем громко сказал:
— Меня клонит ко сну: лихорадка еще не прошла. Мой французский собрат! Ты знаешь мой нрав, я не мастер говорить. Так знай же, что я не доведу дело, задевающее честь Англии, ни до папы, ни до совета. Здесь стоит мое знамя — безразлично, какой бы стяг ни был поставлен рядом с ним хоть в трех дюймах — будь то даже орифламма, о которой вы, кажется, говорили, — с каждым будет поступлено как с этой грязной тряпкой. Я не соглашусь ни на какое другое удовлетворение, кроме того, какое может дать мое бренное тело любому храброму вызову, будь то против пяти, а не только одного противника.
— Ну уж это такая глупость, — шепотом сказал шут своему приятелю, — как будто я сам ее ляпнул. Мне кажется, что тут дело не обойдется без другого глупца, еще более глупого, чем Ричард.
— А кто бы это мог быть? — спросил мудрец.
— Филипп, — сказал шут, — или наш собственный эрцгерцог, если оба они примут вызов. Не правда ли, мудрейший мой рассказчик, какие отличные короли вышли бы из нас с тобой, поскольку те, на которых свалились эти короны, столь великолепно и не хуже пас самих разыгрывают роли шутов и вещателей мудрых мыслей.
Пока эти почтенные особы переговаривались в сторонке, Филипп спокойно ответил на оскорбительный вызов Ричарда:
— Я пришел сюда не для того, чтобы возбуждать новые ссоры, противные данному обету и тому святому делу, которому мы служим. Я расстаюсь с моим английским другом по-братски, а схватка между британским львом и французской лилией может заключаться лишь в одном: кто смелее и глубже вторгнется в ряды неверных.
— По рукам, мой королевский собрат, — сказал Ричард, протягивая руку с той искренностью, которая была свойственна его резкому, но благородному характеру, — и, может быть, скоро нам представится случай испытать это смелое братское предложение.
— Пусть благородный эрцгерцог тоже разделит рукопожатие, каким мы обменялись в эту счастливую минуту, — сказал Филипп.
Эрцгерцог приблизился с недовольным видом, не выражая особенного желания примкнуть к этому соглашению.
— Я не могу полагаться на дураков и на их выходки, — небрежно проронил Ричард.
Эрцгерцог, повернувшись, сошел с холма. Ричард посмотрел ему вслед.
— Существует особая храбрость — храбрость светлячков, — сказал он, — которая проявляется только ночью. В темноте я не могу оставить это знамя без охраны: днем уже один вид львов будет защищать его. Слушай, Томас Гилсленд: тебе я поручаю охрану знамени: будь на страже чести Англии.
— Ее безопасность мне еще дороже, — сказал де Во, — а безопасность Англии — это жизнь Ричарда. Я должен просить ваше величество вернуться в шатер, и притом немедленно.
— Ты — строгая и властная нянька, де Во, — сказал король, улыбнувшись, и добавил, обращаясь к Кеннету: — Храбрый шотландец, я в долгу у тебя и щедро расплачусь. Вот здесь стоит знамя Англии! Карауль его, как новичок караулит свои доспехи в ночь перед посвящением в рыцари. Не отходи от него дальше, чем на расстояние трех копий, и защищай своим телом от нападения и оскорблений. Труби в рог, если на тебя нападут больше трех сразу. Готов ли ты выполнить это поручение?
— С радостью, — сказал Кеннет, — ручаюсь своей головой. Я только возьму оружие и сейчас же вернусь.
Король Англии и король Франции церемонно простились друг с другом, скрывая под личиной вежливости взаимное недовольство. Ричард был недоволен Филиппом за его непрошеное вмешательство в ссору между ним и Австрией, а Филипп был недоволен Львиным Сердцем за непочтительность, с которой было принято его посредничество. Те, кого этот переполох собрал вместе, разошлись в разные стороны, оставив оспариваемый холм в одиночестве, в коем он пребывал до выходки австрийца. Люди обменивались мыслями и судили о событии дня в зависимости от своих убеждений. Англичане обвиняли австрийца в том, что он первый затеял ссору, а представители других наций порицали высокомерие островитян и горделивость характера Ричарда.
— Вот видишь, — сказал маркиз Монсерратский гроссмейстеру ордена тамплиеров, — тонкая игра скорее приведет к цели, чем насилие. Я развязал узлы, которые скрепляли этот букет скипетров и копий. Скоро ты увидишь, как он разлетится в разные стороны.
— Я одобрил бы твой план, — сказал тамплиер, — если среди этих невозмутимых австрийцев нашелся бы хоть один храбрец, который разрубил бы своим мечом узлы, о которых ты говоришь. Развязанный узел можно затянуть опять, но с разрезанной веревкой уж ничего не сделаешь.
Глава XII
Да, женщина всех в мире соблазнит.
ГейВо времена рыцарства опасный пост или опасное поручение считались наградой, часто даваемой за военные доблести, вознаграждением за перенесенное испытание. Так, выбираясь из пропасти, смельчак одолевает утес лишь для того, чтобы карабкаться на другой, более крутой.
Была полночь, и луна плыла высоко в небе, когда шотландец Кеннет одиноким часовым стоял у знамени Англии на холме святого Георгия. Он должен был охранять эмблему этой нации от оскорблений, которые могли нанести ей те, кого гордыня Ричарда сделала его врагами. Много честолюбивых мыслей приходило в голову воина. Ему казалось, что он снискал благоволение монарха-рыцаря, который до того времени не выделял его среди толпы смельчаков, которых слава Ричарда объединила под его знаменами. Кеннет мало тревожился о том, что благосклонность короля выразилась в назначении его на такой опасный пост. Честолюбивые помыслы, преданность и любовь к знатной даме сердца подогревали его воинский пыл.
Как безнадежна ни была эта любовь при всяких обстоятельствах, все же только что происшедшие события немного уменьшили пропасть между ним и Эдит. Он, которого Ричард отличил, поручив караулить свое знамя, уже не был каким-то безвестным искателем приключений, но рыцарем, заслуживающим внимания принцессы, хотя расстояние, разделявшее их, было по-прежнему огромно. Теперь бесславная гибель не будет его уделом. Если на него нападут и он будет убит на посту, смерть его (он уверен, что она будет славной) заслужила бы похвалу и мщение Ричарда Львиное Сердце. Знатные красавицы английского двора будут сожалеть об этом и даже, может быть, поплачут. У него не было больше причин бояться, что он умрет какой-нибудь глупой смертью, как умирает придворный шут.
У Кеннета было достаточно времени, чтобы вволю предаться столь горделивым мечтам, вскормленным необузданным и отважным духом рыцарства, который в своих бурных и фантастических порывах был совершенно лишен эгоизма. Этот дух великодушия и преданности, быть может, был достоин порицания лишь за то, что ставил себе цели, несовместимые с несовершенством слабой человеческой натуры. Вся природа была скована сном. Лунный свет чередовался с тенями. Длинные ряды палаток и шатров, залитые лунным сиянием или погруженные в тень, были объяты тишиной; дороги между ними походили на улицы вымершего города. Около древка знамени лежал пес, о котором выше шла речь, единственный товарищ Кеннета на посту; он мог положиться на его чуткость, зная, что пес предупредит о приближении врага. Благородное животное как бы понимало, зачем его сюда привели. Пес изредка посматривал на широкие складки тяжелого знамени, а когда доносился далекий окрик часовых, охранявших лагерь, он отвечал им громким лаем, как бы давая понять, что и он достаточно бдителен. Изредка он опускал голову и вилял хвостом, когда его хозяин проходил мимо. А когда рыцарь останавливался, опираясь на копье, и молчал, устремив к небу задумчивый взгляд, ого верный помощник иногда решался, говоря словами песни, «его задумчивость нарушить» и вывести его из мечтательности, сунув длинный шершавый нос в руку, одетую в перчатку, как бы прося мимолетной ласки.
Так без всяких происшествий прошло два часа. Вдруг пес отчаянно залаял и кинулся туда, где лежала самая густая тень, но остановился, как бы ожидая указаний хозяина.
— Кто идет? — спросил Кеннет, видя, что кто-то ползком крадется по теневой стороне холма.
— Во имя Мерлина и Могиса, — отвечал хриплый, неприятный голос, — привяжите вашего четвероногого демона, чтобы я мог к вам подойти.
— Кто ты такой, и зачем тебе понадобилось подойти к моему посту? — сказал Кеннет, всматриваясь в фигуру, которую он заметил у подошвы холма, хоть и не мог ясно ее разглядеть. — Берегись, я здесь, чтобы защищать знамя не на жизнь, а на смерть.
— Уберите вашего зубастого сатану, — произнес голос, — или я ухлопаю его стрелой из арбалета.
В это время послышался звук пружины заряжаемого арбалета.
— Вынь стрелу из арбалета и выйди на лунный свет, — сказал шотландец, — не то, клянусь святым Андреем, я проткну тебя копьем, кто бы ты ни был!
С этими словами он взял копье наперевес и, устремив взор на фигуру, которая, казалось, двигалась вперед, стал размахивать им, как бы собираясь метнуть: иногда приходилось прибегать к этому способу, когда надо было поразить близкую цель. Но Кеннет устыдился своего намерения и положил оружие, когда заметил, что из тени вышло, как актер на сцену, какое-то крохотное дряхлое существо, в котором по уродству и фантастическому одеянию он даже на расстоянии узнал одного из двух карликов, которых видел в Энгаддийской часовне.
Припоминая другие видения той необыкновенной ночи, он дал знак своему псу, который тотчас же понял его и, вернувшись к знамени, улегся, глухо ворча.
Убедившись, что ей больше не грозит четвероногий враг, маленькая человеческая фигурка стала приближаться, карабкаясь и тяжело дыша: короткие ноги затрудняли подъем. Добравшись до вершины холма, карлик переложил самострел в левую руку. Это была игрушка, которой в то время детям позволяли стрелять по мелким птицам. Карлик, приняв должную позу, важно протянул правую руку Кеннету, полагая, что последний ответит ему на приветствие. Но видя, что ответа не последовало, он резким и недовольным тоном спросил:
— Воин, почему ты не оказываешь Нектабанусу почести, которую заслуживает его высокое положение? Или ты забыл его?
— Великий Нектабанус, — отвечал рыцарь, желая успокоить карлика, — всякому, кто хоть раз увидел тебя, трудно тебя забыть. Однако извини меня, что, как воин на посту с копьем в руке, я не позволил тебе подойти. Довольно того, что я оказываю почтение твоему высокому званию и смиренно подчиняюсь тебе, насколько это возможно в моем положении.
— Да, этого довольно, — сказал Нектабанус, — если ты сейчас отправишься со мной к тем, кто меня послал.
— Мой благородный сэр, — отвечал рыцарь, — я не могу доставить тебе и это удовольствие, ибо получил приказ оставаться у знамени до рассвета. Прости меня за неучтивость.
Сказав это, он вновь принялся ходить по площадке. Но карлик не отставал от него.
— Хорошенько подумай, — сказал он, преграждая Кеннету дорогу. — Или ты повинуешься мне, рыцарь, или я прикажу тебе именем той, чья красота могла бы привлечь духов из небесных сфер и чье величие могло бы повелевать ими, если бы они сошли на землю..
Дикая и невероятная догадка промелькнула в уме рыцаря, но он быстро ее отбросил. Невозможно, подумал он, чтобы его возлюбленная прислала ему этот приказ, да еще с таким посланцем. Однако его голос задрожал, когда он ответил:
— Скажи, Нектабанус, скажи мне как честный человек, было ли божественное создание, о котором ты говоришь, той гурией, вместе с которой, как я видел, ты подметал часовню в Энгадди?
— Самонадеянный рыцарь, — отвечал карлик, — ты думаешь, что та, кто владеет нашей царственной душой и разделяет наше величие, подобная нам по красоте, снизошла бы до того, чтобы дать приказание такому вассалу, как ты? Нет, какой бы высокой чести ты ни заслужил, ты еще недостоин внимания королевы Геневры, прекрасной невесты Артура, с высокого трона которой все принцы кажутся пигмеями. Но посмотри сюда: признаешь ли ты этот знак, подчинишься ли ты приказанию той, которая удостоила им тебя?
Сказав это, он положил на ладонь рыцаря рубиновое кольцо. Даже при лунном свете рыцарь без труда узнал его. Оно обычно украшало палец высокородной дамы, служению которой он себя посвятил. Если бы он усомнился в истине, его убедила бы алая ленточка, привязанная к кольцу. То был любимый цвет его дамы сердца; его он избрал и для своей одежды, цвет этот на турнирах и в сражениях нередко торжествовал над прочими.
Кеннет был ошеломлен, увидев кольцо в таких руках.
— Во имя всего святого, от кого ты получил это? — спросил он. — Приведи, если можешь, свои блуждающие мысли в порядок хоть на минуту. Зачем тебя послали? Хорошенько подумай, что ты говоришь: здесь не место для шутовства!
— Добрый и неразумный рыцарь, — сказал карлик, — тебе недостаточно знать, что ты осчастливлен, получив приказание от принцессы, переданное тебе через короля? Мы не желаем продолжать с тобой переговоры, но даем приказание именем известной тебе дамы и властью этого кольца следовать за нами к той, которая владеет им. Каждая минута промедления— это нарушение данной тобою клятвы.
— Дорогой Нектабанус, одумайся, — сказал рыцарь. — Может ли моя дама сердца знать, где я нахожусь и какую службу несу? Знает ли она, что моя жизнь, да что там жизнь — что честь моя зависит от того, удастся ли охранить знамя до рассвета. И может ли она желать, чтобы я оставил свой пост даже ради того, чтобы выказать ей уважение? Это невозможно: принцессе угодно было послать мне подобное приказание, чтобы подшутить над своим слугой, да еще выбрав такого посланца!
— Ну что ж, оставайся при своем мнении, — сказал Нектабанус, повернувшись и как бы намереваясь сойти с площадки, — мне все равно, будешь ты изменником или верным рыцарем этой царственной особы. Итак, прощай!
— Постой, постой! Умоляю тебя, останься! — воскликнул Кеннет. — Ответь лишь на один вопрос: близко ли отсюда та, кто послала тебя?
— Что это значит? — сказал карлик. — Неужели верность можно измерить футами и милями, словно путь бедного гонца, которому платят за каждую лигу? Ты мне не веришь, но все же я открою тебе, что прекрасная обладательница этого кольца, посланного недостойному вассалу, в коем нет ни правды, ни чести, находится там, куда долетит стрела, выпущенная из арбалета.
Рыцарь снова взглянул на кольцо, как бы желая убедиться в том, что его не обманули.
— Скажи мне, — обратился он к карлику, — надолго ли требуют меня туда?
— Время? — отвечал Нектабанус тем же небрежным тоном. — Что такое время? Я не вижу и не чувствую его: это призрак, дыхание, измеряемое ночью звоном колокола, а днем по тени солнечных часов-Знаешь ли ты, что для верного рыцаря время измеряется лишь его подвигами, какие он совершает во имя бога и своей дамы сердца?
— Это слова верные, но я слышу их из уст сумасшедшего, — сказал рыцарь. — Но правда ли, что моя дама сердца зовет меня для свершения подвига, ради ее спасения? И нельзя ли отложить это до рассвета?
— Она требует твоего присутствия немедленно, — сказал карлик, — она должна видеть тебя, прежде чем десять песчинок упадут в песочных часах. Слушай же, безрассудный и недоверчивый рыцарь, вот ее собственные слова: «Скажи ему, что рука, уронившая розы, может также награждать лавровым венком».
Это упоминание о встрече в Энгаддийской часовне воскресило в голове Кеннета целый рой воспоминаний и убедило его в том, что поручение, переданное карликом, действительно исходит от его дамы сердца. Лепестки роз, хоть и увядшие, хранились еще под его панцирем, близко к сердцу. Он медлил, не будучи в силах упустить этот, быть может, единственный случай обрести расположение той, кого он сделал повелительницей своих чувств. А карлик еще больше усугублял его смятение, требуя, чтобы он или вернул ему кольцо, или немедленно следовал за ним.
— Подожди, подожди еще мгновение, — сказал рыцарь. «Кто я, — подумал он, — подданный и раб короля Ричарда или свободный рыцарь, давший обет служить крестовому походу? Кого я пришел сюда защищать с копьем и мечом: наше святое дело или мою прекрасную даму сердца?»
— Кольцо, кольцо! — нетерпеливо кричал карлик. — Вероломный, нерадивый рыцарь, верни кольцо! Ты недостоин не только держать его в руках, но даже смотреть на него!
— Еще одно мгновение, мой храбрый Нектабанус, — сказал Кеннет. — Не мешай моим думам. А что, если в эту минуту сарацины задумают напасть на нас? Должен ли я оставаться здесь, как верный вассал Англии, охраняя от унижения гордость короля, или я должен буду броситься в бой и сражаться за крест? Да, конечно, в бой! А после нашего святого дела желания моей дамы сердца для меня на первом месте. А приказ Львиного Сердца и мое обещание? Нектабанус, еще раз заклинаю тебя, скажи мне, далеко ли ты поведешь меня?
— Вот к тому шатру, — сказал Нектабанус. — Луна отражается в золоченом шаре, венчающем крышу, и стоит он немало денег. За него можно даже короля выкупить из плена.
«Я могу вернуться сразу же, — подумал рыцарь, в отчаянии стараясь не думать о возможных последствиях. — Я услышу лай моего пса, если кто-нибудь подойдет к знамени. Я брошусь к ногам моей дамы сердца и попрошу ее отпустить меня, чтобы вернуться на свой пост». — Сюда, Росваль, — позвал он пса, бросая плащ к подножию знамени, — сторожи и никого не подпускай.
Умный пес посмотрел на своего хозяина, как бы стараясь лучше понять, в чем заключается его приказание. Потом он сел около плаща, поднял голову и насторожил уши, подобно часовому, словно понимая, зачем его здесь оставили.
— Теперь пойдем, мой храбрый Нектабанус, — сказал рыцарь, — поторопимся исполнить приказание, которое ты мне принес.
— Пусть торопится тот, кто хочет, — угрюмо сказал карлик, — ты не торопился, когда я тебя звал, да и я не могу идти так быстро, чтобы поспеть за твоими длинными ногами. Ты не ходишь по-человечески, а скачешь как страус по пустыне!
Было две возможности побороть упрямство Нектабануса, который во время разговора все замедлял свой шаг и полз как улитка. Для подкупа у сэра Кеннета не было денег, для уговоров не было времени. Поэтому, сгорая от нетерпения, он схватил карлика, поднял его и, не обращая внимания на его мольбы и испуг, быстро пошел к шатру, на который тот указал как на шатер королевы. Приближаясь к нему, шотландец увидел немногочисленную стражу; часовые сидели на земле около ближайших шатров. Опасаясь, что лязг доспехов мог бы привлечь их внимание, и уверенный, что его посещение надо хранить в тайне, он опустил на землю своего барахтающегося провожатого, чтобы тот мог перевести дух и сказать, что надо делать дальше. Нектабанус был перепуган и обозлен, он чувствовал себя в полной власти рыцаря, как сова в когтях орла, и решил не давать ему больше повода выказывать свою силу.
Поэтому, не жалуясь на дурное обращение, он, войдя в проход между палатками, молча повел рыцаря за шатер, который укрыл их от взоров караульных; те были слишком небрежны или слишком хотели спать, а потому не очень тщательно исполняли свой долг. Остановившись позади шатра, он приподнял холщовую завесу с земли и знаком указал Кеннету, чтобы тот ползком влез внутрь. Рыцарь колебался: ему казалось недостойным тайком пробираться в шатер, раскинутый, несомненно, для благородных дам. Но он вспомнил о кольце, которое показал ему карлик, и решил, что нечего спорить, если такова воля его дамы сердца.
Он нагнулся, вполз в отверстие и услышал, как карлик прошептал ему снаружи: «Оставайся там, пока я тебя не позову».
Глава XIII
Вы говорите: Радость и Невинность!
Запретный плод вкусив, они тотчас же
Навеки разлучились, и Коварство
С тех пор сопровождает всюду Радость,
С минуты самой первой, чуть дитя
Сомнет цветок иль бабочку играя,
И до последней злой усмешки скряги.
Когда на смертном ложе он узнает,
Что разорен сосед, и рассмеется.
Старинная пьесаКеннет на несколько минут остался один в полной темноте. Возникла еще одна заминка, которая грозила продлить его отсутствие с поста, и он уже начал раскаиваться, что с такой легкостью дал себя уговорить покинуть знамя. Но теперь и думать было нечего о том, чтобы уйти, не повидав леди Эдит. Он нарушил воинскую дисциплину и решил по крайней мере убедиться в реальности тех соблазнительных надежд, искушению которых он поддался. Положение было, однако, незавидное. Не было света, чтобы увидеть, в какое помещение его привели (леди Эдит была в свите королевы Англии); а если бы обнаружили, как он пробрался в шатер королевы, то это могло бы навести на подозрения. Пока он предавался горьким думам, уже помышляя, как бы скрыться незамеченным, он услыхал женские голоса. В соседнем помещении, от которого, судя по голосам, он был отделен только занавесом, слышны были смех, шепот и говор. Там были зажжены светильники, судя по слабому свету, проникавшему сквозь занавес, разделявший шатер на две части. Он мог различить тени людей — одни сидели, другие ходили. И вряд ли можно было обвинять Кеннета в том, что он подслушал разговор, так живо его заинтересовавший.
— Позови ее, позови ее, во имя пресвятой девы, — сказала одна из смеющихся невидимок. — Нектабанус, ты будешь назначен посланником при дворе Пресвитера Иоанна, чтобы показать, как мудро ты умеешь выполнять поручения.
Послышался хриплый голос карлика, но Кеннет не мог понять, что он говорил; он уловил только одно: карлик что-то сказал о веселящем напитке, преподнесенном страже.
— Но как нам избавиться, девушки, от духа, которого вызвал Нектабанус?
— Послушайте меня, ваше высочество, — сказал другой голос. — Если б мудрый и царственный Нектабанус не так ревновал бы свою прекрасную невесту и императрицу, можно было бы послать ее, чтобы она избавила нас от этого дерзкого странствующего рыцаря, которого так легко убедить, что высокопоставленные дамы нуждаются в его надменной доблести.
— Было бы справедливо, — ответил еще один голос, — если бы принцесса Геневра милостиво отпустила того, кого мудрость ее мужа сумела заманить сюда.
До глубины души возмущенный тем, что он услышал, Кеннет уже собирался было бежать из шатра, пренебрегая опасностью, когда его внимание вдруг привлек первый голос:
— Нет, в самом деле, наша кузина Эдит должна прежде всего узнать, как вел себя этот хваленый рыцарь, и мы должны представить ей возможность воочию убедиться, что он изменил своему долгу. Этот урок может пойти ей на пользу; поверь мне, Калиста, я иногда думаю, что она уже приблизила к себе этого северного искателя приключений больше, чем того допускает благоразумие.
Затем послышался другой голос, видимо превозносивший благоразумие и мудрость леди Эдит.
— Благоразумие? — послышался ответ. — Это просто гордость и желание казаться более недоступной, чем кто-либо из нас. Нет, я не уступлю. Вы хорошо знаете, что, когда мы провинимся, никто не укажет нам на наш промах так вежливо и так точно, как леди Эдит. Да вот и она сама.
На занавеси появился силуэт женщины, вошедшей в шатер, и он медленно скользил по полотну, пока не слился с другими силуэтами. Несмотря на разочарование, которое он испытал, несмотря на оскорбление, причиненное ему королевой Беренгарией по злому умыслу или просто для забавы (ибо он уже решил, что самый громкий голос, говоривший повелительным тоном, принадлежал жене Ричарда), рыцарь почувствовал облегчение, узнав, что Эдит не была соучастницей в обмане, жертвой которого он оказался. Его одолело любопытство и желание узнать, что будет дальше, и вместо того, чтобы поступить благоразумно и немедленно спастись бегством, он стал искать какую-нибудь щелку или скважину, чтобы видеть и слышать все.
«Уж конечно, — подумал он, — королева, которая ради забавы изволила подвергнуть опасности мою репутацию и, может быть, даже мою жизнь, не вправе жаловаться, если я воспользуюсь случаем, который посылает мне судьба, чтобы узнать о ее дальнейших намерениях».
Ему казалось, что Эдит ожидает приказания королевы. По-видимому, та не хотела говорить, боясь, что не сможет удержаться от смеха и рассмешит своих собеседниц. Кеннет мог только расслышать сдержанное хихиканье и веселые голоса.
— Ваше величество, — сказала наконец Эдит, — видимо в хорошем настроении, хотя, я думаю, близится время сна. Я уже собиралась ложиться, когда получила приказание прибыть в распоряжение вашего величества.
— Я не задержу тебя надолго, кузина, и не оторву от сна, — сказала королева, — хотя боюсь, что ты не скоро уснешь, если я скажу, что твое пари проиграно.
— О нет, ваше величество, — сказала Эдит, — это была шутка, о которой не стоит говорить. Я не держала пари, хоть вашему величеству и угодно было на этом настаивать.
— Однако, несмотря на наше паломничество, ты во власти сатаны, моя дорогая кузина, и он заставляет тебя лгать. Разве ты можешь отрицать, что побилась об заклад на свое рубиновое кольцо против моего золотого браслета, что этот рыцарь Леопарда, или как там его зовут, не покинет своего поста, несмотря ни на какие соблазны.
— Ваше величество слишком милостивы ко мне, чтобы я смела вам противоречить, — ответила Эдит, — но эти дамы, если захотят, могут засвидетельствовать, что вы, ваше величество, предложили такое пари и сняли кольцо с моего пальца, хотя я возражала, что не к лицу девушке давать в залог кольцо.
— Нет, но… леди Эдит, — сказал другой голос, — вы должны согласиться, что очень уверенно говорили о доблести рыцаря Леопарда.
— А если и так, — сказала сердито Эдит, — разве это повод к тому, чтобы льстить ее величеству? Я говорила об этом рыцаре так, как все другие, которые видели его в бою. Мне нет никакой выгоды в том, чтобы хвалить его, тебе — чтобы порочить его. О чем могут говорить женщины в лагере, как не о воинах и подвигах?
— Благородная леди Эдит, — сказал третий голос, — не может простить Калисте и мне, что мы рассказали вашему величеству, как она уронила два бутона роз в часовне.
— Если у вашего величества, — сказала Эдит тоном, в котором Кеннет уловил нотку почтительного упрека, — нет больше приказаний и мне остается только выслушивать шутки ваших приближенных, я очень прошу вашего разрешения удалиться.
— Помолчи, Флориза, — сказала королева, — не злоупотребляй нашей снисходительностью. Не забывай разницу между тобой и родственницей английского королевского дома. Но как вы, моя милая кузина, — продолжала она, переходя на прежний шутливый тон, — как вы, такая добрая, могли рассердиться на нас, бедных, за то, что мы несколько минут смеялись, когда столько дней было посвящено плачу и скрежету зубовному?
— Пусть велико будет ваше веселье, ваше величество, — сказала Эдит, — но я предпочла бы не улыбаться всю жизнь, чем…
Она не договорила, видимо из почтения, но Кеннет понял, что она была очень взволнована.
Беренгария принадлежала к Наваррской династии. Она отличалась беспечным, но добродушным характером.
— Но в чем же в конце концов обида? — спросила она. — Заманили сюда молодого рыцаря; он бросил— или его заставили бросить — свой пост, на который в его отсутствие никто не будет покушаться, бросил ради своей дамы сердца. Надо отдать справедливость твоему защитнику, милая, мудрый Нектабанус мог убедить его, только упомянув твое имя.
— Боже мой! Вы правду говорите, ваше величество? — сказала Эдит, и в ее голосе зазвучала тревога, непохожая на ее прежнее волнение. — Но вы не можете говорить так, не затрагивая вашей собственной чести и моей, родственницы вашего супруга. Скажите, что вы только пошутили, моя госпожа, и простите меня за то, что я на минуту приняла ваши слова всерьез.
— Леди Эдит, — сказала королева с оттенком недовольства в голосе, — сожалеет о кольце, которое мы у нее выиграли. Мы возвратим его вам, милая кузина, но, в свою очередь, вы не должны попрекать нас маленькой победой над вашей мудростью, которая столь часто осеняла нас, как знамя осеняет войско.
— Победой! — воскликнула Эдит, с негодованием. — Победу будут торжествовать неверные, когда узнают, что королева Англии может играть честью родственницы ее мужа.
— Вы сердитесь, милая кузина, что лишились своего любимого кольца, — сказала королева. — Ну что ж, если вы отказываетесь признать ваше пари, мы откажемся от наших прав. Ваше имя и этот залог привели его сюда; но на что нам приманка, когда рыба уже поймана.
— Госпожа, — с нетерпением ответила Эдит, — вам хорошо известно, что стоит вашей милости пожелать какую-нибудь из моих вещей, как она немедленно станет вашей. Но я отдала бы целый мешок рубинов, лишь бы моим кольцом и моим именем не пользовались, чтобы толкнуть доблестного рыцаря на преступление и, быть может, навлечь на него позор и наказание.
— О, мы опасаемся за жизнь нашего верного рыцаря, — сказала королева. — Вы недооцениваете нашу силу, милая кузина, когда говорите о жизни, погубленной ради нашей забавы. О леди Эдит, и другие имеют влияние на сердца закованных в латы воинов так же, как и вы: даже сердце льва создано из плоти, а не из камня. И верьте мне, я имею достаточно влияния на Ричарда, чтобы спасти этого рыцаря, верность которого так глубоко затрагивает леди Эдит, от наказания за ослушание королевскому приказу.
— Заклинаю вас святым крестом, ваше величество, — сказала Эдит (и Кеннет, охваченный самыми противоречивыми чувствами, услышал, как она упала к ногам королевы), — во имя нашей любви к святой деве и во имя каждого святого, записанного в святцах, не делайте этого! Вы не знаете короля Ричарда (вы ведь недавно повенчаны с ним), ваше дыхание может скорее одолеть самый буйный западный ветер, чем ваши слова могут убедить моего царственного родственника простить воинское преступление. Ради бога, отпустите этого рыцаря, если правда, что вы заманили его сюда. Я готова покрыть себя позором, сказав, что это я пригласила его, если бы знала, что он вернулся туда, куда зовет его долг!
— Встань, встань, кузина, — сказала королева Беренгария, — уверяю тебя, что все устроится к лучшему. Поднимись, милая Эдит; я жалею о том, что сыграла шутку с рыцарем, к которому ты проявляешь столько внимания. Не ломай руки… Я готова поверить, что ты его не любишь, готова поверить чему угодно, лишь бы не видеть тебя такой несчастной. Говорю тебе — я возьму вину на себя перед королем Ричардом, защищая твоего честного северного друга, нет — доброго знакомого, раз ты не считаешь его другом. Не смотри на меня с укоризной. Мы прикажем Нектабанусу отвести этого рыцаря обратно на его пост. Мы сами при случае окажем ему милость, вознаградив его за это глупое приключение. Я думаю, он притаился в одном из соседних шатров.
— Клянусь своей короной из лилий и скипетром из лучшего тростника, — сказал Нектабанус, — ваше величество ошибаетесь, он ближе, чем вы думаете: он спрятан там, за занавесом.
— И он слышал каждое наше слово! — с удивлением воскликнула королева. — Сгинь, злое, безумное чудовище!
Как только она произнесла эти слова, Нектабанус выбежал из шатра с таким воем, что невозможно было понять, ограничилась ли Беренгария этим восклицанием или как-то более резко выразила свое возмущение.
— Что же теперь делать? — растерянно прошептала королева, обращаясь к Эдит.
— То, что подобает, — твердо ответила Эдит. — Мы должны увидеть этого рыцаря и попросить у него прощения.
С этими словами она начала быстро отвязывать занавес, закрывавший вход в другую половину шатра.
— Ради бога… не надо… Подумай, что ты делаешь, — сказала королева, — в моем шатре… в таком наряде… в этот час… моя честь…
Но прежде, чем она закончила свои увещания, занавес упал, и вооруженный рыцарь предстал перед взорами придворных дам. В эту жаркую восточную ночь королева и ее приближенные были в более легких одеяниях, чем того требовало их положение в присутствии рыцаря. Вспомнив об этом, королева вскрикнула и выбежала в другую часть шатра, которую ничто уже не скрывало от взоров Кеннета. Охваченная скорбью и волнением, а также желанием скорее объясниться с шотландским рыцарем, леди Эдит, вероятно, забыла, что локоны ее были растрепаны, да и одета она была легче, чем того требовал этикет от высокопоставленных дам в тот далекий, не столь уж щепетильный и жеманный век. На ней было свободное платье из легкого розового шелка, восточные туфли, второпях надетые на босые ноги, и шаль, небрежно накинутая на плечи. Волна растрепанных волос почти скрывала от взоров ее раскрасневшееся от возбуждения лицо, врожденная скромность боролась в ней с нетерпеливым желанием увидеть рыцаря.
Хотя Эдит понимала свое положение и отличалась большой деликатностью (лучшим украшением прекрасного пола), заметно было, что она жертвует стыдливостью, чтобы исполнить свой долг в отношении того, кто ради нее совершил преступление. Она плотнее укутала шею и грудь шалью и поспешно отставила в сторону светильник, слишком ярко озарявший ее. Кеннет продолжал неподвижно стоять там, где он был обнаружен, но она не отступила, а сделала несколько шагов вперед и произнесла:
— Скорее вернитесь на ваш пост, храбрый рыцарь! Вас обманом заманили сюда! Не спрашивайте меня ни о чем!
— Мне нечего спрашивать, — сказал рыцарь, опускаясь на одно колено с выражением слепой преданности святого, молящегося перед алтарем, и опустив глаза, чтобы взглядом не усилить смущение дамы его сердца.
— Вы всё слышали? — нетерпеливо сказала Эдит. — Ради всех святых! Что же вы медлите — каждая минута усугубляет ваш позор!
— Я знаю, что покрыл себя позором, и я узнал это от вас, — отвечал Кеннет. — Мне все равно, когда меня постигнет кара. Исполните лишь одну мою просьбу, а потом я постараюсь смыть свой позор кровью в бою с неверными.
— Не делайте этого, — сказала дама его сердца. — Будьте благоразумны, не мешкайте здесь: все еще может уладиться, если вы поторопитесь.
— Я жду только вашего прощения, — сказал рыцарь, все еще коленопреклоненный, — за мое самомнение, за то, что я поверил, будто мои услуги могут понадобиться вам.
— Я прощаю вас! О, мне нечего прощать! Ведь я была причиной вашего позора. Но — уходите! Я прощаю вас и ценю вас… как каждого храброго крестоносца, но — только уходите!
— Сначала возьмите обратно этот драгоценный, но роковой залог, — сказал рыцарь, протягивая кольцо Эдит, выражавшей явное нетерпение.
— О нет, нет! — сказала она, отказываясь взять его. — Сохраните его, сохраните как знак моих чувств… то есть моего раскаяния. А теперь уходите, если не ради себя, то ради меня!
Почти полностью вознагражденный за утраченную честь, о чем ясно говорил ее голос, проявлением внимания, которое она оказала, заботясь о его спасении, Кеннет поднялся с колена, бросив беглый взгляд на Эдит, отвесил низкий поклон и, казалось, собирался уйти. В этот момент девичья стыдливость, уступившая раньше более сильным чувствам, вновь пробудилась в ней; она погасила светильник и поспешила покинуть шатер, оставив Кеннета в полном мраке наедине со своими мыслями.
«Я должен подчиниться ей», — эта первая ясная мысль разбудила его от грез, и он кинулся к тому месту, откуда проник в шатер. Чтобы выйти тем же путем, как он вошел, требовалось время и осторожность, и он прорезал своим кинжалом большое отверстие в стенке шатра. Выйдя на свежий воздух, он почувствовал, что одурманен, изнемогает от наплыва противоречивых чувств и еще не может отдать себе отчета во всем происшедшем. Мысль о том, что леди Эдит приказала ему спешить, заставила его ускорить шаги. Между веревками и шатрами он вынужден был двигаться с большой осторожностью, пока не достиг широкого прохода, откуда они с карликом свернули в сторону, чтобы не быть замеченными стражей, охранявшей шатер королевы. Ему приходилось идти очень медленно и с осторожностью, чтобы не упасть или не загреметь доспехами, что могло бы поднять тревогу в стане. Когда он выходил из шатра, легкое облако скрыло луну, и сэру Кеннету пришлось преодолеть также и это препятствие, в то время как голова его кружилась, сердце было полно всем пережитым, а рассудок отказывался подчиняться.
Вдруг он услышал звуки, сразу вернувшие ему самообладание. Сначала он услышал отчаянный, громкий лай, за которым последовал предсмертный вой. Ни один олень, услышавший лай Росваля, не делал такого дикого прыжка, с каким Кеннет кинулся на предсмертный крик благородного пса: при обыкновенной ране он не выдавал своих страданий даже жалобным взором. Быстро преодолев расстояние, отдалявшее его от прохода, Кеннет помчался к холму. Несмотря на свои доспехи, он бежал быстрее любого невооруженного человека. Не замедляя бега на крутом склоне, он в несколько минут оказался на верхней площадке.
В это время луна вышла из облаков. Он увидел, что знамя Англии исчезло, древко, на котором оно развевалось, валяется сломанным на земле, и около него лежит его верный пес, видимо уже в агонии.
Глава XIV
Честь, с юности лелеемая мною,
Хранимая и в старости, погибла.
Иссякла честь, и дно потока сухо,
И с визгом босоногие мальчишки
На дне иссохшем камешки сбирают.
«Дон Себастьян»Вихрь впечатлений ошеломил Кеннета. Его первой заботой было отыскать виновников похищения английского знамени, однако он не мог найти никаких следов. Второй заботой, которая может показаться странной лишь тому, для кого собака никогда не была близким другом, было осмотреть верного Росваля, как видно смертельно раненного на посту, который его хозяин покинул, поддавшись искушению. Он приласкал его; пес, преданный до конца, казалось забыл свою боль, довольный тем, что пришел его хозяин. Он продолжал вилять хвостом и лизать ему руку, даже когда, жалобно взвизгивая, давал понять, что агония усиливается. Попытки Кеннета вынуть из раны обломки стрелы или дротика, только увеличивали его страдания. Но Росваль после этого удвоил свои ласки: он, видимо, боялся оскорбить хозяина, показывая, что ему больно, когда бередят его рану. Столь трогательная привязанность пса еще больше усилила охватившее Кеннета сознание позора и одиночества. Он терял своего единственного друга именно тогда, когда навлек на себя презрение и ненависть окружающих. Сильный духом рыцарь не выдержал, его охватил припадок мучительного отчаянья, и он разразился громкими рыданиями.
Пока он предавался своему горю, он услышал ясный и звучный голос, похожий на голос муэдзина в мечети. Торжественным тоном он произнес на лингва-франка, доступном пониманию и христиан и сарацин, следующие слова:
— Несчастье похоже на время дождей: оно прохладно, безотрадно, недружелюбно как для людей, так и для животных. Однако в эту пору зарождаются цветы и плоды, финики, розы и гранаты.
Рыцарь Леопарда обернулся и узнал арабского лекаря. Последний, подойдя незамеченным, сел поджав ноги немного позади и с важностью, но не без оттенка сострадания произнес это утешительное изречение, заимствованное из корана и его комментаторов. Как известно, на Востоке мудрость выражается не в находчивости, а в памяти, благодаря которой можно вспомнить и удачно применить «то, что написано».
Стыдясь, что его застигли в момент такого чисто женского проявления скорби, Кеннет с негодованием утер слезы и опять обратился к своему умирающему любимцу.
— Поэт сказал, — продолжал араб, не обращая внимания на смущение рыцаря и его угрюмый вид: «Бык предназначен для поля, верблюд — для пустыни. Разве рука лекаря менее пригодна, чем рука воина, чтобы лечить раны, хотя рука его менее пригодна к тому, чтобы их наносить?»
— Этому страждущему, хаким, ты не можешь помочь, — сказал Кеннет, — да и, кроме того, он, по вашему поверью, — животное нечистое.
— Если аллах даровал животному жизнь, а равно и чувство боли и радости, — сказал лекарь, — было бы греховной гордостью, если бы тот мудрец, которого он просветил, отказался продолжить существование или облегчить страдания этого существа. Для мудреца нет разницы, лечить ли какого-нибудь жалкого конюха, несчастного пса или победоносного монарха. Позволь мне осмотреть раненое животное.
Кеннет молча согласился; лекарь осмотрел рану Росваля с такой же заботой и вниманием, как если бы это было человеческое существо. Затем он достал ящик с инструментами, опытной рукой, действуя пинцетом, вынул осколки стрелы из раненого плеча и вяжущими средствами и бинтами остановил кровотечение. Пес терпеливо позволял ему выполнять все это, как бы понимая его добрые намерения.
— Это животное можно вылечить, — сказал эль-хаким, обращаясь к Кеннету. — Позволь мне перенести его в мой шатер и лечить с той заботой, которой заслуживает его благородная порода. Знай, что твой слуга Адонбек умеет ценить родословные собак и благородных коней и разбирается в них не хуже, чем в болезнях людей.
— Возьми его с собой, — сказал рыцарь, — я охотно дарю тебе его, если он поправится. Я у тебя в долгу за то, что ты выходил моего оруженосца; мне нечем больше тебя отблагодарить. Я никогда уже не буду трубить в рог и травить борзыми диких зверей.
Араб ничего не ответил, но хлопнул в ладоши; тотчас показались два смуглых раба. Он отдал им приказание на арабском языке и получил ответ: «Слышать— это исполнять». Подняв раненого пса, они понесли его, и хотя глаза его были устремлены на хозяина, он был слишком слаб, чтобы сопротивляться.
— Прощай, Росваль, — сказал Кеннет, — прости, мой последний и единственный друг. Ты слишком благороден, чтобы оставаться у такого, как я.
— Как бы я хотел, — воскликнул он, когда рабы удалились, — оказаться на месте этого благородного животного и умереть как он!
— Написано, — сказал араб, хотя эти слова не были обращены к нему, — что все твари созданы, чтобы служить людям. Повелитель земли говорит как безумец, желая отказаться от своих надежд здесь и на небе и унизиться до ничтожной твари.
— Пес, который умирает, выполняя свой долг, — строго сказал рыцарь, — лучше человека, который остается жить, изменив своему долгу. Оставь меня, хаким. Тебе доступны тайны самой чудесной науки, какой когда-либо обладал человек, но рана душевная — вне твоей власти.
— Но я мог бы помочь, если страждущий пожелает объяснить, в чем заключается его недуг, и захочет получить совет от лекаря, — сказал Адонбек эль-хаким.
— Так знай же, — сказал Кеннет, — если уж ты так настойчив, что прошлой ночью знамя Англии было водружено на этом холме… я был назначен его караулить… настает рассвет… вот лежит сломанное древко знамя похищено… а я еще жив.
— Как? — сказал хаким, окинув рыцаря испытующим взором. — Твой панцирь цел, на оружии нет следов крови, а между тем по тому, что о тебе говорят, трудно подумать, что ты вернулся после боя. Тебя заманили с поста… заманили черные очи, нежные ланиты одной из тех гурий, которым вы, назареяне, служите так усердно, как подобает служить аллаху. Эти создания из плоти и крови, подобные нам, достойны лишь земной любви. Я знаю, что это было так, ибо так всегда свершалось грехопадение со времен султана Адама.
— А если бы это было так, лекарь, — сказал Кеннет угрюмо, — какое лекарство можешь ты предложить?
— Знание — мать могущества, — ответил эль-хаким, — а доблесть дает силу. Слушай меня. Человек — не дерево, прикованное к одному месту на земле, и не бездушный коралл, вечно живущий на одной голой скале. В твоем священном писании написано: «Если тебя преследуют в одном городе, беги в другой». И мы, мусульмане, знаем, что Мухаммед, пророк аллаха, изгнанный из священного города Мекки, нашел пристанище у друзей в Медине.
— А мне что за дело до этого? — спросил шотландец.
— Очень даже большое, — ответил лекарь — И мудрец бежит от бури, которой он не может повелевать. Поэтому спеши и беги от мщения Ричарда под сень победоносного знамени Саладина.
— Итак, я могу скрыть свой позор, — с иронией сказал Кеннет, — в стане неверных, где само слово «позор» неизвестно? А может быть, мне стоит пойти и еще дальше? Не означает ли твой совет, что я должен надеть тюрбан? Мне остается только отступиться от своей веры, чтобы довершить бесчестие.
— Не богохульствуй, назареянин, — сурово ответил лекарь, — Саладин обращает в веру пророка лишь тех, кто сам уверует в правоту его заповедей. Открой глаза для истинного света, и великий султан, щедрость которого неограниченна, как и его могущество, может даровать тебе целое королевство. Оставайся слеп, если хочешь, и хотя ты будешь обречен на страдания в загробной жизни, здесь, на земле, Саладин сделает тебя богатым и счастливым. Не бойся. Твое чело будет увенчано тюрбаном, только если ты сам этого захочешь.
— Я хотел бы одного, — сказал рыцарь, — чтобы моя несчастная жизнь померкла с заходящим солнцем; так, вероятно, и случится.
— Но ты неразумен, назареянин, — сказал эль-хаким, — если отклоняешь это честное предложение; я имею большое влияние на Саладина, благодаря мне он окажет тебе большие милости. Послушай, сын мой: этот крестовый поход, как вы называете вашу безумную затею, похож на большой корабль, разбиваемый волнами. Ты сам ехал к могущественному султану, чтобы передать ему условия перемирия, предложенного королями и принцами, войско которых здесь собрано, и, быть может, сам не знал, в чем заключается твое поручение.
— Я этого не знал и знать не хочу, — нетерпеливо сказал рыцарь, — и какая мне польза в том, что я недавно был посланцем государей, когда до наступления ночи мой обесчещенный труп будет болтаться на виселице?
— Нет, говорю тебе, этого с тобой не может случиться, — сказал лекарь. — Все ищут расположений Саладина. Совет государей, созданный для борьбы с ним, сделал ему такие предложения мира, на которые при других условиях он с честью мог бы согласиться. Некоторые сделали ему предложения на собственный страх и риск, с тем чтобы увести свое войско из лагеря королей Франгистана и даже защищать знамя пророка. Но Саладин не будет брать на службу таких вероломных и корыстолюбивых изменников. Король королей будет вести переговоры с королем Львом. Саладин заключит мир только с Мелеком Риком. Он будет или вести с ним переговоры, или сражаться как с храбрым воином. С Ричардом он по своей воле согласится на такие условия, каких от него не могли бы добиться силой мечей всей Европы. Он разрешит свободное паломничество в Иерусалим и во все те места, которые составляют предметы поклонения назареян. Он готов даже поделить свою империю со своим братом Ричардом и разрешить содержать христианские гарнизоны в шести больших городах Палестины и один — в Иерусалиме, оставляя их под непосредственной командой военачальников Ричарда, который с его согласия будет носить титул короля — покровителя Палестины. Дальше, как тебе ни покажется странным и почти невероятным, знай, рыцарь, так как твоей чести я могу доверить даже эту, почти невероятную тайну: знай, это он намерен скрепить священным союзом единение храбрейших и благороднейших владык Франгистана и Азии, сделав своей супругой христианскую девушку — родственницу короля Ричарда, известную под именем леди Эдит Плантагенет.[18]
— Не может быть! — воскликнул Кеннет, который равнодушно слушал первую часть речи эль-хакима, последние же слова задели его за живое. Он вздрогнул, как будто чья-то рука прикоснулась к его обнаженному нерву. Затем с большим усилием, умерив тон, он сдержал свое возмущение и, прикрываясь личиной подозрительного недоверия, продолжал этот разговор, чтобы получить как можно больше сведений о заговоре, направленном, как ему казалось, против чести и счастья той, которую он любил с прежней силой несмотря на то, что страсть к ней погубила его надежды и честь.
— Но какой же христианин, — сказал он, стараясь сохранить спокойствие, — мог бы согласиться на такой противоестественный союз, как брак христианской девушки с неверным сарацином?
— Ты ослеплен своей верой, назареянин, — сказал хаким. — Разве ты не знаешь, что в Испании мусульманские принцы женятся на благородных назареянских девушках, не вызывая негодования ни у мавров, ни у христиан? А благородный султан, в полной мере доверяя чести рода Ричарда, предоставит английской девушке ту свободу, какую ваши франкские обычаи предоставляют женщинам. Он позволит ей свободно исповедовать свою веру (ведь, по правде сказать, безразлично, к какой вере принадлежат женщины), и он так высоко вознесет ее над всеми женами своего гарема, что она будет его единственной женой и полновластной королевой.
— Как? — воскликнул Кеннет. — И ты смеешь думать, мусульманин, что Ричард позволит своей родственнице, высокородной добродетельной принцессе, стать в лучшем случае первой наложницей в гареме неверного? Знай, хаким, что самый ничтожный из свободнорожденных христиан отверг бы всю эту роскошь, купленную ценой бесчестья его дочери.
— Ты ошибаешься, — сказал хаким. — Филипп Французский и Генрих Шампанский, а также другие главные союзники Ричарда нисколько не удивились, узнав об этом предложении, и обещали по мере сил содействовать этому союзу, который мог бы привести к окончанию разорительных войн, а мудрый архиепископ Тирский взялся сообщить об этом предложении Ричарду, не сомневаясь, что он доведет этот план до благоприятного конца. Мудрый султан до сих пор держал свое предложение в тайне от других, как, например, от маркиза Монсерратского и гроссмейстера ордена тамплиеров, потому что знал, что им не дорога жизнь и честь Ричарда и что они хотели бы поживиться на его смерти и позоре. Поэтому, рыцарь, на коня! Я дам тебе грамоту, которая возвеличит тебя в глазах султана. И не думай, что ты навсегда покидаешь свою страну и веру, за которую она сражается, — ведь интересы обоих монархов скоро станут общими. Твои советы очень пригодятся Саладину, ибо ты сможешь подробно рассказать ему о браке у христиан, о том, как они обращаются с женщинами, об их законах и обычаях, которые во время обсуждения вопросов о мире ему полезно было бы знать. Правая рука султана владеет сокровищами Востока, она источник щедрости. И, если ты захочешь, Саладину, заключившему союз с Англией, не трудно будет добиться от Ричарда твоего прощения и вернуть тебе его благосклонность. И он предоставит тебе почетный пост полководца в войсках, которые могут быть оставлены в распоряжении короля Англии для совместного управления Палестиной. Итак — на коня! Перед тобой широкая дорога.
— Хаким! — сказал шотландский рыцарь. — Ты хороший человек; ты спас жизнь Ричарду, королю Англии, и, кроме того, моему бедному оруженосцу Страукану. Только поэтому я до конца дослушал твой рассказ и предложение. Если бы оно было сделано другим мусульманином, а не тобой, я бы покончил с ним ударом кинжала. Хаким, платя добром за добро, я советую тебе позаботиться о том, чтобы тот сарацин, который предложит Ричарду союз между кровыо Плантагенетов и его проклятой расой, надел бы такой шлем, который мог бы защитить его от ударов боевого топора, подобного тому, какой снес ворота Аккры, иначе ему не поможет даже твое искусство.
— Значит, ты окончательно решил не искать убежища в войске сарацин? — спросил лекарь. — Но помни, что ты остаешься здесь на верную гибель, а твой закон, как и наш, запрещает человеку вторгаться в святилище его собственной жизни.
— Сохрани боже! — сказал шотландец, перекрестившись. — Но нам так же запрещено избегать кары, которую заслужили наши преступления. И поскольку твои понятия о верности долгу настолько скудны, я начинаю жалеть, что подарил тебе своего пса: если он выживет, у него будет хозяин, ничего не смыслящий в его достоинствах.
— Подарок, о котором пожалели, должен быть возвращен обратно, — сказал эль-хаким. — Но мы, лекари, даем обет не отсылать от себя неисцеленного больного. Если пес выживет, он опять будет твоим.
— Послушай, хаким, — отвечал Кеннет, — люди не рассуждают о соколе или о борзой, когда лишь час рассвета отделяет их от смерти. Оставь меня, чтобы я подумал о своих грехах и примирился с небом.
— Оставляю тебя с твоим упрямством, — сказал лекарь. — Туман застилает пропасть от тех, кому суждено в нее упасть.
Он стал медленно удаляться, время от времени оборачиваясь, чтобы посмотреть, не позовет ли его рыцарь, крикнув или махнув рукой. Наконец его фигура в тюрбане затерялась в лабиринте раскинутых внизу шатров, белеющих в предрассветных сумерках, заставивших поблекнуть лунный свет.
Хоть слова лекаря Адоибека и не произвели того впечатления, на которое рассчитывал мудрец, они зажгли в душе шотландца желание жить, сохранить жизнь, которую он считал обесчещенной: она казалась ему запачканной одеждой, которую он не сможет больше носить. Он восстановил в памяти все, что произошло между ним и отшельником, и что он наблюдал между отшельником и Шееркофом (или Ильдеримом), стараясь также найти подтверждение того, что хаким рассказывал ему о секретном пункте мирного договора.
«Обманщик в одежде монаха, — воскликнул он про себя, — старый лицемер! Он говорил о неверующем муже, обращенном к истине своей верующей женой. А что я знаю? Только, может быть, то, что изменник этот показывал проклятому сарацину прелести Эдит Плантагенет, чтобы эта собака могла судить, подходит ли царственная христианская леди для гарема этого басурмана. Если бы я мог опять схватиться с этим неверным Ильдеримом или как его там зовут и держать покрепче, чем борзая держит зайца! Уж ему-то, во всяком случае, никогда не пришлось бы выполнять поручение, позорящее христианского короля или благородную добродетельною девушку. А я… Ведь мои часы быстро превращаются в минуты… Но пока я жив и еще дышу, надо что-то сделать, и как можно скорее».
Немного поразмыслив, он швырнул прочь свой шлем и зашагал вниз с холма, направляясь к шатру короля Ричарда.
Глава XV
Певец пернатый Шантеклер
Уж затрубил в свой рог.
«Вставай, — сказал он, —
селянин,
Уж заалел восток»
Король Эдвард открыл глаза,
Увидел этот свет.
На кровле ворон возвестил
Начало страшных бед
«Ты прав, — сказал король, —
клянусь
Создавшим эту твердь,
Что Болдуин и те, кто с ним,
Сегодня встретят смерть»
ЧаттертонВ тот вечер, когда Кеннет занял свой пост, Ричард после бурных событий, нарушивших его покой, отправился отдохнуть, воодушевленный сознанием своей безграничной храбрости и превосходства, проявленных при достижении своей дели в присутствии всего христианского воинства и его вождей. Он знал, что в глубине души многие из них воспринимали посрамление австрийского герцога как победу над ними самими. Таким образом, его гордость была удовлетворена сознанием того, что, повергая ниц одного врага, он унизил целую сотню.
Другой монарх на его месте после такой сцены в тот вечер удвоил бы стражу и оставил в карауле хоть часть своих войск. Но Львиное Сердце распустил даже свой личный караул и оделил стражу лишней порцией вина, чтобы они выпили за его выздоровление и за знамя святого Георгия. Его часть лагеря совсем потеряла бы воинский вид, если бы Томас де Во и герцог Солсбери вместе с другими военачальниками не приняли меры к наведению порядка и дисциплины среди гуляк.
Лекарь остался у короля далеко за полночь и дважды давал ему лекарство, зорко наблюдая за положением луны: по его словам, она могла оказать либо пагубное, либо благотворное влияние на действие снадобья. Около трех часов ночи эль-хаким вышел из королевского шатра и направился к предназначенному для него самого и его свиты шатру. По дороге он заглянул в шатер Кеннета, чтобы навестить своего первого пациента в христианском лагере, старого Страукана. Осведомившись о Кеннете, эль-хаким узнал, на какой пост он был назначен. По-видимому, это известие и привело его к холму святого Георгия, где он нашел его в бедственном положении, о чем было рассказано в предыдущей главе.
Перед восходом солнца послышались тяжелые шаги вооруженного воина, приближавшегося к королевскому шатру. Прежде чем де Во, спавший у постели своего господина чутким сном сторожевого пса, успел вскочить и окликнуть «Кто идет?», рыцарь Леопарда вошел в шатер. Его мужественное лицо выражало мрачную обреченность.
— Что за дерзкое вторжение, сэр? — сурово спросил де Во, понижая голос, чтобы не разбудить своего повелителя.
— Постой, де Во, — сказал Ричард, проснувшись. — Сэр Кеннет, как подобает воину, пришел с донесением о своем карауле: для таких шатер полководца всегда доступен. — Затем, приподнявшись и опираясь на локоть, он устремил на воина свои светлые глаза. — Говори, шотландец: ведь ты пришел доложить мне, как бдительно ты нес караульную службу на своем почетном посту. Шелест складок английского знамени достаточно надежная охрана и без столь доблестного рыцаря, каким ты слывешь.
— Никто больше не назовет меня доблестным, — сказал Кеннет. — Моя караульная служба не была ни бдительной, ни почетной… Знамя Англии похищено.
— И ты еще жив и сам говоришь мне об этом? — сказал Ричард тоном насмешливого недоверия. — Но это невозможно. На твоем лице нет ни одной царапины. Что ж ты молчишь? Говори правду: не подобает шутить с королем, но я все же прощу тебя, если это ложь!
— Ложь, ваше величество? — ответил несчастный рыцарь в отчаянии, и в его глазах сверкнул огонь, словно искра, высеченная из кремня. — Надо и это вытерпеть! Я сказал правду.
— Во имя неба и святого Георгия! — воскликнул король в бешенстве, которое, однако, сразу же подавил. — Де Во, пойди и осмотри это место. Лихорадка бросилась ему в голову, этого быть не может — доблесть рыцаря тому порукой. Не может быть! Иди скорее или пошли кого-нибудь, если сам не хочешь идти.
Короля прервал сэр Генри Невил. Он вбежал, запыхавшись, и объявил, что знамя исчезло, рыцаря, стоявшего на посту, видно, захватили врасплох и убили, ибо около сломанного древка была лужа крови.
— Но кого я здесь вижу? — сказал Невил, вдруг заметив Кеннета.
— Изменника, — сказал король, вскочив и хватая небольшой топорик, всегда находившийся около его постели. — Изменника, который, как ты сейчас увидишь, умрет смертью предателя. — И он замахнулся, чтобы ударить.
Бледный, но непоколебимый, как мраморная статуя, стоял перед ним шотландец с непокрытой головой, беззащитный, вперив глаза в землю и еле шевеля губами, словно шепча молитву. Против него на расстоянии сабельного удара стоял король Ричард. Его статная фигура была скрыта складками широкой холщовой рубахи, и от стремительного движения правое плечо, рука и часть груди обнажились, позволяя увидеть могучее тело, подобное тому, которому его саксонский предшественник был обязан прозвищем Железный Бок.
Мгновение он стоял, готовый нанести удар, но потом, опустив оружие, воскликнул:
— Невил, но ведь на том месте была кровь. Слушай, шотландец, ты был храбр, ибо я видел, как ты сражаешься. Говори. Ты прикончил двух воров, защищая знамя, или, может быть, одного? Скажи, что ты нанес хоть один хороший удар, защищая нашу честь, и ты можешь уйти из стана, сохранив свою жизнь и свой позор.
— Вы назвали меня лжецом, милорд, — твердо отвечал Кеннет, — но этого я не заслужил. Знайте же, что ни одной капли крови не было пролито для защиты знамени. Лишь бедный пес, более верный, чем его хозяин, пролил свою кровь, исполняя долг, которому изменил его господин.
— Святой Георгий! — воскликнул Ричард, опять замахиваясь на него.
Но де Во бросился между королем и его жертвой и произнес со свойственной ему прямотой:
— Милорд, только не здесь… и не от вашей руки. Довольно безрассудств за одну ночь. Вы сами доверили охрану вашего знамени шотландцу. Разве я не говорил, что они всегда были и честны и вероломны.[19]
— Верно, де Во, сознаюсь: ты был прав, — сказал Ричард. — Мне следовало бы лучше знать людей; я должен был помнить, как эта лиса Вильгельм обманул меня, когда надо было идти в крестовый поход.
— Милорд, — сказал Кеннет. — Вильгельм Шотландский никогда никого не обманывал, и лишь обстоятельства помешали ему привести свои войска.
— Молчи, презренный! — воскликнул король. — Ты пятнаешь имя государя уже одним тем, что произносишь его. И все же, де Во, — добавил он, — поведение этого человека непостижимо. Трус или изменник, но он не дрогнул и держался твердо под угрозой удара Ричарда Плантагенета, когда мы занесли руку над его плечом, чтобы испытать его рыцарскую доблесть. Если бы он выказал хоть малейший страх, если бы у него дрогнул хоть один мускул, если бы он моргнул хоть одним глазом, я размозжил бы его голову, как хрустальный кубок. Но моя рука бессильна там, где нет ни страха, ни сопротивления.
Наступила пауза.
— Милорд… — начал Кеннет.
— Ага, — ответил Ричард, прервав его. — Ты вновь обрел дар речи? Проси помилования у небес, но не у меня: ведь по твоей вине обесчещена Англия: и будь ты даже моим единственным братом, твоему преступлению не было бы прощения.
— Я не хочу просить милости у смертного, — сказал шотландец. — От вашей милости зависит дать или не дать мне время для покаяния. Если человек в этом отказывает, пусть бог дарует мне отпущение грехов, которое я не могу получить у церкви. Но умру ли я теперь или через полчаса, я умоляю вашу милость дать мне возможность рассказать о том, что близко касается вашей славы как христианского короля.
— Говори, — сказал король, не сомневаясь, что услышит какие-то признания об исчезновении знамени.
— То, что я должен сообщить, — сказал Кеннет, — затрагивает королевское достоинство Англии и может быть доверено только вам одному.
— Выйдите, господа, — сказал король, — обращаясь к Невилу и де Во.
Первый подчинился, но второй не пожелал покинуть короля.
— Если вы сказали, что я прав, — ответил де Во, — я хочу, чтобы со мной и поступали так, как с человеком, который признан правым. Я хочу поступить по-своему. Я не оставлю вас наедине с этим вероломным шотландцем.
— Как, де Во, — гневно возразил Ричард, топнув ногой, — ты боишься оставить меня наедине с предателем?
— Напрасно вы хмурите брови и топаете ногой, государь, — сказал де Во, — не могу я оставить больного наедине со здоровым, безоружного — наедине с вооруженным.
— Ну что же, — сказал шотландец. — Я не ищу предлогов для промедления: я буду говорить в присутствии лорда Гилсленда. Он честный рыцарь.
— Но ведь полчаса назад, — сказал де Во с глубоким вздохом, в котором слышались сожаление и досада, — я то же самое мог бы сказать и о тебе.
— Вас окружает измена, король Англии, — продолжал Кеннет.
— Я думаю, ты прав, — ответил Ричард. — Передо мной яркий пример.
— Измена, которая ранит тебя глубже, чем потеря ста знамен в жаркой схватке. Леди… леди… — Кеннет запнулся и наконец продолжал, понизив голос: — леди Эдит…
— Ах, вот что, — сказал король, настороженно и пристально смотря в глаза предполагаемому преступнику. — Что с ней? При чем здесь она?
— Милорд, — сказал шотландец, — готовится заговор, чтобы опозорить ваш королевский род, выдав леди Эдит замуж за сарацина султана, и ценой этого союза, столь постыдного для Англии, купить мир, столь позорный для христианства.
Сообщение это произвело действие, совершенно противоположное тому, какого ожидал Кеннет. Ричард Плантагенет был одним из тех, кто, по словам Яго, «не стал бы служить богу только потому, что так ему приказал дьявол». Иной совет или известие оказывали на него меньше влияния, чем характер и взгляды того, кто их передавал.
К несчастью, упоминание имени его родственницы напомнило королю о самонадеянном рыцаре Леопарда. Эта черта его характера не нравилась королю и тогда, когда имя Кеннета стояло одним из первых в списках рыцарей. В данную же минуту эта самонадеянность была оскорблением достаточным, чтобы привести вспыльчивого монарха в бешенство.
— Молчи, бесстыдный наглец, — сказал он. — Я велю вырвать твой язык раскаленными щипцами за то, что ты упоминаешь имя благородной христианской девушки. Знай, подлый изменник, что мне уже было известно, как высоко ты осмеливаешься поднимать глаза. Я снисходительно отнесся к этому, даже когда ты обманул нас — ведь ты обманщик и выдавал себя за родовитого воина. Устами, оскверненными признанием в собственном позоре, ты осмелился произнести имя нашей благородной родственницы, к судьбе которой ты проявляешь такой интерес. Не все ли тебе равно, выйдет она замуж за христианина или сарацина? И что тебе до того, если в стане, где принцы днем превращаются в трусов, а ночью — в воров, где смелые рыцари обращаются в жалких отступников и предателей, — какое дело тебе, говорю я, да и кому-нибудь другому, если мне угодно будет породниться с правдой и доблестью в лице Саладина?
— Поистине, мне нет дела до этого, мне, для которого весь мир скоро превратится в ничто, — смело отвечал Кеннет. — Но если бы меня сейчас подвергли пыткам, я сказал бы тебе, что то, о чем я говорил, много значит для твоей совести и чести. И скажу тебе, король, что если только у тебя есть мысль выдать замуж свою родственницу, леди Эдит…
— Не называй ее, забудь о ней на одно мгновение, — сказал король, опять схватив топор так, что мускулы его сильной руки напряглись и стали похожи на побеги плюща, обвившиеся вокруг дуба.
— Не называть ее, не думать о ней, — повторил Кеннет; его мысли, скованные унынием, вновь обрели гибкость в пылу спора. — Клянусь крестом, в который верю, ее имя будет последним моим словом, ее образ— моей последней мыслью. Испробуй свою хваленую силу на этой обнаженной голове, попробуй помешать моему желанию.
— Он с ума меня сведет! — вскричал Ричард. Неустрашимая решимость преступника вновь помешала королю привести в исполнение свое намерение.
Прежде чем Томас Гилсленд успел ответить, снаружи послышался какой-то шум, и королю доложили о прибытии королевы.
— Останови ее, останови ее, Невил! — закричал король. — Здесь не место женщинам. Ох и разгорячил же меня этот жалкий изменник! Уведи его, де Во, — шепнул он, — через задний выход: запри его, и ты отвечаешь за него своей головой. Он скоро должен умереть; приведи к нему духовника: мы ведь не убиваем душу вместе с телом. Карауль его: он не будет лишен чести, он умрет как рыцарь, при поясе и шпорах. Пусть измена его была черна, как ад, его храбрость не уступит самому дьяволу.
Де Во, видимо очень довольный, что Ричард не унизил своего королевского достоинства убийством беззащитного пленного, поспешил вывести Кеннета через потайной выход в другой шатер, где он был обезоружен и ему для безопасности надели кандалы. Де Во с мрачным вниманием наблюдал, как стражники, которым теперь был поручен Кеннет, принимали эти суровые меры предосторожности.
Когда они окончили свое дело, он с торжественным видом сказал несчастному преступнику:
— Королю Ричарду угодно, чтобы вы расстались с жизнью не разжалованным. Ваше тело не будет изувечено, ваше оружие не будет обесчещено, а вашу голову отсечет меч палача.
— Это очень благородно, — сказал рыцарь тихим, покорным голосом, как будто ему была оказана неожиданная милость. — Семья моя тогда не узнает всех этих ужасных подробностей. Ах, отец, отец…
Этот тихий призыв не ускользнул от внимания грубоватого, но добродушного англичанина, и он незаметно провел широкой ладонью по своему суровому лицу.
— Королю Англии Ричарду было также угодно, — промолвил он наконец, — разрешить вам беседу со святым отцом; по дороге я встретил монаха-кармелита, который может дать вам последнее напутствие. Он ожидает снаружи, покуда вы не склонны будете принять его.
— Уж лучше сейчас, — сказал рыцарь. — И здесь Ричард великодушен. Я хотел бы, чтобы он пришел сейчас, жизнь моя и я — мы распрощались, как два путника, дошедшие до перекрестка, где расходятся их дороги.
— Хорошо, — медленно и торжественно сказал де Во. — Мне остается сказать вам последнее слово: королю Ричарду угодно, чтобы вы приготовились к смерти немедленно.
— Да будет воля господа и короля, — покорно отвечал рыцарь, — я не оспариваю приговора и не хочу отсрочки.
Де Во направился к выходу. Он шел очень медленно, остановился у двери и обернулся. Было видно, что все мирские думы уже покинули шотландца и он предался молитве. Английский барон вообще не отличался чувствительностью, однако сейчас чувства сострадания и жалости овладели им с необычайной силой. Он торопливо вернулся к вороху тростника, на котором лежал узник, взял его за одну из связанных рук и со всей мягкостью, которую только был способен выразить его грубый голос, сказал:
— Сэр Кеннет, ты еще молод, но у тебя есть отец. Мой Ральф, которого я оставил на родине и который объезжает своего пони на берегах Иртинга, быть может доживет до твоих лет, и, если бы не вчерашняя ночь, я был бы счастлив видеть его таким же многообещающим юношей, как ты. Могу ли я что-нибудь сказать или сделать для тебя?
— Ничего, — был печальный ответ. — Я оставил свой пост; знамя, доверенное мне, исчезло. Как только палач и плаха будут готовы, моя голова расстанется с телом.
— Да хранит нас господь! — сказал де Во. — Лучше бы я сам стал на этот пост у знамени. Здесь есть какая-то тайна, мой юный друг, которую всякий чувствует, но в которую нельзя проникнуть. Трусость? Нет! Ты никогда не был трусом в бою. Измена? Не думаю, чтобы изменники умирали так спокойно. Ты был уведен с поста обманом, какой-то хорошо обдуманной военной хитростью; быть может, ты услышал крик несчастной девушки, зовущей на помощь, или задорный взгляд какой-то красотки пленил твой взор. Не стыдись: всех нас искушали такие приманки. Прошу тебя, чистосердечно поведай мне всё — не священнику, а мне. Ричард великодушен, когда пройдет его гнев. Тебе нечего мне доверить?
Злополучный рыцарь отвернулся от добродушного воина и отвечал:
— Нет.
Де Во, исчерпав все доводы убеждения, встал и, скрестив руки, вышел из шатра. Ему стало очень грустно. Он даже негодовал на себя за то, что такой пустяк, как смерть какого-то шотландца, он принимал так близко к сердцу.
«Все же, — сказал он себе, — хотя в Камберленде эти мошенники, неотесанные мужланы, — наши враги, в Палестине на них смотришь почти как на братьев».
Глава XVI
Не слушай, милый мой, вранья,
Пусть мелет вздор девчонка:
Болтлива милая твоя,
Как всякая бабенка.
ПесняВысокородная Беренгария, дочь Санчеса, короля Наваррского, и супруга доблестного Ричарда, считалась одной из самых красивых женщин того времени. Она была стройна и великолепно сложена. Природа наделила ее цветом лица, не часто встречающимся в ее стране, густыми русыми волосами и такими девически юными чертами лица, что она казалась несколькими годами моложе, чем была, хотя ей было не больше двадцати одного. Быть может, сознавая свою необычайную моложавость, она разыгрывала девочку с капризными выходками, видимо считая, что все окружающие должны потворствовать причудам столь юной супруги короля. По натуре она была очень добродушна, и если ей платили положенную дань восхищения и преклонения, трудно было бы найти человека более любезного и веселого. Но, как все деспоты, чем большей властью она пользовалась, тем большее влияние хотела иметь. Иной раз, когда все ее честолюбивые желания были удовлетворены, она притворялась нездоровой и подавленной. Тогда лекари начинали ломать себе голову, чтобы найти название ее выдуманным болезням, а придворные дамы напрягали воображение, изобретая новые забавы, новые прически и новые придворные сплетни, чтобы скрасить эти тягостные часы, ставившие их самих в незавидное положение.
Чаще всего они старались развлечь больную озорными проделками, зло подшучивая друг над другом, и, сказать по правде, когда к доброй королеве возвращалась ее жизнерадостность, она была совершенно равнодушна к тому, совместима ли эта забава с ее достоинством и соразмерно ли страдание, испытываемое жертвами этих шуток, с удовольствием, которое они ей доставляли. Она была уверена в благосклонности своего супруга и надеялась на свое высокое положение, полагая, что все неприятности, причиненные другим, можно легко загладить. Одним словом, она резвилась, как молодая львица, которая не отдает себе отчета, как тяжелы удары ее лап для того, с кем она играет.
Беренгария страстно любила своего мужа, но боялась его надменности и грубости. Чувствуя, что она не ровня ему по уму, она была недовольна тем, что он порою предпочитал беседовать с Эдит Плантагенет только потому, что находил больше удовольствия в разговоре с ней, больше понимания, больше благородства в ее складе ума и мыслях, чем в своей прекрасной супруге. Тем не менее Беренгария не питала к Эдит ненависти и не замышляла против нее зла. Несмотря на свою эгоистичность, она в общем была простодушна и великодушна. Но окружавшие ее придворные дамы, весьма проницательные в таких делах, с некоторых пор уяснили себе, что едкая шутка по адресу леди Эдит — лучшее средство, чтобы отогнать дурное настроение ее милости королевы английской, и это открытие облегчало работу их воображения. В этом все же было что-то неблагородное, поскольку леди Эдит, как говорили, была сиротой. Хоть ее звали Плантагенет или анжуйской красавицей и, по распоряжению Ричарда, она пользовалась привилегиями, предоставленными лишь королевской семье, где она занимала подобающее ей место, не многие знали (да и никто при английском дворе не решался об этом спрашивать), в какой степени родства находилась она со Львиным Сердцем. Приехала она вместе с Элеонорой, вдовствующей английской королевой, и присоединилась к Ричарду в Мессине в качестве одной из придворных дам Беренгарии, свадьба которой приближалась. Ричард оказывал своей родственнице глубокое почтение, королева постоянно держала ее при себе и даже, несмотря на легкую ревность, относилась к ней с подобающим уважением.
Долгое время придворные дамы не могли найти повод придраться к Эдит, если не говорить о тех случаях, когда они осуждали ее неизящно надетый головной убор или неподходящее платье: считали, что в этих тайнах она была менее сведуща. Молчаливая преданность шотландского рыцаря не прошла, однако, незамеченной. Его одежда, герб, его ратные подвиги, его девизы и эмблемы были предметами зоркого наблюдения, а иногда служили темой шуток. К этому времени относится паломничество королевы и ее приближенных в Энгаддийский монастырь — путешествие, которое королева предприняла, дав обет помолиться о здоровье своего мужа: на это также ее уговорил архиепископ Тирский, преследуя какие-то политические цели. Там, в часовне этого святого места, сообщавшейся с расположенным наверху кармелитским монастырем, а внизу — с кельей отшельника, одна из приближенных королевы заметила тайный знак, которым Эдит осчастливила своего возлюбленного; она не преминула сейчас же донести об этом королеве. Королева вернулась из своего паломничества с этим прекрасным средством против скуки и плохого настроения; свита ее в то же время пополнилась двумя жалкими карликами, полученными в подарок от развенчанной королевы Иерусалима. Их уродство и слабоумие (неотъемлемая принадлежность этой несчастной расы) могли бы стать забавой для любой королевы. Одна из шуток королевы Беренгарии заключалась в том, чтобы появлением этих страшных и причудливых созданий испытать храброго рыцаря, оставленного в одиночестве в часовне. Но шутка не удалась из-за хладнокровия шотландца и вмешательства отшельника. Тогда она решила испробовать другую, последствия которой обещали быть более серьезными.
Придворные дамы опять сошлись вместе после того, как Кеннет покинул шатер. Сначала королева не обращала внимания на упреки разгневанной Эдит. Она отвечала ей, укоряя в жеманности и изощряясь в остроумии по поводу одежды, предков и бедности рыцаря Леопарда: в словах ее слышались шутливое злорадство и юмор. В конце концов Эдит удалилась к себе, чтобы в одиночестве предаться своим грустным думам. Но когда утром одна из женщин, которой Эдит поручила разузнать о рыцаре, принесла весть о том, что знамя и его защитник исчезли, она бросилась на половину королевы, умоляя ее без промедления отправиться к королю и употребить все свое могущественное влияние, чтобы предотвратить роковые последствия ее шутки.
Королева, в свою очередь напуганная, по обыкновению старалась свалить вину за свое сумасбродство на приближенных и утешить Эдит, приводя самые нелепые доводы. Она была уверена, что не произошло ничего страшного, что рыцарь спит после ночного караула. Ну, а если даже, опасаясь недовольства короля, он убежал со знаменем, то ведь это только кусок шелка, а он — лишь бедный искатель приключений, и если он на время взят под стражу, она заставит короля простить его: надо лишь подождать, пока пройдет гнев Ричарда.
И она продолжала без устали нести подобную несусветную чепуху, тщетно думая убедить Эдит и себя, что из этой шутки не может выйти никакой беды; в глубине же души она горько раскаивалась. Но в то время как Эдит напрасно старалась остановить поток этой болтовни, она увидела одну из приближенных, входившую в ее шатер. Взор ее выражал смертельный ужас и испуг. При первом взгляде на ее лицо Эдит едва не упала в обморок, но суровая необходимость и благородство характера помогли ей хоть наружно сохранить спокойствие.
— Миледи, — сказала она королеве, — не теряйте времени, спасите жизнь… если только, — добавила она сдавленным голосом, — эту жизнь еще можно спасти.
— Можно, можно, — отвечала леди Калиста. — Я только что слышала, что его привели к королю: еще не все потеряно, но… — тут она разразилась горькими рыданиями, видимо опасаясь и за собственную судьбу, — скоро будет уже поздно, если только мы не попытаемся спасти его.
— Даю обет поставить золотую свечу перед гробом господним, серебряную раку Энгаддийской божьей матери, покров в сто безантов святому Фоме Ортезскому, — сказала королева в волнении.
— Скорее, скорее, миледи! — торопила Эдит. — Призывайте всех святых, если вам угодно, но лучше надейтесь на себя.
— Леди Эдит говорит правду, ваше величество! — воскликнула обезумевшая от страха Калиста. — Скорее в шатер короля и молите его о спасении жизни несчастного рыцаря!
— Иду, сейчас же иду, — сказала королева, вставая и дрожа всем телом.
Придворные дамы были в такой же растерянности и даже не могли помочь ей в утреннем туалете. Спокойная, но смертельно бледная, Эдит сама помогла королеве одеться и одна прислуживала ей, заменяя многочисленную свиту.
— Так-то вы прислуживаете мне, девушки, — сказала королева. Даже теперь она не могла забыть о мелочных предписаниях придворного этикета. — Вам не стыдно заставлять леди Эдит выполнять ваши обязанности? Видишь, Эдит, они ни на что не годны, никогда я не буду одета вовремя! Мы пошлем за архиепископом Тирским и попросим его быть посредником.
— Нет, нет! — воскликнула Эдит. — Идите сами. Вы совершили зло, вы его и исправляйте.
— Я пойду… я пойду, — сказала королева. — Но если Ричард в гневе, я не осмелюсь говорить с ним: он убьет меня!
— Не бойтесь, миледи, — сказала леди Калиста, лучше всех изучившая нрав своей госпожи. — Даже разъяренный лев при виде такой красавицы забыл бы свой гнев, что же говорить о таком любящем, верном рыцаре, как король Ричард, для которого каждое ваше слово — закон.
— Ты думаешь, Калиста? — сказала королева. — Ты плохо знаешь его. Что ж, я пойду. Но что это? Вы нарядили меня в зеленое, он ненавидит этот цвет. Дайте мне синее платье и поищите рубиновый венец — часть выкупа короля Кипра: он или в стальной шкатулке, или еще где-нибудь.
— Ведь жизнь человека висит на волоске! — воскликнула с негодованием Эдит. — Это невыносимо! Оставайтесь здесь, я сама пойду к королю Ричарду. Ведь это касается меня. Я спрошу его, можно ли так играть честью бедной девушки из его рода, воспользоваться ее именем, чтобы заставить храброго рыцаря забыть свой долг, навлечь на него смерть и позор — и в то же время сделать славу Англии посмешищем всего христианского войска!
Беренгария выслушала этот внезапный взрыв красноречия, оцепенев от ужаса и удивления. Но видя, что Эдит собралась уходить, она позвала еле слышным голосом:
— Остановите, остановите ее!
— Вы не должны туда ходить, благородная леди Эдит, — сказала Калиста, ласково беря ее за руку, — а вам, ваше величество, надо идти немедленно. Если леди Эдит пойдет к королю одна, он ужасно разгневается и не удовольствуется одной жизнью.
— Я пойду… пойду… — сказала королева, уступая необходимости, и Эдит с неохотой остановилась, чтобы подождать ее.
Но теперь она не могла бы пожаловаться на медлительность своей спутницы. Королева быстро накинула на себя просторный плащ, который прикрыл все недостатки ее туалета. В сопровождении Эдит, своих приближенных и нескольких рыцарей и воинов она поспешила к шатру своего грозного супруга.
Глава XVII
Будь жизнью каждый волос у него
На голове, и если бы о каждом
В четыре раза больше умоляли,
За жизнью жизнь погасла б все равно,
Так угасают пред рассветом звезды,
Так гаснет после пиршества ночного
За лампой лампа в опустевшем зале
Старинная пьесаКогда королева Беренгария направилась во внутренние покои шатра, путь ей преградили камергеры, охранявшие вход. И хотя они обращались к королеве с величайшей почтительностью, все же путь был прегражден. Она слышала, как король строгим голосом давал распоряжение не пропускать ее к нему.
— Вот видишь, — сказала королева, обращаясь к Эдит, как будто она уже исчерпала все доступные ей средства для заступничества, — я знала, что король нас не примет.
В то же время они слышали, как Ричард говорил кому-то:
— Иди и выполняй скорее свой долг: в этом ведь состоит твое счастье — десять безантов, если ты покончишь с ним одним ударом! И вот что, негодяй, зорко смотри, побледнеет ли он и дрогнут ли его веки, моргнут ли глаза; примечай малейшую судорогу лица, дрожание век. Я всегда хочу знать, как храбрецы встречают смерть.
— Если он не дрогнет при взмахе моего клинка, он будет первым, кто так встретит смерть, — ответил хриплый голос; под влиянием чувства благоговения он звучал мягче, чем обычно.
Эдит не могла больше молчать.
— Уж если ваше величество, — сказала она королеве, — не можете проложить себе дорогу, я это сделаю для вас; если не для вашего величества, то хотя бы для себя самой… Камергеры, королева требует свидания с королем Ричардом: жена хочет говорить со своим мужем.
— Благородная леди, — сказал страж, склоняя перед ней свой жезл. — Я сожалею, что вынужден противоречить вам, но его величество занят вопросом, касающимся жизни и смерти.
— Мы тоже хотим говорить с ним о деле, касающемся жизни и смерти, — сказала Эдит. — Я расчищу дорогу вашему величеству. И, одной рукой отстранив камергера, она другой взялась за полог шатра.
— Не смею противостоять воле ее величества, — сказал камергер, уступая настояниям прекрасной просительницы, и так как он отошел в сторону, королеве ничего не оставалось, как войти в покои Ричарда.
Монарх лежал на своем ложе. Невдалеке, как бы в ожидании дальнейших приказаний, стоял человек; о его ремесле нетрудно было догадаться. На нем был красный камзол с короткими рукавами, едва доходившими до локтя. Поверх камзола он накинул плащ из буйволовой кожи, напоминавший одежду герольда, который он надевал каждый раз, когда собирался приступить к исполнению своих ужасных обязанностей. Спереди плащ был покрыт темно-красными пятнами и брызгами. Как камзол, так и плащ доходили до колен. На ногах у него были сапоги из той же кожи, что и камзол. Капюшон из грубой шерсти прикрывал верхнюю часть лица; казалось, что оно, подобно сове, боится дневного света. Нижняя часть лица была скрыта огромной рыжей бородой, сплетавшейся с космами волос того же цвета. Видны были только глаза, выражавшие неумолимую жестокость. Фигура этого человека указывала на его силу: бычья шея, широкие плечи, руки необычайно длинные и сильные; толстые кривые ноги поддерживали неуклюжее, массивное туловище. Страшилище это опиралось на меч, клинок которого был почти четырех с половиной футов длины. Рукоять длиною в двадцать дюймов, окованная свинцовым кольцом, чтобы уравновешивать тяжесть клинка, возвышалась над его головой. Ожидая приказаний короля Ричарда, он стоял, опираясь на рукоять меча.
При внезапном появлении женщин Ричард, беседовавший со своим страшным подчиненным, слегка приподнявшись на локте, со взором, обращенным ко входу, быстро повернулся спиной к королеве и ее свите, как бы выражая недовольство и удивление, и закрылся одеялом, состоявшим из двух больших львиных шкур, выбранных им самим или, вероятнее всего, его угодливыми камергерами. Шкуры эти были выделаны в Венеции с таким замечательным искусством, что казались мягче замши.
Беренгария, как мы уже говорили, хорошо знала (а кто из женщин этого не знает?) путь к победе. Бросив быстрый взгляд, полный непритворного ужаса, на страшного участника тайных судилищ ее мужа, она бросилась к ложу Ричарда, упала на колени, сбросила плащ, и чудные золотистые локоны волной залили ее плечи. Она была подобна солнечному лучу, прорвавшемуся сквозь тучу, лишь на бледное ее лицо легла сумрачная тень. Она схватила правую руку короля, которая привычным движением натягивала покрывало. Несмотря на слабое сопротивление, она завладела этой рукой — опорой христианства и грозой язычества. Крепко схватив ее своими прекрасными и нежными ручками, она склонилась над ней и прильнула к ней губами.
— К чему все это, Беренгария? — спросил Ричард, не поворачивая головы, но руки своей он не отнимал.
— Прогони этого человека, его взгляд убивает меня, — пролепетала Беренгария.
— Уходи, — сказал Ричард, все еще не оборачиваясь к жене. — Чего ты ждешь еще? Ты недостоин смотреть на этих женщин.
— Я жду распоряжения вашего величества относительно головы, — ответил палач.
— Убирайся, собака! — воскликнул Ричард. — Схоронить ее по-христиански.
Палач ушел, бросив взгляд на прекрасную королеву, беспорядочный костюм которой еще ярче оттенял ее красоту. Показавшаяся на лице палача улыбка делала это лицо еще более отвратительным, чем его обычное циничное выражение ненависти к людям.
— Что хочешь ты от меня, безумная? — спросил Ричард, медленно и как бы нехотя поворачиваясь к царственной просительнице.
Ни один человек, а тем более такой ценитель красоты, как Ричард, ставивший ее лишь немногим ниже воинской славы, не мог бы без волнения смотреть на трепещущие черты такой красавицы, как Беренгария, и оставаться холодным при прикосновении ее лба и губ к своей руке, орошаемой ее слезами. Он медленно обратил к ней свое мужественное лицо, смотря на нее самым ласковым взглядом, на какой были способны его большие синие глаза, которые так часто сверкали гневными искрами. Он погладил ее белокурую голову и, перебирая своими большими пальцами ее чудные растрепавшиеся локоны, приподнял и нежно поцеловал ее ангельское личико, которое, казалось, старалось укрыться в его руке. Его мощное телосложение, широкий, благородный лоб, величественный взгляд, обнаженные плечи и руки, львиные шкуры, на которых он лежал, и прекрасное, нежное создание, коленопреклоненное у его ложа, — все это могло бы служить моделью для Геркулеса, примирившегося после ссоры со своей женой Деянирой.
— Я еще раз спрашиваю, чего хочет повелительница моего сердца в шатре своего рыцаря в столь ранний и необычный час?
— Прощения, мой милостивый повелитель, прощения, — сказала королева. Сердце заступницы вновь сжалось от страха.
— Прощения? За что? — спросил король.
— Прежде всего за то, что я взяла на себя смелость и без предупреждения вошла к вам.
Она замялась.
— Ты просишь прощения за излишнюю смелость! Скорее солнце могло бы просить прощения у несчастного узника за то, что оно озарило своими лучами его темницу. Но я был занят делом, при котором тебе не подобает присутствовать, моя милая. Кроме того, я не хотел, чтобы ты рисковала своим драгоценным здоровьем там, где еще так недавно свирепствовала болезнь.
— Но сейчас ты здоров? — спросила королева, все еще не решаясь сказать, что привело ее сюда.
— Достаточно здоров, чтобы переломить копье над дерзким шлемом того рыцаря, который откажется признать тебя самой красивой дамой во всем христианском мире.
— Ты не откажешь мне в одной милости? Только в одной?.. Дело идет об одной жизни…
— Ага, продолжай, — сказал король Ричард, нахмурив брови.
— Этот несчастный шотландский рыцарь… — продолжала королева.
— Не говорите мне о нем, мадам, — сказал сурово Ричард. — Он умрет, его судьба решена.
— О нет, мой повелитель, любовь моя! Ведь все это из-за пропавшего шелкового знамени; Беренгария подарит тебе другое, вышитое ее собственными руками, такое великолепное, какое еще ни разу не развевалось ветром. Его будут украшать все мои жемчужины, и на каждую жемчужину я уроню слезу благодарности моему благородному рыцарю.
— Ты не понимаешь того, что говоришь, — сказал король, гневно ее перебивая. — Жемчужины! Все жемчужины Востока не смогут искупить бесчестья Англии. Слезы всех женщин мира не смогут смыть позор, омрачающий славу Ричарда! Уходите прочь, мадам! Знайте свое место, время и круг ваших собственных дел. Сейчас у нас есть дела, в которых вы участвовать не можете.
— Слышишь, Эдит, — прошептала королева. — Мы его только разгневаем.
— Пусть будет так, — сказала Эдит, выступая вперед. — Милорд! Я, ваша бедная родственница, молю вас о справедливости, а не о милосердии. А голосу справедливости монарх должен внимать в любое время и в любом месте.
— А! наша кузина Эдит? — сказал Ричард, приподнимаясь на своем ложе, садясь на край и плотнее запахивая свою рубашку. — Она всегда говорит по-королевски, по-королевски и я ей отвечу. Ее просьба не будет недостойной ни ее, ни меня.
В красоте Эдит было больше одухотворенности и меньше чувственности, чем у королевы. Но нетерпение и волнение вызвали на ее лице румянец, которого иногда ей недоставало. Весь ее облик говорил о такой энергии, во всей ее наружности было столько достоинства, что даже Ричард на время умолк, хотя, судя по его выражению, ему все же хотелось прервать ее.
— Милорд! — сказала она. — Благородный рыцарь, кровь которого вы собираетесь пролить, оказал немало услуг христианскому делу. Он изменил своему долгу, попав в ловушку, которую ему подстроили из-за безрассудной и пустой прихоти. Выполняя приказание, посланное ему одной особой — зачем мне скрывать, то было приказание, посланное от моего имени, — он на время оставил свой пост. Но какой же рыцарь христианского стана не нарушил бы своего долга по приказанию девушки, в жилах которой несмотря на все ее недостатки, течет кровь Плантагенетов?
— Значит, ты его видела, кузина? — спросил король, закусив губу и стараясь этим сдержать свой гнев.
— Да, государь, — сказала Эдит. — Не время объяснять, зачем я это сделала. Я здесь не для того, чтобы оправдывать себя или обвинять других.
— А где же ты оказала ему подобную милость?
— В шатре ее величества королевы.
— Нашей царственной супруги? — воскликнул Ричард. — Клянусь небом, святым Георгием и всеми святыми, населяющими хрустальные чертоги, это уж слишком смело! Я давно уже заметил дерзкое поклонение этого воина даме, стоящей бесконечно выше его, и старался не обращать на это внимания, и я не препятствовал тому, что та, в чьих жилах течет кровь Плантагенетов, озаряла его лучами, подобно солнцу, освещающему землю. Но клянусь небом и землей! Как же ты могла в ночное время дозволить ему войти в шатер нашей царственной супруги и как ты осмеливаешься находить в этом оправдание его дезертирству? Клянусь душой моего отца, Эдит, тебе придется всю жизнь замаливать этот грех в монастыре.
— Государь! — сказала Эдит. — Ваше величие дает вам право быть тираном. Моя честь, мой король и властелин, в одинаковой мере незапятнана, как и ваша, и ее величество королева может это подтвердить, если найдет нужным. Но я уже сказала, что пришла сюда не для того, чтобы оправдывать себя и обвинять других. Я лишь прошу проявить милосердие к тому, кто совершил проступок, поддавшись сильному искушению, я прошу о милосердии, о котором вы сами, государь, когда-нибудь будете умолять всевышнего судью, быть может, за грехи, еще более тяжкие.
— Неужели это Эдит Плантагенет? — воскликнул король с горечью. — Умная и благородная Эдит Плантагенет? Нет, это до безумия влюбленная женщина, пренебрегающая собственной честью для спасения жизни возлюбленного. Клянусь душой короля Генриха! Я прикажу, чтобы череп твоего любовника принесли с плахи и повесили рядом с распятием для украшения твоей кельи!
— Если ты велишь принести его с плахи и прибить, чтобы я всегда могла смотреть на него, — сказала Эдит, — я буду поклоняться ему, как останкам благородного рыцаря, жестоко и безвинно убитого, — здесь она запнулась, — тем, который должен был бы знать, как вознаграждать рыцарские подвиги. Ты назвал его моим возлюбленным? — продолжала она, в страстном порыве. — Он действительно любил меня самой преданной любовью. Но он никогда не домогался моей благосклонности ни взглядом, ни словом. Он довольствовался почтительным преклонением, подобно тому, как чтут святых. И такой добрый, храбрый, верный рыцарь должен умереть!
— Бога ради, замолчи! — прошептала королева. — Ты еще больше разгневаешь его.
— Ну что ж, — сказала Эдит. — Непорочная девушка не побоится даже разъяренного льва. Пусть он сделает с благородным рыцарем все, что захочет. Эдит, за которую он умирает, будет оплакивать его память. Я ничего не хочу больше слышать о союзе королей, освященном брачными узами. Я не могла, не хотела при жизни стать его невестой: наше положение было слишком неравным. Но ведь смерть соединяет и великих и малых. Отныне пусть могила будет моим брачным ложем.
Не успел разгневанный король ответить ей, как в шатер быстро вошел монах-кармелит. Он с головой был закутан в длинный плащ с капюшоном из грубой ткани, какие носили монахи его ордена. Упав на колени перед королем, он стал умолять его во имя всех святых остановить казнь.
— Клянусь своим мечом и скипетром! — вскричал Ричард. — Все сговорились свести меня с ума: шуты, женщины, монахи становятся мне поперек дороги. Он еще жив?
— Мой благородный повелитель, — сказал монах. — Я упросил лорда Гилсленда отложить казнь до той поры, пока я не брошусь к вашим ногам…
— И он самовольно исполнил твою просьбу, — сказал король. — Его упрямство неисправимо; что же ты хочешь мне сказать? Говори же, ради самого дьявола.
— Государь мой! Мне поведали важную тайну. Даже шепотом я не могу открыть ее: она была сказана мне на исповеди. Но клянусь своим священным орденом, этой одеждой, что я ношу, святым Илией, основателем нашего ордена, клянусь тем, кто без зёмных страданий перешел в другой мир, — клянусь, что юноша этот доверил мне такую тайну, которая, если б я мог тебе ее открыть, отвратила бы тебя от твоего кровожадного замысла.
— Святой отец, — сказал Ричард, — как чту я церковь, да будет свидетелем мой меч, который я ношу для ее защиты. Поведай мне тайну, и я поступлю как сочту нужным. Я не слепой Баярд, чтобы броситься в пропасть под ударами шпор отшельника.
— Государь! — сказал монах, откинув капюшон и распахнув плащ, из-под которого показалась козья шкура. Лицо отшельника, иссушенное солнцем пустыни, изможденное постом и покаянием, скорее напоминало ожившую мумию, чем облик человека. — Двадцать лет я истязал свое бренное тело в пещерах Энгаддина, каясь в страшном грехе. Неужели ты думаешь, что я, отрешившись от мирской суеты, захотел бы погубить свою душу, осквернив ее ложью, или, что я, связанный самой священной клятвой, мог бы выдать тайну, доверенную мне на исповеди? И то и другое одинаково противно моей душе. У меня осталось лишь одно желание — восстановить нашу христианскую твердыню.
— Так, значит, ты тот самый отшельник, — отвечал король, — о котором так много говорят? Ты и впрямь похож на тех духов, что бродят в пустыне. Но Ричард не страшится привидений. И не к тебе ли христианские принцы подослали этого злодея, чтобы начать переговоры с султаном в то время, как я, к кому они прежде всего должны были обратиться за советом, лежал на одре болезни? И ты и принцы — вы можете быть спокойны: я не пойду на поводу у кармелита. А тот гонец, что был послан к тебе, должен умереть; чем больше будешь ты просить за него, тем скорее он умрет.
— Да простит тебе бог, король Ричард! — воскликнул отшельник в сильном волнении. — Ты творишь злое дело, но потом пожалеешь и рад будешь отсечь себе руку, лишь бы вернуть невозвратное. Остановись, безумный слепец!
— Прочь, прочь! — вскричал король, топнув ногой. — Уже солнце взошло над' позором Англии, а он еще не отомщен. Уйдите прочь, вы, дамы, и ты, монах, если не хотите услышать приказание, которое не очень-то вам понравится. Клянусь святым Георгием…
— Не клянись! — вдруг раздался голос человека, вошедшего в шатер.
— А, мой ученый хаким, — сказал Ричард, — подойди. Надеюсь, ты пришел, чтобы испытать наше великодушие.
— Я пришел просить, чтобы ты немедленно выслушал меня, немедленно и по весьма важному делу.
— Взгляни сначала на мою жену, хаким, пусть она узнает спасителя ее мужа.
Скрестив руки по восточному обряду, опустив глаза и приняв почтительную позу, врач проговорил:
— Не мне смотреть на красоту, когда блеск ее не закрыт чадрой.
— Уйди, Беренгария, — сказал король. — Уйди и ты, Эдит, и не докучай мне больше своими просьбами. Уступаю я в одном: прикажу отложить казнь до полудня. Иди и успокойся, дорогая Беренгария, ступай. Эдит, — добавил он, бросив на нее такой взгляд, что даже мужественная девушка содрогнулась от ужаса, — уходи, если разум не оставил тебя!
Женщины удалились, вернее — почти выбежали из шатра, забывая о своем ранге и придворном этикете, словно стая диких уток, испугавшихся коршуна, падающего камнем с неба.
Они возвратились в шатер королевы, предаваясь бесплодному раскаянию и укоряя друг друга. Казалось, одна Эдит ничем не проявляла своего горя. Без малейшего вздоха, не проронив ни одной слезинки, без единого упрека, ухаживала она за королевой, скорбь и отчаяние которой проявлялись в бурных истерических припадках и слезных излияниях. Эдит лишь старалась утешить ее ласками и уговорами.
— Не любила она этого рыцаря, — шепнула Флориза Калисте, старшей по рангу придворной даме. — Мы ошиблись: она жалеет его, как сокрушалась бы о судьбе любого незнакомца, попавшего из-за нее в беду.
— Молчи, молчи, — ответила ее подруга, более опытная и наблюдательная. — Она из гордого рода Плантагенетов, а они никогда не подадут виду, что их постигло горе. Смертельно раненные, истекая кровью, они находили в себе силы перевязать даже царапину у своих менее стойких товарищей. Флориза, мы совершили ужасный поступок; что до меня, то я готова была бы лишиться всех своих драгоценностей, если можно было избежать последствий нашей роковой шутки.
Глава XVIII
Здесь нужно бы вмешательство светил
Юпитера и Солнца, а они
Горды и взбалмошны От сфер небесных
Заставить к нам их, к смертным,
обратиться
Ужасно трудно.
«Альбумазар»Отшельник последовал за дамами, покинувшими шатер Ричарда, как тень следует за солнечным лучом, когда облака набегают на диск солнца. Но с порога он обернулся, предостерегающе, почти с угрозой простер руку в сторону короля и сказал:
— Горе тому, кто отвергает совет церкви и обращается к гнусному дивану неверных! Король Ричард, я еще не отрясаю прах со своих ног и не покидаю твоего лагеря — меч еще не упал, но он висит на волоске. Надменный государь, мы еще встретимся.
— Да будет так, надменный иерей, более гордый в своей козьей шкуре, чем принцы в пурпуре и тонком полотне, — ответил Ричард.
Отшельник исчез, а король продолжал, обращаясь к арабу:
— Скажи, мудрый хаким, позволяют себе восточные дервиши так вольно разговаривать со своими государями?
— Дервиш, — сказал Адонбек, — бывает либо мудрецом, либо безумным; средины нет для того, кто носит кирках,[20] кто бодрствует по ночам и постится днем. Поэтому он либо достаточно мудр, чтобы вести себя скромно в присутствии государей, либо же, если он не наделен разумом, не отвечает за свои поступки.
— Я думаю, что к нашим монахам подходит по преимуществу второе определение, — сказал Ричард. — Но к делу… Как мне отблагодарить тебя, мой ученый врач?
— Великий король, — сказал эль-хаким, склонившись в глубоком восточном поклоне. — Дозволь твоему слуге молвить одно слово, не поплатившись за это жизнью. Я хотел бы напомнить тебе, что ты обязан своей жизнью — не мне, лишь скромному орудию, нет — всевышним силам, чьими благодеяниями я наделяю смертных…
— Ия готов поручиться, что взамен ты хотел бы получить другую, а? — перебил король.
— Такова моя смиренная просьба к великому Мелеку Рику, — сказал хаким. — Именно: жизнь славного рыцаря, осужденного на смерть за тот же грех, какой совершил султан Адам, прозванный Абульбешаром, или праотцем всех людей.
— Твоя мудрость могла бы напомнить тебе, хаким, что Адама постигла за это смерть, — сурово сказал король; затем он в волнении стал ходить взад и вперед по своему узкому шатру, разговаривая сам с собой. «Ну, помилуй бог, я же знал, что он хочет, как только он вошел в шатер!.. Одна жалкая жизнь справедливо осуждена на уничтожение, а я, король и солдат, по приказу которого убиты тысячи людей, который своей собственной рукой убил десятки, не имею власти над нею, хотя преступник посягнул на честь моего герба, моего дома, самой королевы… Клянусь святым Георгием, это смешно!.. Клянусь святым Людовиком, это напоминает мне сказку Блонделя о заколдованном замке и о рыцаре, который, повинуясь предопределению свыше, пытается в него проникнуть, но путь ему преграждают всякие чудища, совершенно непохожие друг на друга, но все стремящиеся воспрепятствовать его намерению… Как только исчезает одно, появляется другое!.. Жена, родственница, отшельник, хаким — каждый вступает в борьбу, как только другой терпит поражение!.. И вот одинокий рыцарь сражается все с новыми противниками, ха-ха-ха!» И Ричард громко расхохотался. Он уже был в ином расположении духа: его гнев обычно бывал слишком неистовым, чтобы долго длиться.
Врач изумленно, слегка презрительно смотрел на короля, ибо восточным людям чужда быстрая смена настроений и они считают громкий смех почти во всех случаях недостойным мужчины и приличествующим лишь женщинам и детям. Наконец, увидев, что король несколько успокоился, мудрец обратился к нему со следующими словами:
— Смертный приговор не может сойти со смеющихся уст. Разреши твоему слуге надеяться, что ты даровал ему жизнь этого человека.
— Возьми вместо нее свободу тысячи пленников, — сказал Ричард. — Верни тысячу своих единоземцев в их палатки, к их семьям, я немедленно отдам приказ. Жизнь этого человека не принесет тебе никакой пользы, и он обречен.
— Мы все обречены, — сказал хаким, приложив руку ко лбу. — Но великий заимодавец милостив и никогда не взыскивает долга со всей суровостью или преждевременно.
— Ты не можешь указать мне никаких особых причин, побуждающих тебя стать между мною и осуществлением справедливости, которую я как венценосный король поклялся соблюдать.
— Ты поклялся не только соблюдать справедливость, но и быть милосердным, — возразил эль-хаким. — Ты лишь стремишься, великий король, чтобы осуществилась твоя собственная воля. И если я прошу тебя исполнить мою просьбу, то лишь потому, что жизнь многих людей зависит от твоего милосердия.
— Объясни свои слова, — потребовал Ричард, — но не вздумай обманывать меня хитрыми уловками.
— Твой слуга далек от этого! — воскликнул Адонбек. — Знай же, что лекарство, которому ты, великий король, а также многие другие, обязан своим выздоровлением, представляет собой талисман, изготовленный при определенном положении небесных светил, когда божественные силы наиболее благосклонны. Я лишь жалкий посредник, использующий свойства талисмана. Я погружаю его в сосуд с водой, выжидаю благоприятного часа, чтобы напоить ею больного, и чудодейственный напиток исцеляет.
— Прекрасное лекарство, — сказал король, — и удобное! И так как его можно носить в лекарской сумке, не нужны больше караваны верблюдов для перевозки всяких снадобий… Хотел бы я знать, существует ли еще одно такое средство на свете.
— Сказано: «Не брани коня, который вынес тебя из битвы», — с невозмутимой серьезностью ответил хаким. — Знай, что такие талисманы на самом деле могут быть созданы, но не велико было число посвященных, осмеливавшихся применять их чудесные свойства. Строгое воздержание, мучительные обряды, посты и покаяния должны быть уделом мудреца, который прибегает к этому способу лечения, и если из любви к праздности или приверженности к чувственным утехам он пренебрегает этими приуготовления-ми и не сумеет исцелить по меньшей мере двенадцать человек в течение каждого месяца, тогда талисман лишится своих божественных свойств, а последнего больного и врача вскоре постигнет несчастье, и оба они не проживут и года. До назначенного числа мне не хватает лишь одной жизни.
— Выйди в лагерь, добрый хаким, и там ты найдешь их достаточно, — сказал король. — Но не пытайся отнять у моего палача его пациента: не пристало столь прославленному врачу, как ты, вмешиваться в чужие дела. К тому же я не понимаю, каким образом избавление преступника от заслуженной им смерти может пополнить счет чудесных исцелений.
— Если бы ты был в состоянии объяснить, почему глоток холодной воды исцелил тебя, между тем как самые дорогие лекарства не помогали, — ответил хаким, — тогда бы ты мог рассуждать о других тайнах, сопутствующих всему этому. Что до меня, то я непригоден к великим трудам, так как утром дотрагивался до нечистого животного. Не задавай потому больше никаких вопросов; достаточно того, что, пощадив по моей просьбе жизнь этого человека, ты, великий король, избавишь себя и твоего слугу от большой опасности.
— Слушай, Адонбек, я не против того, чтобы лекари окутывали свои слова таинственностью и утверждали, будто они обязаны своими познаниями небесным светилам. Но если ты хочешь испугать Ричарда Плантагенета опасностью, грозящей ему из-за какого-то пустякового предзнаменования или неисполненного обряда, то помни: ты разговариваешь не с невежественным саксом и не с выжившей из ума старухой, которая отказывается от своего намерения из-за того, что заяц перебежал ей дорогу, или ворон закаркал, или кошка зафыркала.
— Я не могу воспрепятствовать тебе сомневаться в моих словах, — сказал Адонбек. — И все же да окажет мой король и повелитель снисхождение и поверит, что устами его слуги глаголет истина… Неужели он считает справедливым, отказавшись помиловать одного несчастного преступника, лишить благодеяний чудеснейшего талисмана весь мир, всех страдальцев, пораженных болезнью, столь недавно приковывавшей его самого к этому ложу? Вспомни, король, что ты можешь умертвить тысячи людей, но ни одному человеку не можешь вернуть здоровье. Короли обладают властью сатаны мучить, мудрецы — властью аллаха исцелять… Остерегайся стать помехой для оказания блага человечеству, которого ты сам дать не в состоянии. Ты можешь отрубить голову, но не можешь вылечить больной зуб.
— Это неслыханная дерзость, — сказал король, снова ожесточившись, как только хаким стал говорить высокомерным, почти повелительным тоном. — Мы считали тебя нашим лекарем, а не советником или духовником.
— Так-то вознаграждает славнейший государь Франгистана за благодеяние, оказанное его королевской особе? — спросил эль-хаким. От прежнего смирения и униженности, с какими он упрашивал короля, не осталось и следа; он держал себя высокомерно и властно. — Знай же, — продолжал он, — перед всеми европейскими и азиатскими дворами — мусульманскими и назареянскими, — перед всеми рыцарями и благородными дамами, повсюду, где внимают звукам арфы и носят мечи, повсюду, где любят честь и презирают низость, перед всем миром я ославлю тебя, Мелек Рик, как неблагодарного и неблагородного человека. И даже те страны — если есть такие, — где не слышали о твоей славе, узнают о твоем позоре!
— Ты смеешь мне угрожать, подлый неверный! — воскликнул Ричард, в бешенстве подступая к Адон-беку. — Тебе надоела твоя жизнь?
— Рази! — сказал эль-хаким. — И тогда твой собственный поступок возвестит о твоей низости лучше моих слов, хотя бы каждое из них жалило, как шершень.
Ричард в гневе отвернулся, скрестил на груди руки и снова принялся ходить по шатру; затем он воскликнул:
— Неблагодарный и неблагородный!.. Иными словами— трусливый и бесчестный!.. Хаким, ты выбрал себе награду. И хотя я предпочел бы, чтобы ты попросил бриллианты из моей короны, все же я как король не могу отказать тебе. Итак, бери шотландца. Начальник стражи выдаст его тебе по этому распоряжению.
Он поспешно написал несколько строк и отдал записку врачу.
— Считай его своим рабом и распоряжайся им как хочешь; пусть он только остерегается показываться на глаза Ричарду. Пойми — ты ведь мудр: он вел себя чрезвычайно дерзко с теми, чьей красоте и легкомыслию мы вверяем нашу честь, подобно тому как вы на Востоке помещаете ваши сокровища в ларцы из серебряной проволоки, столь же тонкой и непрочной, как осенняя паутина.
— Твоему слуге понятны слова короля, — сказал мудрец, сразу же вернувшись к почтительному тону, которого он держался вначале. — Когда на богатом ковре появляется грязное пятно, дурак указывает на него пальцем, а умный человек прикрывает плащом. Я выслушал волю моего повелителя, а услышать — значит повиноваться.
— Хорошо, — сказал король. — Посоветуй ему ради его собственной безопасности никогда больше не попадаться на моем пути. Чем еще я мог бы тебя обрадовать?
— Щедрость короля наполнила мой кубок до краев, — ответил мудрец. — Поистине она никогда не оскудевает, подобно источнику, забившему среди лагеря израильтян, когда Мусса бен-Амрам ударил жезлом в скалу.
— Да, — улыбаясь, сказал король, — но, как и в пустыне, понадобился сильный удар по скале, чтобы она отдала свои сокровища. Нет ли чего-нибудь, что доставило бы тебе удовольствие и что я мог бы дать, не насилуя себя, а так же легко, как родник изливает свои воды?
— Разреши мне прикоснуться к этой победоносной руке в залог того, что в будущем, если Адонбеку эль-хакиму пришлось бы попросить милости у Ричарда Английского, ему будет дозволено это сделать.
— Вот моя рука и дружба вместе с ней, любезный Адонбек, — ответил Ричард. — Помни только: если сможешь пополнять счет исцеленных тобой людей, не обращаясь ко мне с мольбой освободить от наказания тех, кто его заслуживает, то я охотнее буду возмещать свой долг любым иным способом.
— Да будут продлены твои дни! — сказал хаким и, отдав обычный глубокий поклон, покинул опочивальню короля.
Ричард смотрел вслед уходившему с таким выражением, словно он не вполне был удовлетворен тем, что произошло между ними.
— Странная настойчивость у этого хакима, — сказал он, — и какая удивительная случайность, что его вмешательство избавило дерзкого шотландца от столь заслуженной им кары. Ну, пусть он живет! На свете будет одним храбрецом больше. А теперь займемся австрийцем. Эй, барон Гилсленд здесь?
Сэр Томас де Во поспешно явился на зов, загородив своим огромным телом вход в шатер; за ним, подобно призраку, никем не возвещенный, но и никем не удерживаемый, проскользнул энгаддийский отшельник— дикая фигура в плаще из козьих шкур.
Не обращая на него внимания, Ричард громко заговорил с бароном:
— Сэр Томас де Во, барон Ланеркостский и Гилслендский, возьми трубача и герольда и немедленно направься к палатке того, кого называют эрцгерцогом австрийским, выбери время, когда вокруг него соберется как можно больше его рыцарей и вассалов — сейчас, вероятно, самый подходящий момент, так как этот немецкий боров завтракает до того, как прослушает мессу, — явись к нему и, держась как можно менее почтительно, предъяви ему от имени Ричарда Английского обвинение в том, что этой ночью он собственноручно или руками других украл английское знамя с того места, где оно было водружено. Посему сообщи ему наше требование, чтобы в течение часа с той минуты, как ему будут переданы мои слова, он со всеми почестями снова установил упомянутое знамя; а сам эрцгерцог и его знатнейшие бароны пусть присутствуют при этом с непокрытыми головами и в обычной одежде. Кроме того, он должен рядом воткнуть с одной стороны перевернутое австрийское знамя, обесчещенное вероломной кражей, а с другой стороны — копье с окровавленной головой того, кто был его ближайшим советником или помощником при нанесении этого подлого оскорбления. И скажи ему, что в случае точного исполнения им нашего требования мы, памятуя о данном нами обете и ради благоденствия святой земли, простим остальные его провинности.
— А что, если австрийский герцог станет отрицать участие в этом оскорбительном и вероломном поступке? — спросил Томас де Во.
— Скажи ему, — ответил король, — что мы докажем наше обвинение на его собственной особе — да, на нем вкупе с двумя его самыми храбрыми воинами. Мы докажем по-рыцарски, в пешем бою или на конях, в пустыне или на ристалище; время, место и оружие пусть выберет он сам.
— Подумайте, мой сюзерен, о мире во имя бога и церкви между государями, принимающими участие в священном крестовом походе.
— Подумайте, мой вассал, о том, чтобы выполнить приказ, — нетерпеливо ответил Ричард. — Мне кажется, некоторые люди считают, что они могут с такой же легкостью заставить меня изменить свои намерения, с какой мальчишки, дуй на перья, гоняют их по воздуху… Мир во имя церкви! Кто, скажи на милость, думает о нем? Мир во имя церкви между крестоносцами подразумевает войну с сарацинами, с которыми наши государи заключили перемирие, а вместе с войной против врагов кончается и мир между союзниками. А к тому же разве ты не видишь, как каждый из этих государей стремится к своей собственной цели? Я тоже стремлюсь к моей, и моя цель — слава. Ради славы я пришел сюда, и если мне не удается добиться ее в борьбе с сарацинами, я, во всяком случае, не спущу ни малейшей обиды этому жалкому герцогу, хотя бы за него горой встали все вожди-крестоносцы.
Де Во повернулся, чтобы отправиться выполнять повеление короля, пожав в то же время плечами, так как при своем прямодушном характере не мог скрыть, что оно ему не по душе. В это мгновение энгаддийский отшельник выступил вперед. Он держался теперь так, словно был наделен более высокой властью, чем простые земные владыки. И действительно, в одежде из косматых шкур, с длинными нечесаными волосами и бородой, с изможденным, диким, судорожно искривленным лицом, с почти безумными глазами, сверкавшими из-под густых бровей, он был похож на библейского пророка, каким мы себе его представляем; пророка, который покидал пещеры, где жил в полном одиночестве, и спускался с гор, чтобы являться с вестью от всевышнего к погрязшим в грехах иудейским или израильским царям и усовещивать земных властелинов в их гордыне, грозя им карой божественного повелителя, готовой обрушиться на их головы, подобно тому как насыщенная молниями туча обрушивает огонь на башни замков и дворцов. Даже в самом раздраженном состоянии Ричард относился с уважением к церкви и ее служителям, и хотя вторжение отшельника разгневало его, он почтительно приветствовал незваного посетителя, сделав, однако, знак сэру Томасу де Во поспешить с поручением.
Но отшельник жестом, взглядом и словом запретил барону сделать хоть шаг для выполнения приказа; резким движением, от которого плащ из козьих шкур откинулся назад, он простер ввысь обнаженную руку — исхудавшую от поста, исполосованную рубцами от покаянных самоистязаний:
— Во имя бога и святейшего отца, наместника христианской церкви на земле, я запрещаю этот нечестивейший, кровожадный и бесчеловечный вызов на поединок между двумя христианскими государями, на чьих плечах изображен священный знак, которым они клялись в братстве. Горе тому, кто нарушит свою клятву! Ричард Английский, отмени святотатственное поручение, данное тобой этому барону… Опасность и смерть близки от тебя! Кинжал уже касается твоего горла!
— Опасность и смерть не в диковину Ричарду, — гордо ответил монарх. — Он не страшился мечей, ему ли бояться кинжала.
— Опасность и смерть близки, — повторил пророк; и глухим замогильным голосом он добавил: — А после смерти — Страшный суд!
— Святой отец, — сказал Ричард, — я чту тебя и твою святость…
— Почитай не меня! — перебил отшельник. — С таким же основанием ты можешь почитать самое мерзкое насекомое, ползающее на берегах Мертвого моря и питающееся его проклятой богом тиной. Но почитай того, чьих велений я глашатай. Почитай того, чей гроб ты поклялся освободить. Соблюдай клятву верности, принесенную тобой, и не разрывай драгоценных уз единства и согласия, которыми ты связал себя со своими августейшими союзниками.
— Благой отец, — сказал король, — вы, служители церкви, как кажется мне, недостойному мирянину, слишком высокого мнения о величии вашего священного звания. Не оспаривая вашего права заботиться о нашей совести, я все же думаю, что вы могли бы предоставить нам самим заботиться о своей чести.
— Слишком высокого мнения! — повторил отшельник. — Это я, достославный Ричард, слишком высокого мнения, я — лишь колокол, повинующийся руке звонаря, лишь бесчувственная, ничтожная труба, разносящая повеления того, кто трубит в нее! Смотри, я опускаюсь пред тобой на колени и умоляю тебя сжалиться над всем христианским миром, над Англией, над собой!
— Встань, встань, — сказал Ричард, понуждая отшельника подняться. — Не пристало, чтобы колени, которые ты так часто преклонял перед богом, попирали землю в воздаянии почести человеку. Какая опасность ожидает нас, преподобный отец? И когда могущество Англии падало так низко, чтобы шумная похвальба этого обозлившегося новоявленного герцога могла встревожить ее или ее государя?
— Я наблюдал с башни у себя в горах за небесным звездным воинством, когда каждая звезда в своем ночном круговращении посылает другой весть о грядущем и мудрость тем немногим, кто понимает их голоса. В Доме Жизни сидит враг, мой король, завидующий одновременно и твоей славе и твоему благоденствию, — эманация Сатурна, грозящая тебе мгновенной и жестокой гибелью, которая, если только ты не смиришь свою гордую волю перед велением долга, вскоре поразит тебя даже в твоей гордыне.
— Довольно, довольно… Это языческая наука, — сказал король. — Христиане ею не занимаются, мудрые люди не верят в нее. Старик, ты безумец.
— Я не безумец, Ричард, — ответил отшельник. — Я не настолько счастлив. Я знаю свое состояние и то, что какая-то часть разума оставлена мне не ради меня самого, а ради блага церкви и преуспеяния крестоносцев. Я слепец, который освещает факелом путь другим, но сам не видит его света. Спроси меня о том, что имеет отношение к процветанию христианства и успеху этого крестового похода, и я буду говорить с тобой как самый мудрый советник, обладающий непревзойденным даром убеждения. Заговори со мной о моей злополучной жизни, и мои слова будут словами помешанного изгнанника, каким меня справедливо считают.
— Я не хотел бы разрывать узы единения между государями-крестоносцами, — сказал Ричард, несколько смягчившись. — Но какое удовлетворение они могут дать мне за причиненную несправедливость и обиду?
— Я могу ответить и на этот вопрос, так как имею полномочия говорить с тобой от имени совета, который спешно собрался по предложению Филиппа Французского, чтобы принять необходимые для этой цели меры.
— Странно, — заметил Ричард, — что другие решают, чем должно загладить оскорбление, нанесенное величию Англии!
— Они готовы пойти навстречу всем твоим требованиям, если это окажется возможным, — ответил отшельник. — Они единодушно согласились, чтобы английское знамя было снова водружено на холме святого Георгия, чтобы объявить вне закона дерзкого злодея или злодеев, посягнувших на него, назначить княжеское вознаграждение тому, кто укажет виновного, и отдать тело преступника на растерзание волкам и воронью.
— А австриец, — сказал Ричард, — на ком лежит столь серьезное подозрение, что он совершил этот недостойный поступок?
— Чтобы предупредить распри среди священного воинства, — ответил отшельник, — австриец должен очистить себя от подозрения, подвергнувшись любому испытанию, которое назначит патриарх Иерусалимский.
— Согласится ли он очистить себя судебным поединком? — спросил король Ричард.
— Клятва запрещает ему это, — сказал отшельник. — К тому же совет государей…
— Никогда не разрешит битвы ни с сарацинами, — перебил Ричард, — ни с кем-либо другим. Но довольно, отец мой, ты доказал мне безрассудство того образа действий, что я избрал. Скорей удастся разжечь факел в дождевой луже, чем высечь искру благородства из труса с холодной кровью. На австрийце не приобретешь славы, а потому не будем больше говорить о нем. Впрочем, я заставлю его лжесвидетельствовать; я настою на испытании. Я хорошо посмеюсь, когда зашипят его неуклюжие пальцы, сжимая раскаленный докрасна железный шар! Или когда его огромный рот чуть не разорвется, а распухшая глотка доведет до удушья при попытке проглотить освященный хлеб.
— Молчи, Ричард, — сказал отшельник. — Молчи, если не из любви к богу, то хоть для того, чтобы не позорить себя! Кто станет восхвалять или почитать государей, которые позволяют себе взаимные оскорбления и клевещут друг на друга? Увы? Такой доблестный человек, как ты, столь великий в государственных помыслах и рыцарской отваге, словно рожденный для того, чтобы своими деяниями прославить христианский мир, и управлять им с присущей тебе в спокойном настроении мудростью, преисполнен в то же время бессмысленной и дикой яростью льва, сочетающейся с благородством и смелостью этого царя лесов!1
На несколько секунд отшельник погрузился в размышления, устремив взгляд в землю, затем продолжал:
— Но небесный создатель, знающий несовершенство нашей природы, примиряется с неполнотой нашего послушания, и он отсрочил — но не отвратил! — ужасный конец твоей отважной жизни. Ангел смерти остановился, как некогда у гумна Орны Иевусеянина, и держит в руке занесенный меч, перед которым в недалеком времени Ричард с львиным сердцем будет столь же ничтожен, как самый простой земледелец.
— Неужели это произойдет так скоро? — спросил Ричард. — Что ж, пусть так. Мой путь будет хоть и коротким, но славным!
— Увы, благородный король, — сказал пустынник, и, казалось, слезы (непрошеные гостьи) навернулись на его суровые, потускневшие от старости глаза. — Коротка и печальна отмеченная унижениями, невзгодами и пленениями стезя, отделяющая тебя от разверстой могилы — могилы, в которую ты ляжешь, не оставив продолжателя своего рода, не оплакиваемый подданными, уставшими от бесконечных войн, не получив признания со стороны народа, ничего не сделав для того, чтобы он стал счастливей.
— Но зато увенчанный славой, монах, оплакиваемый царицей моей любви! Эти утешения, которых тебе не дано знать или оценить, ждут Ричарда в его могиле.
— Мне не надо знать, я не могу оценить восхвалений менестреля и женскую любовь! — возразил отшельник, и на мгновение в его голосе зазвучала такая же страстность, как и у самого Ричарда. — Король Англии, — продолжал он, простирая свою худую руку, — кровь, кипящая в твоих голубых жилах, не более благородна, нежели та, что медленно течет в моих. Ее не много, и она холодна, но все же это кровь царственного Лузиньяна — доблестного и святого Готфрида. Меня зовут — вернее, звали, когда я был в миру — Альберик Мортемар.
— О чьих подвигах, — перебил Ричард, — столь часто гремели трубы славы! Неужели это правда, может ли это быть? Как могло случиться, чтобы такое светило исчезло с горизонта рыцарства и никто не знал, куда оно, угаснув, скрылось?
— Отыщи упавшую на землю звезду — и ты увидишь лишь мерзкую студенистую массу, которая, проносясь по небосводу, на миг зажглась ослепительным светом. Ричард, если бы я надеялся, сорвав кровавую завесу, окутывающую мою ужасную судьбу, заставить твое гордое сердце подчиниться велениям церкви, я нашел бы в себе мужество рассказать тебе о том, что терзает мои внутренности и что доныне я, подобно стойкому юноше-язычнику, хранил втайне от всех. Слушай же, Ричард, и пусть скорбь и отчаяние, которые не могут помочь жалкому существу, когда-то бывшему человеком, пусть они возымеют могущественную силу в качестве примера для столь благородного и в то же время столь необузданного создания, как ты! Да, я это сделаю, я сорву повязки с глубоко скрытых ран, хотя бы мне пришлось истечь кровью в твоем присутствии!
Король Ричард, на которого история Альберика Мортемара произвела глубокое впечатление в юности, когда в залах его отца менестрели развлекали пировавших легендами о святой земле, выслушал с почтительным вниманием краткую повесть, рассказанную сбивчиво и отрывочно, но достаточно объяснявшую причину частичного безумия этого необыкновенного и крайне несчастного человека.
— Мне не нужно, — говорил отшельник, — напоминать тебе, что я был знатен, богат, искусен в обращении с оружием и мудр в совете. Таким я был; но в то время как самые благородные дамы в Палестине соперничали за право обвить гирляндами мой шлем, я воспылал любовью — вечной и преданной любовью — к девушке низкого происхождения. Ее отец, старый воин-крестоносец, заметил нашу взаимную страсть; зная, что мы не ровня друг другу, и не видя другого способа уберечь честь своей дочери, он поместил ее под сень монастыря. Я возвратился из далекого похода с богатой добычей, увенчанный славой, и узнал, что мое счастье навеки погибло! Я тоже искал забвения в монастыре, но сатана, избравший меня своим орудием, вселил в мое сердце дух религиозной гордыни, источником которой было его адское царство. Я вознесся среди служителей церкви так же высоко, как раньше среди государственных мужей. Поистине, я был мудр, самонадеян, праведен! Я был советником церковных соборов, духовником прелатов — мог ли я споткнуться? Разве мог я бояться искушения? Увы! Я стал исповедником монахинь, и среди этих монахинь я встретил ту, кого некогда любил, кого некогда потерял. Избавь меня от дальнейших признаний! Павшая инокиня, во искупление своей вины наложившая на себя руки, покоится под сводами энгаддийского склепа, а над самой ее могилой невнятно бормочет, стонет и вопиет жалкое существо, сохранившее лишь столько разума, чтобы полностью сознавать свою злую участь!
— Несчастный! — воскликнул Ричард. — Теперь я не удивляюсь постигшим тебя невзгодам. Но как избег ты кары, предписанной церковными уставами за совершенное тобой преступление?
— Если ты спросишь кого-нибудь, в ком еще кипит мирская злоба, — ответил отшельник, — он скажет, что мне сохранили жизнь из уважения к моему прошлому и к знатности моего рода. Но я поведаю тебе, Ричард, что провидение пощадило меня, чтобы вознести ввысь, как путеводный факел, пепел которого, после того как угаснет земной огонь, будет ввергнут в Тофет. Как ни иссохло и ни сморщилось это бренное тело, в нем еще живы два стремления: одно из них, действенное, жгучее, неотступное, — служить делу иерусалимской церкви, другое, низменное, презренное, порожденное невыносимой скорбью, приводящее меня то к порогу безумия, то к отчаянию, — оплакивать свою злосчастную судьбу и охранять священные останки, опасаясь как тягчайшего греха бросить на них хотя один взгляд. Не жалей меня! Жалеть о гибели такого презренного человека грешно… Не жалей меня, а извлеки пользу из моего примера. Ты стоишь на высочайшей, а потому самой опасной вершине, на какую когда-либо возносился христианский государь. Ты горд душой, падок на радости жизни и скор на кровавую расправу. Отдали от себя грехи, этих прилепившихся к тебе дщерей, хотя бы они и были дороги грешному Адаму, изгони злых фурий, которым ты дал приют в своем сердце — гордыню, страсть к наслаждениям, кровожадность.
— Он бредит, — сказал Ричард, отвернувшись от пустынника и обращаясь к де Во с видом человека, задетого за живое язвительной насмешкой, но вынужденного смиренно перенести ее; затем, снова устремив на отшельника спокойный и слегка презрительный взгляд, ответил: — Ты нашел для меня, преподобный отец, прелестных дочерей, хотя я и женат всего несколько месяцев. Но коль скоро я должен удалить их из-под моего крова, то, как отцу, мне следует позаботиться о подходящих мужьях для них. А посему я отдам мою гордость благородным каноникам церкви, мою страсть к наслаждениям, как ты называешь ее, — орденским монахам, а мою кровожадность — рыцарям Храма.
— О, стальное сердце и железная рука, — сказал отшельник, — для него ничто и пример и совет! И все же на время тебе дана пощада, чтобы ты мог еще одуматься и начать вести себя так, как угодно небесам… Что до меня, то я должен вернуться к себе… Kyrie eleison![21] Я тот, сквозь кого лучи небесной благодати проходят, как солнечные лучи сквозь зажигательное стекло, собирающее их в пучок и направляющее на какой-либо предмет, который загорается и вспыхивает пламенем, между тем как само стекло остается холодным и не претерпевает никаких изменений. Kyrie eleison… Приходится звать бедных, ибо богатые отказались от пира. Kyrie eleison!
Сказав это, он с громким криком ринулся прочь из шатра.
— Безумный иерей! — проговорил Ричард. Неистовые вопли отшельника несколько ослабили впечатление от его рассказа о своей несчастной жизни. — Иди за ним, де Во, и посмотри, чтобы ему не причинили вреда; ибо, хотя мы и крестоносцы, среди наших воинов фигляр пользуется большим уважением, нежели служитель церкви или святой, и над ним, пожалуй, станут глумиться.
Барон повиновался, а Ричард погрузился в мысли, возникшие под влиянием исступленных пророчеств монаха. «Умереть рано… не оставив продолжателя рода… никем не оплаканным? Жестокий приговор, и хорошо, что он не произнесен более правомочным судьей. Однако многие сарацины, столь сведущие в магии, утверждают, будто бог, в чьих глазах мудрость величайших философов — лишь безумие, наделяет мудростью и даром пророчества мнимого безумца. Говорят, энгаддийский отшельник сведущ в толковании звезд — искусстве, весьма распространенном в этой стране, где небесное воинство некогда служило предметом языческого поклонения. Жаль, что я не спросил его об исчезновении моего знамени; даже сам блаженный Фесвитянин, основатель его ордена, не впадал в такое дикое исступление и не говорил языком, более похожим на пророческий».
— Ну, де Во, какие вести о безумном иерее?
— Вы называете его безумным иереем, милорд? — спросил де Во. — Я полагаю, он скорей напоминает блаженного Иоанна Крестителя, только что покинувшего пустыню. Он влез на одну из осадных машин и оттуда стал проповедовать воинам, как никто не проповедовал со времен Петра Пустынника. Его крики встревожили весь лагерь, и собралась многотысячная толпа. То и дело отступая от основной нити своей речи, он обращался к воинам на их родных языках и для каждого народа находил наилучшие доводы, чтобы пробудить в них усердие к делу освобождения Палестины.
— Клянусь богом, благородный отшельник! — воскликнул король Ричард. — Но разве можно было ждать иного от потомка Готфрида? Неужели он отчаялся в спасении, потому что когда-то пожертвовал всем ради любви? Я добьюсь, чтобы папа послал ему полное отпущение грехов, и я не менее охотно стал бы его заступником, если бы его belle amie[22] была аббатисой.
В это время Ричарду доложили, что архиепископ Тирский настаивает на аудиенции, чтобы передать английскому королю просьбу присутствовать, если здоровье ему позволит, на секретном совещании вож-дей-крестоносцев и чтобы разъяснить ему военные и политические события, происшедшие за время его болезни.
Глава XIX
Как, нам в ножны вложить победный меч?
Вспять обратиться тем, что устремлялись
Вослед врагу всегда вперед со славой?
Кольчугу снять, которую во храме
На плечи мы с обетом возложили?
Обет нарушить, как посулы няньки
Обманные, чтоб только смолк ребенок..
И все предать забвенью?
Трагедия «Крестовый поход»Выбор архиепископа Тирского в качестве посланца был очень удачен; ему предстояло сообщить известия, которые вызвали бы у Ричарда Львиное Сердце взрыв самого бурного гнева, если бы он узнал их от другого. Даже проницательному и всеми уважаемому прелату было нелегко заставить короля выслушать новости, разрушавшие все его надежды отвоевать силой оружия гроб господень и тем заслужить славу, которую весь христианский мир был готов воздать ему как защитнику креста.
Однако из слов архиепископа выяснилось, что Саладин собирал огромную армию, подняв на борьбу все сто своих племен, и что европейские государи по различным причинам уже разочаровались в предпринятом ими походе, который оказался очень рискованным и с каждым днем сулил все больше опасностей, а потому решили отказаться от своей цели. В этом их поддерживал пример Филиппа Французского. Рассыпаясь в изъявлениях уважения, уверяя, что первым делом позаботится о безопасности своего брата, короля Англии, он заявил о намерении вернуться в Европу. Его могущественный вассал граф Шампанский принял такое же решение; не приходилось удивляться, что и Леопольд Австрийский, оскорбленный Ричардом, был рад воспользоваться случаем и отступиться от предприятия, возглавляемого, как признавали все, его надменным противником. Остальные высказали те же намерения. Таким образом, стало ясно, что английский король, если он пожелает остаться, будет иметь поддержку лишь тех добровольцев, которые присоединятся к его армии, несмотря на столь обескураживающие обстоятельства. Кроме того, он мог рассчитывать на весьма сомнительную помощь Конрада Монсерратского да воинствующих орденов иоаннитов и тамплиеров; хотя рыцари-монахи и дали обет вести войну против сарацин, они в то же время опасались, как бы кто-нибудь из европейских монархов не завоевал Палестину, где они, руководствуясь своей недальновидной и эгоистической политикой, предполагали основать собственное независимое государство.
Не понадобилось долгих доказательств, чтобы Ричард понял свое истинное положение. После первого взрыва негодования он спокойно сел и, опустив голову, скрестив на груди руки, с мрачным видом слушал рассуждения архиепископа о невозможности продолжать крестовый поход, коль скоро союзники его покидают. Больше того — он сдержался и не прервал прелата даже тогда, когда тот осмелился осторожно намекнуть, что горячность самого Ричарда была одной из главных причин, отвративших государей от этого похода.
— Confiteor,[23] — ответил Ричард, потупив взгляд и с несколько грустной улыбкой. — Я признаю, преподобный отец, что у меня есть основания восклицать culpa mea.[24] Но разве не жестоко, чтобы из-за непостоянства моего нрава я заслужил такое наказание, чтобы за несколько вспышек справедливого гнева мне было суждено увидеть, как вянет передо мной на корню столь богатая жатва во имя господа и во славу рыцарства? Но она не увянет. Клянусь душой Завоевателя, я водружу крест на башнях Иерусалима или же он будет водружен на могиле Ричарда!
— Ты можешь этого достигнуть, — сказал прелат, — но так, что ни одной капли христианской крови больше не прольется на поле брани.
— А, ты говоришь о соглашении, прелат; но тогда перестанет литься и кровь этих неверных собак.
— Достаточно чести в том, — возразил архиепископ, — что силой оружия и благодаря уважению, которое внушает твоя слава, мы добились от Саладина принятия таких условий, как немедленное возвращение гроба господня, открытие святой земли для паломников, обеспечение их безопасности путем постройки сильных крепостей и, самое главное, обеспечение безопасности святого города тем, что Ричарду будет присвоен титул короля — покровителя Иерусалима.
— Как! — вскричал Ричард, и его глаза засверкали необычным огнем. — Я… я… я король — покровитель святого города! Даже победа — но это и есть победа — не могла бы дать больше, вряд ли дала бы столько, если бы была одержана потерявшими охоту воевать, разобщенными войсками… Но Саладин предполагает все же сохранить свое влияние в святой земле?
— Как соправитель и поклявшийся в верности союзник могущественного Ричарда, — ответил прелат, — как его родственник, если ему будет дозволено породниться с ним путем брака.
— Путем брака! — воскликнул Ричард; он был удивлен, но не так сильно, как ожидал прелат. — Ах, да!.. Эдит Плантагенет. Мне это приснилось? Или действительно кто-то говорил об этом? Я еще плохо соображаю после перенесенной лихорадки, да к тому же меня взволновали. Кто же это — шотландец, или хаким, или тот святой отшельник — намекал на возможность такой нелепой сделки?
— Скорей всего энгаддийский отшельник, — сказал архиепископ, — ибо он много потрудился для этого дела. Так как недовольство государей стало явным, а разрыв между ними — неизбежным, он много раз совещался и с христианской стороной и с языческой, чтобы добиться примирения, в результате которого христианство достигнет хотя бы частично той цели, какую оно поставило перед собой в этой священной войне.
— Моя родственница — жена неверного! — воскликнул Ричард, сверкая глазами.
Прелат поспешил предотвратить вспышку его гнева.
— Разумеется, прежде всего надо получить согласие папы, и святой отшельник, хорошо известный в Риме, вступит в переговоры со святым отцом.
— Как? Не дожидаясь моего согласия?
— Конечно нет, — ответил архиепископ спокойным, вкрадчивым тоном. — Только при том непременном условии, если ты разрешишь.
— Я разрешу брак моей родственницы с неверным? — сказал Ричард; однако в его голосе звучала скорее нерешительность, чем явное осуждение предложенного плана. — Мне и во сне не снился такой мирный исход, когда я с носа моей галеры прыгнул на сирийский берег, подобно льву, кидающемуся на свою добычу! А теперь, Но продолжай, я буду терпеливо слушать.
Архиепископ, столь же довольный, сколь и изумленный тем, что его задача оказалась значительно более легкой, нежели он ожидал, поспешил напомнить Ричарду о примерах подобных браков в Испании, заключенных с одобрения папского престола, и о неисчислимых выгодах, которые весь христианский мир извлечет от союза между Ричардом и Саладином, скрепленного священными узами. Но с особым жаром и настойчивостью он говорил о возможности того, что Саладин, если предполагаемый брак состоится, переменит свою ложную веру на истинную.
— Султан выразил желание стать христианином? — спросил Ричард. — Если это правда, то ни одному королю в мире я не отдал бы руку моей родственницы или даже сестры столь охотно, как благородному Саладину, — хотя бы первый положил к ее ногам корону и скипетр, а другой мог предложить ей лишь свой верный меч и еще более верное сердце!
— Саладин слушал наших христианских проповедников, — несколько уклончиво сказал архиепископ, — меня, недостойного, и других; и так как он терпеливо внимал нашим речам и отвечал спокойно, то он, несомненно, уподобится головне, выхваченной из пламени. Magna est veritas, et prevalebit.[25] Больше того — энгаддийский отшельник, чьи слова редко бывают произнесены втуне, полон твердой уверенности, что близок день обращения сарацин и других язычников, для которых этот брак послужит толчком. Он читает будущее в движении звезд; умерщвляя плоть, он живет в тех отмеченных богом местах, где земля некогда хранила следы святых и где дух Ильи Фесвитянина, основателя его священного ордена, являлся ему, как он явился пророку Елисею, сыну Сафатову, когда накинул на него свою милость.
С тревогой во взгляде, нахмурившись, король Ричард слушал рассуждения прелата.
— Не знаю, — сказал он, — что происходит со мной; кажется мне, что христианские государи с их холодными умствованиями заразили и меня вялостью духа. В былое время, если бы такой брачный союз предложил мне мирянин, я тут же расправился бы с ним, а если бы это сделал какой-нибудь священнослужитель, я плюнул бы ему в лицо, как вероотступнику и приспешнику Ваала… А теперь такой совет кажется мне не столь уж нелепым. Почему, в самом деле, мне не искать дружбы и союза с сарацином, честным, справедливым, великодушным, который любит и почитает достойного врага как друга, между тем как христианские государи отступаются от своих союзников, изменяют божьему делу и заветам славного рыцарства. Но я возьму себя в руки и не буду думать о них. Я предприму лишь одну попытку воскресить, если это окажется возможным, благородный дух братского единения, если мне не удастся, тогда мы поговорим с тобой, архиепископ, о твоем предложении, которого я пока не принимаю, но и не отвергаю окончательно. Идем на совет, милорд, время не ждет. Ты говоришь, Ричард запальчив и горд… Ты увидишь, как он унизится и уподобится скромному дроку, которому он обязан своим прозвищем.
С помощью придворных король быстро облачился в короткую кожаную куртку и темный одноцветный плащ. Не надев на себя никаких знаков королевского достоинства, кроме золотой диадемы, он поспешил с архиепископом Тирским на совет, ожидавший лишь его прибытия, чтобы начать свое заседание.
Совет, как всегда, собрался в просторном шатре; перед входом развевалось большое знамя крестоносцев, и еще одно, па котором была изображена коленопреклоненная женщина с распущенными волосами и в беспорядочно накинутой одежде, олицетворявшая покинутую, страждущую иерусалимскую церковь; на нем был начертан девиз: Affictae sponsae ne oblivis-caris.[26]
Тщательно подобранная стража держалась поодаль от шатра, чтобы споры, нередко принимавшие весьма громкий и бурный характер, не доходили до постороннего слуха.
Итак, в ожидании прибытия Ричарда там собрались высшие руководители крестового воинства. Даже небольшое опоздание, происшедшее в силу описанных выше обстоятельств, враги ставили ему в вину; они перечисляли различные примеры его гордости и ничем не оправданных притязаний на верховенство, и в качестве одного из них приводили теперешнюю кратковременную задержку с открытием совета. Все старались укрепить друг в друге дурное мнение об английском короле и мстили за нанесенные каждому из них обиды тем, что подвергали самому злостному толкованию самые обыденные случаи. Возможно, это происходило потому, что все они испытывали невольное уважение к доблестному монарху, преодолеть которое могли бы лишь ценой необычайных усилий.
Они решили встретить Ричарда крайне сдержанно, выказав ему лишь те знаки почтения, какие были необходимы, чтобы соблюсти обязательный этикет. Но, когда участники Совета государей увидели величественную фигуру короля, его благородное лицо, слегка побледневшее после только что перенесенной болезни, его глаза, прозванные менестрелями сверкающими звездами битвы и победы, когда на них нахлынули воспоминания о его подвигах, почти превосходящих человеческие силы и доблесть, — все одновременно встали, даже завистливый французский король и угрюмый, оскорбленный эрцгерцог австрийский, встали в едином порыве и разразились приветственными кликами: «Боже храни короля Ричарда Английского! Да здравствует Ричард Львиное Сердце!»
Открытое, дышавшее искренностью лицо Ричарда сияло, как восходящее летнее солнце, когда он благодарил собравшихся и выражал удовольствие, что вновь находится среди своих царственных соратников по крестовому походу.
— Мне хотелось бы сказать всего несколько слов, — обратился он к собранию, — касающихся столь недостойного предмета, как я сам, пусть даже это немного задержит наше совещание на благо христианства и на пользу нашему священному делу.
Государи заняли свои места, и воцарилась глубокая тишина.
— Сегодня, — продолжал английский король, — большой церковный праздник. В такой день христиан нам подобает примириться со своими братьями и покаяться друг перед другом в своих заблуждениях. Благородные государи и вы, духовные отцы нашего священного похода, Ричард — воин, и рука повинуется ему лучше, нежели язык… а его язык слишком привык к грубой речи, свойственной людям его ремесла. Но из-за поспешных слов Плантагенета и его необдуманных поступков не отступайтесь от благородного дела освобождения Палестины, не отказывайтесь от земной славы и вечного спасения, которые если и можно заслужить, то лишь здесь, не отказывайтесь из-за того, что один воин действовал, быть может, слишком поспешно, а его слова были жестки, как стальные доспехи, которые он носит с детства. Если Ричард провинился перед кем-нибудь из вас, Ричард искупит свою ошибку словом и делом… Благородный брат мой король Франции, имел ли я несчастье оскорбить тебя?
— Повелитель Франции не может ни в чем упрекнуть повелителя Англии, — ответил Филипп с королевским достоинством, пожимая в то же время руку, протянутую ему Ричардом. — И какое бы решение я ни принял относительно дальнейшей судьбы нашего дела, оно будет подсказано мне обстоятельствами, возникшими в моем собственном королевстве, но, конечно, не завистью или неприязнью к моему доблестному царственному брату.
— Австрия, — сказал Ричард, подходя к эрцгерцогу и глядя на него одновременно чистосердечно и величественно; Леопольд встал, как бы помимо своей воли, подобно автомату, чьи движения зависят от какого-нибудь внешнего возбудителя. — Австрия считает, что имеет основания быть в обиде на Англию; Англия — что у нее есть причина к неудовольствию Австрией. Пусть же они простят друг друга, дабы не нарушался мир между европейскими державами и согласие среди нашего воинства. Сейчас мы вместе подняли стяг более славный, чем все, когда-либо осенявшие земного государя, — стяг вечного спасения; да не будет между нами вражды из-за эмблем нашего земного величия. Но все же пусть Леопольд вернет знамя Англии, если оно находится у него, и тогда Ричард скажет, правда единственно из любви к святой церкви, что он раскаивается в своей горячности, побудившей его оскорбить государственный флаг Австрии.
Эрцгерцог стоял угрюмый и недовольный, опустив глаза; его лицо все больше мрачнело от сдерживаемого гнева, которому страх и отсутствие сообразительности препятствовали излиться в словах.
Патриарх Иерусалимский поспешил прервать неловкое молчание и засвидетельствовать, что эрцгерцог австрийский торжественной клятвой снял с себя подозрение в какой-либо причастности, прямой или косвенной, к посягательству на английское знамя.
— В таком случае мы были крайне несправедливы к благородному эрцгерцогу, — сказал Ричард, — и, моля о прощении за то, что мы обвинили его в столь подлом проступке, мы протягиваем ему нашу руку в знак восстановления мира и дружбы… Но что это? Австрия отказывается принять нашу руку без перчатки, как прежде отказалась принять нашу латную перчатку! Как! Нам не суждено быть ни его союзником на мирном поприще, ни его противником на поле брани? Что ж, пусть будет так. Мы принимаем то неуважение, с каким он к нам относится, в качестве наказания за все зло, что мы, возможно, причинили ему в запальчивости, и полагаем наши счеты на этом законченными.
Он произнес эти слова скорее с величественным, чем с презрительным видом и отвернулся от эрцгерцога. Когда он отвел свой взгляд, австриец, по-видимому, почувствовал такое же облегчение, какое испытывает непослушный, ленивый ученик, лишь только строгий учитель перестает на него смотреть.
— Благородный граф Шампанский, достославный маркиз Монсерратский, доблестный гроссмейстер тамплиеров — я пришел сюда покаяться, как на исповеди. Есть у вас какие-нибудь обвинения против меня, и притязаете ли вы на удовлетворение?
— Я не знаю, на чем они могли бы быть основаны, — ответил сладкоречивый Конрад, — если не считать того, что король Англии отнимает у своих бедных братьев по оружию всю славу, какую они надеялись завоевать в этом походе.
— Мое обвинение, коль скоро мне предложено высказаться, — начал гроссмейстер тамплиеров, — тяжелее и серьезнее, чем обвинение маркиза Монсерратского. Возможно, некоторые сочтут, что воину-монаху, каким я являюсь, не пристало подымать свой голос, когда столько благородных государей хранят молчание. Однако интересы всего нашего воинства, равно как и благородного короля Англии, требуют, чтобы кто-нибудь открыто высказал ему в лицо те обвинения, которые в немалом количестве предъявлялись ему в его отсутствие. Мы восхваляем и почитаем мужество и великие подвиги короля Англии, но мы печалимся, что он при любых обстоятельствах стремится первенствовать и господствовать над нами, чему независимым государям не пристало подчиняться. Мы готовы многим добровольно поступиться из уважения к его отваге, его рвению, его богатству и могуществу; но он считает себя вправе все захватывать, не оставляя ничего, что мы могли бы уступить ему из учтивости и любезности, и тем низводит своих союзников до положения вассалов и слуг, роняет в глазах воинов и подданных престиж нашей власти, которую мы больше не можем самостоятельно осуществлять. Коль скоро доблестный Ричард пожелал от нас правды, он не должен ни удивляться, ни гневаться, слушая того, кому запрещены всякие помыслы о мирской славе, для кого светская власть — ничто, вернее — кто считается с ней лишь в той мере, в какой она способствует процветанию храма господня и повержению льва, рыскающего в поисках добычи, которую он мог бы пожрать. Итак, повторяю: Ричард не должен ни удивляться, ни гневаться, слушая такого человека, как я, говорящего правду в ответ на его вопрос. И я знаю, что правду моих слов признают в душе все, кто слышит меня, хотя чувство уважения заставляет их безмолвствовать.
Вся кровь прилила к лицу Ричарда, когда гроссмейстер открыто, не пытаясь смягчить свои обвинения, порицал его действия. Одобрительный шепот, который послышался после речи тамплиера, ясно показывал, что почти все присутствующие считают справедливыми выдвинутые упреки. Объятый яростью и в то же время огорченный, Ричард все же понимал, что, дав волю душившей его злобе, он тем самым даст своему хладнокровному и осторожному обвинителю преимущество над собой, к чему тот главным образом и стремился. Поэтому он сделал над собой огромное усилие и молчал до тех пор, пока не прочел про себя «Отче наш», как велел ему поступать духовник в тех случаях, когда им начинал овладевать гнев. Затем король заговорил спокойно, но не без горечи, особенно вначале:
— Да так ли это? Неужели надо было нашим братьям столь старательно отмечать несдержанность нашего нрава, грубость и стремительность, с какой проявлялось наше усердие, которое иногда вынуждало нас отдавать приказы, если для совещания не было времени? Мне не могло прийти в голову, что подобные обиды, нанесенные мною случайно и непредумышленно, могли так глубоко запасть в сердца моих союзников по этому священнейшему походу, что из-за меня они отнимут руки от плуга, когда борозда уже почти закончена, из-за меня они свернут с прямой дороги в Иерусалим, которая уже открылась перед ними благодаря их мечам. Напрасно я думал, что мои скромные заслуги могут перевесить необдуманно совершенные мною ошибки… что те, кто не забыл, как я рвался вперед на приступ, помнят и то, что при отступлении я всегда бывал последним… Если я водружал свое знамя на завоеванном поле сражения, то это была единственная награда, к которой я стремился, между тем как другие делили добычу. Я мог назвать завоеванные города своим именем, но предоставлял владеть ими другим. Если я упорно настаивал на смелых решениях, то ведь я и не щадил ни своей крови, ни крови моего народа, столь же смело приводя их в исполнение… Если в спешке похода или горячке битвы я принимал на себя начальство над воинами других, я всегда относился к ним как к своим, покупая на собственные средства продовольствие и лекарства, которые их государи не имели возможности приобрести… Но мне стыдно напоминать вам о том, что все, кроме меня, кажется, забыли. Поговорим лучше о будущем, о том, что нам предстоит делать. Верьте мне, братья, — продолжал Ричард, и его лицо загорелось страстным порывом, — ни гордость, ни ярость, ни честолюбие Ричарда не станут камнем преткновения на пути, на который церковь и слава призывают вас как бы трубным гласом архангела. О нет, нет! Я не переживу мысли, что мои ошибки и слабости послужили к разрушению благородного содружества присутствующих здесь государей. Я отрубил бы своей правой рукой левую, если бы это могло послужить доказательством моей искренности. Я добровольно уступлю вам право начальствовать над воинством, даже над моими вассальными подданными. Пусть их поведут те государи, которых вы назначите, а их король, всегда готовый обменять предводительский жезл на копье простого рыцаря, будет служить под знаменем Бо-Сеан в рядах тамплиеров или же под знаменем Австрии, если Австрия поставит во главе своих войск достойного человека. А если вы устали от этого похода и чувствуете, что от доспехов на вашем изнеженном теле появляются ссадины, тогда оставьте Ричарду всего десять или пятнадцать тысяч воинов, чтобы завершить выполнение данного вами обета. И когда Сион будет завоеван, — воскликнул он, размахивая простертой ввысь рукой, словно водружая знамя креста над Иерусалимом, — когда Сион будет завоеван, мы напишем на его воротах не имя Ричарда Плантагенета, а имена тех благородных государей, которые дали ему средства к победе!
Грубое красноречие и решительное выражение лица война-короля подняли упавший дух крестоносцев, вновь пробудили в них благочестивое рвение и, направив их внимание на главную цель похода, заставили большую часть присутствующих покраснеть от стыда за мелочность тех поводов для недовольства, которые они прежде принимали так близко к сердцу. Глаза зажигались огнем, встречая взгляд другого, послышавшиеся с разных сторон возгласы заражали мужеством. Они вспомнили военный клич, раздавшийся в ответ на проповеди Петра Пустынника, и все как один громко воскликнули:
— Веди нас, доблестный Ричард Львиное Сердце, нет никого достойней тебя вести за собою храбрецов. Веди нас… На Иерусалим, на Иерусалим! Такова воля божья… Такова воля божья! Да будет благословен тот, кто приложит руку к ее осуществлению!
Этот крик, столь неожиданный и столь единодушный, был услышан за кольцом часовых, охранявших шатер совета, и достиг ушей крестоносцев, которые, пребывая в бездействии и изнуренные болезнями и климатом, стали, подобно своим вождям, терять бодрость духа. Однако появление Ричарда, снова полного сил, и хорошо знакомый клич, который доносился из палатки, где собрались государи, сразу же вновь зажег их сердца воодушевлением, и тысячи, десятки тысяч голосов откликнулись: «Сион, Сион! Война, война… немедленно в битву с неверными! Такова воля божья, такова воля божья!»
Радостные крики снаружи, в свою очередь, усилили воодушевление, царившее внутри шатра. Те, кто на самом деле остался равнодушен, боялись, во всяком случае в данный момент, казаться холоднее других. Теперь разговор шел только о победоносном походе на Иерусалим по окончании срока перемирия и о тех мерах, которые тем временем должны быть приняты для снабжения и пополнения армии. Когда заседание совета кончилось, все его участники, по-видимому, были полны благородного пыла; у большинства, впрочем, он быстро погас, а у иных никогда не зажигался.
К последним принадлежал и маркиз Конрад и гроссмейстер тамплиеров, вместе возвращавшиеся к себе, сильно не в духе и недовольные событиями дня.
— Я всегда говорил тебе, — сказал тамплиер со свойственным ему холодным, сардоническим выражением лица, — что Ричард прорвет непрочные тенета, расставляемые тобой на его пути, как лев — паутину. Ты видишь, стоило ему заговорить, и его слова взволновали этих непостоянных глупцов с такой же легкостью, с какой вихрь подхватывает раскиданные по земле соломинки и по своему желанию то сметает их в кучу, то уносит в разные стороны.
— Когда порыв ветра стихнет, — сказал Конрад, — соломинки, плясавшие под его дуновением, снова опустятся на землю.
— Но неужели ты не понимаешь, — продолжал тамплиер, — что даже в том случае, если от новых завоевательных планов откажутся и они будут навсегда похоронены, а каждый из этих могущественных государей снова начнет руководствоваться лишь своим скудным умом, Ричард все-таки, вероятно, сможет стать иерусалимским королем путем соглашения и заключит договор с султаном на тех условиях, которые, по твоему мнению, он должен был бы с презрением отвергнуть?
— Ну, клянусь Магундом и Термагантом, ибо христианские клятвы вышли из моды, — сказал Конрад, — ты, кажется, думаешь, что гордый король Англии согласен породниться с язычником султаном? Моя политика в том и состояла, чтобы, включив этот пункт, сделать весь договор омерзительным для Ричарда… Для нас одинаково плохо, станет ли он нашим повелителем в силу соглашения или в результате победы.
— В твоей политике ты не принял в расчет способность Ричарда все переварить. Я знаю о его намерениях из тех слов, что архиепископ успел мне шепнуть… Да и твой ловкий ход со знаменем произвел такое же впечатление, словно дело шло о двух локтях расшитого шелка. Маркиз Конрад, твой ум начинает слабеть. Я больше не буду полагаться на твои хитро сплетенные замыслы, а приму свои меры. Знаешь ли ты о людях, которых сарацины называют хариджитами?
— Разумеется, — ответил маркиз. — Это неистовые, одержимые фанатики, посвятившие свою жизнь распространению религии, — нечто вроде тамплиеров, с той лишь разницей, что они, как известно, никогда не медлят с исполнением своих обетов.
— Не шути, — нахмурившись, сказал монах. — Знай, что один из этих людей дал кровавую клятву изрубить на куски нашего островного короля, как главного врага мусульманской религии.
— Весьма здравомыслящий язычник, — заметил Конрад. — Пусть в награду Мухаммед даст ему место у себя в раю.
— Он был схвачен в лагере одним из наших оруженосцев и при допросе с глазу на глаз откровенно признался мне в своем твердом, непреклонном намерении, — сказал гроссмейстер.
— Да простит бог того, кто помешал этому весьма здравомыслящему хариджиту выполнить его намерение! — воскликнул Конрад.
— Он мой пленник, — продолжал тамплиер, — и, как ты сам понимаешь, лишен возможности с кем-либо общаться… Но из заточения убегают…
— Цепь оставляют не запертой на замок, и пленник исчезает, — перебил маркиз. — Существует старинная поговорка: «Единственная надежная темница— это могила».
— Убежав, он возобновит свои попытки, — продолжал воин-монах, — ибо природа этих ищеек такова, что, учуяв след добычи, они не оставляют его.
— Не будем больше говорить об этом, — сказал маркиз. — Мне ясен твой замысел… Он ужасен, но без крайних средств не обойтись.
— Я рассказал тебе все это, — пояснил тамплиер, — лишь для того, чтобы ты был настороже, ибо подымется страшный шум, и мы не можем заранее предвидеть, на кого обрушится ярость англичан. К тому же есть еще одна опасность: мой паж знает замыслы хариджита, — продолжал он. — Больше того— он сварливый, упрямый глупец, от которого я не прочь избавиться, так как он мешает мне, осмеливаясь смотреть своими собственными глазами, а не моими. Впрочем, наш святой орден предоставляет мне право применить нужные средства в подобных затруднительных положениях. Или погоди… Сарацин может найти в своей темнице острый кинжал; ручаюсь, он воспользуется им, чтобы вырваться на свободу, и это, несомненно, случится, как только паж войдет с едой для него.
— Это вполне осуществимый план, — сказал Конрад, — и все же…
— Все же и но, — изрек тамплиер, — слова для глупцов. Умные люди не колеблются и не отступают— они принимают решение и выполняют его.
Глава XX
В тенета красоты попавший лев
Не смеет даже гривою тряхнуть,
Не то что выпустить с угрозой
когти.
Так Геркулес сменил свою дубину
На прялку из-за красоты Омфалы.
Неизвестный авторНичего не подозревавший о предательском заговоре, о котором мы рассказали в конце предыдущей главы, Ричард, добившись, по крайней мере на время, полного единения вождей-крестоносцев и вдохнув в них решимость продолжать войну, был озабочен теперь тем, чтобы восстановить спокойствие в своей семье. Он снова обрел способность к здравому суждению и хотел подробно разобраться в обстоятельствах, которые повели к пропаже его знамени, и в характере тех отношений, какие существовали между его родственницей Эдит и изгнанным шотландским рыцарем.
Итак, к немалому испугу королевы и ее приближенных, к ним явился сэр Томас де Во и потребовал, чтобы леди Калиста Монфокон, первая придворная дама королевы, " безотлагательно явилась к королю Ричарду,
— Что мне говорить, мадам? — вся дрожа, спросила Калиста у королевы. — Он убьет всех нас.
— О нет, не бойтесь, мадам, — вмешался деВо. — Его величество помиловал шотландского рыцаря, который был главным преступником, и отдал его мав^ ританскому врачу… Он не будет суров с женщиной, пусть даже виновной перед ним.
— Придумай какую-нибудь замысловатую историю, Калиста, — сказала Беренгария. — У моего мужа слишком мало времени, чтобы доискиваться правды.
— Расскажи, как это на самом деле было, — сказала Эдит, — не то я расскажу вместо тебя.
— С милостивого разрешения вашего величества, — заметил де Во, — совет леди Эдит, по-моему, правильный: хотя король Ричард охотно верит тому, что вашей милости угодно ему говорить, я, однако, сомневаюсь, чтобы он так же снисходительно отнесся к леди Калисте, особенно в данном случае.
— Лорд Гилсленд прав, — согласилась леди Калиста, крайне взволнованная мыслью об ожидавших ее расспросах. — К тому же, если у меня и хватит присутствия духа, чтобы сочинить какую-нибудь правдоподобную историю, видит бог, я никогда не осмелюсь рассказать ее.
Де Во привел столь чистосердечно настроенную леди Калисту к королю, и она, как и намеревалась, откровенно рассказала ему о той ловушке, с помощью которой несчастного рыцаря Леопарда заставили покинуть свой пост. При этом она сняла всякую вину с леди Эдит, не сомневаясь, что та и сама не преминет снять с себя вину, и возложила всю ответственность на свою госпожу королеву, чье участие в этой проделке, как она знала, легче всего найдет прощение у Львиного Сердца. Ричард и впрямь страстно, почти до самозабвения любил жену. Первая вспышка его гнева давно прошла, и он не склонен был слишком строго осуждать за то, чего уже нельзя было исправить. Лукавая леди Калиста, с раннего детства привыкшая разбираться в придворных интригах и подмечать малейшие проявления монаршей воли, поспешила словно на крыльях возвратиться к королеве и передать ей от имени короля, что он скоро посетит ее. От себя придворная дама добавила основанные на собственных наблюдениях комментарии, из которых следовало, что Ричард намеревается проявить лишь столько суровости, сколько необходимо, чтобы его царственная супруга почувствовала раскаяние в своей проделке, а затем милостиво простит королеву и всех остальных участниц.
— Стало быть, ветер благоприятный, Калиста? — сказала королева, весьма обрадованная этими известиями. — Поверь мне, Ричарду, хотя он и великий полководец, вряд ли удастся провести нас; и, как говорят пиренейские пастухи в моей родной Наварре, многие приходят зе шерстью, а уходят сами остриженные.
Получив от Калисты все сведения, какие та могла сообщить, царственная Беренгария переоделась в платье, которое ей больше всего было к лицу, и спокойно стала поджидать прибытия доблестного Ричарда.
Он пришел и очутился в положении повелителя, который вступил на территорию навлекшей на себя его недовольство провинции в полной уверенности, что ему предстоит лишь дать хороший нагоняй и принять изъявления покорности; но неожиданно он столкнулся с открытым неповиновением и мятежом. Беренгария прекрасно знала силу своего обаяния и безграничную любовь Ричарда; она не сомневалась, что теперь, когда первый порыв его бешеного гнева благополучно миновал, она может за себя постоять. Вовсе не собираясь выслушивать заготовленные королем упреки, полностью заслуженные ею за легкомысленное поведение, она старалась преуменьшить и даже отрицать свою вину, изобразив все как невинную шутку. Она придумывала множество милых отговорок и уверяла, будто не давала Нектабанусу поручения завлечь рыцаря дальше края горы, на которой он стоял стражем, и, уж конечно — это соответствовало действительности — не предполагала, что сэра Кеннета приведут к ней в шатер. Королева защищалась с большим жаром, а затем с еще большей горячностью напала на Ричарда, обвиняя его в нелюбезности, проявленной им отказом даровать ей ничтожную милость и пощадить злополучного рыцаря, который из-за ее необдуманной шалости был судим по военным законам и едва не поплатился жизнью. Она плакала и рыдала, снова и снова упрекая в неумолимости своего мужа, чья жестокость угрожала сделать ее навеки несчастной, ибо она никогда не смогла бы отделаться от мысли, что невольно послужила косвенной причиной такой трагедии. Видение умерщвленной жертвы преследовало бы ее во сне, и кто знает — такие случаи ведь не редки, — быть может, призрак этого человека стоял бы по ночам у ее ложа, не давая заснуть. И всеми этими терзаниями она была бы обязана суровости того, кто, утверждая, будто он готов на все ради одного ее взгляда, не пожелал воздержаться от акта жалкой мести, хотя он принес бы ей столько горя.
Весь этот поток женского красноречия сопровождался обычными доводами в виде слез и вздохов, причем тон и жесты королевы давали понять, что ее неудовольствие вызвано не задетой гордостью и не упрямством, а оскорблявшим ее чувства сознанием, что она не занимает в сердце мужа того места, на которое вполне могла рассчитывать.
Добрый король Ричард был в большом затруднении. Он тщетно пытался образумить ту, кого сомнение в его любви делало глухой к любому доводу; в то же время он не мог заставить себя прибегнуть к строгости и использовать свои законные права по отношению к столь прекрасному созданию, объятому безрассудным гневом. Ему пришлось поэтому ограничиться обороной, он ласково журил Беренгарию за подозрения и пытался ее успокоить. Он внушал ей, что она не должна вспоминать о прошлом с угрызениями совести или со страхом перед сверхъестественными силами, ибо сэр Кеннет жив и здоров и отдан им знаменитому арабскому врачу, а тот, несомненно, лучше кого бы то ни было сумеет сохранить ему жизнь. Однако своими словами он задел самое больное место, и королева снова опечалилась при мысли, что сарацин — какой-то лекарь! — добился милости, о которой она на коленях, с непокрытой головой тщетно умоляла своего мужа. При этом новом упреке терпение Ричарда стало истощаться, и он сурово сказал:
— Беренгария, этот врач спас мне жизнь. Если она имеет ценность в твоих глазах, ты не должна была бы завидовать и более высокой награде, чем та единственная, какую он согласился от меня принять.
Королева прекратила свои жеманные сетования, поняв, что дошла до такого предела, переступать который было бы уже опасно.
— Мой Ричард, — сказала она, — почему ты не привел этого мудреца ко мне, чтобы королева Англии могла показать, как она ценит того, кто не дал угаснуть светочу рыцарства, славе Англии и солнцу всей жизни и надежды бедной Беренгарии?
На этом супружеские пререкания закончились; но так как справедливость требовала, чтобы кто-нибудь понес наказание, то король и королева единодушно возложили всю вину на посредника Нектабаиуса, который (к этому времени королеве уже достаточно наскучили выходки жалкого карлика) был приговорен к изгнанию вместе со своей царственной супругой Геневрой. Несчастный Нектабанус избег дополнительной кары в виде порки только благодаря заверениям королевы, что он уже был подвергнут телесному наказанию. Так как в ближайшее время должны были направить посла к Саладину, чтобы известить его о решении Совета крестоносцев возобновить военные действия по истечении срока перемирия, и так как Ричард намеревался послать султану ценный подарок в знак признательности за ту великую пользу, которую принесли ему услуги эль-хакима, то король и королева решили добавить к этому подарку злосчастных супругов. Подобные уродцы по своей причудливой внешности и слабоумию как раз подходили для того, чтобы один монарх мог преподнести их другому.
В этот день Ричарду предстояло выдержать встречу еще с одной женщиной, Он шел на это свидание относительно спокойно; хотя Эдит отличалась красотой и внушала своему царственному родственнику большое уважение и хотя она действительно могла чувствовать себя оскорбленной его несправедливыми подозрениями, между тем как Беренгария только делала вид, что обижена, — она не была, однако, ни женой, ни любовницей Ричарда, и ее упреков, пусть даже обоснованных, он боялся меньше, чем несправедливых и беспочвенных упреков королевы. Он выразил желание поговорить с Эдит наедине, и его ввели в ее покои, примыкавшие к покоям королевы, две коптские рабыни которой во время беседы стояли на коленях в самом отдаленном углу. Тонкое черное покрывало свободными складками окутывало высокую стройную фигуру благородной Эдит. На ней не было никаких украшений. Когда Ричард вошел, она встала и склонилась в глубоком поклоне, затем по знаку короля снова села, когда он занял место рядом с ней, и, не произнося ни слова, ждала, пока он выразит свою волю.
Ричард, который обычно держал себя с Эдит просто, на что ему давало право их родство, почувствовал холодность оказанного ему приема и начал разговор несколько смущенно.
— Наша прекрасная кузина, — сказал он наконец, — сердита на нас. Признаемся, серьезные обстоятельства заставили нас ошибочно заподозрить ее в поступке, противоречащем всему, что нам прежде было известно о ней. Но пока люди блуждают в тумане земной юдоли, они неизбежно принимают тени за действительность. Неужели моя прекрасная кузина не может простить своего чересчур вспыльчивого родственника Ричарда?
— Кто может отказать в прощении Ричарду, — ответила Эдит, — если только Ричард сумеет оправдать себя перед королем?
— Полно, любезная родственница, — ответил Львиное Сердце, — все это слишком выспренне. Клянусь святой девой, такой печальный вид и это широкое траурное покрывало могут навести на мысль, что ты только что овдовела или по меньшей мере лишилась нежно любимого жениха. Развеселись… Ты, конечно, слышала, что у тебя нет оснований печалиться… О чем же ты скорбишь?
— О потерянной чести Плантагенетов, о славе, покинувшей царственный род моего отца.
Ричард нахмурился.
— Потерянная честь! Слава, покинувшая наш род! — раздраженно повторил он. — Впрочем, моя кузина Эдит имеет особые права. Я судил о ней слишком поспешно. Она имеет поэтому основание судить меня слишком строго. Но скажи мне наконец, в чем я провинился.
— Плантагенет, — ответила Эдит, — либо простил бы оскорбление, либо покарал бы за него. Ему не подобает отдавать свободных людей, христиан и доблестных рыцарей в рабство неверным. Ему не подобает принимать половинчатые решения, сообразуясь с выгодой, или, даровав человеку жизнь, лишать его свободы. Смертный приговор несчастному был бы жестокостью, но имел бы хоть видимость правосудия; осуждение его на рабство и изгнание было неприкрытым тиранством.
— Я вижу, моя прекрасная кузина, — заметил Ричард, — что ты принадлежишь к числу тех красавиц, которые отсутствующего возлюбленного ставят ни во что или считают как бы умершим. Имей терпение: десяток быстрых всадников может пуститься вдогонку и исправить ошибку, если твой поклонник является обладателем некоей тайны, делающей его смерть более желательной, чем изгнание.
— Прекрати непристойные шутки! — ответила Эдит, покраснев. — Подумай лучше о том, что ради своей прихоти ты отсек здоровую ветвь, лишил крестоносное воинство одного из храбрейших поборников великого дела и отдал слугу истинного бога в руки язычника. Людям, столь же подозрительным, каким оказался ты сам, ты дал повод говорить, что Ричард Львиное Сердце изгнал самого храброго из своих рыцарей, опасаясь, как бы тот не сравнялся с ним в воинской славе.
— Я!.. Я! — воскликнул Ричард, на этот раз действительно задетый за живое. — Я завидую чьей-нибудь славе? Я хотел бы, чтобы он очутился здесь и заявил о своем желании доказать, что он равен мне! Я пренебрег бы своим королевским саном и встретился бы с ним по-рыцарски на ристалище, чтобы все увидели, есть ли в сердце Ричарда Плантагенета место для страха или зависти к отваге любого смертного. Полно, Эдит, ты говоришь не то, что думаешь. Пусть гнев или печаль из-за разлуки с возлюбленным не делает тебя несправедливой по отношению к родственнику, для которого, несмотря на всю горячность твоего нрава, нет на земле человека, чью репутацию он ставил бы выше, нежели твою.
— Разлука с возлюбленным? — сказала леди Эдит. — О да, вполне можно назвать моим возлюбленным того, кто столь дорого заплатил за право так именоваться. Хоть я и недостойна этой чести, я была для него как бы путеводной звездой, которая вела его вперед по благородной стезе рыцарства; но неправда, что я забыла свое высокое положение или что он осмелился на большее, чем ему позволяло его положение, — пусть это утверждает даже король.
— Моя прекрасная кузина, — сказал Ричард, — не вкладывай в мои уста слов, которых я не произносил. Я не говорил, что ты оказывала этому человеку большую милость, нежели та, какую добрый рыцарь, независимо от своего происхождения, мог заслужить со стороны принцессы крови. Но, клянусь пресвятой девой, я кое-что понимаю в любовных делах: все начинается с молчаливого почитания и поклонения издали, но как только представится случай, отношения становятся более близкими, и тогда… Впрочем, не стоит говорить об этом с той, кто считает себя умнее всех на свете.
— Я охотно выслушаю советы моего родственника, — возразила Эдит, — если они не оскорбительны для моего высокого звания и достоинства.
— Короли, моя прекрасная кузина, не советуют, а скорее повелевают.
— Султаны действительно повелевают, но это потому, что они властвуют над рабами.
— Полно, со временем ты, может быть, перестанешь презирать султана, коль скоро ты так высоко ставишь шотландца, — сказал король. — По-моему, Саладин крепче держит свое слово, чем этот Вильгельм Шотландский, которого уж воистину справедливо прозвали Львом. Ведь Вильгельм подло обманул меня, не прислав обещанной помощи. Знаешь, Эдит, ты, пожалуй, доживешь до того, что предпочтешь честного турка вероломному шотландцу.
— Нет, никогда! — ответила Эдит. — Если даже сам Ричард перейдет в веру мусульман, ради изгнания которых из Палестины он переплыл моря.
— Тебе угодно, чтобы последнее слово осталось за тобой, — сказал Ричард, — пусть будет так. Думай обо мне что хочешь, прелестная Эдит, а я никогда не забуду, что ты моя ближайшая и любимая родственница.
Король учтиво попрощался, но результат посещения удовлетворил его очень мало.
Шел уже четвертый день с тех пор, как сэр Кеннет был увезен из лагеря. Король Ричард сидел у себя в шатре, наслаждаясь вечерним западным ветром, который нес на своих крыльях необычную прохладу и, казалось, долетал сюда из веселой Англии, чтобы освежить ее отважного монарха, постепенно восстанавливающего силы, столь необходимые ему для осуществления задуманного грандиозного плана. Ричард был один, так как де Во он отправил в Аскалон поторопить с доставкой подкреплений и припасов, а большая часть остальных приближенных занималась всякого рода делами, готовясь к возобновлению военных действий и к большому смотру армии крестоносцев, назначенному на следующий день. Ричард сидел, прислушиваясь к деловитому гулу лагеря, стуку, доносившемуся из походных кузниц, где ковались подковы, и из палаток оружейников, чинивших доспехи. Голоса воинов, проходивших мимо шатра, звучали громко и весело, и самый тон разговоров вселял уверенность в их безграничной отваге и служил, казалось, предзнаменованием грядущей победы. В то время как Ричард с наслаждением упивался всеми этими звуками и предавался мечтам о торжестве над врагом и славе, которые они предвещали, один из конюших сказал ему, что гонец от Саладина ожидает перед шатром.
— Немедленно впусти его, — распорядился король, — и с должным почетом, Джослин.
Английский рыцарь ввел посланца; то был, по-видимому, всего лишь нубийский раб, обладавший, однако, замечательной внешностью. Прекрасного роста, великолепно сложенный, с властными чертами лица, он, хотя и был черен как смола, в остальном ни-> чем не обнаруживал негритянского происхождения. На черных как вороново крыло волосах была белоснежная чалма, а с плеч ниспадал короткий плащ того же цвета, открытый спереди и с прорезями для рук; из-под плаща виднелась короткая куртка из выделанной леопардовой шкуры, на ширину ладони не доходившая до колен. Его сильные, мускулистые руки и ноги были обнажены; легкие сандалии, серебряные браслеты и ожерелье довершали его наряд. Широкий прямой меч с рукоятью из самшита и в ножнах, отделанных змеиной кожей, висел у него на поясе. В правой руке он держал короткий дротик с широким блестящим стальным наконечником длиною в пядь, а левой вел на поводке из крученых золотых и серебряных нитей благородного охотничьего пса огромных размеров.
Гонец простерся ниц, обнажив при этом плечи в знак покорности; он коснулся лбом земли, затем приподнялся и, стоя на одном колене, протянул королю сверток; шелковый платок, обвернутый вокруг другого платка из золотой парчи, в котором лежало письмо Саладина на арабском языке с переводом на англонорманский. Переделанное на более современный лад оно звучало бы так:
«Саладин, царь царей, Мелеку Рику, Льву Англии. Поскольку из твоего последнего послания мы узнали, что ты войну предпочел миру и вражду между нами — нашей дружбе, нам остается лишь полагать, что тебя постигла слепота, и надеяться вскоре убедить тебя в твоей ошибке с помощью непобедимого воинства нашей тысячи племен, когда Мухаммед, пророк божий, и аллах, бог пророка, разрешат спор между нами. За всем тем мы высоко ценим твое благородство и те дары, которые ты прислал нам, и двух карликов, необычайных в своем уродстве, подобно Эзопу, и веселых, как лютня Исаака. В отплату за эти знаки твоей великодушной щедрости мы посылаем тебе нубийского раба по имени Зоххак, о котором прошу тебя не судить по цвету его кожи, как делают глупцы, а памятовать, что плод с темной кожурой превосходит на вкус все остальные. Знай, что он ревностен в исполнении приказов своего господина, как Рустам из Заблестана; он также достаточно мудр, чтобы подать совет, когда ты научишься разговаривать с ним, ибо его повелитель речи обречен на молчание среди стен из слоновой кости своего дворца. Мы поручаем его твоим заботам в надежде, что недалек, возможно, тот час, когда он окажет тебе добрую услугу. На этом мы прощаемся с тобой; уповая, что наш святой пророк откроет все же твоим глазам истину, света которой ты пока лишен, мы желаем быстрого восстановления твоего королевского здоровья, чтобы аллах мог рассудить нас с тобой на поле честной битвы».
Послание было скреплено подписью и печатью султана.
Ричард молча разглядывал нубийца, который стоял перед ним, устремив взор в землю, скрестив руки на груди, напоминая черную мраморную статую искуснейшего мастера, ожидающую, чтобы Прометей вдохнул в нее жизнь. Король Англии — как впоследствии метко говорили о его преемнике Генрихе VIII — любил смотреть на человека; мускулатура и пропорциональное телосложение того, кого он сейчас рассматривал, ему очень понравились, и он спросил на лингва-франка:
— Ты язычник?
Раб покачал головой и, подняв палец ко лбу, перекрестился в доказательство того, что он христианин, затем снова неподвижно застыл в смиренной позе.
— Нубийский христианин, разумеется, — сказал Ричард, — эти собаки язычники отрезали ему язык.
Немой снова медленно покачал головой в знак отрицания, простер указательный палец ввысь, а затем приложил его к своим губам.
— Я понимаю тебя, — сказал Ричард, — ты страдаешь из-за божьей кары, а не вследствие жестокости людей. Умеешь ли ты чистить доспехи и сможешь ли надеть их на меня в случае необходимости?
Немой утвердительно кивнул; он подошел к кольчуге, которая вместе со щитом и шлемом короля-рыцаря висела на столбе, подпиравшем крышу шатра, и с такой ловкостью и сноровкой взял ее в руки, что сразу показал свое безукоризненное знание обязанностей оруженосца.
— Ты понятлив и, несомненно, будешь полезным слугой… Ты будешь находиться в моих покоях и при моей особе, — сказал король, — это докажет, как высоко я ценю дар царственного султана. Так как у тебя нет языка, то ты не сможешь ничего разболтать и каким-нибудь неудачным ответом не будешь вынуждать меня к опрометчивым поступкам.
Нубиец снова простерся ниц, коснувшись лбом земли, затем встал и занял место в нескольких шагах от нового хозяина, как бы ожидая его распоряжений.
— О нет, приступай сразу же к своим обязанностям, — сказал Ричард. — Я вижу ржавчину на этом щите; а когда я буду потрясать им перед лицом Саладина, он должен быть блестящим и ничем не запятнанным, как честь султана и моя.
Снаружи раздался звук рога, и вскоре в шатер вошел сэр Генри Невил с пачкой донесений в руках.
— Из Англии, милорд, — сказал он, подавая ее королю.
— Из Англии, из нашей Англии! — повторил Ричард взволнованно-грустным тоном. — Увы! Они не представляют себе, как тяжко одолевали их повелителя горести и недуг, сколько неприятностей причинили ему робкие друзья и дерзкие враги! — Затем, распечатав донесение, он поспешно добавил: — Bat нам пишут не из мирной страны… В ней тоже идут раздоры. Невил, уходи: я должен один на свободе ознакомиться с этими известиями.
Невил вышел, и Ричард вскоре погрузился в чтение печальных новостей, о которых ему сообщали из Англии; он узнал о заговорах, раздиравших на части его родовые владения, о распре между его братьями Джоном и Джеффри, о несогласиях между ними обоими и верховным судьей Лонгчампом, епископом Элийским, о притеснениях феодалов и крестьянских восстаниях, которые повлекли за собой повсеместные неурядицы, а кое-где и кровавые столкновения. Подробности о событиях, унизительных для его гордости и умалявших его авторитет, сопровождались настоятельными указаниями самых мудрых и преданных советников на необходимость немедленного возвращения в Англию, ибо только его присутствие может дать надежду на спасение страны от всех ужасов междоусобицы, которой Франция и Шотландия не преминут воспользоваться. Объятый мучительным беспокойством, Ричард читал и вновь перечитывал зловещие послания, сравнивая известия, содержавшиеся в некоторых из них, с теми же фактами, изложенными в других несколько иначе. Вскоре он совершенно перестал замечать, что происходит вокруг него, хотя сидел, чтобы было прохладнее, у самого входа в шатер, у отдернутого полога, так что мог видеть стражу и других людей, находившихся снаружи, и был хорошо виден им.
Несколько дальше от входа, почти спиной к королю сидел нубийский раб, занятый работой, которую ему поручил новый хозяин. Он кончил приводить в порядок и чистить кольчугу и бригантину и теперь усердно трудился над павезой огромного размера, обитой стальными пластинками; Ричард часто пользовался ею при рекогносцировке уязвимых мест какого-нибудь укрепления или при его штурме, так как она защищала от метательного оружия лучше, чем узкий треугольный щит, применяемый в конном бою. На павезе не было ни королевских львов Англии, ни каких-либо других эмблем, которые могли привлечь внимание защитников стен, когда Ричард приближался к ним под ее прикрытием; поэтому все старание оружейника было направлено к тому, чтобы поверхность щита заблестела как зеркало, и это ему как будто вполне удалось. Рядом с нубийцем лежал, снаружи почти незаметный, большой пес; благородное животное, его товарищ по рабству, словно испуганное переходом к новому хозяину-королю, свернулось клубком у самых ног немого, опустив уши, уткнувшись мордой в землю и поджав под себя лапы и хвост.
В то время как монарх и его новый слуга занимались своими делами, еще одно действующее лицо крадучись выступило на сцену и замешалось в толпу английских воинов, десятка два которых несли стражу перед шатром; из опасения нарушить необычно задумчивое настроение своего повелителя, погруженного в работу, они вели себя, вопреки обыкновению, очень тихо. Впрочем, они были не более бдительны, чем всегда. Некоторые играли в камешки на деньги, другие шепотом разговаривали о предстоящей битве, а кое-кто улегся спать, завернувшись в свой зеленый плащ.
Среди беспечной охраны скользила тщедушная фигура невысокого старого турка в бедной одежде марабута, или дервиша-пустынника, одного из тех фанатиков, которые иногда отваживались заходить в лагерь крестоносцев, хотя их там постоянно встречали оскорблениями, а часто и пинками. Сластолюбие вождей крестоносцев и их привычка потакать своим беспутным прихотям вели к тому, что в их шатрах собиралась пестрая толпа музыкантов, куртизанок, евреев-торговцев, коптов, турок и всякого восточного сброда. Таким образом, никого не удивлял и не тревожил в лагере крестоносцев вид халата и чалмы, хотя их изгнание из святой земли было провозглашено целью похода. Когда, однако, щуплый человечек, описанный нами выше, приблизился настолько, что стража преградила ему путь, он сорвал с головы выцветшую зеленую чалму, и все увидели его бороду и брови, выстриженные как у заправского шута, и безумное выражение его странного, изборожденного морщинами лица и маленьких черных глаз, сверкавших, как гагат.
— Танцуй, марабут! — кричали воины, знавшие повадки этих странствующих фанатиков. — Танцуй, не то мы примемся хлестать тебя тетивами, пока ты не завертишься так, как никогда не вертелся запущенный школьниками волчок.
Так галдели нерадивые стражи, придя в восторг от того, что им есть кого помучить, подобно ребенку, поймавшему бабочку, или школьнику, отыскавшему птичье гнездо.
Марабут, словно обрадованный приказаниями воинов, подпрыгнул и с необычайной легкостью завертелся перед ними; тонкая, изможденная фигура, весь тщедушный вид делали его похожим на сухой лист, который крутится и вертится по воле зимнего ветра. На плешивой и бритой голове мусульманина встала дыбом единственная прядь волос, словно схваченная незримой рукой какого-то духа; и действительно, нужна была, казалось, сверхъестественная помощь для исполнения этой дикой, головокружительной пляски, при которой ноги танцующего едва касались земли. Крутясь в причудливой пантомиме, он кидался то туда, то сюда, перелетал с места на место, но все время приближался, хоть и едва заметно, ко входу в королевский шатер. Таким образом, когда, сделав несколько еще более высоких, чем раньше, прыжков, старик наконец упал обессиленный на землю, он находился уже почти в тридцати ярдах от короля.
— Дайте ему воды, — сказал один из воинов, — они всегда испытывают жажду после такой карусели.
— Воды, говоришь ты, Долговязый Аллен? — воскликнул другой лучник, подчеркивая свое пренебрежительное отношение к презренной жидкости. — Неужто тебе самому понравилось бы это питье после такой мавританской пляски?
— Черта лысого, получит он от нас хоть каплю воды, — вставил третий. — Мы сделаем из быстроногого старого язычника доброго христианина и научим его пить кипрское вино.
— Да, да, — сказал четвертый, — а если он будет артачиться, притащи рог Дика Хантера, из которого он поит слабительным свою кобылу.
Вокруг распростертого в изнеможении дервиша мгновенно собралась толпа; какой-то высокий воин посадил хилого старика, а другой поднес ему большую флягу вина. Не в силах вымолвить ни слова, марабут покачал головой и оттолкнул рукой напиток, запрещенный пророком. Но его мучители не утихомирились.
— Рог, рог! — воскликнул один из них. — Между арабом и арабской лошадью разница невелика, и обращаться с ними надо одинаково.
— Клянусь святым Георгием, он захлебнется! — сказал Долговязый Аллен. — К тому же грех тратить на языческого пса столько вина, сколько хватило бы доброму христианину на тройную порцию перед сном.
— Ты не знаешь турок и язычников, Долговязый Аллен, — возразил Генри Вудстол. — Уверяю тебя, дружище, что эта фляга кипрского заставит его мозги вертеться в сторону, как раз противоположную той, в какую они крутились во время танца, и, таким образом, поставит их на место… Захлебнется? Он так же захлебнется этим вином, как черная сука Бена подавится фунтом масла.
— Не жадничай, — сказал Томалин Блеклис, — не стыдно ли тебе жалеть о том, что бедному язычнику достанется на земле глоток питья, коль скоро ты знаешь, что он целую вечность не получит ни капли, чтобы охладить кончик своего языка?
— Это, пожалуй, — сказал Долговязый Аллен, — суровое наказание только за то, что он турок, каким был его отец! Кабы он был христианином, принявшим мусульманскую веру, тогда я согласился бы с вами, что самое жаркое пекло было бы для него подходящей зимней квартирой.
— Помолчи, Долговязый Аллен, — посоветовал Генри Вудстол, — право, у тебя слишком длинный язык; попомни мои слова, достанется тебе из-за него от отца Франциска, как уже однажды досталось за черноглазую сирийскую девку… Но вот и рог. Пошевеливайся, дружище, ну-ка разожми ему зубы рукоятью кинжала.
— Стойте, стойте… он согласен, — сказал Томалин. — Смотрите, смотрите, он знаками просит дать ему кубок… Не теснитесь вокруг него, ребята. Оор sey es, как говорят голландцы — идет как по маслу! Нет, стоит им только начать, как они становятся заправскими пьянчугами. Ваш турок дует вовсю и не поперхнется.
В самом деле, дервиш, то ли настоящий, то ли мнимый, единым духом осушил — или сделал вид, что осушил — большую флягу; когда она опустела, он отнял ее от губ и с глубоким вздохом лишь пробормотал: «Аллах керим», что означает «бог милостив». Громкий смех воинов, наблюдавших за этим обильным возлиянием, привлек внимание короля, и тот, погрозив пальцем, сердито сказал:
— Эй вы, бездельники, что за неуважение, что за беспорядок?
Все сразу же притихли, так как хорошо знали нрав Ричарда, который подчас допускал панибратство со стороны своих воинов, а временами, правда, не часто, требовал величайшего уважения. Они поспешили отойти на почтительное расстояние от короля и попытались оттащить и марабута, но тот, видимо, еще не пришел в себя от усталости либо совершенно захмелел от только что выпитого крепкого вина и не давал сдвинуть себя с места, сопротивляясь и издавая жалобные стоны.
— Оставьте его в покое, дурачье, — прошептал Долговязый Аллен товарищам. — Клянусь святым Христофором, вы выведете из себя нашего Дикона, и он того и гляди всадит кинжал кому-нибудь из нас в башку. Не трогайте старика: не пройдет минуты, и он будет спать как сурок.
В это мгновение король снова бросил на стражу недовольный взгляд, и все поспешно удалились, а дервиш, который, казалось, был не в силах шевельнуть ни одним суставом, остался лежать на земле. Через несколько секунд опять воцарилась тишина, нарушенная было неожиданным появлением марабута.
Глава XXI
…И Убийство,
Разбужено далеким стражем, волком,
Чей вой ему служил сигналом, к цели
Бесшумно, как Тарквиний одержимый,
Как призрак двинулось.
«Макбет»Прошло четверть часа после описанного события, и в течение этого времени ничто не нарушало тишины перед королевским шатром. Ричард сидел у входа, читая и предаваясь размышлениям; позади, спиной ко входу, нубийский раб продолжал начищать до блеска громадную павезу; впереди, на расстоянии сотни шагов, воины, несшие стражу, стояли, сидели или лежали на траве в молчании, предаваясь своим развлечениям, а на лужайке между ними и шатром лежало едва различимое под кучей лохмотьев бесчувственное тело марабута.
Однако блестящая поверхность только что прекрасно отполированного щита служила теперь нубийцу зеркалом, в котором он, к своему беспокойству и удивлению, вдруг увидел, что марабут слегка приподнял голову, словно осматриваясь вокруг себя; его движения были точно рассчитаны, что совершенно не вязалось с состоянием опьянения. Тотчас же он опустил голову, видимо, убедившись, что никто за ним не наблюдает, и стал будто бы случайно, стараясь ничем не выдать преднамеренности своих усилий, подползать все ближе и ближе к королю; время от времени он, однако, останавливался и застывал на месте, подобно пауку, который, направляясь к своей жертве, вдруг безжизненно замирает, когда ему кажется, что кто-то следит за ним. Такой способ передвижения заставил эфиопа насторожиться, и он, со своей стороны, украдкой приготовился вмешаться, как только в его вмешательстве возникнет необходимость.
Тем временем марабут почти незаметно скользил, как змея, или, вернее, как улитка, пока не очутился в десяти ярдах от Ричарда; тут он вскочил на ноги, прыгнул вперед, подобно тигру, и, молниеносно очутившись позади короля, замахнулся кинжалом, который прежде был спрятан у него в рукаве. Будь здесь вся армия доблестного монарха, она не могла бы спасти его. Но движения нубийца были рассчитаны столь же точно, как и движения фанатика, и, прежде чем тот успел нанести удар, раб схватил его занесенную руку. Хариджит — вот кем был мнимый марабут, — перенеся свою исступленную ярость на того, кто неожиданно стал между ним и его жертвой, нанес нубийцу удар кинжалом, лишь слегка оцарапавший ему руку, между тем как гораздо более сильный, чем он, эфиоп без труда повалил его на землю. Только теперь поняв, что произошло, Ричард встал и, выразив на лице не больше удивления, гнева или интереса, чем обычный человек проявил бы, смахнув и раздавив залетевшую осу, схватил табурет, с которого поднялся, и воскликнув лишь: «А, собака!» — размозжил череп убийцы; произнеся дважды, сначала громко, а затем прерывающимся голосом «Аллах акбар!» («бог побеждает»), тот испустил дух у ног короля.
— Вы бдительные стражи, — презрительно упрекнул Ричард лучников, когда они, привлеченные поднявшейся суматохой, в ужасе и тревоге ворвались в шатер. — Вы зоркие часовые, коль скоро предоставляете мне своими руками выполнять работу палача. Замолчите все, прекратите этот бессмысленный крик! Вы что, никогда раньше не видели мертвого турка?.. Ну-ка, оттащите эту падаль за пределы лагеря, отрубите голову и насадите на копье; не забудьте только повернуть ее лицом к Мекке, чтобы старому псу было легче рассказать гнусному лжепророку, по чьему внушению он явился сюда, как он выполнил его поручение… А ты, мой молчаливый темнокожий друг… — добавил он, поворачиваясь к эфиопу. — Но что это? Ты ранен, и притом, готов поручиться, отравленным оружием, ибо такая хилая скотина вряд ли могла надеяться пробить ударом кинжала шкуру льва… Пусть кто-нибудь высосет яд из его раны — он для губ безвреден, хотя и смертелен, если смешается с кровью.
Воины в замешательстве нерешительно переглядывались; необычная опасность заставила колебаться самых бесстрашных.
— Ну, что же, бездельники, — продолжал король, — чего вы медлите? У вас слишком нежные губы или вы боитесь смерти?
— Мы не боимся умереть как мужчины, — сказал Долговязый Аллен, на которого был обращен взгляд короля, — но мне неохота подыхать, как отравленной крысе, ради черного раба, которого продают и покупают на базаре, словно быка в Мартынов день.
— Его величество говорит нам, чтобы мы высосали яд, — пробормотал другой воин, — как будто предлагает поесть крыжовника!
— Ну, нет, — сказал Ричард, — я никогда не приказываю сделать то, что не стал бы делать сам.
И без дальнейших церемоний, несмотря на уговоры всех окружающих и почтительный протест самого нубийца, английский король прижался губами к ране черного раба, смеясь над общими увещеваниями и преодолев все попытки сопротивления. Он прекратил свое необычайное занятие лишь тогда, когда нубиец отпрянул от него, набросил на руку шарф и жестами хотя и почтительными, но выражавшими непреклонность, показал свою твердую решимость не допустить, чтобы король вновь приступил к столь унизительному делу. Тут вмешался Долговязый Аллен и заявил, что его губы, язык и зубы к услугам негра (как он называл эфиопа), если это необходимо для того, чтобы король не продолжал такого лечения; он добавил, что готов скорее съесть раба со всеми потрохами, лишь бы губы короля Ричарда больше к нему не прикасались.
В это время вошел в сопровождении других придворных Невил и также принялся уговаривать короля.
— Ну, ну, нечего без толку после драки махать кулаками или кричать об опасности, которая миновала, — сказал король. — Рана пустяковая, так как кровь почти не проступила… Разозленная кошка оцарапала бы глубже; а что до меня, то предосторожности ради я приму драхму орвиетского терьяка, хотя в этом и нет необходимости.
Так говорил Ричард, немного стыдясь того, что снизошел до оказания услуги рабу, хотя это и было естественным проявлением человеколюбия и благодарности. Но когда Невил снова принялся распространяться об опасности, которой король подверг свою священную особу, тот приказал ему замолчать:
— Умолкни, прошу тебя, довольно… Я поступил так лишь для того, чтобы показать этим невежественным, полным предрассудков бездельникам, как они должны помогать друг другу, если подлые негодяи применят против нас сарбаканы с отравленными стрелами. — Затем Ричард добавил: — Отведи этого нубийца к себе, Невил. Я передумал относительно него. Пусть о нем как следует заботятся, но слушай, что я скажу тебе на ухо: следи, чтобы он не удрал… Он не тот, за кого себя выдает. Предоставь ему полную свободу, но не выпускай из лагеря… А вы, охотники до говядины и выпивки, вы, английские мастифы, возвращайтесь на свои посты и смотрите, впредь будьте осторожнее. Не думайте, что вы у себя на родине, где игра ведется честно и люди разговаривают с вами, перед тем как нанести удар, и пожимают руку, прежде чем перерезать горло. У нас в Англии опасность разгуливает открыто с обнаженным мечом и бросает вызов врагу, на которого собирается напасть; но здесь на бой вызывают, бросая не стальную рукавицу, а шелковую перчатку, здесь вам перерезают горло голубиным пером, закалывают вас булавкой от брошки или душат кружевом с дамского корсажа. Ступайте и держите ухо востро, а язык за зубами; меньше пейте и зорко смотрите по сторонам. А не то я посажу ваши огромные желудки на такой скромный паек, от которого взвыл бы и терпеливый шотландец.
Пристыженные и огорченные воины разошлись по своим местам, а Невил стал упрекать своего повелителя за то, что он слишком легко отнесся к их нерадивости при исполнении обязанностей, вместо того чтобы примерно наказать за тяжкий проступок, который дал возможность столь подозрительному человеку, как марабут, очутиться на расстоянии длины кинжала от короля. Но Ричард прервал его:
— Не говори об этом, Невил… Неужели ты считаешь, что за ничтожную опасность, которой я подвергался, меня следовало наказать более сурово, чем за утрату английского знамени? Оно было украдено вором или отдано в чужие руки предателем, и никто не поплатился за это жизнью… Мой темнокожий друг, по утверждению достославного султана, ты хороший разгадчик тайн… Я дам тебе столько золота, сколько ты сам весишь, если ты, заручившись помощником еще более черным, чем ты сам, или любым другим способом сумеешь указать мне вора, нанесшего этот урон моей чести. Что скажешь, а?
Немой, казалось, хотел что-то сказать, но издал лишь невнятный звук, свойственный этим обездоленным созданиям, затем скрестил руки, взглянул на короля понимающим взглядом и утвердительно кивнул головой.
— Как! — воскликнул Ричард в радостном нетерпении. — Ты берешься раскрыть это дело?
Нубиец повторил тот же знак.
— Но как мы поймем друг друга? — спросил король. — Ты умеешь писать, мой друг?
Раб опять утвердительно кивнул.
— Дай ему принадлежности для письма, — сказал король. — В шатре моего отца они были всегда под рукой, не то что в моем… Но где-нибудь они должны быть, если только чернила не высохли в этом палящем климате. Ну, Невил, этот человек — настоящее сокровище, черный алмаз.
— С вашего позволения, милорд, — ответил Невил, — если мне будет разрешено высказать свое скромное мнение, вам подсунули фальшивый камень. Этот человек, наверно, колдун, а колдуны имеют дело с дьяволом, который всегда рад посеять плевелы среди пшеницы и вызвать раздоры между нашими вождями и…
— Замолчи, Невил, — перебил Ричард. — Кликай свою северную гончую, когда она уже висит на ляжках оленя, надеясь ее отозвать, но не пытайся удержать Плантагенета, когда в нем зародилась надежда восстановить свою честь.
Пока шел этот разговор, раб что-то писал, обнаружив в этом немалую сноровку. Теперь он встал и, прижав сочиненное им послание ко лбу, простерся, как обычно, ниц, прежде чем вручить его королю. Оно было написано по-французски, хотя до тех пор Ричард в разговоре с нубийцем пользовался лингва-франка:
«Ричарду, всех побеждающему и непобедимому королю Англии, от ничтожнейшего его раба. Тайны — запертые небесные ларцы, но мудрость может придумать средство, как открыть замок. Если твой раб будет стоять там, где перед ним один за другим пройдут вожди крестоносного воинства, и если виновник оскорбления, из-за которого сокрушается мой повелитель, окажется в их числе, то можешь не сомневаться, что он будет уличен в своем преступлении, хотя бы он прятался под семью покрывалами».
— Клянусь святым Георгием! — воскликнул Ричард. — Ты заговорил в самую пору. Ты знаешь, Невил, все государи единодушно решили загладить оскорбление, нанесенное Англии кражей ее знамени, а потому завтра во время смотра войск вожди крестоносцев пройдут мимо нашего нового стяга, развевающегося на холме святого Георгия, и воздадут ему положенные почести. Поверь мне, тайный предатель не осмелится отсутствовать при этом торжественном искуплении вины, дабы не возбудить подозрения самим своим отсутствием. Там-то мы и поставим нашего черного мужа совета, и если с помощью его магии ему удастся обнаружить негодяя, то ничто не удержит меня от расправы с этим человеком.
— Милорд, — сказал Невил с прямотой английского барона, — остерегитесь затевать такое дело. Сейчас среди участников нашего священного союза, вопреки ожиданиям, восстановилось согласие. Неужели вы на основании подозрений, внушенных вам негром-рабом, решитесь разбередить так недавно затянувшиеся раны, неужели торжественной церемонией, задуманной для восстановления вашей поруганной чести и согласия среди погрязших в раздорах государей, вы воспользуетесь для того, чтобы дать повод к новым обидам или к разжиганию старых ссор? Вряд ли будет преувеличением, если я скажу, что это противоречило бы вашим словам, произнесенным на Совете крестоносцев.
— Невил, — строго прервал король, — твое усердие делает тебя самонадеянным и невежливым. Я никогда не обещал воздержаться от любых сулящих успех средств к отысканию наглого посягателя на мою честь. Скорей я отрекся бы от королевской власти, отказался от жизни, нежели поступил бы так. Все мои обязательства я взял на себя под этим непременным условием; лишь в том случае, если бы австрийский герцог выступил вперед и мужественно признал свою вину, я постарался бы ради блага христианства простить его.
— Однако, — с тревогой настаивал барон, — откуда у вас уверенность, что этот лукавый раб Саладина не обманет ваше величество?
— Молчи, Невил, — сказал король. — Ты считаешь себя очень мудрым, но ты глупец. Вспомни мои приказания относительно этого человека… В нем скрыто нечто, чего твой уэстморлендский ум не в состоянии понять. А ты, темный и молчаливый, готовься к выполнению своего обещания, и даю тебе слово короля, ты сам сможешь назначить себе награду… Но что это, он опять пишет!
И действительно, немой что-то написал и с той же церемонией, как и прежде, вручил королю узкую полоску бумаги, содержавшую следующие слова: «Воля короля — закон для его раба, но ему не пристало требовать воздаяния за выполнение своего долга чести».
— Воздаяние и долг чести! — сказал король, подчеркивая слова. Он прервал чтение и обратился к Невилу по-английски: — Жителям Востока пойдет на пользу общение с крестоносцами, они начинают усваивать рыцарский язык! Посмотри, Невил, какой смущенный вид у этого юноши… Если бы не цвет его кожи, он, наверно, покраснел бы. Я не удивился бы тому, что он понял мои слова… Все они удивительно легко научаются чужому языку.
— Жалкий раб не выносит взгляда вашего величества, — сказал Невил, — в этом все дело.
— Пусть так, — продолжал король, постукивая пальцем по бумаге, но в этом дерзком послании дальше говорится, что наш верный немой раб привез письмо от Саладина для леди Эдит Плантагенет и умоляет о предоставлении ему возможности передать его. Что ты думаешь о столь скромной просьбе, Невил?
— Я затрудняюсь сказать, может ли такая вольность прийтись по душе вашему величеству. Но тому, кто обратился бы от имени вашего величества с подобной просьбой к султану, не сносить головы.
— Ну нет, я слава богу, не домогаюсь ни одной из его загорелых красавиц, — возразил Ричард. — А наказать этого человека за то, что он выполняет поручение своего хозяина, да еще после того, как он только что спас мне жизнь, — было бы, я полагаю, слишком поспешным решением. Я поведаю тебе, Невил, одну тайну — хотя наш темнокожий и немой посол присутствует здесь, он не может, как ты знаешь, ее разгласить даже в том случае, если и поймет мои слова: я поведаю тебе, что последние две недели нахожусь во власти каких-то странных чар, от которых хотел бы избавиться. Стоит кому-нибудь сделать мне серьезное одолжение, как на тебе, за проявлением заботы следует тяжелая обида; с другой стороны, тот, кого я заслуженно приговариваю к смерти за какое-нибудь предательство или оскорбление, непременно будет как раз тем человеком, который окажет мне благодеяние, перевешивающее его вину и вынуждающее меня во имя моей чести отложить исполнение приговора над ним. И вот, как видишь, я лишился большей части королевских прав, ибо я не могу ни наказывать людей, ни вознаграждать их. Доколе влияние этой планеты, которое лишает меня свободы действий, не прекратится, я не дам никакого ответа на просьбу нашего чернокожего слуги, скажу только, что она чрезвычайно смелая и что скорее всего он может снискать нашу милость, если постарается раскрыть тайну, как он это обещал сделать ради нас. Ну, а тем временем, Невил, хорошенько присматривай за ним, и пусть о нем достойно заботятся… Слушай, что я тебе еще скажу, — продолжал Ричард тихим шепотом, — разыщи того энгаддийского отшельника и, будь он святым или дикарем, безумным или в здравом рассудке, немедленно приведи его ко мне. И пусть никто не мешает, когда я буду разговаривать с ним с глазу на глаз.
Невил, весьма удивленный тем, что увидел и услышал, в особенности странным поведением Ричарда, сделал нубийцу знак следовать за собой и покинул королевский шатер. Угадать мысли и чувства, обуревавшие Ричарда в тот или иной момент, обычно не представляло труда, но предвидеть, как долго они будут владеть им, подчас бывало не просто. Ни один флюгер не отзывался на всякую перемену ветра с такой легкостью, с какой король поддавался порывам своих страстей. Однако сейчас он вел себя необычно сдержанно и таинственно, и трудно было понять, раздражение или благосклонность преобладали в его отношении к новому слуге и в тех взглядах, которые он время от времени бросал на него. Немедленная помощь, оказанная королем нубийцу для предотвращения гибельных последствий его раны, как будто была достаточной расплатой за услугу раба, остановившего занесенную руку убийцы. Казалось однако, что им надлежало свести между собой более давние счеты и что король пребывал в сомнении, останется ли он в конце концов должником или кредитором, а потому решил пока занять выжидательную позицию, подходящую и для той и для другой роли. Что касается нубийца, то хотя он каким-то способом овладел искусством писать на европейских языках, король все же остался в убеждении, что по-английски он, во всяком случае, не понимал. Ричард пристально наблюдал за ним в конце своей беседы с Невилом и считал совершенно невероятным, чтобы кто-нибудь, понимая разговор, предметом которого был он сам, мог бы сохранить совершенно безучастный вид.
Глава XXII
Кто там? Войди. Ты сделал все
прекрасно,
Любезный врачеватель мой и друг.
Сэр Юстес ГрейВ своем повествовании мы должны вернуться к тому, что произошло незадолго до описанных выше событий. Как читатель, вероятно, помнит, несчастный рыцарь Леопарда, отданный королем Ричардом арабскому врачу и занявший теперь скорее положение раба, был изгнан из лагеря крестоносцев, в рядах которых он не один раз так блистательно отличился. Он последовал за своим новым хозяином — ибо так мы должны теперь именовать хакима — к мавританским шатрам, где находились слуги восточного мудреца и его имущество. Все это время сэр Кеннет оставался в состоянии отупения, охватывающего человека, который, сорвавшись в пропасть и неожиданно уцелев, способен лишь отползти подальше от рокового места, но еще не может уяснить себе, насколько серьезны полученные им повреждения. Войдя в палатку, он молча бросился на ложе из выделанных буйволовых шкур, указанное ему его провожатым, и закрыв лицо руками, тяжело застонал, словно у него разрывалось сердце. Врач, отдававший своим многочисленным слугам приказания приготовиться к отъезду на следующее утро до зари, услышал эти стоны; движимый состраданием, он отвлекся от своих дел, сел скрестив ноги у постели и принялся утешать на восточный манер.
— Друг мой, — сказал он, — успокойся… Ведь поэт говорит: «Лучше человеку быть слугой у доброго господина, чем рабом своих собственных бурных страстей». Не теряй бодрости духа, ибо, вспомни, Юсуф бен-Ягубе был продан своими братьями королю, самому фараону египетскому, между тем как твой король отдал тебя тому, кто будет тебе братом.
Сэр Кеннет силился поблагодарить хакима, но на сердце у него было слишком тяжело, и невнятные звуки, которые он издавал, тщетно стараясь что-то ответить побудили доброго врача отказаться от преждевременных попыток утешения. Он оставил в покое своего объятого горем нового слугу или гостя и, покончив со всеми необходимыми распоряжениями к завтрашнему отъезду, сел на ковер и приступил к скромной трапезе. После того как он подкрепился, те же кушанья были поданы шотландскому рыцарю; но хотя рабы пояснили ему, что на следующий день солнце пройдет уже длинный путь, прежде чем они сделают остановку для того, чтобы утолить голод, сэр Кеннет не мог преодолеть отвращение, которое в нем вызвала мысль о какой бы то ни было еде, и ни к чему не прикоснулся, ограничившись глотком холодной воды.
Он лежал, не смыкая глаз, еще долго после того, как его хозяин совершил установленные обряды и предался отдыху. Наступила полночь, а молодой шотландец все еще не спал и слышал, как зашевелились слуги; хотя они двигались молча и почти бесшумно, он понял, что они вьючат верблюдов и готовятся к отъезду. Последним, кого потревожили во время этих приготовлений, был, если не считать самого врача, шотландский рыцарь; около трех часов утра слуга, исполнявший обязанности дворецкого или управителя, сообщил ему, что пора подниматься. Ничего не спросив, сэр Кеннет встал и вышел вслед за ним из палатки. При свете луны он увидел верблюдов; они были уже навьючены, и лишь один стоял на коленях в ожидании, пока будут собраны последние тюки.
Чуть в стороне от верблюдов стояло несколько лошадей, уже взнузданных и оседланных; одна из них была предназначена для хакима. Он подошел и, сохраняя свой важный, степенный вид, ловко вскочил на коня, затем указал на другого и велел подвести его сэру Кеннету. Тут же находился английский рыцарь, который должен был сопровождать врача и его слуг, пока они не выедут из лагеря крестоносцев, и проследить, чтобы они благополучно его миновали. Опустевший шатер тем временем разобрали с необычайной быстротой и погрузили на последнего верблюда. Теперь все приготовления были закончены. Врач торжественно произнес стих из корана: «Да ведет нас бог, и да хранит Мухаммед как в пустыне, так и в орошенной равнине», и вся кавалькада тотчас же тронулась в путь.
Пока она двигалась по лагерю, ее окликали многочисленные часовые, которые пропускали всадников молча, либо — когда они проезжали мимо поста особо рьяного крестоносца — вполголоса посылая проклятия их пророку. Наконец последние заставы остались позади, и отряд построился походным порядком с соблюдением всех военных предосторожностей. Несколько верховых ехало впереди в качестве авангард да; два-три всадника держались сзади на расстоянии полета стрелы, а других, как только позволяла местность, отряжали по сторонам для охраны флангов. Так двигались они вперед, и сэр Кеннет, оглядываясь на залитый лунным светом лагерь, почувствовал, что теперь он действительно изгнан, утратил честь, а вместе с ней и свободу, и никогда больше не увидит сверкающих знамен, под сенью которых он надеялся приобрести новую славу, не увидит шатров, служивших приютом для христианских рыцарей и… для Эдит Плантагенет.
Хаким, ехавший рядом с шотландцем, произнес своим обычным поучительным тоном:
— Неблагоразумно оглядываться назад, когда путь ведет вперед.
При этих словах конь рыцаря споткнулся на всем ходу, едва не подтвердив изречение на деле. Этот случай заставил рыцаря уделять больше внимания своему коню, который уже не раз требовал сдерживающей узды; излишняя горячность не мешала, впрочем, благородному животному (это была кобыла) двигаться такой легкой и быстрой иноходью, о какой можно только мечтать.
— Твоя лошадь, — назидательно заметил врач, — обладает теми же свойствами, что и человеческая судьба: подобно тому как на самом быстром и легком ходу всадник должен остерегаться, чтобы не упасть, так, и достигнув наивысшего благоденствия, мы должны сохранять неусыпную бдительность, чтобы предупредить несчастье.
Наевшись до отвала, не захочешь даже сотового меда; не приходится поэтому удивляться, что наш рыцарь, мучительно переживавший свое горе и унижение, не очень-то терпеливо слушал, как по поводу его несчастья то и дело приводились пословицы и изречения, пусть даже остроумные и справедливые.
— Мне кажется, — с некоторым раздражением сказал он, — что я не нуждаюсь в дополнительных примерах превратностей судьбы… Впрочем, я был бы очень благодарен тебе, господин хаким, если бы ты выбрал для меня другого коня — какую-нибудь клячу, которая споткнулась бы и сразу сломала шею и себе и мне.
— Брат мой, — ответил арабский мудрец с невозмутимой серьезностью, — ты говоришь как глупец. В глубине души ты считаешь, что умный человек должен был дать тебе, своему гостю, лошадь помоложе, а для себя оставить лошадь постарше; знай же, что недостатки старого коня могут быть возмещены ловкостью молодого наездника, между тем как стремительность молодого коня требует, чтобы ее умеряло спокойствие старика.
Так изрек мудрец. Но сэр Кеннет предпочел воздержаться от ответа и на это замечание, и разговор оборвался. Врач, которому, вероятно, наскучило утешать того, кто не желал быть утешенным, сделал знак одному из своих слуг.
— Хасан, — сказал он, — нет ли у тебя чего-нибудь, чем ты мог бы скрасить путь?
Хасан, сказочник и поэт, воодушевленный предложением показать свое искусство, воскликнул, обратившись к врачу:
— О, владыка чертога жизни, ты, при виде кого ангел Азраил раскрывает свои крылья и улетает, ты, более мудрый, чем Сулейман бен-Дауд, на чьей печати было начертано истинное имя, которое управляет духами стихий, — да не допустит небо, чтобы в то Бремя, когда ты странствуешь по пути благодати, неся исцеление и надежду, куда бы ты ни пришел, твой собственный путь был бы омрачен отсутствием сказки и песни. Знай, пока твой слуга с тобою, он не устанет изливать сокровища своей памяти, подобно тому как ключ не перестает посылать свои струи вдоль тропинки, чтобы поить того, кто идет по ней.
После этого вступления Хасан возвысил голос и начал сказку о любви и чародействе и об отважных подвигах, разукрашивая ее бесчисленными цитатами из персидских поэтов, с произведениями которых он был, по-видимому, хорошо знаком. Слуги, кроме тех, на чьей обязанности лежал присмотр за верблюдами, окружили хакима и рассказчика, приблизившись к ним настолько, насколько позволяло им уважение к своему господину, и слушали с тем восторгом, какой V жителей Востока всегда вызывают выступления сказочников.
В другое время сэр Кеннет, несмотря на то, что он недостаточно хорошо понимал по-арабски, возможно заинтересовался бы повествованием, которое, хотя и было порождено самой безудержной фантазией и выражено самым напыщенным и образным языком, тем не менее сильно напоминало рыцарские романы, бывшие тогда столь модными в Европе. Но при теперешних обстоятельствах он едва ли даже замечал, что человек в центре кавалькады почти два часа рассказывал и пел вполголоса, передавая интонациями различные оттенки чувств и вызывая в ответ то тихий шепот одобрения, то невнятные удивленные восклицания, то вздохи и слезы, а подчас — чего трудней всего было добиться от таких слушателей — улыбки и даже смех.
Во время этой импровизации внимание изгнанника, хотя и поглощенного своим глубоким горем, иногда привлекал собачий вой, который доносился из корзины, притороченной к седлу одного из верблюдов: шотландец, опытный охотник, сразу признал своего верного пса; а жалобный лай животного не оставлял сомнений, что оно чувствует близость хозяина и взывает о помощи, прося освободить его и взять к себе.
— Увы, бедный Росваль, — сказал сэр Кеннет, — ты молишь о помощи и сочувствии того, кто осужден на более тяжкую неволю, чем ты. Я не подам вида, что интересуюсь тобой, и ничем не отплачу тебе за твою любовь, ибо это поведет только к тому, что наше расставание будет еще горше.
Так прошли остаток ночи и тусклые, туманные предрассветные сумерки, возвещающие о наступлении сирийского утра. Но когда над плоским горизонтом показался край солнечного диска и первый луч, сверкая в росе, протянулся по пустыне, до которой путешественники теперь добрались, звучный голос самого эль-хакима заглушил и оборвал повествование сказочника, и по песчаным просторам разнесся торжественный призыв, каким по утрам оглашают воздух муэдзины с минаретов всех мечетей:
— На молитву! На молитву! Нет бога, кроме бога… На молитву… На молитву! Мухаммед — пророк бога… На молитву, на молитву! Время не ждет… На молитву, на молитву! Страшный суд приближается!
В мгновение ока все мусульмане соскочили с коней, повернулись лицом к Мекке и совершили песком подобие омовения, которое обычно полагается делать водой; при этом каждый из них в краткой, но горячей молитве поручал себя заботам бога и пророка и выражал надежду на прощение ими его грехов. Даже сэр Кеннет, чей разум — вкупе с предрассудками — возмутился при виде своих спутников, которые предавались, на его взгляд, идолопоклонству, даже он не мог не проникнуться уважением к искренности их рвения, хотя и направленного по ложному пути. Побуждаемый их пылом, он тоже стал возносить хвалу истинному богу, сам удивляясь тому неожиданно возникшему в нем чувству, которое заставило его присоединиться к молитве сарацин, чью языческую религию он считал преступной, позорящей страну, где некогда совершились великие чудеса, где занялась утренняя звезда, возвестившая о пришествии Спасителя.
Будучи естественным проявлением свойственного шотландскому рыцарю благочестия, эта молитва, хотя и совершенная в столь странном обществе, произвела обычное действие и внесла успокоение в душу, измученную несчастьями, которые так быстро следовали одно за другим. Искреннее и пылкое обращение христианина к престолу всевышнего лучше всего приучает к терпению в беде. Ибо к чему издеваться над богом нашими молениями, если мы ропщем на его волю? Признав каждым словом нашей молитвы тщету и ничтожество преходящего по сравнению с вечным, можем ли мы надеяться обмануть того, кто читает в человеческих сердцах, если сразу же после торжественного обращения к небу мир и мирские страсти вновь овладеют нами? Но сэр Кеннет был не таким человеком. Он почувствовал себя утешенным, укрепился духом и был теперь лучше подготовлен к тому, чтобы выполнить предначертания судьбы или подчиниться ее велениям.
Тем временем сарацины снова вскочили на лошадей и возобновили путь, а сказочник Хасан продолжил свой рассказ; но теперь слушатели не были уже так внимательны. Верховой, который поднялся на возвышенность, находившуюся справа от маленького каравана, быстрым галопом вернулся к эль-хакиму и что-то сказал ему. Тогда в ту сторону были посланы еще четыре или пять всадников, и небольшой отряд, примерно из двадцати или тридцати человек, стал следить за ними, не спуская глаз, словно их знаки, их движение вперед или отступление могли предвещать благополучие либо несчастье. Хасан, заметив невнимательность слушателей или сам заинтересованный появлением в той стороне чего-то подозрительного, прекратил свое пение, и все двигались молча; лишь изредка слышался голос погонщика верблюдов, покрикивавшего на своих терпеливых животных, да быстрый тихий шепот взволнованных спутников хакима, переговаривающихся с ближайшим соседом.
Это напряженное состояние длилось до тех пор, пока они не обогнули гряду песчаных холмов, прежде скрывавшую от всего каравана то, что вызвало тревогу у разведчиков. Теперь сэр Кеннет увидел на расстоянии приблизительно мили какие-то темные точки; они быстро двигались по пустыне, и его опытный глаз сразу определил, что то был конный отряд, численностью значительно превосходивший их собственный. А яркие блики, которые то и дело вспыхивали в косых лучах восходящего солнца, не оставляли сомнения, что это ехали европейские рыцари в полном вооружении.
Всадники эль-хакима бросали на своего предводителя тревожные взгляды, выдававшие серьезные опасения, между тем как он сам с тем же невозмутимым, полным собственного достоинства видом, с каким призывал спутников к молитве, отрядил двух лучших наездников, поручив им приблизиться, насколько позволит благоразумие, к замеченным в пустыне людям, более точно установить их численность и кто они такие и, если удастся, выяснить их намерения. Приближение опасности, подлинной или мнимой, подействовало как возбуждающее лекарство на больного, который впал было в безразличное состояние, и привело сэра Кеннета в себя, вернув его к действительности.
— Почему ты боишься этих всадников? Ведь они по всей видимости христиане, — спросил он хакима.
— Боюсь! — с презрением повторил эль-хаким. — Мудрец не боится никого, кроме бога… но всегда ждет от злых людей худшего, на что они способны.
— Они христиане, — сказал сэр Кеннет, — а сейчас перемирие. Почему же ты опасаешься вероломства?
— Это воинствующие монахи-тамплиеры, — ответил эль-хаким, — и их обет предписывает им не вступать в перемирие с приверженцами ислама и не соблюдать по отношению к ним правил чести. Да пошлет пророк гибель на все их племя! Их мир — это война, а их честь — вероломство. Другие захватчики, вторгнувшиеся в Палестину, по временам проявляют благородство. Лев Ричард щадит побежденного врага… Орел Филипп складывает свои крылья после того, как схватит добычу… Даже австрийский медведь спит, наевшись. Но эта стая вечно голодных волков, занимаясь грабежом, не знает отдыха и никогда не насыщается… Разве ты не видишь, что от их отряда отделилась группа и направилась к востоку? Вон их пажи и оруженосцы, которых они обучают своим проклятым таинствам; они в более легких доспехах, а потому их послали отрезать нас от источника. Но их ждет разочарование; я лучше, нежели они, знаю, как воевать в пустыне.
Хаким сказал несколько слов главному из своих приближенных. Он весь мгновенно преобразился; теперь это уже был не преисполненный величавого спокойствия восточный мудрец, привыкший скорей к созерцанию, чем к действию, а доблестный воин с быстрым и гордым взглядом, взыгравший сердцем от приближения опасности, которую он предвидит и в то же время презирает.
Сэр Кеннет совершенно иными глазами смотрел на надвигающиеся события, и когда Адонбек сказал ему: «Ты должен держаться рядом со мной», ответил решительным отказом.
— Там, — сказал он, — мои братья по оружию — люди, вместе с которыми я дал клятву победить или умереть; на их знамени сверкает эмблема нашего блаженнейшего искупления… Я не могу заодно с полумесяцем бежать от креста.
— Глупец! — сказал хаким. — Они первым делом предадут тебя смерти, хотя бы только для того, чтобы скрыть нарушение ими перемирия.
— Это меня не остановит, — ответил сэр Кеннет — Я сброшу с себя оковы неверных, лишь только мне представится к этому возможность.
— Тогда я заставлю тебя следовать за мной.
— Заставлю! — гневно повторил сэр Кеннет. — Не будь ты моим благодетелем или, во всяком случае, человеком, выразившим намерение стать им, и если бы я не был обязан твоему доверию свободой вот этих рук, которые ты мог заковать, я доказал бы тебе, что, даже безоружного, меня не легко к чему-нибудь принудить.
— Довольно, довольно, — сказал арабский врач, — мы теряем время, когда оно стало для нас драгоценным.
Он взмахнул рукой и испустил громкий, пронзительный крик; по этому сигналу его спутники рассыпались по пустыне во все стороны, как рассыпаются зерна четок, когда порвется шнурок. Сэр Кеннет не успел заметить, что произошло с ним дальше, ибо в то же мгновение хаким схватил повод его коня и пустил своего во весь опор. Обе лошади в мгновение ока понеслись вперед с головокружительной быстротой; у шотландского рыцаря захватило дух, и он был совершенно не способен, даже при желании, замедлить бешеную скачку сарацина. Хотя сэр Кеннет с юных лет был искусным наездником, самая быстрая лошадь, на которую ему приходилось когда-либо садиться, могла показаться черепахой по сравнению с лошадьми арабского мудреца. Песок вздымался столбом позади них, они как бы пожирали пустыню перед собой; миля летела за милей, а силы их не ослабевали, и дышали они так же свободно, как тогда, когда начинали свой замечательный бег. Их движения были так легки и стремительны, что шотландскому рыцарю казалось, будто он летит по воздуху, а не едет по земле, и он испытывал довольно приятное ощущение, если не считать страха, естественного для того, кто мчится с такой изумительной быстротой, и затрудненности дыхания от слишком большой скорости движения.
Лишь по истечении часа чудовищной скачки, когда все преследователи остались далеко-далеко позади, хаким придержал наконец лошадей и перевел их на легкий галоп. Спокойным и ровным голосом, словно все происшедшее за последний час было простой прогулкой, он принялся разъяснять сэру Кеннету превосходные качества своих скакунов, но тот едва переводил дыхание и, полуослепший, полуоглохший, все еще не придя в себя от головокружения, почти не понимал слов, которые в таком изобилии слетали с губ его спутника.
— Эти лошади, — говорил эль-хаким, — из породы, называемой Крылатой; быстротой они не уступают никому, кроме Борака, коня пророка. Их кормят золотистым ячменем Йемена с добавлением пряностей и небольшого количества сушеной баранины. За обладание таким конем, сохраняющим свою резвость до самой старости, короли отдавали целые провинции. Ты, назареянин, первый из не признающих истинной веры, кому довелось сжимать своими бедрами бока животного этой великолепной породы, потомка коня, подаренного самим пророком благословенному Али, его родственнику и сподвижнику, справедливо прозванному Господним Львом. Печать времени лишь слегка коснулась этих благородных животных; пять пятилетий прошло над кобылой, на которой ты сидишь, а она сохранила прежнюю быстроту и силу; только на полном карьере ей теперь нужна поддержка поводьев, управляемых более опытной рукой, чем твоя. Да будет благословен пророк, давший правоверным средство стремительно наступать и отступать, что заставляет их одетых в железо врагов изнемогать под непомерной тяжестью своих доспехов! Как должны были храпеть и пыхтеть лошади этих собак тамплиеров после того, как, увязая по щетки в песке пустыни, они пробежали одну двадцатую того расстояния, какое оставили за собой эти добрые кони, дыша совершенно свободно, не увлажнив свою гладкую, бархатную кожу ни одной каплей пота.
Шотландский рыцарь, который успел уже немного перевести дух и обрел способность слушать и понимать, в душе должен был признать преимущество восточных воинов, обладавших лошадьми, одинаково пригодными для набегов и отступлений и прекрасно приспособленными к передвижению по разным песчаным пустыням Аравии и Сирии. Но он не захотел потакать гордости мусульманина, согласившись с его высокомерными притязаниями на превосходство, а потому промолчал. Оглядевшись вокруг, сэр Кеннет теперь, когда они двигались медленнее, убедился, что находится в знакомых местах.
Унылые берега и мрачные воды Мертвого моря, зубчатые цепи обрывистых гор, поднимавшиеся слева, купа из нескольких пальм — единственное зеленое пятно на обширном пространстве бесплодной пустыни, — все это, однажды виденное, трудно было забыть, и шотландец понял, что они приближаются к источнику, называемому «Алмазом пустыни», где когда-то произошла у него встреча с Шееркофом, или Ильдеримом, сарацинским эмиром. Через несколько минут путешественники остановили своих лошадей у родника; хаким предложил сэру Кеннету спешиться и отдохнуть, так как здесь им ничто не угрожало. Они разнуздали коней, и эль-хаким сказал, что заботиться о них больше не нужно, ибо те из его слуг, что скачут на самых быстрых лошадях, вскоре прибудут и займутся всем необходимым.
— Тем временем, — сказал он, раскладывая на траве еду, — поешь и попей и не приходи в отчаяние. Судьба может вознести или унизить простого смертного, но состояние духа мудреца и воина не должно зависеть от ее превратностей.
Шотландский рыцарь попытался послушанием выразить свою благодарность; хотя он из любезности заставлял себя есть, необычайный контраст между его теперешним положением и тем, какое он — посланец государей и победитель в единоборстве — занимал тогда, когда впервые посетил это место, подействовал на него угнетающе, а от голода, изнурения и усталости он почувствовал упадок сил. Эль-хаким пощупал пульс сэра Кеннета, который бился учащенно, и заметил, что у него красные, воспаленные глаза, горячие руки и что он тяжело дышит.
— Ум, — сказал он, — становится изощренней от бодрствования, но тело, сотворенное из более грубого материала, требует отдыха. Тебе надо уснуть; и, для того чтобы сон пошел тебе на пользу, выпей глоток воды, смешанной с этим эликсиром.
Он достал из-за пазухи маленький хрустальный пузырек в оправе из филигранного серебра и налил в золотую чашечку немного темной жидкости.
— Это, — пояснил он, — один из тех даров, что аллах послал на землю на благо людям, хотя их слабость и порочность подчас превращали его в проклятие. Оно обладает такой же силой, как и вино назареян, смежая вежды бессонных очей и снимая тяжесть со стесненной груди; но если это вещество применяют для удовлетворения прихоти и страсти к наслаждению, оно терзает нервы, разрушает здоровье, расслабляет ум и подтачивает жизнь. Не бойся, однако, прибегнуть в случае необходимости к его целебным свойствам, ибо мудрый согревается той же самой головней, которой безумец сжигает свой шатер.[27]
— Я слишком хорошо знаю твое искусство, мудрый хаким, — ответил сэр Кеннет, — чтобы оспаривать твое приказание.
Он проглотил наркотик, разбавленный небольшим количеством воды из источника, затем завернулся в хайк, или арабский плащ, отвязав его от луки своего седла, и, по предписанию врача, покойно улегся под сенью пальм в ожидании обещанного сна. Сначала, однако, сон не приходил, а вместо него появилась вереница приятных, но не волнующих и не прогоняющих дремоту ощущений. Сэр Кеннет впал в такое состояние, при котором он, продолжая сознавать, кто он и что с ним, уже не только не испытывал тревоги и скорби, но относился ко всему спокойно, как сторонний зритель своих злоключений или, вернее, как мог бы бесплотный дух взирать на перипетии своего прежнего существования. Его мысли от прошлого, которое больше не волновало, стало почти безразличным, перенеслись вперед, в будущее. Несмотря на все тучи, заволакивавшие его, оно сверкало такими радужными красками, каких без возбуждающего влияния наркотика не способно было создать самое разгоряченное воображение молодого шотландца даже при более счастливых предзнаменованиях. Свобода, слава, любовь, казалось, несомненно, и притом в скором времени, ожидают раба-изгнанника, опозоренного рыцаря и отчаявшегося влюбленного, чьи мечты о счастье вознеслись на такую высоту, которая была совершенно недостижима при самом благоприятном для осуществления его надежд стечении обстоятельств. По мере того как сознание затуманивалось, эти радостные видения постепенно тускнели, подобно меркнущим краскам заката, и наконец исчезли, уступив место полному забвению; сэр Кеннет лежал, распростертый у ног эль-хакима, и если бы не глубокое дыхание, то вполне можно было бы подумать, что жизнь покинула его неподвижное тело.
Глава XXIII
Волшебным мановением руки
В цветущий сад превращены пески.
И прежняя пустыня стала мниться
Неясным порожденьем огневицы.
«Астольфо», рыцарский романПробудившись от продолжительного и глубокого спа, рыцарь Леопарда увидел себя в обстановке, совершенно непохожей на ту, которая окружала его, когда он ложился спать, и ему подумалось, что он еще грезит или что все изменилось по какому-то волшебству. Он лежал не на сырой траве, а на роскошной восточной тахте, и чьи-то заботливые руки сняли с него замшевую куртку, которую он носил под доспехами, и заменили ее ночной сорочкой тончайшего полотна и широким шелковым халатом. Прежде он лежал под сенью пальм пустыни, а теперь — под шелковой крышей шатра, сверкавшей самыми яркими красками, какие только могло создать воображение китайских ткачей. Вокруг тахты был натянут тонкий полог из легкого газа, предназначенный для защиты от насекомых, чьей постоянной беспомощной добычей был сэр Кеннет со времени прибытия в эти края. Он оглянулся, как бы желая убедиться, что, в самом деле, уже не спит, и все, представшее его взору, не уступало по роскоши ложу. Переносная ванна кедрового дерева, инкрустированная серебром, стояла готовая к его услугам, и поднимавшийся из нее пар разносил запах ароматических веществ, добавленных к воде. Рядом с тахтой на небольшом столике черного дерева стояла серебряная чаша с великолепным, холодным как снег шербетом; жажда, всегда возникающая после употребления сильного наркотика, делала его особенно вкусным. Чтобы окончательно рассеять остатки одури, рыцарь решил принять ванну и почувствовал после нее восхитительную бодрость. Он вытерся полотенцами из индийской шерсти и собирался облачиться в свою грубую одежду, чтобы выйти и посмотреть, изменился ли мир снаружи столь же сильно, как то место, где он заснул. Но его одежды нигде не было, а вместо нее он увидел сарацинский наряд из богатых тканей, саблю, кинжал и все, что полагается носить знатному эмиру. Он не мог понять причину этой чрезмерной заботливости, и в нем возникло подозрение, что она имела целью пошатнуть его в своей вере; и в самом деле, как хорошо было известно, султан, высоко ценивший знания и храбрость европейцев, с безграничной щедростью одарял тех, кто, попав к нему в плен, соглашался надеть чалму. Поэтому сэр Кеннет, набожно перекрестившись, решил не дать завлечь себя в ловушку; и, чтобы ничто не могло его поколебать, он твердо вознамерился как можно меньше пользоваться вниманием и роскошью, которыми его столь щедро осыпали. Однако он все еще чувствовал тяжесть в голове и сонливость; понимая к тому же, что в домашнем одеянии нельзя показаться на людях, он прилег на тахту и снова погрузился в дремоту.
Но на этот раз его сон был нарушен. Молодого шотландца разбудил голос врача; стоя у входа в шатер, тот осведомлялся о его здоровье и о том, хорошо ли он отдохнул.
— Могу я войти к тебе? — спросил он в заключение. — Ибо полог перед входом задернут.
— Хозяин не нуждается в разрешении, чтобы войти в палатку своего раба, — возразил сэр Кеннет, желая показать, что он не забыл о своем положении.
— А если я пришел не как хозяин? — задал вопрос эль-хаким, все еще не переступая порога.
— Врач, — ответил рыцарь, — пользуется свободным доступом к постели больного.
— Я пришел и не как врач, — сказал эль-хаким, — а потому я все же хочу получить разрешение, прежде чем войти под сень твоего шатра.
— Тог, кто приходит как друг — а таковым ты до сих пор был для меня, — находит жилище друга всегда открытым для себя, — сказал сэр Кеннет.
— Но все-таки, — продолжал восточный мудрец, не оставляя манеры своих соплеменников выражаться обиняками, — если я пришел не как друг?
— Для чего бы ты ни пришел, — сказал шотландский рыцарь, которому уже надоели все эти разглагольствования. — Кем бы ты ни был… Ты хорошо знаешь, что я не властен и не склонен запрещать тебе входить ко мне.
— Тогда я вхожу, — сказал эль-хаким, — как твой старый враг, но враг честный и благородный.
С этими словами он вошел и остановился у изголовья сэра Кеннета; голос его был по-прежнему голосом Адонбека, арабского врача, но фигура, одежда и черты лица — Ильдерима из Курдистана, прозванного Шееркофом. Сэр Кеннет уставился на него, как бы ожидая, что этот призрак, созданный его воображением, вот-вот исчезнет.
— Неужели ты, — сказал эль-хаким, — ты, прославленный витязь, удивлен тем, что воин кое-что понимает в искусстве врачевания? Говорю тебе, назареянин: настоящий рыцарь должен уметь чистить своего коня, а не только управлять им; ковать свой меч на наковальне, а не только пользоваться им в бою; доводить до блеска свои доспехи, а не только сражаться в них; и прежде всего, он должен уметь лечить раны столь же хорошо, как и наносить их.
Пока он говорил, христианский рыцарь время от времени закрывал глаза, и, когда они были закрыты, перед его мысленным взором возникал образ хакима с размеренными жестами, в длинной, развевающейся одежде темного цвета и высокой татарской шапке; но стоило ему открыть глаза, как изящная, богато украшенная драгоценными камнями чалма, легкая кольчуга из стальных колец, обвитых серебром, ярко сверкавшая при каждом движении тела, лицо, утратившее выражение степенности, менее смуглое, не заросшее теперь волосами (осталась только тщательно выхоленная борода), — все говорило, что перед ним воин, а не мудрец.
— Ты все еще так сильно изумлен? — спросил эмир. — Неужели во время твоих скитаний по свету ты проявил столь мало наблюдательности и не понял, что люди не всегда бывают теми, кем они кажутся?.. А ты сам — разве ты тот, кем кажешься?
— Клянусь святым Андреем, нет! — воскликнул рыцарь. — Для всего христианского лагеря я изменник, и одному мне известно, что я честный, хотя и заблудший человек.
— Именно таким я тебя и считал, — сказал Ильдерим, — и, так как мы делили с тобой трапезу, я полагал своим долгом избавить тебя от смерти и позора… Но почему ты все еще лежишь в постели, когда солнце уже высоко в небе? Или эти одежды, доставленные на моих вьючных верблюдах, кажутся тебе недостойными того, чтобы ты их носил?
— Конечно нет, но они не подходят для меня, — ответил шотландец. — Дай мне платье раба, благородный Ильдерим, и я охотно надену его; но ни зл что на свете я не стану носить одеяние свободного восточного воина и мусульманскую чалму.
— Назареянин, — ответил эмир, — твои единоземцы так скоры на подозрения, что легко могут сами внушить подозрение. Разве я не говорил тебе, что Саладин не стремится обращать в мусульманство кого бы то ни было, за исключением тех, кого святой пророк побудит к принятию его закона; насилие и подкуп — одинаково неприемлемые средства для распространения истинной веры. Слушай меня, брат мой. Когда слепому чудесным образом возвращается зрение, пелена падает с его глаз по божественной воле… Неужели ты думаешь, что какой-нибудь земной лекарь мог бы ее снять? Нет. Такой врач либо мучил бы больного своими инструментами, либо облегчал его страдания какими-нибудь успокоительными или укрепляющими снадобьями, но как был человек незрячим, незрячим он и остался бы. То же самое относится и к духовной слепоте. Если находятся среди франков люди, которые ради мирских выгод надевают на себя чалму пророка и становятся последователями ислама, упрекать за это следует только их совесть. Они сами стремились попасться на крючок, а султан не бросал им никакой приманки. И когда после смерти они, как лицемеры, будут обречены на пребывание в самой глубокой пучине ада, ниже христиан и евреев, магов и многобожников, и осуждены питаться плодами дерева заккум, которые являются не чем иным, как головами дьяволов, — себе, а не султану будут они обязаны своим падением и постигшей их карой. Итак, без колебаний и сомнений облачись в приготовленное для тебя платье, ибо если ты отправишься в лагерь Саладина, твоя европейская одежда привлечет к тебе назойливое внимание и, возможно, послужит поводом для оскорблений.
— Если я отправлюсь в лагерь Саладина, — повторил сэр Кеннет слова эмира. — Увы! Разве я свободен в своих действиях, и разве я не должен идти туда, куда тебе заблагорассудится повести меня?
— Твоя собственная воля, — сказал эмир, — может руководить твоими поступками с такой же свободой, с какой ветер несет пыль пустыни в ту или иную сторону. Благородный враг, который вступил со мной в единоборство и чуть не победил меня, не может стать моим рабом, как тот, кто униженно склонился перед моим мечом. Если богатство и власть соблазнят тебя и ты присоединишься к нам, я готов предоставить тебе то и другое; но человек, отказавшийся от милостей султана, когда топор был занесен над его головой, боюсь, не согласится принять их теперь, после того как я сказал ему, что он волен в своем выборе.
— Будь же до конца великодушен, благородный эмир, и воздержись от упоминаний о таком способе отплаты, согласиться на который мне запрещает совесть. Разреши мне лучше исполнить долг вежливости и выразить мою благодарность за твою рыцарскую щедрость, за незаслуженное великодушие.
— Не говори, что оно не заслуженно, — возразил эмир Ильдерим. — Разве не беседа с тобой и не твое описание красавиц, украшающих двор Мелека Рика, побудили меня под чужой личиной проникнуть туда, а благодаря этому я получил возможность усладить взор совершеннейшей красотой, какой я никогда раньше не видел и не увижу, пока моим очам не предстанет великолепие рая.
— Я не понимаю тебя, — сказал сэр Кеннет, то краснея, то бледнея, подобно человеку, который чувствует, что разговор начинает принимать самый мучительный и деликатный характер.
— Не понимаешь меня! — воскликнул эмир. — Если чудесное видение, которое я лицезрел в шатре короля Ричарда, оставило тебя равнодушным, то поневоле подумаешь, что ты более туп, чем лезвие шутовского деревянного меча. Правда, в то время над тобой нависал смертный приговор; а что до меня, то пусть моя голова уже отделялась бы от туловища, последний взгляд моих меркнущих очей с восхищением приметил бы милые черты и голова сама покатилась бы к несравненной гурии, чтобы трепещущими устами поцеловать край ее одежды. О, королева Англии, своей неземной красотой ты заслуживаешь быть царицей мира… Какая нега в ее голубых глазах! Как сверкали разметавшиеся по плечам ее золотистые косы! Клянусь могилой пророка, я не думаю, чтобы гурия, которая поднесет мне алмазную чашу бессмертия, была бы достойна таких же жарких ласк!
— Сарацин, — сурово произнес сэр Кеннет, — ты говоришь о жене Ричарда Английского, а о ней мужчины думают и говорят не как о женщине, которую можно завоевать, а как о королеве, перед которой следует благоговеть.
— Прошу простить меня, — сказал сарацин. — Я забыл о вашем суеверном поклонении женщине; вы считаете их созданными для того, чтобы ими изумлялись, а не домогались их и не завоевывали. Но если ты питаешь такое глубокое почтение к этому хрупкому, слабому созданию, чье каждое движение, каждый поступок и взгляд столь женственны, готов поручиться, что перед другой, с черными косами и взглядом, говорящем о благородстве, ты, конечно, преклоняешься с чувством беспредельного обожания. В ней, я согласен, в ее гордой и величественной осанке, есть, в самом деле, одновременно чистота и твердость, и все же, уверяю тебя, даже она в какое-то мгновение была бы в глубине души благодарна, если бы смелый влюбленный отнесся к ней как к смертной, а не как к богине.
— Имей уважение к родственнице Львиного Сердца! — сказал сэр Кеннет, давая волю своему гневу.
— Уважение к ней! — презрительно ответил эмир. — Клянусь Каабой, если бы я и стал ее уважать, то лишь как невесту Саладина.
— Повелитель неверных недостоин даже целовать то место, где ступила нога Эдит Плантагенет! — воскликнул христианин, вскочив со своего ложа.
— А! Что ты сказал, гяур? — вскричал эмир, хватаясь за рукоять кинжала; лицо сарацина стало красным, как сверкающая медь, мускулы его губ и щек дергались, и каждый завиток бороды крутился и извивался, словно трепеща от неукротимого бешенства.
Но шотландский рыцарь, не дрогнувший перед львиным гневом Ричарда, не испугался и тигриной злобы пришедшего в исступление Ильдерима.
— Будь мои руки свободны, — продолжал сэр Кеннет, скрестив на груди руки и устремив на эмира бесстрашный взор, — сказанное мной я отстоял бы в пешем или конном единоборстве с любым смертным; и не считал бы самым замечательным деянием моей жизни, если бы поддержал произнесенные мною слова моим добрым мечом, обрушив его на дюжину этих серпов и шил, — и он указал на изогнутую саблю и маленький кинжал эмира.
Пока христианин говорил, сарацин настолько успокоился, что убрал руку, сжимавшую оружие, словно прежний его жест был чистой случайностью; но в его голосе все еще клокотала ярость, когда он сказал:
— Клянусь мечом пророка, который служит ключом и к раю и к аду, мало ценит свою жизнь тот, кто позволяет себе такие речи, как ты, брат мой! Поверь мне, если бы, как ты выразился, твои руки были свободны, один-единственный правоверный задал бы им столько работы, что ты вскоре пожелал бы, чтобы их снова заковали в железные кандалы.
— Скорее я согласился бы, чтобы их отрубили мне по самые плечи, — возразил сэр Кеннет.
— Ну что ж. Твои руки сейчас связаны, — сказал сарацин более дружелюбным тоном, — связаны твоей собственной благородной вежливостью, да и я пока не собираюсь возвращать им свободу. Мы уже однажды померились силой и отвагой, и, может быть, мы снова встретимся в честном бою; тогда да падет позор на голову того, кто отступит первый! Но сейчас мы друзья, и я ожидаю от тебя помощи, а не резких слов или вызовов на поединок.
— Мы друзья, — повторил рыцарь.
Наступило молчание; вспыльчивый сарацин шагал взад и вперед по шатру, подобно льву, который, как говорят, после сильного возбуждения прибегает к этому способу, чтобы охладить разыгравшуюся кровь, прежде чем завалиться спать в своем логове. Более сдержанный европеец продолжал с невозмутимым видом стоять на месте; но и он, несомненно, старался подавить гнев, столь внезапно вспыхнувший в нем.
— Обсудим все спокойно, — сказал сарацин. — Я, как ты знаешь, врач, а ведь написано, что тот, кто жаждет исцеления своей раны, не должен отталкивать лекаря, который вводит зонд для ее исследования. Видишь ли, я намерен растравить твою рану. Ты любишь родственницу Мелека Рика… Приоткрой завесу, скрывающую твои мысли или, если тебе угодно, не приоткрывай — все равно мои глаза видят сквозь нее.
— Я любил ее, — ответил сэр Кеннет после некоторого молчания, — как любит человек небесную благодать, и я старался заслужить ее милость, как грешник старается заслужить прощение всевышнего.
— И ты больше ее не любишь? — спросил сарацин.
— Увы! Я больше недостоин любить ее… Прошу тебя, прекрати этот разговор. Твои слова для меня острый кинжал.
— Прости меня, но потерпи еще минуту, — продолжал Ильдерим. — Вот ты, бедный безвестный воин, ведешь себя столь дерзко и так высоко возносишь свою любовь; скажи мне, ты надеешься на счастливый исход ее?
— Любовь немыслима без надежды, — ответил рыцарь. — Но во мне надежда была так тесно переплетена с отчаянием, как у моряка, который борется за свою жизнь, плывя по разъяренному морю; он взбирается на одну волну за другой, и время от времени его взор улавливает луч далекого маяка, говорящий ему, что на горизонте земля; но, чувствуя, как слабеет его сердце и немеют руки, он понимает, что никогда не достигнет ее.
— А теперь, — сказал Ильдерим, — эти надежды исчезли и одинокий маяк погас навсегда?
— Навсегда, — ответил сэр Кеннет, и это слово прозвучало как эхо, доносящееся из глубины разрушенной гробницы.
— Если все, чего ты лишился, — сказал сарацин, — это только промелькнувшее, как далекий метеор, мимолетное видение счастья, то думаю, что огонь твоего маяка может быть снова зажжен, твоя надежда выловлена из океана, в который она погрузилась, а ты сам, добрый рыцарь, опять примешься за любезное твоему сердцу занятие и будешь вскармливать свою безумную любовь столь мало питательной пищей, как лунный свет; ибо если завтра твоя честь станет такой же незапятнанной, какой была раньше, все равно та, кого ты любишь, не перестанет быть дочерью королей и нареченной невестой Саладина.
— Хотел бы я, чтобы это было так, — сказал шотландец, — и тогда уж…
Он запнулся, как человек, опасающийся показаться хвастуном, так как обстоятельства не позволяют ему подтвердить на деле свои слова. Сарацин с улыбкой закончил фразу:
— Ты вызвал бы султана на единоборство?
— А если бы и так, — надменно сказал сэр Кеннет, — то Саладин был бы не первым и не самым достойным противником, в чью чалму я нацеливал свое копье.
— Да, но думаю, что султан может счесть слишком неподходящим способом подвергнуть опасности счастье царственной невесты и исход великой войны.
— С ним можно встретиться в первых рядах сражающихся, — сказал рыцарь, и эта мысль вызвала в его воображении такую яркую картину, что у него засверкали глаза.
— Он всегда бывает впереди, — подтвердил Ильдерим, — и не в его привычках отворачивать голову своего коня при встрече с храбрецом… Но не о султане собираюсь я с тобой говорить. Буду краток: если тебя удовлетворит восстановление твоего доброго имени в той мере, в какой этого можно достичь, разоблачив вора, который украл английское знамя, я могу указать тебе правильный путь для достижения цели — разумеется, если ты пожелаешь следовать моим советам, ибо, как говорит Локман, «если дитя порывается ходить, его должна вести няня, если невежда жаждет понять, его должен просветить мудрец».
— Да, ты мудр, Ильдерим, — заметил шотландец, — мудр, хотя и сарацин, благороден, хотя и неверный. Я был свидетелем твоих мудрых и благородных поступков. Так веди же меня! И если ты не потребуешь от меня ничего, что противоречило бы данному мной обету верности и моей христианской вере, я буду беспрекословно повиноваться тебе. Сделай то, что ты обещал, и возьми мою жизнь, когда все будет свершено.
— Слушай же меня, — сказал сарацин. — Благодаря чудесному лекарству, которое исцеляет людей и животных, твой благородный пес выздоровел; его тонкое чутье поможет обнаружить тех, кто напал на него.
— Ага! — воскликнул рыцарь. — Я, кажется, понимаю тебя. Как я был глуп, что сам не подумал об этом!
— Но скажи мне, — продолжал эмир, — есть ли в лагере кто-нибудь из твоих соратников или слуг, кто мог бы узнать пса?
— Когда я ждал смерти, — ответил сэр Кеннет — я отпустил своего старого оруженосца, твоего пациента, вместе со слугой, который ухаживал за ним, и дал ему письма к моим друзьям в Шотландии… Больше никто не знает собаки. Но меня самого хорошо знают, да и мой говор выдаст меня в лагере, где я много месяцев играл немалую роль.
— И она и ты должны так изменить свою внешность, чтобы вас нельзя было узнать даже при внимательном осмотре. Говорю тебе, что ни собрат по оружию, ни родной брат не раскроют твоей тайны, если ты будешь следовать моим советам. Ты имел случай убедиться, что я справляюсь с более трудными делами: тому, кто может вернуть к жизни умирающего, которого уже коснулась тень смерти, ничего не стоит застлать туманом глаза живущих. Но имей в виду, я окажу тебе эту услугу при одном условии: ты должен передать письмо Саладина племяннице Мелека Рика, имя которой столь же трудно для наших восточных губ и языка, сколь красота восхитительна для наших глаз.
Сэр Кеннет медлил с ответом, и сарацин, видя его колебания, спросил, не боится ли он принять на себя такое поручение.
— Нет, если даже за выполнение его мне грозила бы смерть, — ответил сэр Кеннет. — Но мне нужно время, чтобы обдумать, пристало ли мне передавать письмо султана и пристало ли леди Эдит получать письма от языческого государя.
— Клянусь головой Мухаммеда и честью воина, гробницей в Мекке и душой моего отца, — сказал эмир, — клянусь тебе, что письмо написано с глубочайшим уважением. Скорей песнь соловья заставит поблекнуть куст роз, который он любит, чем слова султана оскорбят слух прекрасной родственницы английского короля.
— В таком случае, — сказал рыцарь, — я честно передам письмо султана, как если бы я был его прирожденным вассалом; хотя я с полной добросовестностью окажу эту услугу, султан, разумеется, меньше всего может ожидать от меня посредничества и совета в этом столь странном сватовстве.
— Саладин великодушен, — ответил эмир, — и не станет понуждать благородного коня взять непреодолимое препятствие… Пойдем ко мне в шатер, — добавил он, — и вскоре ты подвергнешься такому превращению, что станешь совершенно неузнаваем и сможешь ходить по лагерю назареян, словно у тебя на пальце перстень Джиуджи.[28]
Глава XXIV
Влети пылинка
В наш кубок — и уже мы с отвращеньем
Глядим на влагу, позабыв про жажду.
Так ржавый гвоздь, близ компаса
лежащий,
Укажет ложный путь на гибель судну.
Так и ничтожнейшее недовольство
Порвет согласья узы меж монархов
И лучшие намеренья разрушит.
«Крестовый поход»После всего сказанного читателю, вероятно, ясно, кем был на самом деле эфиопский раб, для чего он стремился в лагерь Ричарда, почему и объятый какой надеждой стоял он теперь близ короля. Окруженный доблестными пэрами Англии и Нормандии, Львиное Сердце стоял на вершине холма святого Георгия рядом с английским знаменем, которое держал самый красивый рыцарь — его незаконнорожденным брат, Уильям Длинный Меч, граф Солсбери, плод любви Генриха Второго и знаменитой Розамунды из Вудстока.
Некоторые фразы из разговора, происходившего накануне между королем и Невилом, вызвали в нубийце тревожные подозрения, что он узнан: особенно усиливало их то, что король, по-видимому, прекрасно знал, каким образом собака могла помочь обнаружить вора, укравшего знамя, хотя в присутствии Ричарда почти не упоминалось о такой подробности, как нанесение преступником ран собаке сэра Кеннета. Но король продолжал обращаться с нубийцем в соответствии с его внешностью, а потому тот не был уверен, что его тайна раскрыта, и решил не сбрасывать с себя маски, пока его к этому не принудят.
Тем временем войска всех государей-крестоносцев, имея во главе своих царственных и княжеских военачальников, растянувшись длинными колоннами, церемониальным маршем проходили мимо подножия маленького холма. И всякий раз, как появлялись войска новой страны, их предводитель поднимался на несколько шагов по склону холма и приветствовал Ричарда и знамя Англии — «в знак уважения и дружбы, а не подчинения и вассальной зависимости», как было предусмотрительно оговорено в протоколе церемонии. Высшие духовные сановники, в те дни не обнажавшие голову перед земными владыками, благословляли короля и эмблему его власти, вместо того чтобы отдавать поклон.
Так проходили крестоносцы, ряд за рядом, и хотя число их по многим причинам уменьшилось, они всё еще оставались могучей армией, для которой завоевание Палестины, казалось, было легкой задачей. Воины, воодушевленные мыслью о единении сил, сидели выпрямившись в своих стальных седлах, между тем как трубы звучали более весело и пронзительно, а отдохнувшие и отъевшиеся кони грызли удила и гордо били копытами землю. Они шли бесконечной вереницей, отряд за отрядом; развевались знамена, сверкали копья, колыхались плюмажи — шла армия людей, не похожих друг на друга, разных национальностей, характеров, говоривших на разных языках, носивших разное оружие; но сейчас они все горели священным, хотя и романтическим стремлением избавить от рабства страждущую дочь Сиона и освободить от ига неверующих язычников святую землю, по которой ступала нога сына божьего. Быть может, при других обстоятельствах почести, оказанные королю Англии воинами, в сущности не обязанными ему верностью, могли показаться в какой-то степени унизительными. Однако эта война по своему характеру и цели настолько соответствовала сугубо рыцарской натуре Ричарда, прославившегося многочисленными ратными подвигами, что никто, вопреки обыкновению, и не думал роптать; храбрый добровольно воздавал почести храбрейшему, ибо для успеха похода была необходима самая беззаветная отвага, не останавливающаяся ни перед какими препятствиями.
Благородный король в увенчанном короной шишаке, который оставлял открытым его мужественное лицо, сидел верхом на лошади; спустившись почти до половины холма, он холодным, внимательным взором оглядывал каждый ряд, когда тот проходил мимо, и отвечал на приветствия вождей. На нем была бархатная мантия лазоревого цвета, покрытая серебряными пластинками, и малиновые шелковые штаны, отделанные золотой парчой. Рядом с ним стоял мнимый эфиопский раб, держа свою благородную собаку на поводке, какой применяется при охоте. На это обстоятельство никто не обращал внимания, так как многие вожди крестоносцев завели себе черных рабов в подражание варварской роскоши сарацин. Над головой короля развевались широкие складки знамени; то и дело он бросал на него взгляд и, казалось, считал всю эту церемонию для себя совершенно несущественной, но важной потому, что она должна была смыть оскорбление, нанесенное его стране. Позади, на самой вершине холма, в деревянной башенке, специально построенной для этого случая, находились королева Беренгария и самые знатные дамы ее двора. Король время от времени смотрел в их сторону; иногда он поглядывал на нубийца и его собаку, но только в тех случаях, когда приближались вожди, которых он на основании их прежнего недоброжелательства подозревал в причастности к краже знамени или считал способными на столь низкое преступление.
Так, он не взглянул на эфиопского раба, когда Филипп-Август Французский приблизился во главе цвета галльского рыцарства; больше того, не дожидаясь, пока французский король поднимется на холм, он сам стал спускаться по склону; они встретились посредине, обменялись изящными поклонами, и как равные братски приветствовали друг друга. При виде двух величайших по знатности и могуществу властителей Европы, которые свидетельствовали перед всеми свое согласие, армия крестоносцев разразилась громовыми криками одобрения; они разнеслись на много миль вокруг и ввели в заблуждение рыскающих по пустыне арабских лазутчиков, встревоживших лагерь Саладина сообщением, что христианская армия двинулась в поход. Но кто, кроме всевышнего, может читать в сердцах монархов? Под внешней любезностью Ричард таил раздражение против Филиппа и недоверие к нему, а Филипп замышлял покинуть вместе со всем войском армию креста и предоставить Ричарду своими силами, без всякой помощи, завершить начатый поход, победив или погибнув.
Поведение Ричарда стало совершенно иным, когда приблизились рыцари и оруженосцы в темных доспехах — тамплиеры, чьи лица под лучами палестинского солнца стали бронзовыми, как у азиатов; их лошади и снаряжение были еще в лучшем состоянии, чем у отборных французских и английских отрядов. Король бросил быстрый взгляд в сторону нубийца, однако тот стоял спокойно, а верный пес сидел у его ног, внимательно, но без признаков недовольства наблюдая за проходившими рядами. Глаза короля снова обратились на рыцарей тамплиеров, когда гроссмейстер, воспользовавшись двойственностью своего положения, благословил Ричарда как священнослужитель, вместо того чтобы отдать ему поклон как военачальник.
— Кичливый и двуличный негодяй изображает из себя монаха, — сказал Ричард графу Солсбери. — Но мы, Длинный Меч, не будем обращать внимания. Из-за мелочной придирчивости христианство не должно лишиться услуг этих опытных воинов, благодаря своим победам слишком много возомнивших о себе… Но смотри, вот подходит наш храбрый противник, герцог австрийский. Полюбуйся на его вид и осанку… А ты, нубиец, постарайся, чтобы собака его как следует рассмотрела. Клянусь небом, он привел с собой своих шутов!
В самом деле, Леопольд, то ли по привычке, то ли — что более вероятно — из желания выразить презрение к церемонии, на которую ему пришлось скрепя сердце согласиться, явился в сопровождении своего рассказчика и шута. Приближаясь к Ричарду, он что-то насвистывал, стараясь показать этим безразличие, хотя его нахмуренное лицо выдавало угрюмый страх, с каким напроказивший школьник подходит к учителю.
Когда эрцгерцог со смущенным и мрачным видом неохотно отдал положенный поклон, рассказчик потряс жезлом и объявил, словно герольд, что не должно считать, будто Леопольд Австрийский, совершая этот акт вежливости, умаляет свое звание и свои права суверенного государя. На его слова шут ответил звучным «аминь», что вызвало громкий смех присутствующих.
Король Ричард несколько раз оглядывался на нубийца и его собаку. Однако первый не шевелился, а вторая не натягивала поводка, и Ричард несколько презрительно заметил рабу:
— Боюсь, что результат твоей затеи, мой черный друг, хотя ты и призвал проницательность пса на помощь твоей собственной, не позволит тебе занять высокое положение среди колдунов и не много прибавит к твоим заслугам перед нами.
Нубиец, как обычно, ответил лишь низким поклоном.
Теперь перед английским королем проходили уже стройными рядами войска маркиза Монсерратского. Этот могущественный и хитрый вельможа, желая похвастаться своими людьми, разделил их на два отряда. Во главе первого, состоявшего из его вассалов и придворных, а также воинов, набранных в сирийских владениях, шел его брат Ангерран, а он сам возглавлял колонну из тысячи двухсот отважных страдиотов — легкой конницы, созданной Венецией из уроженцев ее далматских владений и отданной под командование маркиза, с которым республика поддерживала тесную связь. Страдиоты были одеты отчасти по-европейски, но чаще всего на азиатский лад. Так, поверх бригантин на них были двухцветные плащи из ярких тканей; кроме того, они носили широчайшие шаровары и полусапожки. На головах у них были прямые высокие шапки, напоминавшие греческие. Их вооружение состояло из небольшого круглого щита, лука со стрелами, кривой сабли и кинжала. Они ехали верхом на тщательно подобранных лошадях, которых поддерживали в прекрасном состоянии за счет венецианского правительства; седла и сбруя были почти такие же, как у сарацин, и страдиоты, подобно им, ездили на коротких стременах, высоко сидя в седле. Эти войска приносили большую пользу, совершая лихие набеги на арабов, но не могли вступать с ними в бой на близком расстоянии, как это делали закованные в латы воины из Западной и Северной Европы.
Впереди этого великолепного отряда ехал Конрад в таком же одеянии, как страдиоты, но из очень дорогих тканей, сверкавших золотом и серебром, а его белоснежный плюмаж, прикрепленный к шляпе бриллиантовой пряжкой, казалось, поднимался к облакам. Благородный конь плясал и крутился под ним, проявляя норов и резвость, которые могли поставить в затруднительное положение менее искусного наездника, чем маркиз; тот изящно правил им одной рукой, а в другой держал жезл, взмаху которого предводительствуемые им ряды повиновались столь же неукоснительно. Однако власть Конрада над страдиотамн была скорее показной. Позади него на спокойном, породистом иноходце ехал старик небольшого роста, одетый во все черное, с безбородым и безусым лицом; на фоне окружающего блеска и великолепия он казался с виду человеком совершенно незначительным. Но этот невзрачный старик был одним из уполномоченных, направляемых венецианским правительством в армии для наблюдения за полководцами, которым было доверено командование ими, и для поддержания системы шпионства и контроля, издавна отличавшей политику республики.
Конрад, умевший подлаживаться под настроение Ричарда, пользовался в известной мере его расположением. Как только английский король заметил маркиза, он спустился на несколько шагов ему навстречу и воскликнул:
— А, маркиз, ты во главе быстроногих страдиотов, а твоя черная тень, как всегда, сопровождает тебя, светит ли солнце или нет! Разреши спросить тебя, кто начальствует над твоими войсками — тень или тот, за кем она следует?
Улыбаясь, Конрад собирался что-то ответить, как вдруг Росваль, благородный пес, с бешеным, злобным рычанием рванулся вперед. Нубиец в то же мгновение спустил собаку с поводка, она бросилась, вскочила на коня Конрада, схватила маркиза за горло и стащила его с седла. Всадник с роскошным плюмажем катался по земле, а его испуганная лошадь диким карьером помчалась по лагерю.
— Твоя собака ухватила подходящую дичь, ручаюсь за это, — сказал король нубийцу, — клянусь святым Георгием, олень-то матерой! Убери собаку, иначе она задушит его.
Эфиоп оттащил, хотя и не без труда, собаку от Конрада и снова взял ее, все еще очень возбужденную и вырывавшуюся, на поводок. Тем временем собралась большая толпа, которую составляли главным образом приближенные Конрада и начальники страдиотов; увидя, что их предводитель лежит, устремив дикий взгляд в небо, они подняли его. Раздались беспорядочные крики:
— Изрубить на куски раба и его собаку!
Но тут послышался громкий, звучный голос Ричарда, отчетливо выделявшийся среди всеобщего шума:
— Смерть ждет того, кто тронет собаку! Она лишь исполнила свой долг с помощью чутья, которым бог и природа наделили это храброе животное. Выступи вперед, вероломный предатель! Конрад, маркиз Монсерратский, я обвиняю тебя в предательстве!
Подошли несколько сирийских военачальников, и Конрад — досада, стыд и замешательство боролись в нем с гневом, и это было ясно видно по его манере держаться и тону — воскликнул:
— Что это значит? В чем меня обвиняют? Чем объясняются эти оскорбительные слова и унизительное обращение? Таково единодушное согласие, восстановление которого Англия столь недавно провозгласила?
— Разве вожди-крестоносцы стали зайцами или оленями в глазах короля Ричарда, что он спускает па них собак? — спросил замогильным голосом гроссмейстер ордена тамплиеров.
— Это какая-то нелепая случайность, какая-то роковая ошибка, — сказал подъехавший в это мгновение Филипп Французский.
— Какая-то вражеская уловка, — вставил архиепископ Тирский.
— Происки сарацин! — воскликнул Генрих Шампанский. — Следовало бы повесить собаку, а раба предать пыткам.
— Никому, кто дорожит своей жизнью, не советую дотрагиваться до них!.. — сказал Ричард. — Конрад, выступи вперед и, если смеешь, опровергни обвинение, которое это бессловесное животное благодаря своему замечательному инстинкту выдвинуло против тебя, обвинение в том, что ты его ранил и что ты подло надругался над Англией!
— Я не прикасался к знамени, — поспешно сказал маркиз.
— Твои слова выдают тебя, Конрад! — вскричал Ричард. — Ибо как мог бы ты знать, если твоя совесть чиста, что дело идет о знамени?
— Разве не из-за него ты взбудоражил весь лагерь? — ответил Конрад. — И разве ты не заподозрил государя и союзника в преступлении, совершенном, вероятно, каким-нибудь низким вором, польстившимся на золотое шитье? А теперь неужели ты решишься обвинить своего соратника из-за какой-то собаки?
Тут сумятица стала всеобщей, и Филипп Французский счел нужным вмешаться.
— Государи и высокородные рыцари, — сказал он, — вы говорите в присутствии людей, которые немедленно обнажат мечи друг против друга, если услышат, как ссорятся между собою их вожди. Во имя бога, прошу вас, пусть каждый отведет свои войска по местам, а сами мы через час соберемся в шатре совета, чтобы принять какие-нибудь меры к восстановлению порядка.
— Согласен, — сказал король Ричард, — хотя лично я предпочел бы допросить этого негодяя, пока его яркий наряд еще запачкан песком… Но желание Франции в этом вопросе будет и нашим.
Вожди разошлись, как было предложено, и каждый государь занял место во главе своих войск. Затем со всех сторон раздались военные кличи и звуки рогов и труб, которые играли сбор и призывали отставших воинов под знамена их предводителей. Вскоре все войска пришли в движение и направились различными дорогами по лагерю, каждое на свои квартиры. Но хотя столкновение было, таким образом, пока что предотвращено, происшедшее событие продолжало волновать все умы. Чужеземцы, еще утром приветствовавшие Ричарда как самого достойного вождя армии крестоносцев, теперь снова стали относиться к нему с предубеждением, упрекая в гордости и нетерпимости. А англичане, считая, что ссора, о которой ходили самые различные толки, затрагивает честь их страны, подозревали уроженцев других стран в зависти к славе Англии и ее короля и в желании умалить эту славу с помощью самых низких интриг. Множество всяких слухов распространилось по лагерю, и в одном из них утверждалось, будто поднявшийся шум так сильно встревожил королеву и ее придворных дам, что одна из них лишилась чувств.
Совет собрался в назначенный час. За это время Конрад успел снять свое опозоренное одеяние, а вместе с ним отбросить стыд и смущение, которые, несмотря на его находчивость и быстрый ум, вначале овладели им вследствие необычайности происшествия и неожиданности обвинения. Теперь он вошел в шатер совета, одетый как подобало государю; его сопровождали эрцгерцог австрийский, гроссмейстеры орденов тамплиеров и иоаннитов, а также несколько других владетельных особ, хотевших этим показать, что они на его стороне и будут поддерживать его, — главным образом по политическим, вероятно, соображениям или из личной вражды к Ричарду.
Это нарочитое проявление симпатий к Конраду нисколько не повлияло на короля Англии. Он явился на совет с безразличным, как всегда, видом и в той же одежде, в которой только что сошел с коня. Он окинул небрежным, слегка презрительным взглядом вождей, которые с подчеркнутой любезностью окружили маркиза, давая понять, что считают его дело своим, и без всяких околичностей обвинил Конрада Монсерратского в краже знамени Англии и в нанесении ран верному животному, защищавшему его.
Конрад с решительным видом поднялся с места и заявил, что вопреки, как он выразился, показаниям человека и животного, короля или собаки, он не повинен в преступлении, которое ему приписывают.
— Мой английский брат, — сказал Филипп, по собственному почину взявший на себя роль посредника, — это необычайное обвинение. Мы не слышали от тебя никаких доказательств, подтверждающих его, кроме твоей уверенности, основанной на том, как вела себя эта собака по отношению к маркизу Монсерратскому. Неужели слова рыцаря и государя недостаточно, чтобы снять с него подозрение, возникшее из-за лая какого-то дрянного пса?
— Царственный брат, — возразил Ричард, — должен помнить, что всемогущий, который дал нам собаку, чтобы она была соучастницей наших развлечений и наших трудов, сотворил ее благородной и неспособной к обману. Она не забывает ни друга, ни врага, запоминает, притом безошибочно, как благодеяние, так и обиду. Она наделена частицей человеческого разума, но не наделена человеческим вероломством. Можно подкупить воина, чтобы тот убил мечом какого-нибудь человека, или подкупить свидетеля, и его ложное обвинение будет стоить кому-нибудь жизни; но нельзя заставить собаку, чтобы она растерзала своего благодетеля… Она — друг человека, разве только человек заслуженно возбудит ее вражду. Разоденьте этого маркиза как павлина, придайте ему другую внешность, измените снадобьями и притираниями цвет его кожи, спрячьте его в толпе из сотни людей — и я готов прозакладывать мой скипетр, что собака узнает его и отомстит ему за причиненное ей зло, как это произошло на ваших глазах сегодня. Подобные случаи, при всей их необычайности, не новы. Такого доказательства бывало достаточно для изобличения и предания смерти убийц и грабителей, и люди говорили, что то был перст божий. В твоей собственной стране, мой царственный брат, при таких же обстоятельствах устроили настоящий поединок между человеком и собакой, чтобы выяснить виновника убийства. Собака выступала обвинителем и победила; человек был казнен и перед смертью покаялся в совершенном преступлении. Поверь мне, царственный брат, тайные преступления нередко раскрывали благодаря свидетельству даже неодушевленных предметов, не говоря уже о животных, по своему природному чутью значительно уступающих собаке, другу и спутнику человека.
— Такой поединок, мой царственный брат, — ответил Филипп, — действительно произошел при одном из наших предшественников, да будет милостив к нему бог. Но это было в стародавние времена, и, кроме того, упомянутый тобой случай не может служить примером для нас. Тогда обвиняемым был обыкновенный человек низкого звания; оружием ему служила только дубина, а доспехами — кожаный камзол. Но мы не можем допустить, чтобы один из государей унизил себя, пользуясь таким грубым оружием, и опозорил себя участием в таком поединке.
— Я вовсе не имел этого в виду, — сказал король Ричард. — Было бы нечестно рисковать жизнью славной собаки, заставив ее сражаться с двуличным предателем, каким оказался этот Конрад. Но вот моя собственная перчатка… Мы вызываем его на поединок в доказательство обвинения, которое мы выдвинули против него. Король, во всяком случае, больше чем ровня маркизу.
Конрад не торопился принять вызов, брошенный Ричардом перед всем собранием, и король Филипп успел ответить, прежде чем маркиз сделал движение, чтобы поднять перчатку.
— Король, — сказал французский монарх, — настолько же больше чем ровня для маркиза Конрада, насколько собака была бы меньше чем ровня. Царственный Ричард, мы не можем этого позволить. Ты наш предводитель — меч и щит христианства.
— Я возражаю против такого поединка, — заявил представитель венецианской казны, — пока английский король не уплатит пятидесяти тысяч безантов, которые он должен республике. Достаточно того, что нам грозит потеря этих денег, если наш должник падает от рук неверных, и мы не желаем подвергать себя добавочному риску его смерти в распрях между христианами из-за собак и знамен.
— А я, — сказал Уильям Длинный Меч, граф Солсбери, — в свою очередь, протестую против того, чтобы мой царственный брат в этом поединке подвергал опасности свою жизнь, которая принадлежит народу Англии… Доблестный брат, возьми обратно свою перчатку и считай, будто ее >нес с твоей руки ветер. Вместо нее будет лежать моя перчатка. Королевский сын, пусть даже с полосами на левом поле щита, во всяком случае ровня этой обезьяне маркизу.
— Государи и высокородные рыцари, — сказал Конрад, — я не приму вызова короля Ричарда. Он был избран нашим вождем в борьбе с сарацинами, и если его совесть позволяет ему вызвать союзника на бой по такому пустому поводу, то моя не может вынести упрека в том, что я принял вызов. Но что касается его незаконнорожденного брата, Уильяма из Вудстока, или любого другого человека, который повторит эту клевету либо осмелится объявить себя заступником, то против них я готов отстоять свою честь на ристалище и доказать, что те, кто меня обвиняет, низкие лжецы.
— Маркиз Монсерратский говорил как рассудительный человек, — сказал архиепископ Тирский, — мне кажется, на этом спор может быть закончен без ущерба для чести обеих сторон.
— Я думаю, он может быть на этом закончен, — заявил король Франции, — при условии, если король Ричард возьмет назад свое обвинение, как необоснованное.
— Филипп Французский, — ответил Львиное Сердце, — у меня никогда не повернется язык нанести самому себе такое оскорбление. Я обвинил этого Конрада в том, что он, словно вор, под покровом ночи похитил эмблему английского величия с того места, где она находилась. Я по-прежнему уверен в этом и по-прежнему обвиняю его в краже. И когда будет назначен день поединка, можете не сомневаться, что ввиду отказа Конрада сразиться лично с нами я найду заступника, который поддержит наше обвинение. А ты, Уильям, без нашего особого разрешения не должен вмешиваться со своим длинным мечом в эту ссору.
— Так как положение обязывает меня быть третейским судьей в этом прискорбнейшем деле, — сказал Филипп Французский, — я назначаю решение его путем поединка, в соответствии с рыцарскими обычаями, на пятый день, считая от сегодняшнего: Ричард, король Англии, в лице своего заступника будет обвиняющей стороной, Конрад, маркиз Монсерратский, будет защищаться сам. Должен, однако, признаться, что я не знаю, где можно найти нейтральное место для поединка; его нельзя проводить поблизости от нашего лагеря, ибо начнутся раздоры между воинами, которые будут держать ту или иную сторону.
— Следует, пожалуй, — сказал Ричард, — обратиться к великодушию царственного Саладина. Хотя он и язычник, я никогда не встречал рыцаря, столь преисполненного благородства и чьей добросовестности мы могли бы так безусловно довериться. Я говорю это для тех, кто опасается возможности вероломства; что до меня, то где бы я ни увидел врага, там я вступаю с ним в битву.
— Да будет так, — согласился Филипп. — Мы поставим в известность Саладина, хотя и покажем этим нашему врагу, что среди нас царит прискорбный дух раздора, который мы охотно скрыли бы от самих себя, будь это возможно. Итак, я распускаю совет и настоятельно прошу всех вас как христиан и добрых рыцарей принять меры, чтобы эта злосчастная ссора не повела к дальнейшим распрям в лагере. Вы должны считать ее делом, подлежащим исключительно суду божьему. Пусть каждый из вас помолится, чтобы господь даровал победу в поединке тому, на чьей стороне правда; и да свершится воля его!
— Аминь, аминь! — послышалось со всех сторон.
Тамплиер тем временем прошептал маркизу:
— Конрад, не хочешь ли ты добавить молитву об избавлении тебя от власти пса, как говорится у Псалмопевца?
— Замолчи! — ответил маркиз. — Здесь повсюду бродит демон-изобличитель, который среди других новостей может рассказать, как далеко завел тебя девиз твоего ордена — Feriatur Leo.[29]
— Ты устоишь в этом поединке? — спросил тамплиер.
— Не опасайся за меня, — ответил Конрад. — Конечно, мне не хотелось бы наткнуться на железную руку самого Ричарда, и я не стыжусь признаться, что радуюсь избавлению от встречи с ним. Но нет среди его приближенных человека, включая его незаконнорожденного брата, с которым я побоялся бы сразиться.
— Это хорошо, что ты так уверен в себе, — продолжал тамплиер. — В таком случае клыки этой собаки сделали больше для распада союза между государями, чем твои хитрости или кинжал хариджита. Разве ты не видишь, что Филипп, старательно хмуря лоб, не может скрыть удовольствие, испытываемое им при мысли о скором освобождении от союзных обязательств, которые так тяготят его? Посмотри, что за улыбка на лице Генриха Шампанского, сияющем, как искрометный кубок с вином его страны… Обрати внимание, как радостно хихикает Австрия, предвкушая, что нанесенная ей обида будет отомщена без всякого риска и неприятностей для нее самой. Тише, он подходит… Сколь прискорбны, царственнейшая Австрия, эти трещины в стенах нашего Сиона…
— Если ты имеешь в виду крестовый поход, — ответил герцог, — то я хотел бы, чтобы наш Сион рассыпался на куски и все мы благополучно вернулись домой!.. Я говорю это по секрету.
— Подумать только, — сказал маркиз Монсерратский, — что этот разлад — дело рук короля Ричарда, по чьей прихоти мы безропотно переносили столько лишений, кому мы подчинялись, как рабы хозяину, в надежде, что он направит свою доблесть против наших врагов, а не против друзей.
— Я не нахожу, чтобы он так уж превосходил доблестью остальных, — сказал эрцгерцог. — Я уверен, если бы благородный маркиз встретился с ним на ристалище, он был бы победителем; хотя островитянин наносит сильные удары секирой, он не так уж искусен в обращении с копьем. Я охотно сразился бы с ним сам, чтобы покончить с нашей старой ссорой, если бы только во имя блага христианства владетельным государям не было запрещено мериться силами на ристалище… Если ты желаешь, благородный маркиз, я буду твоим поручителем в этом поединке.
— И я также, — сказал гроссмейстер.
— Пойдемте же, благородные рыцари, и пообедаем у нас в шатре, — предложил герцог, — там мы поговорим за кубком доброго ниренштейнского вина.
Они вместе вошли к герцогу.
— О чем разговаривал наш хозяин с этими важными господами? — спросил Йонас Шванкер у своего товарища рассказчика, который после закрытия совета позволил себе приблизиться вплотную к своему господину, между тем как шут ожидал на более почтительном расстоянии.
— Служитель Глупости, — сказал рассказчик, — умерь свое любопытство; мне не пристало разглашать тайны нашего хозяина.
— Питомец Мудрости, ты ошибаешься, — возразил Йонас. — Мы оба — постоянные спутники нашего господина, и нам одинаково важно знать, кто из нас — ты или я, Мудрость или Глупость — имеет большее влияние на него.
— Он сказал маркизу и гроссмейстеру, — ответил рассказчик, — что устал от этих войн и был бы рад благополучно вернуться домой.
— У нас поровну очков, и игра не идет в счет, — сказал шут. — Очень мудро думать так, но большая глупость говорить об этом другим… Продолжай.
— Гм, затем он сказал им, что Ричард не доблестнее других и не слишком искусен на ристалище.
— Моя взяла! — воскликнул Шванкер. — Это отменная глупость. Что дальше?
— Право, я уже позабыл, — ответил мудрец. — Он пригласил их на кубок ниренштейна.
— В этом видна мудрость, — сказал Йонас. — Можешь пока считать этот кон своим; но тебе придется согласиться, что он мой, если наш хозяин выпьет слишком много, как скорее всего и будет. Что-нибудь еще?
— Ничего достойного упоминания, — ответил оратор, — он лишь пожалел, что не воспользовался случаем встретиться с Ричардом в поединке.
— Довольно, довольно! — воскликнул Йонас. — Это такая дикая глупость, что я почти стыжусь своего выигрыша… Тем не менее, хоть он и дурак, мы последуем за ним, мудрейший рассказчик, и выпьем свою долю ниренштейнского вина.
Глава XXV
Тебе неверен был бы я,
Возлюбленной моей,
Когда бы честь, любовь моя,
Я не любил сильней.
«Стихи» МонтрозаВернувшись в свой шатер, король Ричард приказал ввести к нему нубийца. Он вошел с обычным торжественным поклоном, простерся ниц и, поднявшись, стоял перед королем в позе раба, ожидающего распоряжения хозяина. Для него было, пожалуй, лучше, что он, как того требовало его положение, потупил глаза, ибо, смотря в лицо королю, он вряд ли выдержал бы пристальный взгляд, которого тот в полном молчании не сводил с него в течение нескольких минут.
— Ты понимаешь толк в охоте, — заговорил наконец король, — ты так искусно поднял зверя и загнал его, словно тебя учил сам Тристрем.[30] Но это еще не все — его надо затравить; я сам был бы не прочь нацелить на него мое охотничье копье. По некоторым соображениям это невозможно. Тебе предстоит вернуться в лагерь султана и отвезти письмо с просьбой оказать любезное содействие в выборе нейтрального места для рыцарского поединка и с приглашением, если будет на то его воля, присутствовать на нем вместе с нами. Нам думается — я говорю, конечно, предположительно, — что там, в лагере, ты можешь найти рыцаря, который из любви к истине и ради приумножения своей славы сразится с этим предателем, маркизом Монсерратским.
Нубиец поднял глаза и устремил на короля пылкий взгляд, преисполненный рвения; затем он возвел их к небу с такой глубокой благодарностью, что в них сразу заблестели слезы… Затем склонил голову как бы в подтверждение своей готовности выполнить желание Ричарда и снова принял обычную позу покорного ожидания.
— Хорошо, — сказал король, — я вижу твое стремление оказать мне услугу. В этом, должен заметить, и состоит преимущество такого слуги, как ты: лишенный дара речи, он не вступает в обсуждение наших намерений и не требует объяснить ему, почему мы так решили. Слуга англичанин на твоем месте стал бы упрямо убеждать меня, чтобы я поручил выступить в поединке какому-нибудь доблестному рыцарю из числа моих приближенных; они все, начиная с моего брата Длинного Меча, горят желанием сразиться в защиту моей чести. А болтливый француз предпринял бы тысячу попыток узнать, почему я ищу заступника в лагере неверных. Но ты, мой молчаливый наперсник, выполнишь поручение, не спрашивая и не стараясь понять; для тебя слышать — значит повиноваться.
В ответ на эти рассуждения эфиоп согнулся в поклоне и опустился на колени.
— А теперь о другом, — сказал король и неожиданно спросил: — Ты еще не видел Эдит Плантагенет?
Немой вскинул глаза, словно собираясь заговорить, его губы уже готовы были отчетливо произнести «нет», но не успевшее родиться слово замерло на устах, и вместо него послышалось невнятное бормотание.
— Ну и ну, взгляните-ка! — воскликнул король. — Стоило мне назвать имя девицы королевского рода, нашей очаровательной кузины столь непревзойденной красоты, и немой чуть-чуть не заговорил. Какое же чудо могут совершить тогда ее глаза! Я сделаю этот опыт, мой друг раб. Ты увидишь несравненную красавицу нашего двора и исполнишь поручение благородного султана.
Снова радостный взгляд, снова коленопреклонение. Но когда нубиец поднялся, король тяжело опустил руку ему на плечо и продолжал суровым тоном:
— Должен предупредить тебя, мой черный посол, лишь об одном. Если ты даже почувствуешь, что под благотворным влиянием той, кого тебе предстоит вскоре лицезреть, ослабевают узы, связующие твой язык, который ныне, как выражается добрый султан, заточен в своем замке со стенами из слоновой кости, остерегайся изменить твоему молчанию и произнести хоть слово в ее присутствии, если даже свершится чудо и ты вновь обретешь дар речи. Знай, что тогда я прикажу вырвать твой язык с корнем, а его дворец слоновой кости разрушить, то есть повыдергать один за другим все твои зубы. Будь же поэтому благоразумен и безмолвен, как могила.
Нубиец, лишь только король убрал свою тяжелую руку с его плеча, склонил голову и прикоснулся пальцами к губам в знак молчаливого повиновения.
Но Ричард снова положил руку ему на плечо — на сей раз прикосновение было мягче — и добавил:
— Это приказание мы даем тебе как рабу. Будь ты рыцарем и дворянином, мы потребовали бы от тебя поклясться честью в залог молчания — единственного непременного условия, без соблюдения которого мы не могли бы оказать тебе это доверие.
Эфиоп гордо выпрямился, взглянул прямо в лицо королю и приложил правую руку к сердцу.
Затем Ричард позвал своего камергера.
— Пойди, Невил, — сказал он, — с этим рабом в шатер нашей царственной супруги и скажи, что мы желаем, чтобы наша кузина Эдит приняла его — приняла наедине. У него есть поручение к ней. Ты покажешь ему дорогу, если он нуждается в провожатом, хотя, как ты, вероятно, заметил, он уже изумительно хорошо знает все, что находится в пределах нашего лагеря… А ты, друг эфиоп, — продолжал король, — побыстрей кончай свое дело и через полчаса возвращайся сюда.
«Моя тайна раскрыта, — думал мнимый нубиец, когда, потупив взор и скрестив руки, шел за быстро шагавшим Невилом к шатру королевы Беренгарии. — Моя тайна перестала быть тайной для короля Ричарда; однако я не почувствовал, чтобы он так уж сильно гневался на меня. Если я правильно понял его слова — а толковать их иначе, конечно, нельзя, — он дает мне великолепную возможность восстановить мою честь, победив в единоборстве этого вероломного маркиза, чью вину я прочел в его трусливом взгляде и дрожащих губах, когда ему было брошено обвинение… Росваль, ты верно послужил своему хозяину, и твой обидчик дорого поплатится!.. Но что означает данное мне разрешение встретиться с той, кого я больше уж не надеялся увидеть? Как и почему согласился царственный Плантагенет, чтобы я увиделся с его прекрасной родственницей, я, посланец язычника Саладина или же преступный изгнанник, столь недавно удаленный королем из его лагеря и чью вину так сильно отяготило смелое признание в любви, которой он гордится? Ричард согласился, чтобы она получила письмо от влюбленного мусульманина, притом из рук другого влюбленного, стоящего неизмеримо ниже ее по происхождению; каждое из этих обстоятельств совершенно невероятно и, кроме того, не вяжется одно с другим. Но когда Ричард не находится во власти своих необузданных страстей, он великодушен и по-истине благороден. С таким человеком я готов иметь дело и вести себя соответственно его желаниям, высказанным прямо или подразумеваемым, не стремясь узнать слишком много и довольствуясь тем, что может постепенно раскрыться передо мной без моих назойливых вопросов. Тому, кто предоставил мне такой прекрасный случай восстановить мою запятнанную честь, я обязан беспрекословно повиноваться, и сколь ни тяжело мне будет, я уплачу свой долг. И все же, — размышлял он дальше, побуждаемый гордостью, которая переполнила его сердце, — Львиное Сердце, как его называют, судил, должно быть, о чувствах других по своим собственным. Я домогаюсь беседы с его родственницей! Я, ни разу не сказавший ей ни слова, когда принимал из ее рук почетную награду, когда среди защитников креста меня считали не последним в рыцарских подвигах! Я предстану перед ней в этом низком обличье, в одежде раба и, увы, будучи на самом деле рабом, с пятном бесчестия, опозорившим тот щит, который некогда был моим! Чтобы я стремился к этому! Он плохо знает меня. И все же я признателен ему за эту возможность, благодаря которой все мы сумеем, пожалуй, лучше узнать друг друга».
Когда он пришел к этому выводу, они уже стояли перед входом в шатер королевы.
Стража, разумеется, их пропустила, и Невил, оставив нубийца в небольшой прихожей, которую тот слишком хорошо помнил, вошел в помещение, служившее королеве приемной. Тихим и почтительным голосом он передал приказ своего царственного господина; его учтивые манеры резко отличались от грубости Томаса де Во, для которого Ричард был все, а остальной двор, включая Беренгарию, — ничто. Едва Невил изложил данное ему поручение, как раздался взрыв смеха.
— А каков собой этот нубийский раб, присланный султаном с таким поручением? Он негр, де Невил, не так ли? — спросил женский голос, принадлежавший, несомненно, Беренгарии. — Негр, не так ли, де Невил, с черной кожей, курчавой, как у барана, головой, приплюснутым носом и толстыми губами, а, почтенный сэр Генри?
— Не забудьте, ваше величество, еще о ногах, изогнутых наружу, подобно клинку сарацинской сабли, — произнес другой голос.
— Скорее — подобно луку Купидона, ибо он пришел с любовным посланием, — сказала королева. — Благородный Невил, ты всегда готов доставить удовольствие нам, бедным женщинам, у которых так мало развлечений. Мы должны увидеть этого посла любви. Я видела много сарацин и мавров, но негра — никогда.
— Я создан для того, чтобы повиноваться приказаниям вашего величества, так что вам придется вступиться за меня перед моим повелителем, если он будет недоволен моим поступком, — ответил вежливый рыцарь. — Однако разрешите заверить ваше величество: вы увидите не совсем то, что ожидаете.
— Тем лучше… Еще безобразней, чем мы можем вообразить, и все же этот доблестный султан избрал его вестником любви?
— Милостивейшая госпожа, — сказала леди Ка-листа, — умоляю вас, разрешите доброму рыцарю отвести этого посла прямо к леди Эдит, кому адресованы его верительные грамоты. Мы уже один раз едва не поплатились за подобную шалость.
— Поплатились? — презрительно повторила королева. — Но может быть, это и правильно, Калиста, что ты столь осмотрительна… Пусть нубиец, как ты его называешь, прежде выполнит поручение к нашей кузине… Он к тому же немой, не так ли?
— Да, госпожа, — ответил рыцарь.
— Бесценным преимуществом обладают восточные знатные дамы, — сказала Беренгария, — им прислуживают люди, в присутствии которых они могу говорить что угодно, не опасаясь, что те передадут их слова. Между тем как у нас в лагере, по выражению епископа Сент-Джудского, птицы небесные разносят все новости.
— Это объясняется просто, — сказал де Невил, — ваше величество забывает, что вы говорите за полотняными стенами.
После этого замечания голоса стихли, некоторое время слышался лишь шепот, а затем английский рыцарь возвратился к эфиопу и сделал ему знак следовать за собой. Тот повиновался, и Невил повел его к шатру, установленному несколько в стороне от шатра королевы для леди Эдит и ее приближенных. Одна из служанок-копток встретила посетителей у входа, и сэр Генри Невил сообщил ей повеление короля. Через одну-две минуты нубийца ввели к Эдит, а Невил остался перед шатром. Рабыня, сопровождавшая посланца, по знаку своей госпожи удалилась. Несчастный рыцарь опустился на одно колено, устремил взор в землю и скрестил на груди руки, словно преступник, ожидающий приговора. Унижение, которое он испытывал, представ в таком необычайном виде, не только проявлялось в его позе, но и охватило все его существо. Эдит была в том же одеянии, в каком принимала короля Ричарда: длинное прозрачное темное покрывало, подобно тени летней ночи, падающей на прекрасный ландшафт, окутывало ее, меняя и делая неясными черты ее лица, но не скрывая его красоты. Она держала в руке серебряный светильник, который был наполнен какой-то ароматической жидкостью и горел очень ярко.
Она подошла почти вплотную к коленопреклоненному, неподвижному как изваяние рабу и направила свет на его лицо, словно хотела тщательнее рассмотреть его, затем отошла и поставила светильник так, чтобы на висевшей сбоку занавеси появилась тень его лица в профиль. Наконец Эдит заговорила, и в ее спокойном голосе звучала глубокая печаль:
— Это вы?.. Неужели это вы, храбрый рыцарь Леопарда, доблестный сэр Кеннет Шотландский… Неужели это вы?.. В этом рабском обличье… Окруженный тысячью опасностей…
Едва рыцарь услышал голос дамы его сердца, так неожиданно обратившийся к нему, голос, в котором звучало сострадание, почти нежность, с его губ готов был сорваться подобающий ответ, и, только вспомнив приказ Ричарда и данное им самим обещание молчать, он с трудом сдержал себя, хотя так жаждал сказать, что увиденная им божественная красота и только что услышанные слова были достаточным вознаграждением за рабство на всю жизнь, за все опасности, ежечасно угрожавшие этой жизни. Итак, он все же опомнился, и глубокий, страстный вздох был единственным ответом на вопрос высокородной Эдит.
— Я чувствую… я знаю, что угадала, — продолжала Эдит. — Я заметила вас, как только вы появились вблизи от возвышения, где стояла я с королевой. Я узнала также вашего храброго пса. Та, которую может ввести в заблуждение перемена одежды или цвета кожи преданного слуги, не настоящая леди и недостойна служения такого рыцаря, как ты. Говори же безбоязненно с Эдит Плантагенет. Она умеет быть милостивой к попавшему в беду доблестному рыцарю, который служил ей, чтил ее и совершил ратные подвиги во имя ее, когда судьба ему улыбалась… Ты продолжаешь молчать! Страх или стыд сковывает твои уста? Страх ведь неведом тебе, а стыд — пусть он будет уделом тех, кто причинил тебе зло.
Рыцарь был в отчаянии, разыгрывая роль немого во время столь важной для него встречи, и выражал свою скорбь лишь тем, что глубоко вздыхал и прикладывал палец к губам. Эдит, раздосадованная, отступила на несколько шагов.
— Но что это! — воскликнула она. — Ты немой азиат не только по виду, но и на самом деле? Этого я не ожидала… Пожалуй, ты станешь презирать меня за мое смелое признание в том, что я со вниманием относилась к тем знакам почтения, которые ты оказывал мне? Ты не должен думать так недостойно об Эдит. Она прекрасно знает границы приличий, предписываемые высокородным девицам сдержанностью и скромностью, и она знает, когда и до какого предела они могут уступить место благодарности — искреннему желанию, чтобы в ее власти было вознаградить за услуги и исправить зло, постигшее доблестного рыцаря из-за его преданности ей… К чему с таким жаром сжимать и ломать себе руки?.. А вдруг, — добавила она, отпрянув при этой мысли, — их жестокость действительно лишила тебя способности говорить? Ты качаешь головой. Ну, в колдовстве ли тут дело или в упрямстве, но я больше ни о чем тебя не буду спрашивать. Выполняй свое поручение как тебе угодно. Я тоже могу быть немой.
Переодетый рыцарь сделал жест, выражавший и сетование на свою судьбу и скорбь по поводу неудовольствия леди Эдит; в то же время он вручил ей письмо султана, завернутое, как обычно, в тонкий шелк и золотую парчу. Эдит взяла письмо, небрежно взглянула на него, затем отложила в сторону и, снова устремив взор на рыцаря, тихо произнесла:
— Ты явился ко мне с поручением и не промолвишь ни слова?
Мнимый раб прижал обе руки ко лбу, словно пытаясь дать понять, какую муку испытывает он, не имея возможности повиноваться ей; но она в гневе отвернулась от него.
— Уходи! — промолвила она. — Я сказала достаточно — слишком много — тому, кто в ответ не желает удостоить меня ни одним словом. Уходи!.. И знай, если я принесла тебе горе, то теперь искупила свою вину; ибо если я была злосчастной причиной того, что тебя уговорили покинуть почетный пост, то теперь, во время этой встречи, я забыла свое достоинство и унизила себя в твоих глазах и в своих собственных.
Она закрыла глаза рукой, казалось, сильно взволнованная. Сэр Кеннет хотел приблизиться к ней, но она мановением руки удержала его.
— Прочь! Волей неба душа у тебя теперь под стать твоему новому положению! Человек менее тупой и трусливый, нежели немой раб, произнес бы хоть слово благодарности, пусть даже лишь для того, чтобы утешить меня в моем унижении. Чего ты ждешь?.. Уходи!
Переряженный рыцарь почти невольно бросил взгляд на письмо, как бы в объяснение, почему он медлит. Эдит схватила письмо и ироническим, презрительным тоном сказала:
— Я забыла… Послушный раб ждет ответа на доставленное им послание… Но что это — от султана!
Она быстро пробежала глазами письмо Саладина, написанное по-арабски и по-французски; кончив читать, она горько и злобно рассмеялась.
— Это превосходит всякое воображение! — воскликнула она. — Ни один фокусник не покажет таких чудес! Его ловкости рук достаточно, чтобы обратить цехины и безанты в дойты и мараведисы. Но разве он может превратить христианского рыцаря, которого всегда почитали одним из храбрейших воинов святой армии креста, в лобызающего прах раба языческого султана, в посредника при дерзком сватовстве неверного к христианской девице, в человека, забывшего законы благородного рыцарства и заветы религии? Но бесполезно разговаривать с добровольным рабом языческого пса. Расскажи своему хозяину, когда под его плетью ты обретешь дар речи, что я сделала на твоих глазах с его посланием.
С этими словами она швырнула письмо султана на землю и наступила на него ногой.
— И передай ему, — добавила она, — что излияние нежных чувств некрещеного язычника вызывает у Эдит Плантагенет одно лишь презрение.
Сказав это, Эдит бросилась было прочь от рыцаря, но тот, стоя на коленях у ее ног, в порыве отчаяния осмелился схватить край ее платья, чтобы удержать ее.
— Ты разве не слышал, бестолковый раб, что я сказала? — круто обернувшись к нему, спросила она резким тоном. — Передай языческому султану, твоему хозяину, что к его сватовству я отношусь с таким же презрением, как и к коленопреклоненной мольбе недостойного отступника, который изменил религии и рыцарству, богу и своей даме!
Она стремительным движением вырвала край платья из его руки и вышла из шатра.
В то же мгновение снаружи послышался голос Невила, звавший нубийца. Несчастный рыцарь, обессиленный и отупевший от горя, которое ему пришлось испытать во время этого свидания и которого он мог бы избегнуть, лишь нарушив обещание, данное им королю Ричарду, едва брел за английским бароном. Наконец они подошли к королевскому шатру; перед ним только что спешилась группа всадников. В шатре было светло и оживленно; когда Невил и его переряженный спутник вошли, они увидели, что король и некоторые из его приближенных радостно встречают гостей.
Глава XXVI
«Лить слезы вечно буду я!
Но не о том, что друг далек:
Вернется он в свои края,
Когда разлуки минет срок.
И не о мертвых плачу, нет!
Их скорбь прошла, их стон утих.
Все близкие уйдут им вслед,
И смерть уж не разрознит их».
Но плачет дева без конца,
Что безутешней горе есть:
Пятно на имени бойца
И им утраченная честь.
БалладаСлышался звонкий самоуверенный голос Ричарда, который весело приветствовал вновь прибывших.
— Томас де Во! Толстяк Том из Гилсленда! Клянусь головой короля Генриха, я радуюсь тебе не меньше, чем веселый выпивала — фляге вина! Я вряд ли сумел бы построить мое войско в боевой порядок, если бы твоя огромная фигура не маячила передо мной и не служила вехой, по которой я мог бы выравнять свои ряды. Вот-вот завяжется драка, Томас, если святые будут милостивы к нам; и начни мы сражаться без тебя, я не удивился бы, услышав, что тебя нашли висящим на ольхе.
— Надеюсь, — ответил Томас де Во, — что я перенес бы разочарование с должным христианским терпением и не стал бы умирать смертью предателя. Впрочем, я благодарю ваше величество за любезный прием — тем более великодушный, что он оказан мне в предвидении ратного пиршества, за которым вы, с позволения сказать, всегда чересчур склонны урвать себе долю побольше. Но я привез вашему величеству того, кого, без сомнения, вы встретите еще более радушно.
Тут выступил вперед и склонился перед королем юноша невысокого роста и хрупкого телосложения, Он был скромно одет, но на его берете сверкала золотая пряжка, украшенная драгоценным камнем, с блеском которого могло соперничать лишь сияние глаз, смотревших из-под этого берета. Глаза были единственной примечательной чертой лица юноши; но на любого, кто обратил на них внимание, они неизменно производили сильное впечатление. У него на шее на шелковой ленте лазоревого цвета висел золотой ключ для настройки арфы.
Юноша почтительно преклонил колена перед Ричардом, но король в радостном возбуждении поспешил поднять его, пылко прижал к своей груди и расцеловал в обе щеки.
— Блондель де Нель! — весело воскликнул он. — Добро пожаловать к нам с Кипра, король менестрелей! Король Англии, почитающий твое достоинство не ниже своего, приветствует тебя. Я был болен, мой друг, и, клянусь душой, наверно из-за того, что мне недоставало тебя; ибо, будь я уже на половине пути к раю, твое пение, кажется, могло бы вернуть меня обратно на землю… Какие новости из страны поэзии, благородный любимец муз? Что-нибудь свеженькое от трубадуров Прованса? Что-нибудь от менестрелей веселой Нормандии? А главное, был ли ты сам это время чем-нибудь занят? Но к чему я спрашиваю: ты не можешь быть праздным, если бы даже захотел; твой благородный талант подобен огню, который пылает внутри и заставляет тебя изливаться в музыке и песне.
— Я кое-что узнал и кое-что сделал, благородный король, — ответил знаменитый Блондель с застенчивой скромностью, которая не покидала его, несмотря на все восторженные похвалы Ричарда его искусству.
— Мы послушаем тебя, мой друг… Мы сейчас же послушаем тебя, — сказал король. Затем, ласково дотронувшись до плеча Блонделя, он добавил: — Конечно, если ты не устал с дороги; я скорее загоню до смерти моего лучшего коня, чем нанесу хоть малейший ущерб твоему голосу.
— Мой голос, как всегда, к услугам моего царственного покровителя, — сказал Блондель. — Но ваше величество, — добавил он, кинув взгляд на разбросанные по столу бумаги, — заняты как будто более важным делом, а час уже поздний.
— Вовсе нет, мой друг, вовсе нет, мой дорогой Блондель. Я только набрасывал план построения войск в битве с сарацинами, это дело одной минуты… На это потребуется почти так же мало времени, как на то, чтобы разбить их.
— Мне кажется, однако, — сказал Томас де Во, — не мешало бы осведомиться, каким войском будет располагать ваше величество для построения. Я принес сведения об этом из Аскалона.
— Ты мул, Томас, — сказал король, — настоящий мул по тупости и упрямству!.. Ну, благородные рыцари, посторонитесь!.. Станьте вокруг Блонделя Дайте ему скамеечку… Где его арфоносец? Или погодите, пусть он возьмет мою арфу — его собственная, возможно, пострадала от путешествия.
— Я хотел бы, чтобы вы, ваше величество, выслушали мой доклад, — настаивал Томас де Во. — Я проделал длинный путь, и меня больше манит постель, чем щекотание моих ушей.
— Щекотание твоих ушей! — воскликнул король. — Для этого нужно перо вальдшнепа, а не сладкие звуки. Скажи-ка, Томас, твои уши могут отличить пение Блонделя от крика осла?
— По правде говоря, милорд, — ответил Томас, — я и сам хорошенько не знаю; но оставляя в стороне Блонделя — дворянина по рождению и человека, несомненно, высокоодаренного, я должен сказать в ответ на вопрос вашего величества, что при виде менестреля я всегда вспоминаю об осле.
— А не мог бы ты из учтивости сделать исключение и для меня — тоже дворянина по рождению, как и Блондель, и его собрата по joyeuse science?[31]
— Вашему величеству следовало бы помнить, — возразил де Во, улыбаясь, — что не приходится ждать учтивости от мула.
— Совершенно правильно, — сказал король, — и ты — животное весьма дурного нрава… Но подойди сюда, господин мул, и дай я тебя разгружу, чтобы ты мог улечься на свою подстилку и не пришлось зря тратить на тебя музыку… А ты, мой добрый брат Солсбери, отправься тем временем в шатер нашей супруги и скажи ей, что приехал Блондель с полной сумкой новых песен менестрелей. Попроси ее немедленно прибыть к нам и проводи ее; позаботься, чтобы пришла и наша кузина Эдит Плантагенет.
На мгновение Ричард остановил взгляд на нубийце, и, как всегда, когда он на него смотрел, на его лице появилось какое-то двусмысленное выражение.
— А, наш молчаливый и таинственный посол уже вернулся? Стань, раб, позади Невила, и ты сейчас услышишь звуки, которые заставят тебя благословить бога за то, что он поразил тебя немотой, а не глухотой.
Затем король отошел в сторону с де Во и немедленно погрузился в военные дела, о которых принялся ему рассказывать барон.
К тому времени, когда лорд Гилсленд закончил свой доклад, посланец королевы возвестил, что она и ее свита приближаются к королевскому шатру.
— Эй, флягу вина! — сказал король. — Старого кипрского из подвалов короля Исаака, которое мы захватили при штурме Фамагусты… Наполним наши кубки, господа, в честь храброго лорда Гилсленда. Более рачительного и преданного слуги никогда не было ни у одного государя.
— Я рад, — сказал Томас де Во, — что ваше величество считает мула полезным рабом, хотя голос у него не такой музыкальный, как звуки струн из конского волоса или проволоки.
— Эта колкость насчет мула, видно, застряла у тебя в горле? — сказал Ричард. — Протолкни-ка ее полным до краев кубком, а не то ты задохнешься… Вот так, лихо опрокинуто! А теперь я скажу тебе, что и ты и я — мы оба воины и должны столь же хладнокровно сносить шутки друг друга за пиршественным столом, как и удары, которыми мы обмениваемся на турнире, и любить друг друга тем сильнее, чем крепче эти шутки и удары. Клянусь честью, если во время нашего последнего словесного поединка ты не нанес мне такого же сильного удара, как я тебе, то ты вложил все свое остроумие в последний выпад. Но вот в чем разница между тобой и Блонделем: ты мой товарищ — можно сказать, ученик — в ратном деле, между тем как Блондель — мой учитель в искусстве менестрелей. С тобой я позволяю себе дружескую свободу обращения — ему я должен оказывать почет, так как он превосходит меня в своем искусстве. Ну, дружище, не будь сварливым, а останься с нами и послушай наши песни.
— Чтобы видеть ваше величество в таком веселом настроении, — ответил лорд Гилсленд, — клянусь честью, я готов был бы остаться до тех пор, пока Блондель не закончит знаменитую повесть о короле Артуре, на исполнение которой требуется три дня.
— Мы не будем столь долго испытывать твое терпение, — сказал король. — Но смотри, свет факелов возвещает, что наша супруга приближается… Ну-ка, пойди встреть ее и постарайся заслужить благосклонный взгляд самых прекрасных глаз в христианском мире… Не задерживайся для того, чтобы оправить свой плащ. Видишь, ты дал возможность Невилу обрезать тебе нос.
— Он никогда не бывал впереди меня на поле битвы, — сказал де Во, не слишком обрадованный тем, что более проворный камергер опередил его.
— Конечно, ни он, ни кто-либо другой не шли впереди тебя, мой добрый Том из Гилса, — сказал король, — разве только иногда нам удавалось это.
— Да, милорд, — согласился де Во. — И отдадим должное несчастному, бедный рыцарь Леопарда, случалось, тоже бывал впереди меня; потому что, видите ли, он весит меньше, чем я, и его лошадь…
— Молчи! — властным тоном перебил Ричард. — Ни слова о нем.
В то же мгновение он сделал несколько шагов вперед навстречу своей царственной супруге. Поздоровавшись с ней, он представил ей Блонделя, назвав его королем менестрелей и своим учителем в поэзии. Беренгарии хорошо знала, что страсть ее супруга к стихам и музыке почти не уступала его рвению к воинской славе и что Блондель был его особым любимцем, а потому постаралась оказать ему самое лестное внимание, заслуженное тем, кого король был всегда рад отличить. Блондель в ответ на похвалы, расточаемые ему прекрасной королевой, пожалуй, чересчур обильно, не скупился на изъявления признательности; однако он не смог скрыть, что безыскусственное ласковое радушие Эдит, чье милостивое приветствие, при всей его простоте и немногословности, казалось ему, вероятно, искренним, вызвало в нем чувство более глубокого уважения и более почтительной благодарности.
Королева и ее царственный супруг заметили это различие, и Ричард, видя, что жена несколько уязвлена предпочтением, отданным его кузине, которым он и сам, возможно, был не очень доволен, сказал так, чтобы слышали обе женщины:
— Как ты, Беренгария, видишь по поведению нашего учителя Блонделя, мы, менестрели, питаем больше уважения к строгому судье вроде нашей родственницы, чем к такому благосклонно настроенному другу, как ты, готовому на веру принять наши достоинства.
Эдит почувствовала себя задетой этой язвительной насмешкой своего царственного родственника и, не задумываясь, ответила, что она «не единственная из Плантагенетов, кому свойственно быть суровым и строгим судьей».
Она, быть может, сказала бы и больше, так как сама обладала характером, свойственным представителям этого королевского дома, который, позаимствовав свое имя и герб от низкорослого дрока (Planta Genista), считающегося эмблемой смирения, был, пожалуй, одной из самых гордых династий, когда-либо правивших в Англии; однако ее засверкавшие при смелом ответе глаза неожиданно встретились с глазами нубийца, хотя тот и старался спрятаться за спинами присутствовавших рыцарей, и она опустилась на скамью, так побледнев при этом, что королева Беренгария сочла своей обязанностью попросить воды и нюхательного спирта и прибегнуть к другим мерам, принятым в тех случаях, когда женщина падает в обморок. Ричард был более высокого мнения о силе духа Эдит; заявив, что музыка не хуже любого иного средства способна привести в чувство представительницу семьи Плантагенетов, он предложил Блонделю занять свое место и приступить к пению.
— Спой нам, — сказал он, — ту песню об окровавленной одежде, с содержанием которой ты меня ознакомил перед тем, как я покинул Кипр. За это время ты должен был научиться исполнять ее в совершенстве, не то про тебя можно будет сказать, как выражаются воины нашей страны, что твой лук сломан.
Менестрель, однако, не сводил тревожного взгляда с Эдит, и лишь после того, как убедился, что румянец вновь заиграл на ее щеках, он повиновался настоятельным приказаниям короля. Затем, аккомпанируя себе на арфе так, чтобы придать словам дополнительную прелесть, но не заглушать их, он запел речитативом одно из тех старинных сказаний о любви и рыцарстве, которые в былые времена неизменно привлекали внимание слушателей. Едва только он начал вступление, его обычно невыразительное лицо словно преобразилось, загоревшись какой-то силой и вдохновением. Его полнозвучный, мужественный, мягкий голос, которым он владел в совершенстве и с безукоризненным вкусом, ласкал слух и волновал сердца. Ричард, радостный, как после победы, призвал всех к тишине кстати подобранным стихом:
Слушайте, люди, в саду или в зале —с рвением одновременно покровителя и ученика рассадил всех вокруг певца и добился того, что они замолчали. Наконец он уселся сам, всем видом выражая ожидание и интерес, но в то же время храня на лице печать серьезности, приличествующей подлинному ценителю. Придворные обратили свои взоры на короля, чтобы следить за его переживаниями и подражать ему, а Томас де Во зевал во весь рот, как человек, который скрепя сердце подверг себя докучливому испытанию. Блондель пел, конечно, по-нормански; приводимые ниже стихи передают содержание и стиль его песни.
БАЛЛАДА О КРОВАВОЙ ОДЕЖДЕ Где гордо вознесся средь мирных долин Стольный град Беневент, страны властелин, В тот час, когда запад окрасил в кармин Шатры паладинов, грозы сарацин, Накануне турнира, без свиты, один, Юный паж спустился в лагерь с вершин «Где, укажите мне, здесь чужанин, Томас из Кента, Британии сын?» Вот скромный шатер сквозь вечерний туман Блестит в нем только доспехов чекан, И статный силач из страны англичан Сам правит в кольчуге какой-то изъян (Позвать оружейника — тощ карман) Он завтра в доспехи оденет свой стан, И завтра увидят, как смел он и рьян, Дама его и святой Иоанн «Хозяйка моя, — юный паж сказал, — Госпожа Беневента, ты же так мал, Из ничтожнейших самый ничтожный вассал Но тот, кто мечтает о высях скал, Перепрыгнуть должен бездонный провал И должен быть так безрассудно удал, Чтоб все увидали, что он не бахвал, Что дерзость он доблестью оправдал». Рыцарь снова склонился — так чтят алтари, — А юный посланец молвил «Смотри, Вот сорочка в ней спит от зари до зари Моя госпожа Ты прочь убери Щит, кольчугу и шлем, и душой воспари, И в сорочке льняной чудеса сотвори. Бейся, как бьются богатыри, И покрой себя славой или умри». Сорочку рыцарь берет не смутясь. Он к сердцу прижал ее: «Дамы приказ Я выполню, — молвил он, — всем напоказ, Буду биться без лат, ничего не страшась, Но коль не погибну на этот раз, То для леди придет испытанья час». Здесь кончается, так уж ведется у нас, О кровавой одежде первый сказ.— Хоть я и профан, но, как мне кажется, в последнем куплете ты изменил размер, мой Блондель! — сказал король.
— Совершенно верно, милорд, — ответил Блондель. — Я слышал эти стихи на итальянском языке от одного старого менестреля, встреченного мною на Кипре; и так как у меня не было времени ни перевести их точно, ни выучить наизусть, мне приходится теперь кое-как заполнять пробелы в музыке и словах, подобно крестьянину, который чинит живую изгородь хворостом.
— Клянусь честью, — сказал король, — мне нравится этот перекатывающийся, как грохот барабана, александрийский стих… По-моему, он звучит под музыку лучше, чем короткий размер.
— Допускается и тот и другой, как хорошо известно вашему величеству, — ответил Блондель.
— Разумеется, Блондель, — сказал Ричард, — и все же, думается мне, для этого куплета, когда уже ждешь, что сейчас посыплются удары, больше подходит громоносный александрийский стих, который напоминает кавалерийскую атаку; между тем как другие размеры — это переваливающаяся иноходь дамской верховой лошади.
— Как будет угодно вашему величеству, — сказал Блондель и снова заиграл вступление.
— Нет, сперва подкрепи свое воображение кубком искрящегося хиосского вина, — сказал король. — Послушай, я хотел бы, чтобы ты отказался от своей новой выдумки заканчивать строки одними и теми же строгими рифмами. Они связывают полет воображения и делают тебя похожим на человека, который танцует с путами на ногах.
— Эти путы, во всяком случае, легко отбросить, — заметил Блондель и снова стал перебирать пальцами струны, как бы показывая этим, что он предпочитает играть, а не выслушивать критические замечания.
— Но к чему их надевать, мой друг? — продолжал король. — К чему заковывать свой гений в железные кандалы? Удивляюсь, как у тебя вообще что-либо получается… Я, конечно, не мог бы сочинить и одной строфы, соблюдая столь стеснительные правила.
Блондель нагнулся и занялся струнами своей арфы, чтобы скрыть невольную улыбку, набежавшую на его лицо; но она не ускользнула от взгляда Ричарда.
— Клянусь, ты смеешься надо мной, Блондель, — сказал он. — И, право, этого заслуживает всякий, кто осмеливается разыгрывать из себя учителя, хотя ему надлежит быть учеником; но у нас, королей, дурная привычка к самонадеянности… Ну, продолжай свою песню, дорогой Блондель, продолжай по своему разумению; и это будет лучше, нежели все, что мы можем посоветовать, хотя нам и необходимо было высказаться.
Блондель снова запел, и так как он умел импровизировать, то не преминул воспользоваться указаниями короля, испытывая при этом, вероятно, некоторое удовольствие, что ему представился случай показать, с какой легкостью он может экспромтом придать своей поэме новую форму.
СКАЗ ВТОРОЙ Вот в день Иоанна восток заалел, На ристалище каждый обрел свой удел: Копья с треском ломались, и меч разил, Победителям — честь, павшим — темень могил. Там много свершилось геройских дел, Но тот был особо удал и смел, Кто сражался без лат, покрытый льняной Девической тонкой сорочкой ночной Одни нанесли ему множество ран, Но другие щадили прекрасный стан, Говоря: «Видно, здесь обещанье дано, А за верность убить паладина грешно». Вот герцог свой жезл опустил — и турнир Окончен, фанфары вещают мир Но кто ж победил, что герольды гласят? То рыцарь Сорочки, что бился без лат. Собиралась леди на пир во дворец И на мессу во храм. Вдруг мчится гонец И покров подает ей, ужасный на вид: Он изрублен мечами, разорван, пробит, С конских морд на нем пена, и пыль, и грязь, И пурпурная кровь на нем запеклась. И с мизинчик миледи, с ее ноготок Не остался там чистым ткани клочок. «Сэр Томас, чья родина — дальний Кент, Шлет покров тот миледи в ее Беневент. Кто упасть не боится — сорвет себе плод, Перепрыгнув бездну — до цели дойдет. Господин мой сказал: «Жизнь я ставил в залог, Доказать свою верность настал твой срок. Повелевшая снять мне и латы и шлем, Пусть открыто объявит об этом всем. Я хочу, чтобы леди в кровавый наряд, Который я ей посылаю назад, В свой черед облеклась. Ткань от крови красна, Но позорного там не найдешь ты пятна». Зарделась миледи от этих слов, Но прижала к устам кровавый покров: «И замок и храм, господину скажи, Увидят верность его госпожи». Когда же на мессу двинулось в храм Шествие знатных вельмож и дам, Миледи была — видел весь Беневент — В кровавой сорочке сверх кружев и лент. И позже за трапезой пышной она, Отцу поднося его кубок вина, Сверх мантии — все лицезрели кругом — Покрыта кровавым была полотном. И шепот пошел по блестящим рядам, Ужимки, смешки кавалеров и дам, И герцог, смущеньем и гневом объят, Метнул на виновную грозный взгляд: «Ты смело призналась в безумье своем, Но скоро жестоко раскаешься в том Вы оба — ты, Томас, и ты, моя дочь, — Из Беневента ступайте прочь!» Тут Томас поднялся, шатаясь от ран, Но духом все так же отважен и рьян. «Как кравчий — вино, так щедро в бою Я кровь свою пролил за дочь твою. Ты как нищую гонишь ее из ворот, Я ж супругу свою охраню от невзгод И не станет она вспоминать Беневент, Госпожою вступив в мое графство Кент».Шепот одобрения пробежал среди слушателей, как только сам Ричард подал пример, осыпав похвалами своего любимого менестреля и в заключение подарив ему кольцо изрядной ценности. Королева поспешила преподнести любимцу мужа дорогой браслет, и многие из присутствующих рыцарей последовали примеру королевской четы.
— Неужели наша кузина Эдит, — сказал король, — стала нечувствительна к звукам арфы, которые она когда-то так любила?
— Она благодарит Блонделя за его песню, — ответила Эдит, — и вдвойне — любезного родственника за то, что тот предложил ее исполнить.
— Ты рассердилась, кузина, — сказал король, — рассердилась, потому что услышала о женщине более своенравной, чем ты. Но тебе не избавиться от меня: я провожу тебя до шатра королевы, когда вы будете возвращаться… Мы должны поговорить, прежде чем ночь сменится утром.
Королева и ее приближенные уже встали, а остальные гости покинули шатер короля. Слуги с ярко горящими факелами и охрана из лучников ожидали Беренгарию снаружи, и вскоре она уже была на пути домой. Ричард, как и намеревался, шел рядом со своей родственницей и заставил ее опереться на свою руку, так что они могли разговаривать, не опасаясь быть услышанными.
— Какой же ответ дать мне благородному султану? — спросил Ричард. — Государи и князья церкви покидают меня, Эдит; эта новая ссора опять усилила их враждебность. Если не победой, то хоть соглашением я мог бы что-нибудь сделать для освобождения гроба господня; но увы, это зависит от каприза женщины. Я готов скорее один выйти с копьем против десяти лучших копий христианского мира, чем убеждать упрямую девицу, не понимающую собственного блага… Какой ответ, кузина, дать мне султану? Он должен быть окончательным.
— Скажи ему, — ответила Эдит, — что самая бедная из Плантагенетов предпочтет повенчаться лучше с нищетой, нежели с ложной верой.
— Может быть, с рабством, Эдит? — сказал король. — Мне кажется, ты скорее это имела в виду.
— Нет никаких оснований для подозрений, на которые ты намекаешь. Телесное рабство может внушить жалость, но рабство души вызывает только презрение. Стыдись, король веселой Англии! Ты отдал в рабство и тело и душу рыцаря, чья слава почти не уступала твоей.
— Разве я не должен был помешать своей родственнице выпить яд, загрязнив содержавший его сосуд, если не видел другого средства внушить ей отвращение к роковому напитку? — возразил король.
— Ты сам, — ответила Эдит, — настаиваешь, чтобы я выпила яд, потому что его подносят мне в золотой чаше.
— Эдит, — сказал Ричард, — я не могу принуждать тебя к тому или иному решению; но смотри, как бы ты не захлопнула дверь, которую открывает небо. Энгаддийский отшельник, кого папы и духовные соборы считают пророком, прочел в звездах, что твое замужество примирит меня с могущественным врагом и что твоим супругом будет христианин; таким образом, он дал все основания уповать, что последствием твоего бракосочетания с Саладином будет обращение султана в христианство и приход в лоно церкви сынов Измаила. Ты должна принести жертву, а не разбивать столь счастливые надежды.
— Люди могут приносить в жертву баранов и козлов, — сказала Эдит, — но не честь и совесть. Я слышала, что бесчестье одной христианской девицы было причиной захвата сарацинами Испании; позор другой вряд ли приведет к изгнанию их из Палестины.
— Ты считаешь позором стать императрицей? — сказал король.
— Я считаю позором и бесчестьем осквернить христианское таинство, вступив в брак с неверным, которого это таинство ничем не связывает; и я считаю гнусным бесчестьем, если я, чьи предки были христианскими королями, соглашусь по доброй воле стать главой гарема языческих наложниц.
— Ну что ж, кузина, — сказал король после некоторого молчания, — я не должен ссориться с тобой, хотя, как мне кажется, твое зависимое положение могло бы сделать тебя более уступчивой.
— Ваше величество, — ответила Эдит, — вы по праву унаследовали все богатства, титулы и владения рода Плантагенетов… Не пожалейте для своей бедной родственницы хотя бы небольшой доли их гордости.
— Клянусь честью, девица, — сказал король, ты выбила меня из седла одним этим словом. Ну, поцелуемся и будем друзьями. Я немедленно отправлю ответ Саладину. Но все же, кузина, не лучше ли повременить с ответом, пока ты его не увидишь? Говорят, он поразительно красив.
— Мы никогда не встретимся, милорд.
— Клянусь святым Георгием, вы почти наверняка встретитесь, — возразил король, — ибо Саладин, несомненно, предоставит нам нейтральное место для этого нового поединка из-за знамени и будет сам присутствовать на нем. Беренгарии страшно хочется тоже посмотреть на единоборство, и я готов присягнуть, что ни одна из вас, ее подруг и приближенных, не отстанет от нее — а тем более ты, моя прекрасная кузина. Вот мы уже добрались до шатра и должны расстаться — надеюсь, без неприязни… Нет, нет, подтверди это губами, а не только рукопожатием, милая Эдит; как сюзерен, я имею право целовать моих хорошеньких вассалок.
Ричард почтительно и нежно обнял свою родственницу и зашагал назад по залитому лунным светом лагерю, напевая вполголоса те отрывки из песни Блон-деля, какие он мог вспомнить.
Вернувшись к себе, он не теряя времени засел за письма к Саладину и вручил их нубийцу, приказав ему на рассвете отправиться в обратный путь к султану.
Глава XXVII
И мы тогда услышали: «Текбир!» —
Тот клич, которым, ринувшись
в атаку,
Арабы небо молят о победе.
«Осада Дамаска»На следующее утро Филипп Французский пригласил Ричарда для беседы, во время которой, наговорив множество фраз о своем высоком уважении к английскому брату, сообщил ему в выражениях чрезвычайно учтивых, но в то же время достаточно ясных, чтобы не быть превратно понятым, о твердом намерении вернуться в Европу и заняться приведением в порядок дел своего королевства. В оправдание он указал на то, что потери, понесенные армией крестоносцев, и внутренние раздоры не оставляют никакой надежды ка успех их предприятия. Ричард протестовал, но тщетно; и он не удивился, когда по окончании беседы получил послание от герцога австрийского и некоторых других государей, в котором они извещали о решении последовать примеру Филиппа и в достаточно резких выражениях выставляли причиной своего отхода от дела крестоносцев непомерное честолюбие и произвол Ричарда Английского. Теперь надо было отбросить всякую мысль о продолжении войны, так как рассчитывать на конечный успех больше не приходилось, и Ричард, горько скорбя о рухнувших надеждах на славу, не испытывал большого утешения от сознания, что в неудаче повинны его запальчивость и неблагоразумие, которые дали козырь в руки врагам.
— Они не осмелились бы бросить так моего отца, — сказал он де Во с досадой. — Ни одному слову их клеветы на столь мудрого короля никто не поверил бы в христианском мире; между тем как я — по собственной глупости! — дал им не только предлог бросить меня, но и возможность взвалить всю вину за разрыв на мой злосчастный характер.
Эти мысли были так мучительны для короля, что де Во обрадовался, когда прибытие посланца Саладина отвлекло внимание Ричарда в другую сторону.
Новым послом был эмир, которого султан очень уважал и которого звали Абдалла эль-хаджи. Он вел свой род от семьи пророка, и предки его принадлежали к племени хашем; о его высоком происхождении свидетельствовала зеленая чалма огромных размеров. Он трижды совершил путешествие в Мекку, отчего и произошло его прозвище эль-хаджи, то есть паломник. Несмотря на такое множество причин для притязаний на святость, Абдалла был (для араба) общительный человек, который любил веселую беседу и забывал о подобающей ему важности, если представлялся случай в тесной компании осушить, не опасаясь сплетен, флягу живительного вина. Он обладал также мудростью государственного деятеля, и Саладин не раз пользовался его услугами при различных переговорах с христианскими государями, главным образом с Ривардом, который лично знал эль-хаджи и был к нему весьма расположен. Посол Саладина охотно согласился предоставить подходящее место для поединка и снабдить охранными грамотами всех, кто пожелает присутствовать на нем; он предложил, что сам будет заложником, если нужна гарантия его верности. Увлекшись обсуждением подробностей предстоящего единоборства на ристалище, Ричард вскоре забыл о своих обманутых надеждах и о близком распаде союза крестоносцев.
Для поединка было избрано место, расположенное почти на одинаковом расстоянии от христианского и сарацинского лагерей и известное под названием «Алмаз пустыни». Договорились о том, что Конрад Монсерратский, защищающаяся сторона, и его поручители эрцгерцог австрийский и гроссмейстер ордена тамплиеров явятся туда в назначенный для поединка день в сопровождении не больше чем ста вооруженных всадников; что Ричард Английский и его брат Солсбери, которые поддерживают обвинение, прибудут с таким же числом сторонников для защиты своего заступника; и что султан приведет с собою охрану из пятисот отборных воинов — отряд, который следовало считать по силе лишь равным двумстам христианским рыцарям. Знатные лица, приглашенные каждой из сторон посмотреть на поединок, должны были явиться без доспехов, имея при себе только меч. Султан брал на себя подготовку ристалища, устройство помещения и снабжение пищей всех, кто будет присутствовать на торжественной церемонии. В своем письме Саладин в весьма учтивых выражениях высказывал удовольствие, предвкушаемое им от мирной личной встречи с Мелеком Риком, и свое горячее стремление сделать его пребывание у себя в гостях как можно более приятным.
После того как все предварительные переговоры были закончены и их результаты доведены до сведения Конрада и его поручителей, хаджи Абдалла был принят в тесном кругу и с восторгом слушал пение Блонделя. Предусмотрительно спрятав свою зеленую чалму и надев вместо нее греческую шапочку, он в благодарность за наслаждение, полученное им от музыки норманского менестреля, исполнил персидскую застольную песню, а затем осушил добрую флягу кипрского вина в доказательство того, что слово у него не расходится с делом. На другой день, серьезный и трезвый, как пьющий лишь воду Мирглип, он простерся ниц перед Саладином и доложил ему о результатах своего посольства.
Накануне дня, назначенного для поединка, Конрад и его друзья на рассвете двинулись в путь, направляясь к условленному месту. В тот же час и с той же целью Ричард также покинул лагерь, однако, как было условлено, он поехал другой дорогой — предосторожность, которую сочли необходимой, чтобы предотвратить возможность ссоры между вооруженными приспешниками обеих сторон.
Сам славный король не имел желания с кем-нибудь ссориться. Он радостно предвкушал отчаянную кровавую схватку на ристалище, и охватившее его веселое возбуждение могло бы быть еще сильнее лишь в том случае, если бы он сам, своей королевской особой, был одним из участников единоборства; и он снова готов был обнять всех, даже Конрада Монсерратского. Легко вооруженный, в богатом одеянии, счастливый, как жених накануне свадьбы, Ричард гарцевал рядом с паланкином королевы Беренгарии, обращая ее внимание на примечательные места, мимо которых они проезжали, и оглашая стихами и песнями негостеприимные просторы пустыни. Во время паломничества королевы в Энгаддийский монастырь ее путь проходил по другую сторону горного хребта, так что для нее и для ее свиты ландшафт пустыни был новым. Хотя Беренгария слишком хорошо знала характер мужа и старалась делать вид, будто интересуется тем, что ему было угодно говорить или петь, все же, очутившись в этих мрачных местах, она не могла не испытывать свойственного женщинам страха. Их сопровождала такая малочисленная охрана, что она казалась чем-то вроде движущегося пятнышка среди бескрайней равнины; к тому же королеве было известно, что они находятся не очень далеко от лагеря Саладина и в любой миг могут быть захвачены врасплох и сметены превосходящим численностью отрядом мчащейся как вихрь конницы, если только язычник окажется вероломным и воспользуется столь соблазнительной возможностью. Но когда Беренгария высказала свои подозрения Ричарду, тот с гневом и презрением отверг их.
— Сомневаться в честности благородного султана, — сказал он, — было бы хуже неблагодарности.
Однако сомнения и страхи, волновавшие робкую королеву, не раз закрадывались и в душу Эдит Плантагенет, которая обладала более твердым характером и более трезвым умом. Она не настолько доверяла честности мусульман, чтобы чувствовать себя совершенно спокойной, находясь почти всецело в их власти; и если бы пустыня вокруг внезапно огласилась криками «алла ху» и отряд арабской конницы устремился на них, как ястребы на добычу, она, конечно, испугалась бы, но не очень удивилась. Эти подозрения ни в коей мере не ослабели, когда под вечер был замечен одинокий всадник, которого по чалме и длинному копью легко было признать за араба; подобно парящему в воздухе соколу, он, казалось, что-то высматривал с вершины небольшого холма и при появлении королевского кортежа мгновенно умчался с быстротой той же птицы, когда она падает камнем с высоты и исчезает за горизонтом.
— Мы, должно быть, приближаемся к условленному месту, — сказал король Ричард. — Этот всадник— один из дозорных Саладина… Я как будто слышу звуки мавританских рогов и цимбал. Постройтесь, друзья, и тесно, по-военному окружите дам.
Едва он сказал это, как все рыцари, оруженосцы и лучники поспешно заняли назначенные им места и дальше двигались сомкнутой колонной, которая теперь казалась еще малочисленнее. Они, вероятно, не испытывали страха, но, говоря по правде, к их любопытству примешивалась тревога, когда они внимательно прислушивались к дикому шуму мавританской музыки, все явственней доносившейся с той стороны, где исчез арабский всадник.
Де Во прошептал королю:
— Милорд, не следует ли отправить пажа на вершину того песчаного холма? Или, быть может, вам угодно, чтобы я поскакал вперед? Судя по всему этому шуму и грохоту, мне кажется, что если за холмами не больше пятисот человек, то половина свиты султана— барабанщики и цимбалисты… Пришпорить мне коня?
Барон натянул повод и уже собирался вонзить шпоры в бока своей лошади, как вдруг король воскликнул:
— Ни в коем случае! Такая предосторожность будет означать недоверие и в то же время едва ли поможет в случае какой-нибудь неожиданности, опасаться которой, по-моему, нет оснований.
Так они двигались плотным, сомкнутым строем, пока не перевалили за линию низких песчаных холмов и не увидели перед собой цель своего путешествия; их взору предстало великолепное, но вместе с тем встревожившее их зрелище.
«Алмаз пустыни», еще так недавно уединенный источник, о существовании которого среди бесплодных песков можно было догадаться только по одиноким купам пальм, стал теперь центром лагеря, где повсюду сверкали расшитые знамена и позолоченные украшения, отливавшие тысячью различных тонов в лучах заходящего солнца. Крыши больших шатров были алые, желтые, светло-синие и других ослепительно ярких цветов, а шатровые столбы, или стояки, были наверху украшены шарами и шелковыми флажками. Но, кроме этих шатров для избранных, были еще обыкновенные черные арабские палатки; их количество показалось Томасу де Во чудовищным, достаточным, на его взгляд, чтобы вместить, по принятому на Востоке обыкновению, армию в пять тысяч человек. Арабы и курды, число которых вполне соответствовало размерам лагеря, поспешно стекались со всех сторон, ведя в поводу своих лошадей, и сбор сопровождался ужасающим грохотом военной музыки, во все времена воодушевлявшей арабов на битвы.
Вскоре вся эта спешенная конница беспорядочно сгрудилась перед лагерем, и по сигналу, поданному пронзительным криком и на миг заглушившему резкие металлические звуки музыки, все всадники вскочили в седла. Туча пыли поднялась при этом маневре и скрыла от Ричарда и его спутников лагерь, пальмы и отдаленную цепь гор, а также войско, чье внезапное движение взметнуло эту тучу; поднявшись высоко над головами, она принимала самые причудливые очертания витых колонн, куполов и минаретов. Из-за пыльной завесы снова послышался пронзительный крик. Это было сигналом коннице двинуться вперед, и всадники пустили лошадей вскачь, построившись на ходу таким образом, чтобы одновременно охватить спереди, с боков и сзади маленький отряд телохранителей Ричарда^ мгновение ока оказавшийся окруженным. Король и его свита чуть не задохнулись в пыли, которая обволакивала их со всех сторон и в клубах которой то появлялись, то исчезали страшные фигуры и исступленные лица сарацин, с дикими криками и воплями потрясавших и как попало размахивавших пиками. Некоторые всадники осаживали своих лошадей лишь тогда, когда от рыцарей их отделяло расстояние, равное длине копья, а те, что остались сзади, выпускали поверх голов своих соплеменников и христиан густые тучи стрел. Одна из них ударилась в паланкин королевы, которая испустила громкий крик, и лицо Ричарда мгновенно вспыхнуло гневным румянцем.
— Святой Георгий! — воскликнул он. — Мы должны образумить это языческое отродье!
Но Эдит, чей паланкин был рядом, высунула голову и, держа в руке стрелу, крикнула:
— Царственный Ричард, подумай, что ты делаешь! Взгляни, они без наконечников!
— Благородная, разумная девица! — воскликнул Ричард. — Клянусь небом, ты посрамила всех нас, превзойдя быстротой соображения и наблюдательностью… Не тревожьтесь, мои добрые англичане, — крикнул он своим спутникам, — их стрелы без наконечников, да и на пиках нет железного острия. Это они так приветствуют нас по своему варварскому обыкновению, хотя они, конечно, обрадовались бы, испугайся мы и приди в смятение. Вперед — медленно, но решительно.
Маленькая колонна подвигалась вперед, окруженная со всех сторон арабами, оглашавшими воздух самыми дикими и пронзительными криками; лучники тем временем показывали свою ловкость, пуская стрелы так, что они пролетали мимо рыцарских шлемов, едва не задевая их, а копейщики обменивались столь крепкими ударами своих тупых пик, что не один из них вылетел из седла и чуть не расстался с жизнью от такой грубой забавы. Вся эта суматоха, хотя она и должна была выражать дружеское приветствие, казалась европейцам несколько подозрительной.
Когда они проехали половину пути до лагеря — король Ричард и его спутники в центре, а вокруг беспорядочная орда всадников, которые вопили, гикали, сражались между собой, и мчались вскачь, создавая невообразимую сумятицу, — снова послышался пронзительный крик, и вся эта дикая конница, охватывавшая спереди и с флангов немногочисленный отряд европейцев, свернула в сторону, построилась в длинную плотную колонну и, заняв место позади воинов Ричарда, продолжала путь в относительном порядке и тишине. Облако пыли впереди рассеялось, и сквозь него показалась двигавшаяся навстречу англичанам конница совершенно иного и более обычного вида в полном боевом вооружении, достойная служить личной охраной самого гордого из восточных монархов. Великолепный отряд состоял из пятисот человек, и каждая лошадь в нем стоила княжеского выкупа. На всадниках, юных грузинских и черкесских рабах, были шлемы и кольчуги из блестящих стальных колец, которые сверкали как серебро, одежда самых ярких цветов, у некоторых из золотой и серебряной парчи, кушаки, обвитые золотыми и серебряными нитями, роскошные чалмы с перьями и драгоценными камнями; а эфесы и ножны их сабель и кинжалов дамасской стали были украшены золотом и самоцветами.
Это великолепное войско двигалось под звуки военной музыки и, поравнявшись с христианскими рыцарями, расступилось на обе стороны, образовав проход между рядами. Теперь Ричард понял, что приближается сам Саладин, и занял место во главе своего отряда. Прошло немного времени, и вот, окруженный телохранителями, в сопровождении придворных и тех отвратительных негров, что сторожат восточные гаремы и чье уродство казалось еще более страшным из-за богатства их одеяний, появился султан, весь вид и осанка которого говорили, что он тот, у кого на челе природой начертано: «Се царь!» В своей белоснежной чалме, такого же цвета плаще и широких восточных шароварах, подпоясанный кушаком алого шелка, без всяких других украшений, Саладин казался, пожалуй, одетым беднее, чем любой из его телохранителей. Но более внимательный взгляд мог обнаружить в его чалме бесценный бриллиант, прозванный поэтами «Морем света», на руке у него сверкал вделанный в перстень алмаз, на котором была выгравирована его печать и который стоил, вероятно, не меньше, чем все драгоценные камни в английской короне, а сапфир в рукояти его ятагана по ценности немногим уступал алмазу. Следует еще добавить, что для защиты от пыли, в окрестностях Мертвого моря похожей на мельчайший пепел, или, может быть, из восточной гордости, султан носил что-то вроде вуали, прикрепленной к чалме и частично скрывавшей его благородное лицо. Саладин ехал на молочно-белом арабском коне, который словно сознавал, какого благородного седока он на себе несет, и гордился им.
Два доблестных монарха — оба они по праву могли так называться, — не нуждаясь в том, чтобы их представили, соскочили одновременно с лошадей; войска замерли, музыка внезапно прекратилась, и в глубокой тишине они сделали несколько шагов навстречу друг другу и, вежливо поклонившись, обнялись затем как братья, как равные. Никто больше не обращал внимания на великолепное зрелище, какое являли взору христианские рыцари и мусульманские воины, все смотрели только на Ричарда и Саладина, да и они сами видели лишь друг друга. Впрочем, во взгляде Ричарда, обращенном на Саладина, было больше напряженного любопытства, чем во взгляде султана, устремленном на него; и султан первый нарушил молчание:
— Мелек Рик столь же желанный гость для Саладина, как эта вода для пустыни. Надеюсь, многочисленное войско не вызывает в нем подозрений. Не считая вооруженных рабов моей личной охраны, те, что явились приветствовать тебя и сейчас стоят вокруг, не сводя изумленных глаз, — все они, до самого последнего человека, знатные вожди моей тысячи племен. Ибо кто останется дома, если имеет право притязать на участие во встрече такого великого государя, как Ричард, чьим грозным именем няньки пугают ребят даже в песках Йемена, а вольный араб укрощает норовистого коня!
— И это все арабская знать? — спросил Ричард, окидывая взглядом ряды диких воинов в хайках, со смуглыми от загара лицами, белыми как слоновая кость зубами и с горевшими необычайным огнем черными глазами, которые свирепо сверкали из-под тюрбанов; одеты они были по большей части просто, даже бедно.
— Они имеют право так называться, — сказал Саладин. — Но хотя их много, это не нарушает условий нашего соглашения, так как у них нет оружия, кроме сабель… Они даже сняли железные наконечники с копий.
— Боюсь, — пробормотал де Во по-английски, — что они оставили наконечники неподалеку и им ничего не стоит быстро насадить их… Ну и ну, славная палата пэров, и Уэстминстер-холл оказался бы для нее, пожалуй, слишком тесен.
— Молчи, де Во, — сказал Ричард. — Я приказываю тебе… Благородный Саладин, — обратился он к султану, — подозрения и ты — вещи несовместные… Смотри, — продолжал он, указывая на паланкин, — я тоже привел с собой несколько доблестных воинов, и даже, вопреки соглашению, вооруженных, ибо лучезарные глаза и красота — это такое оружие, которое нельзя с себя снять.
Султан, обернувшись к паланкину, поклонился так низко, словно его взор был обращен к Мекке, и в знак благоговения поцеловал песок.
— Они не побоятся и более близкой встречи, брат мой, — сказал Ричард. — Если ты пожелаешь подъехать к паланкину, занавески будут тотчас же раздвинуты.
— Да сохранит меня аллах! — воскликнул Саладин. — Ведь все арабы, что смотрят на нас, сочтут позором для благородных дам, если они покажутся с незакрытыми лицами.
— Ну, тогда ты их увидишь не на людях, брат мой, — ответил Ричард.
— К чему? — печально сказал Саладин. — Для надежд, которые я лелеял, твое последнее письмо было как вода для огня. Зачем мне снова разжигать пламя, если оно может лишь спалить меня, но не согреть?.. Не желает ли мой брат проследовать в шатер, приготовленный для него его слугой? Мой главный черный раб получил распоряжение принять принцесс… Мои придворные позаботятся о твоих спутниках, а мы сами будем служить царственному Ричарду.
Саладин повел короля к великолепному шатру, где было все, что только могла изобрести роскошь. Де Во, последовавший за своим господином, снял с него длинный плащ для верховой езды (сара),[32] и Ричард предстал перед Саладином затянутый в узкое платье, которое выгодно обрисовывало его могучее, пропорциональное телосложение и представляло резкий контраст с развевающимися одеждами, скрывавшими сухощавую фигуру восточного монарха. Особое внимание сарацина привлек двуручный меч Ричарда с широким прямым клинком необыкновенной длины, доходившим почти до плеча его владельца.
— Если бы я сам не видел, — сказал Саладин, — как сверкал этот меч, подобно мечу Азраила, в первых рядах сражающихся, я с трудом поверил бы, что человеческая рука в состоянии с ним управиться. Могу ли я попросить Мелека Рика нанести удар им — не для того, чтобы сокрушить врага, а лишь для испытания силы?
— Охотно, благородный Саладин, — ответил Ричард.
И, оглянувшись в поисках чего-нибудь, на чем можно было показать свою силу, он увидел у одного из слуг стальную булаву с рукоятью из того же материала около полутора дюймов в поперечнике. Ричард взял эту булаву и положил на деревянный чурбан.
Де Во, беспокоясь за честь своего господина, прошептал по-английски:
— Ради святой девы, подумайте, что вы собираетесь делать, милорд! Ваши силы еще полностью не восстановлены… Не давайте неверному повода торжествовать.
— Замолчи, дурак! — сказал, сверкнув глазами, Ричард, и не помышлявший отказываться от своего намерения. — Неужели ты думаешь, что я могу осрамиться перед ним?
Король, держа свой блестящий широкий меч двумя руками, занес его над левым плечом, обвел им вокруг головы и с мощью какой-то чудовищной машины обрушил на железный брус, и тот, перерубленный надвое, покатился на землю, словно молодое деревцо, срезанное кривым ножом дровосека.
— Клянусь головой пророка, замечательный удар! — сказал султан, тщательно осматривая обе части железного бруса и лезвие меча, которое было так хорошо закалено, что на нем не осталось никаких следов.
Затем Саладин взял большую, мускулистую руку Ричарда и, улыбаясь, положил ее рядом со своей, худой и узкой, неизмеримо уступающей по силе.
— Смотри, смотри хорошенько, — сказал де Во по-английски. — Долго тебе придется ждать, чтобы твои длинные пальцы щеголя сотворили подобное твоим красивым позолоченным серпом.
— Умолкни, де Во, — сказал Ричард. — Клянусь святой девой, он понимает или догадывается, о чем ты говоришь… Не будь грубияном, прошу тебя!
И действительно, султан тотчас же сказал:
— Я тоже хотел бы показать кое-что… Хотя стоит ли обнаруживать слабым, насколько они уступают сильным? Но все же в каждой стране свои упражнения в силе и ловкости, и то, что сейчас увидит Мелек Рик, может быть, будет для него ново.
С этими словами он взял лежавшую на полу шелковую пуховую подушку и поставил ее на ребро.
— Может ли твой меч, брат мой, перерубить эту подушку? — спросил он короля Ричарда.
— Разумеется нет, — ответил король. — Ни один меч на земле, будь то даже Эскалибар короля Артура, не может перерубить того, что не оказывает сопротивления при ударе.
— Тогда смотри, — сказал Саладин.
И он засучил рукава, обнажив до плеча руку, тонкую и худую, но с тугими узлами крепких мышц от постоянных упражнений. Он вынул из ножен саблю, изогнутое узкое лезвие которой не блестело, как франкские мечи, а отливало тускло-голубым цветом и было испещрено бесчисленными извилистыми линиями, говорившими о том, с какой тщательностью оружейник сваривал металл. Держа наготове это оружие, на вид столь жалкое по сравнению с мечом Ричарда, султан перенес тяжесть своего тела на левую ногу, чуть-чуть выставленную вперед, затем несколько раз качнулся, как бы прицеливаясь, и, быстро шагнув вперед, рассек подушку. Лезвие сабли скользнуло так молниеносно и легко, что подушка, казалось, сама разделилась на две половины, а не была разрезана.
— Это проделка фокусника, — сказал де Во; бросившись вперед, он схватил часть перерубленной подушки, словно желал убедиться в отсутствии обмана. — Тут какое-то колдовство.
Султан, по-видимому, понял его слова, так как снял с себя вуаль, которая до тех пор скрывала его лицо, накинул ее на лезвие сабли и поднял саблю, обращенную лезвием вверх. Сделав резкий взмах, он разрезал свободно висевшую вуаль на две части, которые разлетелись в разные стороны, и все зрители снова могли убедиться в исключительной закалке и остроте оружия, равно как в необыкновенном искусстве того, кто им действовал.
— Честное слово, брат мой, — сказал Ричард, — ты бесподобно владеешь саблей, и встретиться с тобой небезопасно! Но все же я склонен скорей положиться на добрый английский удар, и там, где мы не можем достигнуть цели ловкостью, мы прибегаем к силе. Однако ты поистине столь же искусен в нанесении ран, как мой мудрый хаким в их исцелении. Надеюсь, я увижу ученого лекаря… Мне за многое следует его отблагодарить, и я привез ему небольшой подарок.
Пока он говорил, Саладин сменил свою чалму на татарскую шапку. Едва он это сделал, как де Во раскрыл свой огромный рот и большие круглые глаза, а Ричард смотрел с не меньшим изумлением, когда султан, изменив голос, степенно заговорил:
— Больной, как говорит поэт, пока он слаб, узнает врача по шагам; но когда он выздоровел, не узнает даже его лица, хотя и смотрит прямо на него.
— Чудо! Чудо! — воскликнул Ричард.
— Дьявольской работы, разумеется, — сказал Томас де Во.
— Надо же, — сказал Ричард, — чтобы я не признал моего ученого хакима лишь из-за отсутствия на нем шапки и плаща и чтобы обнаружил его в моем дарственном брате Саладине!
— Так часто бывает на свете, — ответил султан. — Рваная одежда не всегда делает человека дервишем.
— Так это благодаря твоему вмешательству, — сказал Ричард, — рыцарь Леопарда избежал смерти… и благодаря твоему искусству он преобразился и вернулся в мой лагерь!
— Совершенно верно, — ответил Саладин. — Я достаточно сведущ во врачевании и понимал, что дни его сочтены, если раны, нанесенные его чести, будут и дальше кровоточить. После того как мой собственный опыт с переодеванием прошел удачно, я не ожидал, что ты так легко узнаешь его в новом облике.
— Случайность, — сказал король Ричард (он имел, вероятно, в виду то обстоятельство, что ему довелось прикоснуться губами к ране мнимого нубийца), — помогла мне сначала узнать, что цвет его кожи не был естественным; после того как я сделал это открытие, догадаться об остальном было уже просто, ибо его фигуру и черты лица не легко забыть. Я твердо рассчитываю, что завтра он выступит в поединке.
— Он готовится к этому и полон надежд, — сказал султан. — Я снабдил его вооружением и конем; судя по тому, что я наблюдал при различных обстоятельствах, он доблестный рыцарь.
— А теперь он знает, — спросил Ричард, — перед кем он в долгу?
— Да, я был вынужден признаться, кто я такой, когда раскрыл ему свои намерения.
— А он в чем-нибудь тебе признался? — спросил английский король.
— Прямо — ни в чем, — ответил султан, — но из всего, что произошло межу нами, я понял, что он вознес свою любовь слишком высоко и не может надеяться на счастливый исход.
— Так ты знаешь, что его смелая и дерзкая страсть стояла на пути твоих собственных планов? — спросил Ричард.
— Я мог об этом догадаться, — ответил Саладин. — Но его страсть существовала еще до того, как возникли мои планы… и, теперь я могу добавить, вероятно переживет их. Честь не позволяет мне мстить за свое разочарование тому, кто совершенно к нему непричастен. И если эта высокородная дама предпочитает его мне, то кто осмелится утверждать, что она не воздает должное рыцарю одной с ней веры и полному благородства!
— Да, но слишком незнатного происхождения, чтобы породниться с Плантагенетами, — высокомерно сказал Ричард.
— Возможно, что таковы взгляды во Франгистане, — возразил султан. — Наши восточные поэты говорят, что храбрый погонщик верблюдов достоин поцеловать в уста прекрасную королеву, тогда как трусливый принц недостоин прикоснуться губами к подолу ее платья… Но с твоего разрешения, благородный брат, я должен на время покинуть тебя, чтобы принять эрцгерцога австрийского и того рыцаря-назареянина; они гораздо меньше заслуживают гостеприимства, но все же я обязан встретить их должным образом — не ради них, но ради моей чести, ибо, что сказал мудрый Локман? «Не говори, что пища, отданная чужестранцу, для тебя потеряна, так как если от нее прибавилось силы и жира в его теле, то не меньшую пользу она принесла и тебе, придав почета и возвеличив доброе имя».
Сарацинский монарх покинул короля Ричарда и, указав ему больше знаками, чем словами, где стоял шатер королевы и ее свиты, отправился принимать маркиза Монсерратского и его спутников. Великодушный султан предоставил в их распоряжение, хотя и менее охотно, столь же роскошные помещения. Высоким гостям Саладина, каждому в занимаемый им шатер, было принесено обильное угощение, состоявшее из восточных и европейских кушаний; султан проявил такое внимание к привычкам и вкусам гостей, что приставил греческих рабов подносить им кубки вина, к которому последователи мусульманской религии относятся с отвращением. Ричард еще не закончил трапезы, как вошел старый эмир, недавно доставивший письмо султана в лагерь христиан, и принес описание церемониала на завтрашний день и правила, обязательные для участников поединка. Ричард, знавший склонности своего старого знакомого, предложил ему распить флягу ширазского вина. Однако Абдалла с печальным видом объяснил, что сейчас воздержание для него необходимо, иначе он рискует жизнью, ибо Саладин, снисходительный ко многим прегрешениям, соблюдает законы пророка и других заставляет их соблюдать под страхом сурового наказания.
— В таком случае, — сказал Ричард, — коль скоро он не любит вина, этой отрады человеческого сердца, нечего надеяться на его обращение в христианство, и предсказание безумного энгаддийского иерея — лишь пустые слова, брошенные на ветер.
Затем король занялся установлением правил поединка, что отняло порядочно времени, так как по некоторым вопросам было необходимо обменяться мнениями с противной стороной и с султаном.
Наконец условились обо всем и составили документ на франкском и арабском языках, подписанный Саладином, как судьей поединка, и Ричардом с Леопольдом, как поручителями участников. Вечером, когда эмир окончательно распрощался с королем, вошел де Во.
— Доблестный рыцарь, который будет завтра сражаться, — сказал он, — желает знать, не может ли он сегодня явиться, чтобы выразить свое уважение царственному поручителю.
— Ты видел его, де Во? — спросил король улыбаясь. — Узнал старого знакомого?
— Клянусь Ланеркостской богоматерью, — ответил де Во, — в этой стране происходит столько неожиданностей и перемен, что моя бедная голова идет кругом. Я, пожалуй, не узнал бы сэра Кеннета Шотландского, если бы его славный пес, который одно время был на моем попечении, не подошел ко мне и не завилял хвостом; и даже тогда я признал собаку лишь по ее широкой груди, округлым лапам и лаю, ибо несчастная борзая была размалевана, точно какая-то венецианская куртизанка.
— В животных ты разбираешься лучше, чем в людях, де Во, — заметил король.
— Не стану отрицать этого, — сказал де Во. — Я часто убеждался, что они честнее людей. К тому же вашему величеству иногда бывает угодно называть меня скотом; а кроме того, я служу Льву, которого все признают царем зверей.
— Клянусь святым Георгием, ты нанес мне недурной удар, — сказал король, — я всегда говорил, что ты не лишен остроумия. Но, черт возьми, тебя нужно бить молотом по голове, чтобы оно засверкало. Вернемся, однако, к делу: хорошо ли вооружен и снаряжен наш доблестный рыцарь?
— Полностью, мой повелитель, и великолепно. Я прекрасно знаю его доспехи — это те самые, что венецианский поставщик предлагал за пятьсот безантов вашему величеству до того как вы заболели.
— И ручаюсь, он продал их язычнику-султану, который дал на несколько дукатов больше и уплатил наличными. Эти венецианцы продали бы и гроб господень!
— Теперь эти доспехи послужат самой благородной цели, — сказал де Во.
— Благодаря великодушию сарацина, а не корыстолюбию венецианцев.
— Ради бога, ваше величество, будьте осторожней, — сказал обеспокоенный де Во. — Все наши союзники покинули нас под предлогом обид, нанесенных тому или иному из них; мы не можем надеяться на успех на суше, и нам не хватает только поссориться с земноводной республикой и лишиться возможности убраться восвояси морем!
— Я постараюсь, — нетерпеливо ответил Ричард. — Но перестань меня поучать. Скажи лучше, есть ли у рыцаря духовник? Это меня больше интересует.
— Есть, энгаддийский отшельник, который уже раз исполнял эту роль, когда рыцарь готовился к смерти, находится при нем и теперь; его привела сюда молва о предстоящем поединке.
— Это хорошо, — сказал Ричард. — А теперь относительно просьбы рыцаря. Передай ему, что Ричард примет его после того, как он исполнит свой долг здесь, у «Алмаза пустыни», и тем загладит преступление, совершенное им на холме святого Георгия. Когда будешь проходить по лагерю, извести королеву, что я прибуду к ней в шатер, и скажи Блонделю, чтобы он тоже явился туда.
Де Во ушел, и примерно час спустя Ричард, завернувшись в плащи взяв свою цитру, направился к шатру королевы. Несколько арабов попались ему навстречу, но они отворачивались и устремляли взор в землю; впрочем, как отметил Ричард, разминувшись с ним, они внимательно смотрели ему вслед. Отсюда он справедливо заключил, что они знали, кто он такой, но либо по приказанию султана, либо просто из восточной вежливости делали вид, будто не замечают монарха, желающего оставаться неузнанным.
Когда король достиг шатра королевы, он увидел стражу из тех несчастных служителей, которым восточная ревность поручает охрану женской половины дома. Блондель прохаживался перед входом и время от времени перебирал струны своего инструмента, а толпившиеся подле него африканцы, скаля белые, как слоновая кость, зубы, сопровождали музыку странными телодвижениями и подтягивали пронзительными неестественными голосами.
— Что ты тут делаешь с этим стадом черных скотов, Блондель? — спросил король. — Почему ты не входишь в шатер?
— Потому что для моего ремесла необходимы и голова и пальцы, — ответил Блондель, — а эти верные черные мавры грозили разрезать меня на куски, если я попытаюсь войти.
— Ну, что ж, идем со мной, — сказал король, — я буду твоей охраной.
Негры склонили свои пики и сабли перед королем Ричардом и опустили глаза, как бы считая себя недостойными смотреть на него.
В шатре Ричард и Блондель застали Томаса де Во, беседовавшего с королевой. Пока Беренгария приветствовала Блонделя, король Ричард уселся в стороне со своей прелестной родственницей, чтобы поговорить с ней по секрету.
— Мы все еще враги, прекрасная Эдит? — спросил он шепотом.
— Нет, милорд, — ответила Эдит также вполголоса, чтобы не мешать музыке. — Никто не может питать вражду к королю Ричарду, когда ему бывает угодно быть таким, каков он есть на самом деле: великодушным и благородным, доблестным и преисполненным чести.
С этими словами она протянула королю руку. Ричард поцеловал ее в знак примирения, а затем продолжал:
— Ты думаешь, милая кузина, что мой гнев тогда был притворным, но ты ошибаешься. Наказание, к которому я приговорил того рыцаря, было справедливо; ибо — пусть искушение было очень велико, но это не меняет дела — он не оправдал оказанного ему доверия. Но я рад, пожалуй, не меньше, чем ты, что завтрашний день даст ему возможность одержать победу и снять с себя позор, временно запятнавший его, заклеймив истинного вора и предателя. Нет! Потомки, быть может, будут порицать Ричарда за безрассудную горячность, но они скажут, что, творя суд, он был справедлив, когда нужно, и милосерден, когда можно.
— Не хвали сам себя, кузен король, — сказала Эдит. — Они могут назвать твою справедливость жестокостью, а твое милосердие — капризом.
— А ты не гордись, словно твой рыцарь, который еще не облачился в доспехи, уже снимает их после победы. Конрад Монсерратский считается хорошим бойцом. Что, если шотландец потерпит поражение?
— Это невозможно! — уверенно сказала Эдит. — Я видела собственными глазами, как Конрад дрожал и менялся в лице, подобно презренному вору. Он виновен… А испытание поединком — это суд божий. Я сама без боязни сразилась бы с ним в защиту правого дела.
— Клянусь спасением души, я думаю, ты сделала бы это, девица, — сказал король, — и притом победила бы; ибо нет на свете человека, который с большим правом носил бы имя Плантагенет, нежели ты.
Он умолк, а затем добавил очень серьезным тоном:
— Ты должна и впредь помнить, к чему тебя обязывает твое происхождение.
— Что означает этот совет, столь серьезно преподанный мне сейчас? — спросила Эдит. — Разве я так легкомысленна, что забываю о величии своего рода и о своем положении?
— Скажу тебе прямо, Эдит, и как другу. Кем будет для тебя этот рыцарь, если он уйдет победителем с ристалища?
— Для меня? — воскликнула Эдит, вся покраснев от стыда и негодования. — Разве возможно, чтобы он был для меня чем-нибудь большим, нежели доблестным рыцарем, заслужившим такую милость, какую могла бы оказать ему королева Беренгария, если бы он выбрал своей дамой ее, а не менее достойную особу? Самый заурядный рыцарь может посвятить себя служению императрице, но слава его избранницы, — добавила она с гордостью, — должна быть его единственной наградой.
— Однако он преданно служил тебе и много страдал из-за тебя, — сказал король.
— Я вознаградила его служение почестями и похвалами, а его страдание — слезами, — ответила Эдит. — Если бы он хотел другой награды, ему следовало бы подарить своим вниманием равную ему.
— Так ты ради него не надела бы окровавленной ночной рубашки? — спросил король Ричард.
— Конечно нет, — ответила Эдит, — как я и не потребовала бы, чтобы он подверг опасности свою жизнь поступком, в котором было больше безумия, чем доблести.
— Девушки всегда так говорят, — сказал король. — Но когда поощряемый влюбленный становится настойчивей, они со вздохом заявляют, что звезды решили по-иному.
— Ваше величество уже второй раз угрожает мне влиянием моего гороскопа, — с достоинством ответила Эдит. — Поверьте, милорд, какова бы ни была сила звезд, ваша бедная родственница никогда не выйдет замуж низа неверного, низа безродного искателя приключений… Разрешите мне послушать пение Блонделя, ибо тон ваших королевских увещеваний не так уж приятен для моих ушей.
В этот вечер больше не произошло ничего достойного внимания.
Глава XXVIII
Ты слышишь битвы шум? Сошлись
Копье с копьем и конь с конем.
ГрейИз-за жары было решено, что судебный поединок, послуживший причиной такого сборища людей различных национальностей у «Алмаза пустыни», должен состояться через час после восхода солнца. Обширное ристалище, устроенное под наблюдением рыцаря Леопарда, представляло собой огороженное пространство плотного песка длиною в сто двадцать ярдов и шириною в сорок. Оно тянулось в длину с севера на юг, чтобы обоим противникам восходящее солнце светило сбоку и никто не имел преимущества. Трон Саладина стоял с западной стороны ограды, против самого центра арены, где скорее всего должна была произойти схватка. Напротив находилась галерея с закрытыми окнами, расположенными так, что дамы, для которых она предназначалась, могли наблюдать за поединком, оставаясь сами невидимыми. С обоих концов ристалища в ограде были ворота для въезда. Приготовили троны и для европейских государей, но эрцгерцог, заметив, что его трон ниже, чем предназначенный для Ричарда, отказался занять его. Львиное Сердце, который был готов на всяческие уступки, лишь бы какая-нибудь формальность не помешала поединку, охотно согласился, чтобы поручители, как их называли, оставались во время сражения на лошадях. У одного конца ристалища расположились сторонники Ричарда, а на противоположном — те, кто сопровождал Конрада. Вокруг трона султана выстроились его великолепные телохранители-грузины, а вдоль остальной части ограды теснились зрители — христиане и мусульмане.
Задолго до рассвета около ристалища собралось еще больше сарацин, чем накануне вечером при встрече Ричарда. Когда первый луч сияющего дневного светила блеснул над пустыней, раздался звучный призыв самого султана «На молитву, на молитву!», подхваченный всеми, кому усердие в делах веры и занимаемое положение давали право выступать в роли муэдзинов. Это было поразительное зрелище, когда арабские воины, обратившись лицом к Мекке, простерлись ниц, чтобы совершить молитву. Едва они поднялись с земли, солнечные лучи, быстро разгораясь, как бы подтвердили предположение, высказанное накануне лордом Гилслендом. Они вспыхивали теперь яркими отблесками на остриях многочисленных копий, которые сегодня уже были с наконечниками. Де Во указал на это своему господину, но тот нетерпеливо ответил, что вполне уверен в честности Саладина и что де Во может уйти, если боится за свою огромную тушу.
Вскоре послышались звуки тамбуринов, и все сарацинские всадники соскочили с лошадей и припали к земле, словно собираясь повторить утреннюю молитву. Это было сделано для того, чтобы дать возможность королеве с Эдит и со свитой проследовать из шатра в предназначенную для них галерею. Их сопровождали с саблями наголо пятьдесят стражей султанского гарема, которым был дан приказ изрубить на куски всякого, будь то знатный или простолюдин, кто осмелится взглянуть на проходящих дам или хотя бы поднять голову, пока прекращение музыки не оповестит всех, что они уже разместились в галерее и недоступны для любопытных взглядов.
Эта дань уважения к прекрасному полу, неукоснительно оказываемая на Востоке, вызвала со стороны королевы Беренгарии замечания, весьма нелестные для Саладина и его страны. Однако пещера, как называла галерею царственная красавица, была надежно скрыта от взоров и охранялась черными слугами, а потому Беренгарии пришлось удовольствоваться тем, что она сама видит, и оставить всякую надежду на еще большее наслаждение, которое она получила бы, если б ее видели другие.
Тем временем поручители обоих рыцарей, как того требовала их обязанность, отправились проверить, должным ли образом они вооружены и готовы ли к поединку. Эрцгерцог австрийский не спешил с выполнением этой части церемонии, так как накануне вечером особенно рьяно приналег на ширазское вино. Но гроссмейстер ордена тамплиеров, больше заинтересованный в исходе единоборства, спозаранку пришел к шатру Конрада Монсерратского. К великому его удивлению, слуги отказались его впустить.
— Вы что, не знаете меня, мошенники? — гневно спросил гроссмейстер.
— Знаем, доблестнейший и почтеннейший, — ответил оруженосец Конрада, — но даже вы не можете сейчас войти: маркиз готовится к исповеди.
— К исповеди! — воскликнул тамплиер, и в его голосе прозвучала тревога, смешанная с удивлением и презрением. — А кому, скажи на милость, будет он исповедоваться?
— Господин велел мне держать это в тайне, — сказал оруженосец.
Гроссмейстер оттолкнул его и чуть не силой ворвался в шатер.
Маркиз Монсерратский стоял на коленях у ног энгаддийского отшельника, собираясь приступить к исповеди.
— Что это значит, маркиз? — сказал гроссмейстер. — Постыдитесь, встаньте… А если вам необходимо исповедоваться, разве нет здесь меня?
— Я слишком часто исповедовался вам, — дрожащим голосом возразил Конрад, бледный от волнения. — Ради бога, гроссмейстер, уходите и дайте мне покаяться в грехах перед этим святым человеком.
— Чем он превосходит меня в святости? — спросил гроссмейстер. — Отшельник, пророк, безумец — скажи, если смеешь, чем ты лучше меня?
— Дерзкий и дурной человек, — ответил отшельник, — знай, что я подобен решетчатому окну, и божественный свет проходит сквозь него на благо другим, хотя, увы, мне он не помогает. Ты же подобен железному ставню, который сам не воспринимает света и скрывает его от всех.
— Не болтай чепухи и уходи из шатра, — сказал гроссмейстер. — Сегодня утром маркиз если и будет исповедоваться, то только мне, потому что я не расстанусь с ним.
— Таково и твое желание? — спросил отшельник Конрада. — Не думай, что я послушаюсь этого гордого человека, если ты по-прежнему жаждешь моей помощи.
— Увы! — нерешительно сказал Конрад. — Что я могу сказать тебе?.. Прощай. Мы скоро увидимся и поговорим.
— О промедление! — воскликнул отшельник. — Ты убийца души! Прощай, несчастный человек, мы увидимся не скоро. Прощай до новой встречи — где-нибудь… А что до тебя, — добавил он, обернувшись к гроссмейстеру, — трепещи!
— Трепетать! — презрительно повторил тамплиер. — Я не смог бы, если бы даже и хотел.
Отшельник не слышал его ответа, так как уже покинул шатер.
— Ну, приступай скорей, — сказал гроссмейстер, — если тебе так уж хочется заниматься этими глупостями. Слушай… По-моему, я знаю наизусть большую часть твоих прегрешений, так что мы можем пренебречь подробностями, которые отняли бы слишком много времени, и начать сразу с отпущения. Стоит ли считать пятна грязи, если мы скоро смоем их с наших рук?
— Для человека, который знает, каков ты сам, — сказал Конрад, — твои разговоры об отпущении грехов другим — святотатство.
— Это противоречит церковным канонам, маркиз, — сказал тамплиер. — Ты щепетильный человек, но не правоверный христианин. Отпущение грехов нечестивым священником столь же действительно, как и в том случае, если бы он был святым, — иначе горе было бы несчастным кающимся! Найдется ли такой раненый, который станет осведомляться, чисты ли руки у врача, накладывающего ему повязку? Так что ж, приступим к этой забаве?
— Нет, — ответил Конрад, — я скорее умру без покаяния, чем допущу надругательство над святым таинством.
— Полно, благородный маркиз, — сказал тамплиер, — соберись с мужеством и перестань так говорить. Через час ты выйдешь победителем из поединка или же исповедуешься своему шлему, как подобает доблестному рыцарю.
— Увы, гроссмейстер! Все предвещает злосчастный исход. Необыкновенный инстинкт собаки, которая узнала меня, этот воскресший шотландский рыцарь, словно привидение явившийся на ристалище, — все это дурные признаки.
— Глупости! — воскликнул тамплиер. — Я видел, как ты смело сражался с шотландцем во время рыцарских игр, и ваши силы были тогда равны; вообрази, что это просто турнир, и никто лучше тебя не управится с ним на ристалище… Эй, оруженосцы и оружейники, пора готовить вашего господина к поединку.
Слуги вошли и стали надевать на маркиза доспехи.
— Какая погода сегодня? — спросил Конрад.
— Заря занимается в туманной дымке, — ответил один из оруженосцев.
— Вот видишь, гроссмейстер, — сказал Конрад, — ничто не улыбается нам.
— Тем прохладней тебе будет сражаться, сын мой, — возразил тамплиер. — Благодари небо, которое ради тебя умерило жар палестинского солнца.
Так шутил гроссмейстер, но его шутки уже не оказывали влияния на смятенный ум маркиза; и несмотря на все старания тамплиера казаться веселым, мрачное настроение Конрада передалось и ему.
«Этот трус, — думал он, — потерпит поражение лишь по робости и слабости духа, которую он называет чуткой совестью. Я сам должен был бы сразиться в этом поединке, ибо меня не смущают ни призраки, ни предсказания и я тверд, как скала, в достижении своей цели… И если ему не суждено победить, что было бы лучше всего, то да будет воля божья, чтобы шотландец убил его на месте. Но как бы там ни было, у него не должно быть другого духовника, кроме меня: у нас слишком много общих грехов, и он может покаяться не только в своей доле, но и в моей».
Между тем как эти мысли проносились в голове гроссмейстера, он продолжал наблюдать, как одевали маркиза, но уже не говорил ни слова.
Наконец наступил назначенный час, заиграли трубы, рыцари въехали на ристалище закованные в сталь и в полном вооружении, как положено тем, кому предстоит сражаться за честь своей страны. С поднятым забралом они сделали три круга по арене, чтобы зрители могли их рассмотреть. Оба противника были хорошо сложены и имели благородную внешность. Но лицо шотландца выражало мужественную уверенность, светлую надежду, почти радость, а на лице Конрада, несмотря на то, что гордость и усилие воли отчасти вернули ему врожденную смелость, по-прежнему лежала тень зловещего уныния. Казалось, даже его конь выступал под звуки труб не столь легко и весело, как благородный арабский скакун, на котором ехал сэр Кеннет. И рассказчик покачал головой, когда заметил, что обвинитель движется вокруг ристалища по солнцу, — то есть справа налево, а обвиняемый совершает тот же круг слева направо, что в большинстве стран считается дурной приметой.
Как раз под галереей, где находилась королева, был установлен временный алтарь, а около него стоял отшельник в одеянии монаха ордена кармелитов, к которому он принадлежал. Присутствовали и другие лица духовного звания. Сопровождаемый каждый своим поручителем, обвинитель и обвиняемый по очереди подъехали к алтарю. Спешившись перед ним, оба рыцаря торжественной присягой над евангелием засвидетельствовали правоту своего дела и просили бога даровать победу тому из них, чья клятва соответствует истине. Они поклялись также, что будут сражаться по-рыцарски, обычным оружием, не прибегая для склонения победы на свою сторону к чарам, колдовству и магическим заклинаниям. Обвинитель произнес обет твердым, мужественным голосом, и лицо его дышало смелостью и весельем. По окончании церемонии шотландский рыцарь бросил взгляд на галерею и низко склонился в поклоне, как бы воздавая честь невидимым красавицам, которые там сидели. Затем, хотя и обремененный тяжелыми доспехами, он вскочил в седло, не коснувшись стремени, и, гарцуя, направился к своему месту на восточной стороне ристалища. Конрад, представ перед алтарем, также проявил достаточно смелости: но когда он принимал присягу, его голос звучал глухо, словно тонул в шлеме. Когда он обратился к небу с просьбой о победе для того, кто прав, его губы побелели, произнося кощунственные, издевательские слова. Он повернулся и собрался уже снова сесть на лошадь, но в это мгновение гроссмейстер приблизился к нему, якобы для того, чтобы поправить стальное ожерелье, и прошептал:
— Трус и дурак! Опомнись и, смотри, бейся отважно, не то, клянусь небом, если ты ускользнешь от него, от меня тебе не удастся ускользнуть!
Свирепый тон этого напутствия, вероятно, усилил смятение маркиза, так как, садясь на лошадь, он оступился; удержавшись, однако, на ногах, он с обычной ловкостью вскочил в седло и, показывая высокое искусство верховой езды, подъехал к своему месту напротив обвинителя. Все же этот случай не ускользнул от внимания тех, кто следил за приметами, которые могли бы предсказать исход сегодняшнего сражения.
Священнослужители вознесли торжественную молитву богу, прося его рассудить спор по справедливости, и удалились с ристалища. После этого прозвучали фанфары англичан, и герольд возвестил на восточной стороне арены:
— Вот стоит доблестный рыцарь, сэр Кеннет Шотландский, заступник короля Ричарда Английского, который обвиняет Конрада, маркиза Монсерратского, в подлом предательстве и бесчестии, нанесенном сказанному королю.
Когда слова «Кеннет Шотландский» оповестили об имени и происхождении заступника, которые прежде были большинству неизвестны, сторонники короля Ричарда разразились громкими и радостными приветствиями, почти заглушившими, несмотря на повторные призывы к тишине, ответ обвиняемого. Тот, разумеется, заявил, что он невиновен и в доказательство готов биться, не щадя живота. Затем к обоим противникам приблизились их оруженосцы и подали щит и копье; они помогли надеть щит, подвязав его к шее, чтобы у сражающихся обе руки оставались свободными, так как одной они должны были держать поводья, а другой копье.
Щит шотландца был украшен его прежней эмблемой— леопардом, с добавлением, однако, железного ошейника и разорванной цепи — намек на его недавнее рабство. На щите маркиза в соответствии с его титулом была изображена зубчатая гора. Оба рыцаря взмахнули копьями, как бы желая определить их вес и прочность, затем опустили на фокр. Поручители, герольды и оруженосцы отошли к ограде, и противники заняли свои места друг против друга, лицом к лицу, взяв копье наперевес и опустив забрала; в своих доспехах, скрывавших всю их фигуру, они напоминали скорее статуи литой стали, чем существа из плоти и крови. Воцарилась напряженная тишина; зрители учащенно дышали и, словно забыв обо всем на свете, не спускали глаз с арены; не слышно было ни звука, кроме храпа коней и хруста песка, разрываемого их копытами; благородным животным, которые чувствовали, что должно сейчас произойти, не терпелось помчаться в карьер.
Рыцари простояли так минуты три. Но вот по знаку султана сотня тамбуринов и цимбал огласила воздух медными звуками, и оба противника вонзили шпоры в бока своих лошадей и отпустили поводья. Лошади понеслись во весь опор, и рыцари, встретившись на середине арены, сшиблись с грохотом, который напоминал удар грома. На чьей стороне была победа, никто не сомневался, не сомневался ни минуты. Конрад, в самом деле, оказался опытным бойцом: он по всем правилам нацелил копье в середину щита противника и ударил так прямо и метко, что оно раскололось на части, от стального наконечника до рукояти. Конь сэра Кеннета отпрянул на несколько ярдов и упал на задние ноги, но всадник без труда поднял его, натянув поводья. Для Конрада же все было кончено. Копье сэра Кеннета пробило щит, пластинчатые латы миланской стали, кольчугу, надеваемую под латы, глубоко вонзилось Конраду в грудь и вышибло его из седла; древко при этом сломалось, но часть его осталась торчать в ране. Поручители, герольды и сам Саладин, сошедший со своего трона, столпились вокруг раненого; сэр Кеннет вытащил было свой меч, но как только увидел, что его враг совершенно беспомощен, стал требовать от него признания вины. Поспешно подняли забрало шлема, и Конрад, устремив к небу безумный взгляд, ответил:
— Что вам еще нужно?.. Бог рассудил справедливо… Я виновен… Но в лагере есть более низкие предатели, нежели я… Ради спасения моей души, приведите ко мне духовника!
Произнося последние слова, он несколько оживился.
— Талисман… твое могущественное средство, царственный брат, — сказал король Ричард Саладину.
— Предатель, — ответил султан, — заслуживает скорее, чтобы его стащили за ноги с ристалища на виселицу, а не применяли к нему целительную силу талисмана… И, судя по его взгляду, его ждет нечто подобное, — добавил он, внимательно посмотрев на раненого, — ибо рану этого негодяя можно излечить, но на его лбу уже лежит печать Азраила.
— Тем не менее, — сказал Ричард, — прошу тебя, сделай для него все, что можешь, чтобы он хотя бы успел исповедаться… Не следует губить вместе с телом и душу! Полчаса для него, возможно, в тысячу раз важнее, чем вся жизнь самого старого патриарха.
— Желание моего царственного брата будет исполнено, — сказал Саладин. — Рабы, отнесите раненого в наш шатер.
— Не делайте этого, — сказал тамплиер, который до тех пор молчал и с мрачным видом смотрел на происходившее. — Царственный герцог австрийский и я не позволим, чтобы этот несчастный христианский рыцарь был отдан сарацинам и они испытывали на нем свои колдовские чары. Мы поручители маркиза Монсерратского и требуем передачи его на наше попечение.
— Иначе говоря, вы отказываетесь воспользоваться предлагаемым верным средством к спасению его жизни? — спросил Ричард.
— Это не так, — ответил гроссмейстер, овладев собой. — Если султан применяет дозволенные способы лечения, он может пользовать больного в моем шатре.
— Помоги ему, прошу тебя, мой добрый брат, — обратился Ричард к Саладину, — хотя разрешение дано и не слишком охотно… Но перейдем теперь к более почетному делу. Играйте, трубы! Англичане, в честь защитника Англии — наш клич!
Разом загремели барабаны, сигнальные рожки, трубы и цимбалы, и мощные, стройные возгласы, которыми испокон веков англичане выражали одобрение, смешались с пронзительными, беспорядочными криками арабов, напоминая звуки органа среди завывания бури… Наконец наступила тишина.
— Храбрый рыцарь Леопарда, — вновь заговорил Ричард Львиное Сердце. — Ты доказал, что эфиоп может сменить свою кожу, а леопард потерять свои пятна, хотя церковнослужители, ссылаясь на священное писание, утверждают, что это невозможно. Остальное я скажу, когда приведу тебя к дамам, которые лучше всех умеют ценить и награждать рыцарские подвиги.
Рыцарь Леопарда склонил голову в знак повиновения.
— А ты, благородный Саладин, тоже должен навестить их. Уверяю тебя, что наша королева не будет считать, что ее хорошо приняли, если ей не представится случай поблагодарить царственного хозяина за его великолепное гостеприимство.
Саладин изящно поклонился, но отклонил приглашение.
— Я должен навестить раненого, — сказал он. — Подобно тому как боец не покидает ристалища, так врач не покидает своего больного, если даже его приглашают в райскую обитель. А кроме того, царственный Ричард, знай, что кровь жителей Востока в присутствии красавиц не течет так спокойно, как кровь людей твоей страны. Что сказано в коране? «Ее глаза подобны лезвию меча пророка, кто осмелится взглянуть на них?» Тот, кто не желает сгореть, остерегается ступить на раскаленные угли… Умные люди не расстилают лен перед пылающим факелом. Тот, говорит мудрец, кто лишился сокровища, поступит неразумно, если обернется, чтобы еще раз посмотреть на него.
Ричард, как и следовало ожидать, отнесся с уважением к деликатным чувствам, которые проистекали из обычаев, столь отличных от принятых у него на родине, и больше не настаивал.
— В полдень, — сказал султан уходя, — вы все, надеюсь, пожалуете отобедать в черном, крытом верблюжьей кожей шатре курдистанского вождя.
Такое же приглашение получили те из христиан, кто был достаточно знатен, чтобы присутствовать на пиршестве, устроенном для государей.
— Слушайте! — сказал Ричард. — Тамбурины возвещают, что наша королева и ее свита покидают галерею… И смотрите, чалмы склонились до земли, словно их владельцев сразил ангел-истребитель. Все лежат ничком, как будто румянец женских щек может померкнуть от взгляда араба! Ну, идемте же к шатру и торжественно введем в него победителя… Как жаль мне благородного султана, чье понятие о любви не отличается от понятий существ низшего порядка!
Блондель уже настраивал свою арфу на самый веселый лад, чтобы приветствовать вступление победителя в шатер королевы Беренгарии. Сэр Кеннет вошел, поддерживаемый с двух сторон своими поручителями, Ричардом и Уильямом Длинным Мечом, и изящно преклонил колена перед королевой, но, воздавая эту почесть, он мысленно обращался скорее к Эдит, сидевшей справа от Беренгарии.
— Снимите с него доспехи, сударыни, — сказал король, которому доставляло удовольствие соблюдение всех рыцарских обычаев. — Да воздаст красота честь рыцарству! Сними с него шпоры, Беренгария; хоть ты и королева, ты обязана оказать ему все знаки милости, какие только возможны… Отстегни его шлем, Эдит, сделай это своей рукой, хотя бы ты и была самой гордой из рода Плантагенетов, а он — самым бедным рыцарем на земле!
Обе дамы повиновались приказу короля. Беренгария с суетливым усердием торопилась исполнить желание мужа, а Эдит, то краснея, то бледнея, медленно и неловко отстегивала шлем с помощью графа Солсбери.
— А что ожидаете вы увидеть под этой железной оболочкой? — спросил Ричард, когда шлем был отстегнут и взорам предстало благородное лицо сэра Кеннета, горевшее не только от недавнего напряжения, но и от тех чувств, что он сейчас испытывал. — Что вы думаете о нем, храбрецы и красавицы? — продолжал Ричард. — Похож он на эфиопского раба или это лицо искателя приключений без роду и племени? Нет, клянусь своим добрым мечом! На этом кончаются его различные перевоплощения. Он преклонил перед вами колена, ничем не знаменитый, кроме своих собственных достоинств… Он встает человеком высокого происхождения и столь же высокой доблести. Неведомый рыцарь Кеннет встает Давидом, графом Хантингдоном, наследным принцем Шотландии!
Со всех сторон послышались изумленные восклицания, а Эдит выронила из рук шлем, который ей только что дали.
— Да, господа, — сказал король, — это именно так. Вы знаете, как обманула нас Шотландия; она обещала послать своих самых смелых и благородных рыцарей во главе с этим доблестным графом, чтобы помочь нашим войскам завоевать Палестину, но не сдержала своего обязательства. Благородный юноша, который должен был повести шотландских крестоносцев, счел для себя недостойным отказаться от участия в священной войне и присоединился к нам в Сицилии с небольшим отрядом преданных сторонников, который впоследствии пополнился многими его соотечественниками, не знавшими, кем был их предводитель. Все люди, посвященные в тайну наследного принца, за исключением одного старого слуги, погибли, и она сохранялась так хорошо, что я чуть не погубил в лице безвестного шотландца одного из благороднейших наследников королевского дома в Европе… Почему вы не сказали о своем звании, благородный Хантингдон, когда мой поспешный, продиктованный гневом приговор угрожал вашей жизни? Неужели вы считали Ричарда способным воспользоваться тем, что в его руках очутился сын короля, столь часто бывшего его врагом?
— Я не был так несправедлив к вам, царственный Ричард, — ответил граф Хантингдон. — Но моя гордость не позволяла мне признаться, что я шотландский принц, лишь для того, чтобы спастись от смерти за нарушение верности. А кроме того, я дал обет не раскрывать своего звания, пока крестовый поход не будет закончен; и я рассказал о нем лишь достопочтенному отшельнику in articulo mortis,[33] полагаясь на тайну исповеди.
— Так это знание твоей тайны заставило доброго человека настаивать передо мной на отмене моего сурового приговора? — сказал Ричард. — Он справедливо предупреждал меня, что, если этот доблестный рыцарь умрет по моему приказанию, я готов буду отдать свою руку, лишь бы вернуть назад роковые слова, обрекшие его на смерть… Руку! Я отдал бы свою жизнь, ибо весь мир стал бы говорить, что Ричард воспользовался положением, в котором оказался наследник шотландского престола, доверившись моему благородству.
— Можем ли мы узнать у вашего величества, благодаря какой необыкновенной и счастливой случайности эта тайна была наконец разгадана? — спросила королева Беренгария.
— Нам были доставлены письма из Англии, — ответил король, — из которых среди других неприятных новостей мы узнали, что шотландский король захватил трех наших вассалов, когда те совершали паломничество в Сент-Ниниан, и выставил причиной то, что его наследник, якобы сражавшийся в это время в рядах тевтонских рыцарей против язычников Боруссии, на самом деле находится в нашем лагере и в наших руках; а потому Вильгельм собирался держать наших вассалов заложниками и тем обеспечить безопасность своего сына. Это дало мне первый намек на истинное звание рыцаря Леопарда; мои подозрения подтвердил де Во; вернувшись из Аскалона, он привез с собой единственного слугу графа Хантингдона, тупоголового раба, прошедшего тридцать миль, чтобы открыть де Во тайну, о которой он должен был рассказать мне.
— Старого Страукана следует извинить, — сказал лорд Гилсленд. — Он знал по опыту, что у меня сердце помягче, ибо я не прозываюсь Плантагенетом.
— У тебя мягкое сердце? Ты старая железная болванка… Кремень камберлендский, вот кто ты! — воскликнул король. — Это мы, Плантагенеты, славимся мягкими и чувствительными сердцами, не правда ли, Эдит? — И, обернувшись к своей кузине, он так посмотрел на нее, что вся кровь бросилась к ее щекам. — Дай мне твою руку, прекрасная кузина, а ты, принц шотландский, твою.
— Погоди, мой повелитель, — сказала Эдит и отступила на шаг; пытаясь скрыть свое смущение, она стала подшучивать над легковерием своего царственного родственника. — Разве ты не помнишь, что моя рука должна послужить обращению в христианскую веру сарацин и арабов, Саладина и всего чалмоносного воинства?
— Да, но ветер пророчества начинает меняться и дует теперь с другой стороны, — возразил Ричард.
— Не насмехайтесь, дабы не прогневать силы, тяготеющие над вашими судьбами, — сказал отшельник, выступив вперед. — Небесное воинство записывает в свою алмазную книгу только истину; но человеческое зрение слишком слабо, чтобы правильно прочесть их письмена. Знай же, когда Саладин и Кеннет Шотландский ночевали в моей пещере, я прочел в звездах, что под моим кровом отдыхает исконный враг Ричарда, государь, с которым будет связана судьба Эдит Плантагенет. Мог ли я сомневаться, что дело шло о султане, чье звание мне было хорошо известно, так как он часто посещал мою келью, чтобы беседовать о движении планет?.. Небесные светила возвещали также, что государь, супруг Эдит Плантагенет, будет христианином; и я — немощный, безумный толкователь! — сделал отсюда вывод о предстоящем обращении в христианство благородного Саладина, добродетели которого, казалось, подчас склоняли его к истинной вере. Сознание моей немощности уничижало меня, обращало в прах, но и в прахе я нашел утешение! Я не сумел правильно прочесть судьбы других… Могу ли я быть уверен, что не ошибся в своей собственной судьбе? Богу не угодно, чтобы мы подслушивали решения его синедриона или выведывали его сокровенные тайны. Бодрствуя и молясь, мы должны со страхом и надеждой уповать на его волю. Я пришел сюда суровым провидцем, гордым пророком, который способен, как я думал, поучать государей и наделен даже сверхъестественным могуществом, но отягощен бременем, посильным только для моих плеч. Но путы, связывающие меня, были разорваны. Я ухожу отсюда униженный в своем невежестве, кающийся — но не без надежды.
С этими словами отшельник удалился. Говорят, с тех пор припадки сумасшествия случались с ним редко, его покаяние приняло более мягкие формы, и ему сопутствовала надежда на лучшее будущее. Даже в своем безумии он был одержим громадным самомнением; теперь он убедился, что пророчество, на котором он с таким жаром настаивал, было ложным, и это подействовало на него, как кровопускание на человеческий организм, утишив лихорадку его ума.
Вряд ли необходимо входить в дальнейшие подробности о том, что произошло в шатре королевы, и задаваться вопросом, был ли Давид граф Хантингдон так же нем в присутствии Эдит Плантагенет, как в то время, когда ему приходилось выступать в роли безродного, никому не ведомого искателя приключений. Можно не сомневаться, что он со всем приличествующим случаю жаром признался теперь в своей любви, которую прежде так жаждал, но не осмеливался выразить в словах.
Приближался полдень, и Саладин уже ждал христианских государей в палатке, которая мало чем, кроме размеров, отличалась от обычного жилища простого курда или араба. Но под ее просторным черным сводом на роскошных коврах, окруженных подушками для гостей, все было приготовлено для пышного восточного пиршества. Мы не станем останавливаться на описании золотой и серебряной парчи, тканей с вышитыми на них чудесными арабесками, кашмирских шалей и индийской кисеи, повсюду радовавших взор своей изумительной красотой. Еще меньше склонны мы распространяться о всяких сластях, о рагу с гарниром из риса различных оттенков и о прочих восточных яствах. Золотые, серебряные и фарфоровые блюда с ягнятами, зажаренными целиком, и пилавами из дичи и домашней птицы стояли вперемежку с большими чашами шербета, охлажденного снегом и льдом из горных пещер Ливана. На почетном месте для хозяина пира и наиболее высокопоставленных гостей лежала груда великолепных подушек, а с потолка шатра повсюду, и в особенности над нею, свисало множество войсковых знамен и государственных стягов — трофеев, напоминавших о выигранных битвах и завоеванных царствах. Но среди них бросалось в глаза прикрепленное к длинному копью полотнище, знамя смерти, со следующей выразительной надписью: «САЛАДИН. ЦАРЬ ЦАРЕЙ САЛАДИН. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ САЛАДИН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
Закончив все приготовления к пиру, рабы не удалились, а остались стоять, склонив головы и скрестив на груди руки, немые и неподвижные, как статуи или как автоматы, приходящие в движение лишь после того, как к ним прикоснется рука мастера.
В ожидании прибытия высоких гостей султан, суеверный, как все его современники, задумался над гороскопом и свитком с пояснениями, которые энгаддийский отшельник прислал ему, прежде чем покинуть лагерь
— Странная и таинственная наука, — бормотал Саладин про себя. — Она притязает на то, что может приоткрыть завесу будущего, а на самом деле вводит в заблуждение тех, кого как будто направляет на истинный путь, и затемняет то, что якобы освещает! Кто не подумал бы, что самый опасный враг Ричарда — это я и что наша вражда прекратится вследствие моей женитьбы на его родственнице? Однако теперь выяснилось другое: брак между доблестным графом и этой дамой помирит Ричарда с Шотландией — врагом более опасным, чем я, ибо дикой кошки в комнате следует опасаться больше, чем льва в далекой пустыне… Но, с другой стороны, — продолжал он, — сочетание светил указывает, что ее муж должен быть христианином… Христианином? — повторил он после некоторого молчания. — Это вселило в безумного, фанатичного звездочета надежду, будто я могу отречься от моей веры! Но меня, верного последователя нашего пророка, меня оно не должно было обмануть. Лежи здесь, таинственный свиток, — добавил он, кладя его под груду подушек. — Твои пророчества непонятны и пагубны, ибо, даже сами по себе истинные, они обращаются ложью для тех, кто пытается их разгадать… В чем дело, зачем ты явился сюда без зова?
Эти слова относились к Нектабанусу, который в это мгновение вбежал в шатер; карлик был страшно взволнован, его лицо с непропорциональными, странными чертами исказилось от страха и стало еще уродливее, рот был раскрыт, глаза вытаращены, руки со сморщенными и искривленными пальцами широко распростерты.
— Что случилось? — строго спросил султан.
— Accipe hoc![34] — простонал карлик.
— Как? Что ты говоришь?
— Accipe hoc! — ответил объятый ужасом человечек, не сознавая, вероятно, что он повторяет те же слова.
— Вон отсюда! Я не расположен выслушивать твои глупости, — сказал султан.
— Я глуп лишь настолько, — возразил Нектабанус, — чтобы моя глупость помогала моему уму зарабатывать хлеб для такого беспомощного бедняка, как я!.. Выслушай, выслушай меня, великий султан!
— Ну что ж, если тебя действительно кто-то обидел, — сказал Саладин, — глупый ты или умный, ты имеешь право на то, чтобы государь приклонил слух к твоей жалобе. Идем сюда. — И он повел его во внутреннюю часть шатра.
Их секретный разговор был прерван звуками труб, возвещавшими о прибытии христианских государей. Саладин приветствовал их у себя в шатре с королевской любезностью, подобающей их и его званию; особенно милостивый прием оказал он молодому графу Хантингдону, от души поздравив с осуществлением его чаяний, которые стали на пути тем замыслам, что он сам лелеял, и которые теперь полностью разрушили их.
— Не думай, однако, благородный юноша, — сказал султан, — что принц шотландский милее сердцу Саладина, чем Кеннет — одинокому Ильдериму, когда они встретились в пустыне, или истерзанный горем эфиоп — хакиму Адонбеку. Смелых и благородных людей вроде тебя ценят независимо от их звания и происхождения, подобно тому как прохладный напиток, который я предлагаю тебе сейчас отведать, одинаково восхитителен на вкус, пьешь ли ты его из глиняной чаши или из золотого кубка.
Граф Хантингдон ответил подобающим образом и с благодарностью вспомнил о многочисленных важных услугах, оказанных ему великодушным султаном. Но после того как он отпил за здоровье Саладина из поднесенной ему чаши шербета, он не мог удержаться, чтобы не заметить с улыбкой:
— Храбрый воин Ильдерим никогда не слышат о существовании льда, а щедрый султан охлаждает шербет снегом.
— Разве простой араб или курд может быть столь же мудрым, как хаким? — сказал султан. — Кто меняет свой внешний облик, тот должен и движения своего сердца и помыслы своего ума привести в соответствие с одеждой, которую он на себя надел. Мне хотелось узнать, как будет вести себя прямодушный франгистанский рыцарь в споре с таким вождем, какого я тогда изображал; и я усомнился в общеизвестной истине, чтобы услышать, какими доводами ты станешь подкреплять свое утверждение.
Во время этого разговора подошел эрцгерцог австрийский, который стоял неподалеку и слышал упоминание о ледяном шербете; предвкушая удовольствие, он довольно бесцеремонно выхватил из рук графа Хантингдона большую чашу, прежде чем тот успел поставить ее на место.
— Чудесно! — воскликнул он, сделав огромный глоток, показавшийся ему вдвойне приятным из-за жары и из-за похмелья после вчерашней попойки.
Со вздохом он передал чашу гроссмейстеру тамплиеров. В это мгновение Саладин сделал знак карлику, и тот, выступив вперед, произнес хриплым голосом слова «Accipe hoc!» Тамплиер отпрянул, как конь, увидевший льва под придорожным кустом, но сразу овладел собой и, вероятно, чтобы скрыть замешательство, поднес чашу к губам… Но его губы так и не коснулись края чаши. С быстротой молнии Саладин выхватил из ножен саблю. Она мелькнула в воздухе — и голова гроссмейстера покатилась к краю шатра, а туловище еще секунду продолжало стоять, и руки все еще крепко сжимали чашу; затем оно рухнуло, и шербет смешался с кровью, хлынувшей из вен.
Со всех сторон послышались крики о предательстве, и австрийский эрцгерцог, от которого Саладин с окровавленной саблей в руках был ближе всего, попятился, как бы опасаясь, что следующая очередь будет за ним. Ричард и другие гости схватились за мечи.
— Не бойся, благородная Австрия, — сказал Саладин так спокойно, словно ничего не случилось, — а ты, король Англии, не приходи в гнев от того, что ты только что видел. Не за свои многочисленные предательства — не за то, что по его наущению, как может засвидетельствовать его собственный оруженосец, была сделана попытка лишить жизни короля Ричарда; не за то, что он гнался в пустыне за принцем шотландским и мною и нам тогда удалось спастись только благодаря быстроте наших коней; не за то, что он подбивал маронитов напасть на нас вовремя этой встречи и лишь потому, что я неожиданно для них привел с собой так много арабских воинов, им пришлось отказаться от своих планов, — не за эти преступления лежит он сейчас здесь, хотя каждое из них заслуживает такого наказания, а потому, что всего за полчаса до того, как он, подобно самуму, отравляющему воздух, осквернил своим приходом это помещение, им был заколот кинжалом его соратник и сообщник Конрад Монсерратский, чтобы тот не смог покаяться в бесчестных заговорах, в которых они оба участвовали.
— Как! Конрад убит? Убит гроссмейстером, его поручителем и самым близким другом! — воскликнул Ричард. — Благородный султан, я готов верить тебе… Но все же ты должен доказать свои слова, не то…
— Вот стоит доказательство, — перебил Саладин, указывая на перепуганного карлика. — Аллах, который создал светлячков, чтобы они светили ночью, может раскрывать тайные преступления при посредстве самых ничтожных созданий.
И султан приступил к рассказу о том, что узнал от карлика. Нектабанус из глупого любопытства или же, как он наполовину признался, в надежде чем-нибудь поживиться прокрался в палатку Конрада, покинутую всеми слугами, так как некоторые из них ушли из лагеря, чтобы известить брата маркиза о его поражении, а другие не захотели упустить случая принять участие во всеобщем пиршестве, устроенном Саладином. Раненый спал под действием чудесного талисмана Саладина, так что карлик имел возможность беспрепятственно всюду порыться; вдруг чьи-то тяжелые шаги спугнули его и заставили забиться в укромный уголок. Он спрятался за занавеску, но мог оттуда видеть движения и слышать слова гроссмейстера, который вошел и тщательно задернул за собой полог шатра. Его жертва, вздрогнув, проснулась; по видимому, маркиз сразу же заподозрил недобрые намерения своего давнего союзника, так как в страхе спросил, зачем он его тревожит.
— Я пришел исповедать тебя и отпустить твои грехи, — ответил гроссмейстер.
Из дальнейшего разговора испуганный карлик запомнил лишь то, что Конрад молил гроссмейстера не обрывать висящую на волоске жизнь, а тамплиер ударил его турецким кинжалом в сердце, произнеся при этом «Accipe hoc!» — слова, которые долго преследовали потрясенное воображение тайного свидетеля.
— Я проверил этот рассказ, — сказал в заключение Саладин, — приказав осмотреть труп; и я заставил это несчастное создание, по воле аллаха ставшее обличителем преступника, повторить в вашем присутствии произнесенные убийцей слова, и вы сами видели, как они подействовали на его совесть!
Султан умолк, и теперь заговорил король Англии:
— Если это правда, в чем я не сомневаюсь, то мы присутствовали при акте величайшей справедливости, хотя вначале нам казалось иное. Но почему здесь, при нас? Почему твоею собственной рукой?
— Я предполагал поступить по-другому, — сказал Саладин, — но если бы я не поспешил обрушить на злодея кару, он вовсе избег бы ее, ибо допусти я, чтобы он отведал из моей чаши, как он собирался сделать, я уже не мог бы предать его заслуженной смерти, не опозорив себя нарушением законов гостеприимства. Если бы он убил моего отца, а потом вкусил моей пищи и отпил из моей чаши, я не тронул бы и волоска на его голове. Но довольно о нем… Пусть уберут отсюда труп, и не будем больше вспоминать о предателе.
Тело унесли, и следы убийства уничтожили или скрыли с такой быстротой и сноровкой, которые показывали, что подобные случаи были не так уж необычны и не могли вызвать замешательства среди слуг и придворных Саладина.
Однако христианские государи чувствовали себя подавленными только что разыгравшимся перед ними зрелищем, и хотя, в ответ на любезное приглашение Саладина, они заняли свои места за пиршественным столом, беспокойство и изумление не покидали их, и все продолжали хранить молчание. В душе одного только Ричарда не было больше места для подозрительности и сомнений. Но и он, казалось, обдумывал какой-то план и старался найти самую подкупающую и приемлемую форму для того, чтобы его предложить. Наконец он выпил залпом большую чашу вина и, обратившись к султану, осведомился, правда ли, что тот удостоил графа Хантингдона чести, вступив с ним в единоборство.
Саладин, улыбаясь, ответил, что он испытал своего коня и оружие в поединке с наследным принцем шотландским, как это принято между рыцарями, которые встретились в пустыне; и он скромно добавил, что хотя схватка не была решительной, все же у него нет оснований гордиться ее исходом. Шотландец, в свою очередь, не согласился, что преимущество было на его стороне, и счел своим долгом отдать пальму первенства султану.
— То, что ты встретился в единоборстве с султаном, само по себе достаточная честь, — сказал Ричард, — и я завидую ей больше, чем всем улыбкам Эдит Плантагенет, хотя и одной из них достаточно, чтобы вознаградить за целый день кровавой битвы… Но что скажете вы, благородные государи? Мыслимое ли это дело, чтобы такое блестящее собрание рыцарей разошлось, не совершив ничего, о чем стали бы говорить в грядущих веках? Что значит разоблачение и смерть предателя для цвета рыцарства, который присутствует здесь и не должен разъехаться, не став свидетелем чего-либо более достойного его взора? Что скажешь ты, благородный султан, если ты и я сейчас, перед лицом этого избранного общества, разрешим давний спор по поводу палестинской земли и сразу покончим с этими докучливыми войнами? Вот там готовое ристалище, и у ислама никогда не будет лучшего защитника, чем ты. Я, если не найдется более достойного, брошу свою перчатку от имени христианства, и со всей любовью и уважением мы сразимся не на жизнь, а на смерть за обладание Иерусалимом.
Все затаили дыхание, ожидая ответа султана. Краска прилила к его щекам и лбу, и многие из присутствующих считали, что он колеблется, не в силах решить, принять ли ему вызов или нет. Наконец он сказал:
— Сражаясь за святой город против тех, кого мы считаем язычниками, которые поклоняются идолам из дерева и камня, я могу быть уверен, что аллах укрепит мою руку; а если я паду от меча Мелека Рика, то для моего перехода в рай не может быть более славной смерти. Но аллах уже отдал Иерусалим сторонникам истинной веры, и если бы я, понадеявшись на свою личную силу и ловкость, подверг опасности то, чем я прочно владею благодаря превосходству моих войск, это означало бы искушать бога нашего пророка.
— Ну, если не за Иерусалим, — сказал Ричард тоном человека, умоляющего об одолжении своего близкого друга, — то, быть может, из любви к славе мы встретимся хотя бы в трех схватках с острыми копьями.
— Даже этого, — слегка улыбаясь, ответил Саладин, которому страстная настойчивость, с какой Львиное Сердце домогался поединка, показалась забавной, — даже этого я не имею права себе позволить. Хозяин приставляет к стаду пастуха для блага овец, а не самого пастуха. Будь у меня сын, к которому перешел бы мой скипетр в случае моей смерти, я был бы волен уступить своему желанию и не задумываясь принял бы твой смелый вызов. Но в вашем писании говорится, что стоит убить пастуха, как овцы разбегутся.
— Все счастье досталось на твою долю, — со вздохом сказал Ричард, обернувшись к графу Хантингдону. — Я отдал бы лучший год моей жизни за эти полчаса у «Алмаза пустыни»!
Рыцарская удаль Ричарда подняла дух присутствующих, и когда они наконец собрались уходить, Саладин подошел к Львиному Сердцу и взял его за руку.
— Благородный король Англии, — сказал он, — мы сейчас расстанемся и больше никогда не встретимся. Мне так же хорошо известно, как и тебе, что ваш союз распался и больше не восстановится и что у тебя слишком мало своих войск для продолжения войны. Я не вправе уступить тебе Иерусалим, которым ты так хочешь завладеть. Для нас, как и для вас, это святой город. Но любая другая просьба Ричарда к Саладину будет удовлетворена с такой же готовностью, с какой этот источник утоляет жажду всех путников. И Саладин выполнил бы эту просьбу столь же охотно даже в том случае, если бы Ричард очутился в пустыне лишь с двумя лучниками!
* * *
На следующий день Ричард вернулся к себе в лагерь, а немного спустя состоялось бракосочетание молодого графа Хантингдона и Эдит Плантагенет. Султан прислал молодым в подарок знаменитый талисман. С его помощью в Европе было совершено много исцелений, но ни одно из них не могло сравниться с теми успешными, прославленными исцелениями, которых удавалось добиться Саладину. Талисман все еще существует; граф Хантингдон завещал его доблестному шотландскому рыцарю сэру Саймону Ли, и в этой старинной, высоко почитаемой семье он сохранился до наших дней. И хотя современная фармакопея отказалась от применения чудодейственных камней, талисманом Саладина продолжают пользоваться, когда надо остановить кровотечение, а также в случаях бешенства.
Наше повествование на этом заканчивается, так как обстоятельства, при которых Ричард вынужден был отказаться от плодов своих побед, описаны в любом историческом труде, посвященном этой эпохе.
ПОЭМЫ
ПЕСНЬ ПОСЛЕДНЕГО МЕНЕСТРЕЛЯ
Вступление
Путь долгим был, и ветер ярым, А менестрель — бессильным, старым. Он брел, поникший и седой, В мечтах о жизни прожитой. С его утехой — арфой звонкой — Сиротка-мальчик шел сторонкой. Старик из тех последним был, Чьи песни встарь наш край любил. Но время бардов миновало, Друзей-певцов уже не стало. Ах, лучше бы меж них почить, Чем дни в забвении влачить! А ведь и он скакал на воле, И он пел жаворонком в поле!.. Его уж в замки не зовут, К местам почетным не ведут, Где лорды слушать были рады Слагаемые им баллады. Увы, все изменилось так! На троне Стюартов — чужак, В век лицемеров даже пенье Карается как преступленье, И, став бездомным нищим, он Жить на подачки принужден И тешить тем простолюдина, Что пел он встарь для господина. Вот замок Ньюарк, как утес, Пред ним зубцы свои вознес. Старик обвел окрестность взглядом — Жилья другого нету рядом. И робко он вступил под свод Решеткой забранных ворот. О них в те дни, что миновались, Валы набегов разбивались, Но открывался их замок Для всех, кто нищ и одинок. В окошко леди увидала, Как брел певец, худой, усталый, И приказала, чтобы он Был и пригрет и ободрен. Ведь горе и она вкусила, Хоть имя знатное носила: Над гробом Монмаута ей Пришлось лить слезы из очей. Как только старца накормили — Все с ним приветливыми были,— Он встал, о прежней вспомнив силе, И тотчас речь повел о том, Как Фрэнсис пал в бою с врагом И Уолтер смерть — прости их боже! На поле битвы принял тоже. Ему ль не знать, как род Баклю Былую славу чтит свою? Не снизойдет ли герцогиня К тому, что петь начнет он ныне? Хоть стар он и рука слаба, Петь о былом — его судьба. Коль любит леди арфы пенье, Он ей доставит развлеченье. Согласие дано. Внимать, Как встарь, певцу готова знать. Но лишь вошел он в зал несмело, Где леди меж гостей сидела, Взяло смущенье старика. Касаясь струн, его рука, Утратив легкость, задрожала. Споет ли он, как пел бывало? Страданья, радость прежних дней Встают пред ним чредой своей, И арфу строить все трудней. Но тух хозяйки поощренье Рассеяло его смущенье, И, собирая звуки в хор, Он начал струнный перебор, При этом выразив желанье Пропеть старинное сказанье, Которое в дни испытанья, Давным-давно сложил он сам Для знатных рыцарей и дам. Петь нынче ту же песнь он будет, Что пел пред Карлом в Холируде, Хоть и страшится, что сейчас Тот давний он забыл рассказ. По струнам пальцы пробегали… Полны тревоги и печали, Им струны глухо отвечали. Но найден нужный ритм — и вот В очах певца огонь живет, Сметая тень былых невзгод, И вдохновением поэта, Как прежде, грудь его согрета. К нему вернулся прежний пыл, Он снова духом воспарил. Ему грядущее открыто, Былое горе им забыто. Гнет старости, борьбу с нуждой — Все песня унесла с собой, И то, что память растеряла, Опять для барда воссияло, И старых струн окрепла трель… Так пел Последний Менестрель.Песнь первая
1 Пир в поздней кончился беседе. Ушла в опочивальню леди. Ее покои родовые Хранят заклятья роковые (Спаси нас, Иисус, Мария!). Никто бы, чар страшась, не мог Ступить за каменный порог. 2 Стол отодвинут. Гости встали. Дворяне, рыцари, родня Гуляют по высокой зале Иль греют руки у огня. Псы после бешеной охоты У стен вповалку разлеглись, И снятся им леса, болота, Где за зверьем они гнались. 3 Здесь тридцать рыцарей суровых Ждут боевых горячих дней, Здесь тридцать слуг, в поход готовых, Из стойла вывели коней, И тридцать йоменов в той зале Гостям служить за честь считали. Здесь цвет всех рыцарей — они Владетельным Баклю сродни. 4 Меж ними десять — вечно в латах И шлемах боевых пернатых, И в тишине часов ночных И днем доспех всегда на них. Они во всем вооруженье Вкушают даже сна забвенье И в изголовье щит кладут И, не снимая в час трапезы С руки перчатку из железа, Вино сквозь щель в забрале пьют. 5 Десяток йоменов с пажами Лишь знака ждут. Здесь все с мечами, И тридцать скакунов притом Стоят в конюшне под седлом В налобниках с шипом колючим И у стремян с копьем могучим. При них сто запасных коней — Таков закон военных дней. 6 Зачем здесь люди ждут с конями И воины не спят ночами? Чтоб рог услышать, лай собак И вражьих войск увидеть знак — Кресты Георгия святого В огнях костра сторожевого. От полчищ с юга сторожат Они свой Брэнксом с гордых башен И ждут врага. Он, зол и страшен, От Уоркворта ведет отряд. 7 Здесь каждый на посту — порядки От века строги на войне. Где ж воин, клан водивший в схватки? Лишь меч его без рукоятки Ржавеет на стене. Но сложат барды песнопенья О том, как Уолтер пал в сраженье, Когда все жители страны С границ бежали от войны, Был в Данидине шум великий, Повсюду колыхались пики, И, клич издавши боевой, Пал в битве Брэнксома герой. 8 Поможет ли Христа ученье Лихую отвратить беду? Смирит ли набожности рвеиье Родов смертельную вражду? Нет! В сердце их вождей отныне Месть разлила столь адский яд, Что и хождением к святыням Они себя не исцелят. Покуда Сесфорд славит Карра И Скоттам Эттрик песнь поет, Всё будут сыпаться удары Со злобой давнею и ярой И род войной идти на род. 9 Над трупом Уолтера в печали Склонялись удальцы лесов, Немало женщины роняли И слез над павшим и цветов. Лишь леди слез не проливала, Цветов над павшим не роняла. Ей мщение, что душу жгло, Источник скорби заградило; Бесстрастным и суровым было Ее надменное чело, Пока всему на радость клану Малютка сын ей не сказал: «Когда я сам мужчиной стану, Отмстит убийцам мой кинжал!» И лишь тогда, его лаская, Склонилась мать, слезу роняя. 10 Плащ сброшен, волосы развиты.. Неубрана, бледна, Рыдает над отцом убитым Дочь, горести полна. Но не одно души мученье В тех вздохах и слезах — В груди у Маргарет смущенье, Тоска любви и страх. Она не может даже взглядом Сочувствия искать: Ее любимый с Карром рядом Привел к ним вражью рать, И скоро будет к их оградам Ручей в крови бежать. Мать никогда не согласится На брак, что должен совершиться, Уж лучше дочке трупом стать! 11 Отец у леди знатен родом И мудр рассудком был, И изучал он год за годом Науку тайных сил. Постигнул в Падуе далекой Он волшебства язык И в чернокнижие глубоко Своим умом проник. Великой тайной превращений Он овладел вполне, И не отбрасывал он тени На солнечной стене! 12 Оставил тайных знаний зерна Он дочери своей, И духи воздуха покорно Повиновались ей. Сейчас одна в старинной башне Сидит она в тоске всегдашней, И шум доходит к ней глухой, Похожий на морской прибой. Поток ли плещет в берег властно, Смывая комья глины красной, Иль дуб шумит, как бурный вал, Иль эхо мечется средь скал? Что значит этот шум? Он страшен. Кто стонет у подножья башен? 13 Заслышав шум ночной Под башнею суровой, Псы поднимают вой, Кричат в ущелье совы. А рыцарей отряд Ждет бури ежечасно, И все в окно глядят. Но небо так же ясно. 14 Слушая, как Тивиот В дол свергается с высот, Как шумят дубы и скалы, Вторя буре небывалой, Знает леди — то широко К ней ветров доходит хор, Слышно ей, как Дух Потока Речь заводит с Духом Гор. 15 Д у х П о т о к а Спишь ты, брат? Д у х Г о р Не сплю я, нет! Здесь, в ущелье, лунный свет, Блещет пена до Крейкросса Возле каждого утеса. Эльфов легкий хоровод, В звуках музыки порхая, Ветки вереска плетет На лугах родного края. Вверх и вниз снует их рой, Дружной занятый игрой. 16 Д у х П о т о к а В башне девушка рыдает Под далекий стон волны. Это Маргарет страдает, Слезы льет в лучах луны. Ты, читавший звезд узоры, Молви, кончатся ль раздоры, Что ее в грядущем ждет, Замуж за кого пойдет? 17 Д у х Г о р Вот Медведица Большая, Льдистый полюс огибая, Вверх ползет, и Орион Звездным хором окружен. А вдали, в туман одеты, Светят дальние планеты. Я с трудом их письмена Различаю в бездне синей. Но скажу: сломить гордыню Страсть пока что не вольна. 18 Уж голосов не слышно боле: Их мрачный гул давно затих Там, у реки и в темном поле, Среди холмов и скал крутых. Но длится гул в одной из башен — В покоях леди. Все слышней Звучит тот шум в ушах у ней, Но твердый дух ее бесстрашен. Ее ль гордыне унижаться? Ее душа всегда строга. «Скорее горы преклонятся И вспять потоки обратятся, Чем станет дочь женой врага!» 19 И леди видит: в замке, в зале, Где рыцари, сойдясь толпой, В беседе время коротали, Сын развлекается игрой. На сломанном копье он смело Носился между них верхом, Сражаясь дерзко и умело С воображаемым врагом, А те, чье сердце тверже стали, Чей дух в сраженьях закален, Его забавы разделяли И были веселы, как он. Написана ему дорога Великой славы на роду: Собьет он спесь с Единорога, Возвысит Месяц и Звезду. 20 Забыла леди на мгновенье О том, что шепчет гордость ей, И в материнском восхищенье Остановилась у дверей. Но тотчас, вспомнив про дела, Речь с Делореном завела. 21 Меж горцев всех отважней он, Гроза для вражеских племен. Вся местность Уильяму знакома, В лесах, в болотах он как дома. Сумеет он, меняя путь, Ищеек Перси обмануть. Пусть нет на бурном Эске брода — Его переплывет он с хода. Всегда найдет он путь прямой — В снегах зимы и в летний зной. И днем и ночью, коль придется, В любой он чаще проберется И у врага отбитый скот Из Камберленда приведет. Давно он не в ладу с законом, С шотландским и английским троном. 22 «Сэр Уильям, выслушай меня. Садись на быстрого коня; Пусть он во весь опор летит Туда, где льется светлый Твид! Там есть монах, старик седой, В стенах обители святой. Скажи ему, что час пробил, Что в эту ночь ему не спать; Должны в одной вы из могил Сокровище мне откопать. Пусть в ночь святого Михаила Помогут вам луна, светила. Узнать легко могилу ту По ярко-красному кресту. 23 Монах вручит заветный клад. Не медли, с ним скачи назад. То книга. Тайны скрыты в ней, И ты ее читать не смей. Прочтешь — навеки пропадешь: Ты пожалеешь, что живешь». 24 «Крепок конь, здесь рожденный, Тивиотом вспоенный. Буду гнать что есть мочи коня. Бог поможет мне в этом, и еще пред рассветом Вы обратно дождетесь меня. Поскачу, полный рвенья, исполнять порученье, Все добуду для вас, ваша честь! А читать не умею. Перед казнью моею Я не смог бы отходной прочесть!» 25 Он на коня вскочил лихого И с вала выехал крутого Под аркой башенных ворот Туда, где льется Тивиот. К востоку путь свой держит лесом Сэр Уильям под ветвей навесом Сквозь пограничных башен строй, Оставив Бортуик за собой. Холмы уже ушли из вида, Где бродит ночью тень друида, Померкли Хоуика огни, Остались позади они, И привела его равнина К высоким башням Хэзелдина. 26 «Стой!» — крикнул воин у ворот. «Во имя Брэнксома, вперед!» — Ответил рыцарь, шпоры дал И мимо башни проскакал. Он повернул от Тивиота, Куда ручей журчащий вел, К холму, с которого охота Всегда спускалась в мрачный дол, И перед ним, виясь отлого, Открылась римская дорога. 27 Во всем спокойствие храня, Слегка он придержал коня, Стянул подпругу, меч из ножен Чуть вынул — смел, но осторожен. На скалах Минто лунный луч, Ручей струится между круч. Конь бег замедлил у потока, Здесь сокол вьет гнездо высоко, И взор со скал вперяет в дол Добычи алчущий орел. Здесь эхо вторило когда-то Рогов разбойничьих раскату, А в наше время средь ущелий Несет далеко стон свирели, Когда пастух доверит ей Поутру грусть любви своей. 28 Сэр Уильям выбрал путь опасный К долине Риддела прекрасной, Где, изливаясь из озер, Между горами Эйл бурливый Летит и машет пенной гривой, Как конь, что мчит во весь опор. Но Делорену и поток Дорогу преградить не смог. 29 Конь прянул смело, как всегда. Доходит до колен вода, Крутясь, мутна и тяжела, Она уж к шее подошла, Но, тяжкой скованный броней, Конь все же борется с волной, А рыцарь так же, как и он, Все глубже в воду погружен. Уж перья шлема вслед за ним Струятся по волнам седым, Но конь прыжком в последний миг Крутого берега достиг. 30 Сэр Уильям Делорен в смятенье Поник угрюмо головой: Возник в его воображенье Кипевший здесь кровавый бой, Когда впервые в блеске стали Скотт с Карром недругами стали И, в плен попав, король глядел На то, как строй друзей редел, Как клан Баклю встречал угрюмо Атаку Дугласа и Хьюма, Пока не пал, копьем пронзен, Тот, кто был Сесфордом вспоен. 31 Так ехал рыцарь с мрачной думой Равниной вереска угрюмой, Пока над Твидом, как утес, Одетый в мох, не встал Мелроз. Сурово высилось аббатство, Монахов вековое братство. Минуя Хоуик, слышал он Полночной службы тихий звон И хора сумрачное пенье, Что замирало в отдаленье, Подобно арфе, чья струна Лишь ветру отвечать вольна. Окончен путь А ночь идет, В конюшне конь копытом бьет, И ждет сэр Уильям у ворот. * * * Умолкла арфа, и старик Главою горестно поник — Ведь не был он уверен в том, Что угодил гостям стихом Во взглядах рыцарей искал Он осужденья иль похвал. Он одряхлел, он весь седой. Ему ль о славе петь былой? Ослабла арфа, и рука Теперь уже не так легка. Но леди, рыцари, вся знать Просили барда продолжать, Готовы все наперебой Его почтить своей хвалой Рука его, как встарь, верна, Чист голос и звонка струна. И, похвалою вдохновлен, Опять коснулся арфы он.Песнь вторая
1
Кто хочет Мелроз увидеть, тот Пусть в лунную ночь к нему подойдет. Днем солнечный свет, веселый и ясный, Развалины эти ласкает напрасно, А в темной ночи величаво черны И арки окон и проломы стены, И в лунном холодном, неверном сиянье Разрушенной башни страшны очертанья. Чернеют контрфорсы, и в нишах их Белеют резные фигуры святых: Они еще поучают живых Обуздывать пламя страстей своих. А Твид вдалеке рокочет уныло, И ухает филин над чьей-то могилой. Пойди в этот час, и пойди один Взглянуть на громады прежних руин — И скажешь, что в жизни не видел своей Картины прекраснее и грустней.2
Но красотой угрюмых стен Не любовался Делорен. Ворота накрепко закрыты — Стучит он долго, стучит сердито, Привратник к воротам спешит: «Кто в поздний час так громко стучит?» «Из Брэнксома я!» — Делорен отвечает, И сразу монах ему отворяет: Ведь лорды Брэнксома в трудные дни Прекрасный Мелроз спасали в битвах И земли аббатству дарили они, Чтоб души их поминали в молитвах.3
Всего два слова гонец сказал, И молча факел привратник взял, И вот уже покорно вперед Стопой неслышною он идет, А шаг Делорена громко звенит По гулким камням монастырских плит. Вот рыцарь пернатый шлем наклонил И в тихую келью смиренно вступил, Где мирно дни доживает святые Монах, служитель девы Марии.4
«Велела леди Брэнксом сказать — Он молвил, подняв забрало, — Что из могилы сокровище взять Сегодня пора настала…» С убогого ложа поднялся монах, Согбенную спину расправил, В густой бороде его и кудрях Снег проседи возраст оставил.5
Глаза на рыцаря он обратил — Как небо они голубое: «Не трусом отец твой тебя взрастил, Коль дерзнул ты на дело такое! Уж семьдесят лет я прощенья прошу За проступок, давно свершенный, Власяницу ношу и вериги ношу, По ночам отбиваю поклоны; Но еще не искуплен великий грех Познанья того, что скрыто от всех. Настанет, настанет и твой черед Терзаться тайной виною. Страшись расплаты: она придет! Ну что же, следуй за мною…»6
«Проклятья, отец мой, я не боюсь. Я ведь и богу-то редко молюсь — Мессу выстаивать не люблю я И призываю деву святую, Лишь собираясь в битву лихую… Скорей, монах, выполняй приказ. Ты видишь — времени мало у нас».7
На воина снова старик посмотрел, Вздохнул в глубокой печали — И он ведь когда-то был молод и смел, Сражался в знойной Италии. О днях минувших задумался он, Когда был строен, красив и силен, И тихой походкой, усталый и хилый, Сошел он в сад монастырский унылый, Где камни надгробий и вечный покой, Где кости усопших лежат под землей.8
Цветы и травы в такие часы Сверкают в каплях ночной росы, А на могилах блестят изваянья Немой белизной при лунном сиянье. В раздумье монах любовался луной, Потом оглядел небосклон ночной, Где в танце искристом На севере мглистом Играли сполохи над землей. И вспомнил он, как в прекрасной Кастилии Надменные юноши на конях Богатством нарядов глаза слепили, Гарцуя врагам на страх… Он знал: если сполохи в небе играют — Бесплотные духи над миром витают.9
Открыли боковую дверь, Вошли в алтарь… Как мрачен он! Высокий свод как ночь гнетет, Стройны, величавы ряды колонн. На каменных сводах изваяны были Кресты трилистников, чаши лилий, Зловеще навис тяжелый карниз, Из тьмы выступал причудливый фриз, И чаща колонн во мраке белела, Как в тесном колчане упругие стрелы.10
Ветра ночного прикосновенье Складки знамен привело в движенье. Сомкнувшись, их шелковый строй Мерцал гербами у ограды, Где тускло светятся лампады, Где с Дугласом отважным рядом Спит Лиддсдейл — сумрачный герой. Так блекнут мертвых имена И гордость в прах превращена.11
В окно восточное луна Светила холодно-бледна. Белели, как стволы, колонны, И мнилось, некий чародей Сплел капители из ветвей И сделал каменными кроны Густых тополей и печальных ив, В недвижный фриз листву превратив. Витраж причудливо-цветной Был мягко освещен луной. Там со щитом, закован в латы, Среди пророков и святых Стоял с мечом архистратиг, Поправ гордыню супостата, И на каменный пол от цветного окна Кровавые пятна бросала луна.12
Вот сели они на одну из плит, Под которой владыка Шотландии спит, И спокойно монах Делорену сказал: «Не всегда был я тем, чем я нынче стал. Под Белым Крестом сражался и я В далекой знойной стране, А ныне и шлем и кольчуга твоя Лишь странными кажутся мне.13
В тех дальних краях привело меня что-то Под кровлю кудесника Майкла Скотта, Известного всем мудрецам: Когда в Саламанке, магистр чернокнижья, Он жезл поднимал — дрожали в Париже Все колокола Нотр-Дам. Его заклинаний великая сила Холм Элдонский натрое раскроила И Твида теченье остановила. Меня заклинаньям он научил. Но я опасаюсь кары господней За то, что о них еще и сегодня Я, грешник седой, не забыл.14
Но старый кудесник на смертном ложе О боге и совести вспомнил все же, Греховных своих ужаснулся дел И видеть немедля меня захотел. В Испании утром об этом узнал я, А вечером у изголовья стоял я. И страшный старик мне слова прохрипел, Которых бы я повторить не посмел: Священные стены их страшная сила Могла бы обрушить на эти могилы!15
Поклялся я страшную книгу зарыть, Чтоб смертный ее не посмел открыть. Лишь Брэнксома грозному господину Дано разрешенье в злую годину Книгу из вечного мрака достать И вечному мраку вернуть опять. В Михайлову ночь я ее схоронил. Светила луна, и колокол бил. На каменный пол сквозь стекла цветные Ложились, казалось, следы кровяные, И видели только ночь и луна, Как я предавал земле колдуна. Но знал я — сияющий крест Михаила Отгонит бесов от страшной могилы.18
Да, ночь была черна и страшна, Когда я земле предавал колдуна. Тревожные звуки во тьме возникали, Знамена качались и поникали…» Но тут внезапно монах замолчал. Тяжелый удар в ночи прозвучал — Час полночи… Дрогнули темные стены, И дрогнуло сердце у Делорена.17
«Ты видишь: крест пылает огнем На страшном камне его гробовом, И свет этот дивный имеет силу Всех духов тьмы отгонять от могилы. Никто не властен его погасить: До судного дня он будет светить». Монах над широкой плитой наклонился, Кровавый крест на камне светился, И воину схимник иссохшей рукой Дал знак, приблизясь к могиле той, Железным ломом, собрав все силы, Открыть тяжелую дверь могилы.18
И воин могучий легко и умело, С бьющимся сердцем взялся за дело. Работал он долго и тяжко дышла, И пот, как роса, на лбу выступал. Но вот, напрягая последние силы, Он сдвинул огромную дверь могилы. О, если бы кто-нибудь видеть мог, Как вырвался яркого света поток Под самые своды часовни вдруг И все озарил — вдали и вокруг! Но нет, не земное то было пламя, Сияло оно и за облаками, И рядом, во мраке ночном, Монаха лик освещало смиренный, Играя на панцире Делорена И шлем целуя на нем.19
Лежал перед ними колдун седой С кудрявой белою бородой. Любой, несомненно, сказать бы мог, Что только вчера он в могилу лег. Лежал он, широким плащом укрытый, С испанской перевязью расшитой, Как некий святой пилигрим. Чудесная книга в его деснице, А в шуйце крест Христов серебрится, Светильник был рядом с ним. На желтом челе, когда-то надменном, Внушавшем ужас врагам дерзновенным, Морщины разгладились — мнилось, он Познал благодать и душой смирён.20
Скача на коне по кровавым телам, Был смел Делорен, привыкший к боям. Ни страха, ни жалости в битве к врагам Делорену знать не случалось. Но ныне познал он и страх и смятенье, Холодный пот, головокруженье, И сердце его сжималось. В недвижном ужасе он стоял. Монах же молился и громко вздыхал, Но взор отводил он от страшной могилы — Казалось, взглянуть не имел он силы В безжизненный лик, ему некогда милый.21
Когда молитву монах прочитал, С тревогой он Делорену сказал: «Спеши и делай, что велено нам, Не то погибнем — я слышу сам: Незримые силы упрямо Слетаются к пасти отверстой ямы». И воин мертвые пальцы разжал И дивную книгу в ужасе взял. Застежки железные тяжкой книги Звенели, как кованые вериги, И воину мнилось, что в страшный миг Нахмурил брови мертвый старик.22
Когда спустилась плита над могилой, Нависла ночь. В темноте унылой Померкли звезды, исчезла луна, И еле дорога была видна. Монах и воин шли осторожно, Бессильно дрожа, спотыкаясь тревожно, И в шорохе ветра под мраком густым Ужасные звуки мерещились им. Под темными сводами древнего зданья Им слышались хохот, визг и стенанья, И был зловещ и странно дик Нечеловеческий этот крик. Казалось, духи тьмы веселятся, Видя, как смертные их страшатся. А впрочем, не видел я этого сам — Рассказы других я поведал вам.23
«Теперь иди, — старик сказал.— Грехом я душу запятнал, Который, быть может, лишь в смертный час Мария пречистая снимет с нас!» И в темную келью старик удалился, Всю ночь там каялся и молился. Когда же к обедне сошлись монахи, Они увидали в тревоге и страхе: Лежал пред распятьем, как будто приник С мольбою к кресту, бездыханный старик.24
Всей грудью Делорен вздохнул, Навстречу ветру плащом взмахнул, Когда аббатства серые стены Остались вдали за спиной Делорена. Но страшную книгу к груди он прижал И весь как осииовый лист дрожал. Ужасная тяжесть его томила, Суставы и мышцы ему сводила. Но вспыхнуло утро над свежестью нив, Холмы Чевиотские осветив, И воин очнулся, как после битвы, Шепча неумело святые молитвы.25
Лучи осветили и склоны холмов, Лучи осветили и горы, и долы, И башни замка, и травы лугов. И мир проснулся, зеленый, веселый, И птицы запели свой гимн живой, И краше алой розы влюбленной Раскрылся фиалки глазок голубой. Но, бледная после ночи бессонной, Красавица Маргарет встала с зарей, Нежней и прекрасней фиалки лесной.26
Зачем же так рано она поднялась, Оделась так осторожно? Корсажа шнурки завязать торопясь, Дрожат ее пальцы тревожно. Зачем, озираясь, она бежит По лестнице темноватой И грозного пса потрепать спешит По шее его косматой? Зачем часовой у ворот не трубит?27
Красавица утром спешит убежать, Чтоб шагов ее не услышала мать. Угрюмого пса она приласкала, Чтоб дворня лая его не слыхала. Затем часовой у ворот не трубит, Что предан он Маргарет и молчит. А Маргарет, утра не видя сиянья, К барону Генри спешит на свиданье.28
И вот сидят они вдвоем Под деревом на мху густом, И я скажу вам от души, Что оба очень хороши! Он — стройный, смелый, молодой, В боях прославленный герой; Она еще любовь таит, Еще алеет и молчит, И легкий вздох еще чуть-чуть Вздымает молодую грудь, Но очи синие блестят И тайну прятать не хотят. Пускай обыщут целый свет — Прекрасней Маргарет в мире нет!29
Прекрасные леди, я вижу вниманье И в ваших глазах и в вашем молчанье. Алея румянцем, головки склоня, Услышать мечтаете вы от меня Рассказ и чувствительный и чудесный О рыцаре смелом и деве прелестной: О том, как прекрасный рыцарь вздыхал В страданьях тоски сердечной, У ног ее умереть обещал И клялся в верности вечной; О том, как она продолжала молчать, Не смея заветное слово сказать, В безбрачии жизнь провести обещала, Кровавую распрю в слезах проклинала. Ведь Генри Крэнстон — лишь он один Маргарет рыцарь и господин!30
Увы, надежды ваши тщетны: Любовных песен дар заветный Утрачен арфою моей. Я сед, и сердце умирает Мне, старику, не подобает Петь о любви весенних дней.31
Под дубом паж барона странный — Угрюмый карлик-обезьяна — Держал поводья скакуна. О нем недаром говорили, Что близок он к нечистой силе И сам похож на колдуна. Однажды ехал на охоту Барон по топкому болоту, Вдруг слышит крик: «Пропал! Пропал!» Барон поводья придержал. И тут из темного затона Как мячик вылетел прыжком Уродец карлик, юркий гном, И к стремени прильнул барона. Лорд Генри Крэнстон был смущен, И тотчас вскачь пустился он, Но странный карлик, им спасенный, Помчался вперед скакуна быстрей И встретил барона у самых дверей.32
Уродец гном у барона остался. Особенно страшным уж он не казался. Он мало ел, был странно тих И сторонился слуг других. Он только изредка вздыхал И бормотал: «Пропал! Пропал!» Был он хитер, ленив и зол, Но верность в нем барон обрел И втайне знал этой верности цену: Не раз от смерти и страшного плена Был этим слугою хозяин спасен. В округе не зря толковали люди О карлике Крэнстона как о чуде.33
Однажды, всевышнего воле покорный, В часовню девы Марии Озерной Поехал барон молодой, Лорд Крэнстон. Во исполненье обета Он отбыл ночью в часовню эту И карлика взял с собой. А леди Брэнксом об этом узнала И лучшим рыцарям приказала Собраться у Ньюарк Ли. По зову явился и Джон Тирлистен, По зову явился и Делорен, И воины с ними пришли. Вдоль берега Йерроу их кони летели, Их копья сверкали, их лица горели. К часовне ночью они поспели — Часовня пуста, в часовне темно, Барон, помолившись, уехал давно. Сожгли часовню они с досады, Слугу-колдуна кляня без пощады.34
Итак, под дубом, весенним днем, Стоит слуга с хозяйским конем. Прядет ушами скакун барона, Прислушавшись к звукам еще отдаленным, И хилый карлик машет влюбленным: «Довольно вам клясться, довольно вздыхать! Опасность вам угрожает опять!» Прекрасная Маргарет к дому мчится Испуганной горлицей, белой птицей. А карлик держит барону стремя; Вот рыцарь в седле. Ну, мешкать не время! Он едет на запад сквозь лес густой, Любуясь зеленой его красотой.* * *
Вдруг голос старца ослабел. Он замолчал и побледнел. Тогда с улыбкой паж проворный, Взяв кубок с влагой животворной, Вина палящего бальзам Поднес к немеющим губам. И старец поднялся со стула, В глазах его слеза блеснула. «Благословляю, — молвил он, — И этот дом, где чтят закон, И всех, кто любит песен звон!» Украдкой девушки смотрели Смеясь на старца менестреля. Он выпил радостно до дна Бокал отличного вина, Его душа оживлена. Он ободрился, он проснулся И всем красоткам улыбнулся. И вот, набравшись новых сил, Охотно он заговорил.Песнь третья
1
«Но разве так близка могила, Но разве кровь моя остыла, И вдохновенья больше нет, И сердцем мертв уже поэт? Иль о любви не петь мне боле? Ужели я, забыв ту цель, К какой стремится менестрель, Отступником стал поневоле? Слова любви, как встарь, твержу, Но страсти в людях не бужу?2
Любовь — свирель в дни мирной жизни, Стрелок — коль враг грозит отчизне, В чертогах — гостья на пирах, В селе — плясунья на лугах. Любви повсюду славят имя, Она на небе со святыми И на земле с людьми земными».3
Пока лорд Крэнстон думал так, Как я сейчас, скакун свой шаг Направил в Брэнксомский овраг. Кто едет там? Движеньем быстрым Лорд шлем надвинул. В стороне По тропке, под холмом тенистым Спускался рыцарь на коне. От грязи пегим конь казался, Был весь в поту и спотыкался. Усталостью захвачен в плен, Забрызган кровью, утомленный, Им правил путник полусонный. То был сэр Уильям Делорен.4
Заметил он еще со склона Герб — журавля — в щите барона И приготовленное в бой Копье в руке врага стальной. Но слов при встрече было мало. Был груб вопрос и горд ответ. И слово каждое дышало Враждой и злобой давних лет. Лицом к лицу враги стояли. Казалось, даже кони знали, Что встреча на поле глухом Уже не кончится добром.5
По кругу мчась, барон склонился, Вздохнув, молитву прочитал: Патрону своему молился И вздох свой к даме обращал. Но Делорен, боец упрямый, Не призывал святых и дамы. Он, взяв копье наперевес, Помчался рысью через лес, И было рыцарей сближенье — Как гром, как гул землетрясенья.6
Удар был крепко нанесен. В седле откинулся барон, И перья шлема раскидало По ветру в брызгах крови алой, Копье же, выпав из руки, Вмиг разлетелось на куски. Но пика Крэнстона стальная, Как шелк, доспехи разрывая, Легко сквозь щит врага прошла, В груди сломавшись, как игла. Не пал бы Делорен с седла, Но сразу лопнула подпруга, И рухнул конь на зелень луга. А рядом всадник, ранен в грудь; Барон же, продолжая путь, И сам ударом оглушенный, Не знал, убит ли враг сраженный.7
Но, повернув коня, барон Увидел: тот, кто был сражен, Чуть дышит, весь залитый кровью. Пускай слуга, что так смышлен, К его склоняясь изголовью, Грудь перевяжет, кровь сотрет И в Брэнксом рыцаря свезет: Родня он деве той прекрасной, Что Крэнстоном любима страстно. «Ты должен в замок поспешить. А мне нельзя здесь дольше быть. Я слышу смерти приближенье, Мне дорого души спасенье».8
Лорд Крэнстон скачет по холмам. А карлик был оставлен там, Чтобы исполнить приказанье. Но зло творить — его призванье. Он латы снял, и, поражен, Под ними книгу видит он. Кто ж это — рыцарь, пилигрим Или священник перед ним? И не спешит он кровь унять, А хочет тайну разгадать.9
Железные застежки были Преградой для его усилий. Две отомкнет — и вот опять Он должен с первой начинать, А с нею, плотно укрепленной, Руке не сладить некрещеной. Застежку карлик кровью трет, Смочил и весь он переплет. Раскрылась книга волхвований На первом же из заклинаний. Уродец принялся читать, Как дезе вид мужской придать, Как из тюремной паутины Соткать шпалеры для гостиной, Скорлупку сделать кораблем, Лачугу пастуха — дворцом, Тому, кто стар, дать юность снова — И всё ценой заклятья злого.10
Но не прочел страницы он, Как был ударом оглушен, Пал, обессилев, на колена И рухнул возле Делорена. Поднялся он с земли сырой, Качнул лохматой головой И взвизгнул злобно и надсадно: «Ты, хоть и стар, силен изрядно!» Но не посмел уже опять Ту книгу дерзко в руки взять: Кровь христианская скрепила Листы плотней, чем раньше было. Все ж книгу скрыл он под плащом. Теперь вы спросите о том, Кто сей удар нанес? Да тот, Кто, словно дух, средь нас живет.11
С досадой карлик исполнял То, что хозяин приказал. Но все ж израненное тело На лошадь положил умело И к Брэнксому его везет, Минуя стражу у ворот. Потом все люди неизменно Клялись — он ехал с возом сена. И вот у башни карлик злой, Где леди тайный был покой. Он мог бы, действуя умело, Так, чтоб и дверь не заскрипела, Снести на ложе к леди тело, Но, занимаясь колдовством, Жесток уродец был притом — Он ношу так швырнул со зла, Что кровь из раны потекла.12
Переходя наружный двор, Он на ребенка бросил взор. Был мальчик увлечен игрой, И порешил тут карлик злой В лес заманить его с собой А мальчик думал: это друг Ведет гулять его на луг. И стража видела — идет Терьер с ищейкой из ворот.13
Они по берегу крутому Уже пришли к ручью лесному. Тут горы кончились. Опять Смог карлик прежний вид принять. Когда б в его то было власти, Дитя б он разорвал на части Иль в бешенстве, что было сил, Его бы тут же придушил. Но мать ребенка… Всех страшней Она на свете матерей. На жертву бросив злобный взгляд, Он в лес пустился наугад, Прыжком ручьи пересекая, «Пропал! Пропал! Пропал!» — взывля.14
При этих странных чудесах Почувствовал ребенок страх. Смущен нежданным превращеньем И злобным карлика волненьем, Он в дикой чаще одинок, Стоял, как лилии цветок. Когда ж, оправясь понемногу, Искать стал к Брэнксому дорогу, Ему казалось — страшный вид! — Колдун из-за кустов глядит Он шел, от ужаса дрожащий, В лесные углубляясь чащи, И чем упорней путь искал, Тем безнадежнее плутал, Пока в горах, в вечернем мраке, Не услыхал он лай собаки.15
Все ближе, ближе лай глухой, И вот тропинкою лесной Летит ищейка черной масти С оскаленною страшной пастью, С кровавой пеной на губах; Остановясь, глядит и снова На жертву ринуться готова. Но мальчик, вставший на пути, В восторг вас мог бы привести: В нем кровь отцов заговорила, Лицо отвага озарила. Когда к нему подпрыгнул пес, Над ним он крепкий прут занес И так взмахнул в негодованье, Что пес отпрянул прочь с ворчаньем, Готовясь к новому прыжку. Тут выскочил стрелок из чащи, Давно уже за псом следящий, И лук тугой согнул в дугу. «Стой, Эдуард! — кто-то крикнул вдруг. — То мальчик! Опусти свой лук!»16
Тот, кто все это говорил, Товарища остановил, Пред ним умолк и пес-задира. То добрый, честный йомен был, Рожденный в рощах Ланкашира. Давно прославленный стрелок, В лесу хозяином бродящий, Лань за пятьсот шагов он мог Сразить стрелой своей звенящей. Покрыт загаром, он окрест Излазал все трущобы эти, И Англии старинный крест Был вышит на его берете. Носил на поясе стрелок В чехле из волчьей шкуры рог И нож, которым он оленя Приканчивал в одно мгновенье.17
В зеленой куртке до колен Охотник смелый и умелый. У пояса — мечу взамен — Висят отточенные стрелы. Был узок щит его и мал, Но с ним ходил он без тревоги: Ведь он мужчиной не считал Того, кто целит только в ноги. И, с луком спущенным в руке, Держал он пса на поводке»18
Хоть жаль ему ребенка было, Его держал он что есть силы, Ему плечо рукою сжав, Чтоб тот, крест алый увидав, Не убежал бы прочь стремглав. «Святой Георгий! Кто в силок Попался к нам! — вскричал стрелок. — Не из простого он народа, Видна в нем рыцарей порода».19
«Да, сам Баклю — родитель мой, Его наследник я единый. Пусти! Иль кары жди за свой Поступок дерзкий и бесчинный. На помощь Уолтер поспешит, И Делорен за все отмстит, Восстанет край, где льется Твид. Прочь руки! Не сжимай свой лук — Он не спасет, коль вздернуть, друг, Я прикажу тебя на сук».20
«Благодарю, малыш! Ты был Со мною так учтив и мил. Когда, мой добрый мальчуган, Ты, как отец, возглавишь клан, Моим стрелкам перед тобой Придется, видимо, смириться, Заставишь ты мой лук простой Служить тебе здесь, на границе. Ну, а пока иди вперед: Ты лорду Дакру дашь отчет. Охота наша недурна — Тебя нам в плен дала она».21
Так был ребенок уведен. Но всем казалось — в замке он: То карлик, злобой вдохновлен И мальчика принявший вид, Немало всем чинил обид. С ним уж не счесть теперь хлопот: Товарищей он щиплет, бьет И как злодей себя ведет: Одной из дам чепец порвал; Сим Холл, что у костра стоял, Чуть жив — пострел на нем поджег С пороховым запасом рог; Злых шалостей не перечтешь. Стал на себя он непохож. Но как же быть? Что делать с ним? Решили — мальчик одержим.22
Конечно, леди бы могла С него легко снять чары зла, Но ей не до того уж было: Она за раненым ходила С тех пор, как здесь нашла его В крови, у входа своего. Она, конечно, догадалась, Что колдовство тут замешалось: Вдруг он, забыв запрет и честь, Все ж книгу захотел прочесть? Нет, что-то тут стряслось иное: Ведь ранен сталью он земною.23
Она обломок извлекла, Сдержала крови ток багряный И, прежде чем к себе ушла, Перевязать велела раны. Обломок же, забрав с собой, Скоблила, терла со стараньем, А Делорен, хоть без сознанья, Лежал, объятый темнотой, И корчился от боли злой — Как будто не обломок стали, А самого его терзали. Но леди голосом суровым Сказала: «Будет он здоровым», И повелела, чтобы он Заботами был окружен.24
Пал вечер. В колокол звонили, Чтоб в замке все огни тушили. Река дремала. Ветерок, Летя с полей, касался щек. Вверху, на башне угловой, Вдыхал прохладу часовой. И Маргарет благословляла Покой, которым грудь дышала. В мечтания погружена, Касалась лютни струн она, Летя в ночи душой своей К беседке в зелени ветвей. На плечи косы упадали, Глаза на западе искали Звезду, чей золотистый свет Всегда влюбленным шлет привет.25
Плывет звезда над Пенкрист-Пеном В своем движенье неизменном И чертит в небе яркий след, Как косы, разметав свой свет. Пылает ярко отсвет дальний. То не звезда — огонь сигнальный. И страхом Маргарет полна: Недобрый это знак — война!26
Глядит и страж: война, тревога! Раздался с башни голос рога, И на гортанный этот звук Откликнулись леса и луг. Его призыв в просторной зале Все люди клана услыхали. Кидая ярко пламя ввысь, Десятки факелов зажглись. В их отсвете на шлемах стражи Струились перья и плюмажи И, как тростник у вод ручья, Качались копий острия.27
Седые кудри сенешала Во тьме отсвечивают ало. Он приказанье отдает При свете факелов: «Вперед! Костер на Пенкристе в разгаре, Три зажжены на Пристхосуайре. Всё осмотреть кругом! Следите за врагом! Клан Джонстонов предупредить — Пусть явятся нам пособить. Скакать туда во весь опор! Другие, увидав костер, И сами спустятся к нам с гор. Скачи, посланец, шпоры дай, Всех по пути оповещай, А мы костры должны зажечь, Чтоб весь наш клан взялся за меч!»28
И слышит Маргарет: ржут кони, Звенят кольчуги, латы, брони В сверканье копий и мечей. Готовы к смелой обороне, Садятся люди на коней. Крик, шум, заливистое ржанье, Копыт удары, приказанья: «Друзья, в поход!» «Вперед! Вперед!» Галопа топот, хриплый рог. Ворота настежь. Битве рады, На запад, север, юг, восток Поспешно ринулись отряды, Чтоб сблизиться с врагом скорей И встретить на пути друзей.29
Паж торопливыми руками Развел костер, и взвилось пламя, И стало красным в тот же миг Все небо над твердыней башен. Как знамя, взвился, дик и страшен, Пурпурный пламени язык. За ним с холмов другие встали, Цепочкой убегая в дали. Передавая весть войны Среди зловещей тишины, Они горят в округе горной, Как звезды в небе ночью черной, Горят над чашами озер, В краю орлов на высях гор, Где прах вождей укрыт камнями И мирно спит над облаками. Известье в Данидин дошло Из Солтри и Дампендер-Ло. С призывом к Лотиану мчится Гонец — в опасности граница!30
Весь Брэнксом в эту ночь не спал, Наполнен грохотом и звоном, И колокол не умолкал В тревоге, в гуле исступленном. Металла лязг стоял кругом, Железо, камни, разный лом Сносили в башни — может статься, Для обороны пригодятся. Сменялся часто караул, Звучал пароль, и, слыша гул, И шум, и звон в полночном мраке, Рвались и лаяли собаки.31
Сам расторопный сенешал С трудом за леди поспевал. «Она улыбкою привета Всех ободряла, для совета Собрала старцев. Долго ей Никто не приносил вестей О том, где враг. Шли толки, споры, Как быть? Начать переговоры? «Их десять тысяч». — «Нет, отряд Ничтожный к нам подкрался логом, Для нас опасен он навряд И Лиддсдейлом, как говорят, Уже рассеян по дорогам». Шла ночь в тревоге, без огня, И не дождаться было дня.* * *
Умолкли струны менестреля. Довольны все. И в самом деле, Не дряхл и не бессилен он, Хотя всего судьбой лишен. Нет дочки, друга с ним в изгнанье, Чтоб облегчить ему страданье, Нет сына, кто бы и в скитанье Делил с ним беды до конца И был поддержкою отца… А жил когда-то он с семьею! Приникнув к арфе головою, Он струн коснулся вновь слегка. Душили слезы старика, Но, вторя голосу печали, Привычно струны зазвучали.Песнь четвертая
1
О, Тивиот, как светел ты, Как берега твои тенисты! Не блещут копья и щиты, Призывно не трубят горнисты. Одни лишь ивы над тобой Шумят листвою голубой… Как будто испокон веков Несешь ты медленные воды В широкий Твид — под гимн природы И песни мирных пастухов.2
Увы, не так от смены лет Теченье жизни убывает: Проступков, дум, печалей след Его темнит и замедляет; От слез и горя многих дней Оно становится мутней. Все тише жизнь моя течет, Но снова, снова предо мною Мой сын единственный встает — Я вижу юношу-героя.. Сверкает сталь… Свистит свинец… Он пал, бесстрашный удалец, И плачет горестный отец. Но сын мой пал на поле чести, Он пал с прославленными вместе.3
И вот по долам и холмам Расползся страх, как призрак серый. Крестьяне бросили дома, Ушли в болота и пещеры. В леса уведены стада, Мычат в тоске. Беда! Беда! Грустят невесты, плачут жены, Но стоек ратник непреклонный, А с башен Брэнксома видны Вдали предвестники войны: Восходят к солнцу клубы дыма — Враги идут неумолимо.4
Уже дозорные кричат: «Вставайте все: разбой идет, Уот Тинлинн доблестных солдат Уводит, отступая, вброд! Не раз тайндейлские стрелки Пытались пробовать замки Его жилища, но напрасно: Всем имя Тинлинна ужасно. Но мощный ливень вражьих стрел Прогнать и Тинлинна сумел. Не зря ушел тропой лесною, Покинув логово родное, Всегда угрюмый атаман: Грозят нам силы англичан».5
Меж тем, поводьями звеня И под уздцы ведя коня, К воротам, мрачен и спокоен, Приблизился угрюмый воин. Конь был мохнат и ростом мал, Но все в лесу болота знал. На том коне жена сидела С детьми — румяна и дебела, А рядом шел полунагой Слуга с котомкой и клюкой. Жена, нарядна, черноброва, Все хохотала бестолково, А он был статен и высок, Но молчалив и взором строг. Носил он шлем, в боях пробитый, И кожаный кафтан подшитый; Алели кровью по краям Его послушливые стрелы, И длань без промаха умела Те стрелы посылать врагам.6
Уот Тинлинн — строг и деловит. Он прямо леди говорит: «Идет на нас Уил Хоуард Гордый, Лорд Дакр и все вассалы лорда. Идут немецкие стрелки — Наемных воинов полки. Сожгли они мой замок древний, Сожгут и замки и деревни. Да примет черт их души в ад! Шотландцев англы не щадят. Я убежал порой ночною. Джон Эйкшоу, Фергюс Грэм за мною Гнались, я знаю, по пятам: Их злобный крик я слышал сам. Но я свернул от них в болото, И тут-то свел я с ними счеты, За все им отплатил с лихвой: И за грабеж и за разбой. Лежит в болоте Фергюс злой!»7
Ужасны слухи: враг идет. Английских воинов не счесть — Пожалуй, сотен до трехсот, А может быть, и больше есть. Но горцы смелые не дремлют, Они призыву битвы внемлют — Из всех лесов, из всех болот, По кочкам, топям и оврагам Их сила дружная идет Упрямым, твердым, бодрым шагом.8
От светлых голубых озер, От диких, сумрачных высот Бесстрашный Тирлстен с дальних гор Отряды смелые ведет. Гирляндой лилий драгоценной Украсил он свой герб надменный. Судя героя по делам, Его король отметил сам Своим высоким предпочтеньем. Смелее всех баронов он — Не мог бы ни один барон Вступить с южанами в сраженье. И на гербе его блестит Ряд копий золотой стеною, И ввысь девиз его летит: «Готовы все! Готовы к бою».9
Вот ветеран седой ведет Толпу разбойников с мечами. Оруженосец щит несет — На нем лазурный небосвод И полумесяц со звездами. Известен он уж много лет, Границ его владеньям нет И высоко над речкой горной, Обвит лесов каймою черной, Его угрюмый замок встал, Грозя долинам с кручи скал. Не раз, пылающий отвагой, Он с буйною своей ватагой Громил и грабил, кровью пьян, Неосторожных англичан. Не замечал он дев прекрасных, В набегах и в боях опасных Провел он жизнь, и бремя лет Его не укротило, нет. Его кудрявые седины Белы, как снежные вершины. И пять отважных сыновей Приветствуют отца-героя. Кто рода Харденов смелей? Чей меч острей на поле боя?10
Шотландцам Эскдейла Бее нипочем. Себе они добыли землю мечом… Доселе в народе легенды живы, Как был отвоеван Эскдейл счастливый. Владел им когда-то граф Мортон — он Был кротостью нрава почти смешон. Зато вассалы его Биттисоны Воинственны были, неугомонны, В словах невоздержанны, горячи. Легко обнажали они мечи. К смиренному графу такие вассалы Питали почтения очень мало. Но вот однажды припомнил граф, Что в силу своих сеньеральных прав, Он может взять с вассала любого Законную дань — скакуна лихого. Он Гилберту молвил: «Потешь меня! Отдай мне, барон, твоего коня!» Но Гилберт графу ответил смело: «Нет, слишком мне дорог скакун мой белый! Вы, может, и лорд мой, но, прямо скажу, Я лучше, чем вы, на коне сижу!» И слово за слово вспыхнула ссора. Мечи Биттисонов блеснули скоро, И если бы граф в эту ночь не бежал, В кровавой грязи он давно бы лежал. Он шпорил коня, он мчался упорно По тропам лесным, по болотам черным. До Брэнксома конь его доскакал И тяжкою темною тушей пал.11
Ужасен в гневе был робкий граф. Он, к лорду Брэнксому прискакав, Лишь мести жаждал, твердил задыхаясь: «От Эскдейла я навсегда отрекаюсь! За пять соколов и за горсть золотых Тебе я продам изменников злых. Возьми и казни и не милуй их. Но горе тебе, если Биттисонам Оставишь ты земли в краю разоренном. С одним лишь Вудкерриком будь не строг — Он дал мне коня и бежать помог». Лорд Брэнксом был воин веселый и смелый — За горсть золотых они сладили дело. Пять сотен всадников взяв с собой, В Эскдейл поспешил хозяин лихой. Оставил он воинов у дороги, Велел ожидать сигнала тревоги, А сам в долину направился он, Где хвастал победою Гилберт-барон. Сказал он Гилберту: «Погляди-ка, Отныне сеньер твой и твой владыка Не Мортон, убогий калека, а я. Я строг, и рука тяжела моя. Отдай мне коня без всякого спора, Иначе раскаешься очень скоро: Коль трижды сейчас протрубит мой рог, Запомнишь ты звук этот, видит бог!..»12
В ответ засмеялся барон спесивый: «Нам рог твой не страшен, хоть он и красивый. Не быть тому, чтобы Биттисон Шотландца надменного чтил закон. Коня уступить тебе не могу я. Иди-ка в свой Брэнксом пешком, не горюя, Смотри не запачкай свои сапоги И шпоры от ржавчины береги!» Рог Брэнксома долгим хриплым ревом Встревожил оленей в лесу сосновом; Второй его зов был как с неба гром, И копья блеснули в лесу густом; А третий, протяжно гудя и воя, Долины соседние беспокоя, Всех воинов Брэнксома поднял к бою. Ужасная это схватка была — Ломались мечи, щиты и тела. За каждое дерзкое слово барона Убит был один из родни Биттисона. Лорд Брэнксом на Гилберта бросился сам, Колол, и рубил, и рассек пополам. Ручей, помутневший от крови барона, Доселе зовется ручьем Биттисона. Веськлан был разгромлен, весь край опустел, Один только Вудкеррик уцелел. Ту битву запомнила вся долина, И белый скакун этих бед причина.13
Идут бесстрашные, идут — Мне всех имен уже не счесть. И Хиндхосуайра люди тут, И с Иерроу-Клю солдаты есть. И к Белендену мчат герои, Сердца шотландцев жаждут боя, И леди Брэнксом видит их, Отважных рыцарей своих, И мыслит в гордом нетерпенье: «Пришла пора, чтоб юный сын Друзей отца, вождей дружин, У видел в пламенном сраженье. Он мальчик, но смышлен и смел. Недавно он стрелой могучей Ударить ворона сумел, В гнезде сидевшего над кручей. Кресты английских ярких лат Побольше ворона стократ. — Тебе, Уитслейд, я доверяю И сына своего вручаю».14
Но карлик-оборотень вдруг Изобразил в лице испуг И стал кричать, визжа и воя, Что слаб он, что страшится боя, Уитслейд к хозяйке поспешил. «Как быть? Мы голову теряем! Здесь, видно, чары темных сил: Наш юный лорд неузнаваем!» Самолюбива и горда, В порыве гнева и стыда, Вскричала леди негодуя: " Такого срама не стерплю я! Ты, Тинлинн, увези его Тотчас из замка моего! Заморыш! Выродок постылый! Да, это козни темной силы: Проклятья тень на нас легла: Я сына-труса родила!»15
И вот пустился Тинлинн в путь С мальчишкой-оборотнем. Чуть Вступил он на тропу лесную, Как конь, недоброе почуя, Встал на дыбы храпя, заржал, Заскреб копытом, задрожал, Пошел несмело, упираясь. Когда же, робко, спотыкаясь, Ручей он вброд пересекал, Мальчишка вдруг с гримасой странной Помчался в лес, как окаянный, Визжа: «Пропал! Пропал! Пропал!» Бежал он, издавая вой, Но все ж настигнут был стрелой. Хоть рана не была опасной, Но испустил он крик ужасный И вдруг исчез во мгле неясной; А Тинлинн, робостью объят, Тотчас же поскакал назад.16
С холма увидел Тинлинн скоро За черною каймою бора Угрюмый Брэнксом. Дальний звон, И лязг, и шум услышал он — То с юга вражеская сила Все ближе к замку подходила. Уже звучал из тьмы лесов И голос труб и зык рогов, Коней нетерпеливых ржанье, И лат тяжелое бряцанье, И заглушаемый трубой Угрюмый барабанный бой. И вдруг увидел он знамена И ярко-алые кресты И, сквозь узор листвы зеленой, — Кольчуги, копья и щиты.17
Гордясь конями боевыми, Несутся всадники; за ними Отважны, ловки и легки В кафтанах и плащах зеленых Спешат кендалские стрелки С лесных тропинок потаенных. За ними алебарды в ряд — Лорд Дакр ведет своих солдат, Дородных воинов и смелых, С крестами на рубахах белых. И перед ними ветр развил Тот стяг, что встарь над Аккрой взмыл, И менестрели возглашают: «Лорд Дакр границу охраняет!»18
А дальше — люди Вольфенштейна, Сыны прославленного Рейна, Толпою движутся большой, Они всегда готовы к бою, Их кровь за золото чужое Отчизне продана чужой. Бивак — их дом, а меч — их право. Им нипочем отчизны слава, У них одна лишь гордость есть — Мушкет и воинская честь! Они на англов непохожи. Кафтаны буйволовой кожи Расшиты ярко и пестро, На поясах их серебро, У поясов пороховницы, И — вот чему народ дивится — Колено правое одно У них всегда обнажено: Мол, этак легче при осадах Бывает им на эскаладах. Они уверенно идут И грубым голосом тевтонов Про распри сумрачных баронов Баллады древние поют.19
Но громче клики зашумели, Запели громче менестрели: В блистанье копий и мечей Лорд Хоуард с конницей своей Явился из зеленой чащи — Залог победы предстоящей! Немало было среди них Героев дерзких, молодых; Блистая пестрыми щитами, Перчатку — знак служенья даме — Они несли в грядущий бой, Гордясь любовью и собой. Став на опушке ровным строем, Они вскричали перед боем: «Святой Георгий нас хранит! Веселая Англия победит!»20
Но англичан надменных взоры На Брэнксом обратились скоро: Так близко замок был от них. На башенках сторожевых Они могли без напряженья Расслышать тетивы гуденье, Звон топоров и длинных пик, И разговор, и смех, и крик. Из каждой башни кулеврины Смотрели грозно на долины; Сверкало пламя, черный дым Свивался облаком над ним; Кипел свинец, смола бурлила, Как будто зелье злая сила В котле зловонном заварила. Вдруг опустился мост. В стене Открылся ход, и в глубине Явился рыцарь на коне.21
Вооруженный, как для боя, Но с непокрытой головою Он ехал, строгий и седой, С широкой белой бородой. Еще не сломленный годами, Легко он правил поводами, А конь его то гарцевал, То гордо на дыбы вставал. В руке держал старик красивый Знак перемирья — ветку ивы. Оруженосец нес копье, Перчатку вздев на острие. Узнав, кто рыцарь этот гордый, Навстречу поскакали лорды — И Дакр и Хоуард… Поглядим, Что старый рыцарь скажет им?22
«О, лорды Англии! Ревнуя О мире, с вами говорю я. Хозяйка Брэнксома от вас Ответа требует сейчас: Зачем с враждебной целью снова, Нарушив рыцарское слово, Пришли вы, дружбе вопреки? Зачем кендэлские стрелки? Зачем наемников полки? Миледи вам сказать велела Идите прочь, в свои пределы! Но предостерегаю вас: Коль в замке Брэнксома сейчас Хоть хворостинку вы сожжете, Хоть ласточку с гнезда спугнете, Мы тоже факелы возьмем, И в Камберленде каждый дом Попомнит о набеге том!»23
Лорд Дакр or гнева запылал, Но Хоуард сдержанно сказал: «Мы просим, рыцарь, чтобы леди Участье приняла в беседе: Расскажем мы одной лишь ей Причину дерзости своей!» Гонца послали с порученьем. Все ожидали с нетерпеньем, И леди Брэнксом вышла к ним, Гостям непрошеным своим. А лорда Хоуарда глашатай В одежде пышной и богатой Со львом расшитым на груди Вдруг оказался впереди. С ним мальчик стройный и красивый, Что видит гордой леди взор? Ведь это он — ее позор, Наследник Брэнксома строптивый! Глашатай отдал всем поклон, И вот что леди молвил он:24
«Миледи! Каждый понимает, Что рыцарю не подобает С мечом на женщину идти, Войну со слабыми вести. Но не потерпит лорд мой славный, Чтоб родич твой самоуправный, Презрев законы и межи, Чинил повсюду грабежи. А поощрять разбой вассала Тебе, миледи, не пристало. Пускай же рыцарь Делорен Убежище высоких стен По собственной покинет воле И примет бой в открытом поле. Масгрейва замок им сожжен, Убил Масгрейва брата он. На Стэплтоун под воскресенье Учинено им нападенье. Ты, леди, слабая вдова. С толпой же буйной не слова, А только сила совладает, И вот что лорд мой предлагает: Пускай мечи его солдат Тебя от слуг твоих хранят. Помедли отвечать отказом. Все силы мы обрушим разом На замок твой, и будет он Разрушен, взорван и сожжен, А сын твой, смелый и пригожий, В плену остепенится тоже И станет, твой позор деля, Слугой Эдуарда короля!»25
Вдруг мальчик закричал, забился, Как будто гибели страшился, Стал к небу руки поднимать, О чем-то умоляя мать, И леди Брэнксом взор надменный Слезой скупой и сокровенной Блеснул на миг. Но все кругом Стояли с пасмурным челом, И, подавив в груди рыданье, Просить не смея состраданья, Душой и разумом сильна, Бесстрашно молвила она:26
«Твой лорд отважен, но, признаться, С детьми и с женщинами драться Не подобает и ему. Ответь же лорду своему, Что Делорен сейчас открыто Все скажет нам в свою защиту, Иначе пусть с Масгрейвом он Сразится, как велит закон. Масгрейв ваш благородством славен, Но Делорен Масгрейву равен: Ведь Дугласом великим он Был саном рыцаря почтен В разгаре яростного боя, Где англов кровь лилась рекою. Лорд Дакр, надменный ваш герой, Наверно помнит этот бой — Тогда лишь конь его лихой Умчал его от смерти злой… Я объявляю вам открыто: Бог наша сила и защита! Друзей своих я берегу И охраняю, а врагу Я покориться не могу. Пускай же лорды ваши знают, Как леди Брэнксом отвечает: Мой замок окружает ров, Для ваших трупов он готов».27
Взор Тирлстена блеснул сурово — Он понял пламенное слово. И Харден взял трубу свою. Взвились знамена боевые. «За нас пречистая Мария! Вперед — за славный род Баклю!» И англов копья заблистали; Стрелки кендэлские привстали. Но рог призывный не запел, Не полетела стая стрел — Гонца южане увидали.28
«Измена, лорды! — молвил он. — Окружены со всех сторон, Вы беззащитны! Нет спасенья! Враги готовят пораженье! В ловушке лев, и рык его Им слышать радостней всего. Сам Дуглас, их герой надменный, Уже созвал совет военный. Немало у него солдат, И копья их за рядом ряд В степи колосьями блестят. И, путь отрезав к отступленыо, Ведет лорд Максуэл ополченье. На бархате его знамен Орел с крестом изображен. В долинах Эска, Тивиота Повсюду шум и звон. Готова Анпоса пехота, Лорд Хьюм вооружен. Я не забыл страну родную, Пусть изгнан я, но верен ей, И от врагов не потерплю я Обиды Англии моей. О кознях вражеских узнал я, Всю ночь без отдыха скакал я, Чтоб крикнуть: вам грозит беда — Войска врагов спешат сюда!»29
Лорд Дакр, отвагой пламенея, Воскликнул: «Пусть идут скорее! Видали герб моих знамен И Галилея и Сион. Знамена эти к бою рвутся, Они над Брэнксомом взовьются И над врагами посмеются! Вперед, за Англию мою! Встречайте недруга в бою, Все аркебузы, копья, стрелы, Все алебарды — сразу в дело! Девиз мой знает весь народ: «Победа или смерть — вперед!»30
Лорд Хоуард отвечал на это: «Поверьте, что мои советы Не страх диктует и не гнев. Не знает страха Белый Лев! Но на прямое пораженье Цвет воинства вести в сраженье, Когда сильнее втрое враг, — Ненужный и безумный шаг. Но есть окольный путь к победе: Принять условие миледи. Пусть Масгрейв наш и Делорен Сразятся здесь, у этих стен. Вернется Масгрейв с поля боя — Мы будем чествовать героя, А не вернется — только он Один и будет побежден. И мы покинем эти горы Без пораженья и позора».31
Совет умен и верен был, Но лорда Дакра оскорбил. Высокомерно промолчал он, Ни слова другу не сказал он, Но больше никогда потом Никто не видел их вдвоем. Так злоба порождает ссоры, А ссоры — кровные раздоры.32
Глашатай у ворот опять. Его труба протяжным ревом Упрямо начала взывать К шотландским воинам суровым: «Лорд Масгрейв вам перчатку шлет. На поединок он зовет Сегодня сэра Делорена. Пускай увидят эти стены Их честный бой, открытый бой. Решится все само собой: Победа Масгрейва сочтется Победой Англии — тогда Сын леди Брэнксом остается В плену английском навсегда. Зато победа Делорена Освободит его из плена. Но что бы ни было — затем Без всяких споров англичане, Как безоружные крестьяне, Уйдут от Брэнксома совсем».33
Вожди шотландские решили, Хотя сильны и смелы были, Что уговор такой хорош. На помощь Севера едва ли Они серьезно уповали: Не скоро с Севера придешь. Лишь леди Брэнксом возразила, Что помощь, несомненно, шла, Но то, что ей известно было Из прорицаний темной силы, Она поведать не могла. Для поединка все готово. Его условия суровы, Но точно все обсуждены: У замка, посреди поляны, Сойтись противники должны Чуть встанет солнце, утром рано, И, спешившись, решить свой спор, Лишь нож имея да топор. Дается право Делорену Любого выставить в замену, Кто с храбрым Масгрейвом в бою За честь сеньера и свою Спасет высокий род Баклю.34
Не раз я слыхивал, как пели В своих балладах менестрели О том, как рыцари умели Разить на всем скаку; И если копья их ломались, За верный меч они хватались, И кони взмыленные мчались, Покорны седоку. Но мне, юнцу, учитель старый Про поединок этот ярый Рассказывал не раз. Он, долгой жизнью умудренный, Всех поединков знал законы Гораздо лучше нас. За точность своего рассказа, Как воин, в бой вступал он сразу, В сердцах бывал он зол: Убит им бард неосторожный, Который шуткою ничтожной На грех его навел. Я помню: кровью обагренный, Стоял он, гордый, непреклонный, Весь месть и торжество. Я помню шум ветвей унылый И белый камень над могилой Обидчика его!35
Мне ль петь о том, как раньше срока Наставник пал по воле рока, Как плакали мы все потом, Как девы, глаз не осушая И руки в горести ломая, Печалились о нем? Давным-давно уж это было. Его друзья сошли в могилу, Один лишь я томлюсь уныло Воспоминаньем прошлых лет, Скорбя о том, что больше нет Турниров, рыцарей, побед… Забыто менестрелей пенье, И я хочу отдохновенья…* * *
Умолк старик, предавшись думам, Но одобренья льстивым шумом Смущен, а может быть, польщен, Невольно ободрился он. Хозяйка вежливо и мило Певца седого похвалила За то, что в памяти своей Хранит он были прежних дней Про достославные деянья, Раздоры, битвы, состязанья, Про чащи вековых лесов, Про замки знатных гордецов, Так долго спавших в тьме могилы, Что их дела молва забыла, Венчая древней славой их Чело любимцев молодых. Но старого поэта пенье Их извлекает из забвенья! И улыбнулся бард седой, Польщенный этой похвалой. Любезна похвала поэтам, И знают все льстецы об этом: Певец за шепот льстивых слов Весь день вас веселить готов. Нередко песнопенья пламя Слабеет медленно с годами, Но это пламя вихрь похвал Не раз мгновенно оживлял. И озаряло, как сиянье, Мечты высокое пыланье Веков далеких очертанья… «Да, я уж это замечал»,— Старик с улыбкой отвечал И продолжал повествованье.Песнь пятая
1
Не ради славы, вовсе нет, Чтут вещих бардов вдохновенье. Весь мир, когда умрет поэт, Бывает погружен в смятенье. Пещеры, скалы слезы льют Под гнетом горестных минут, Все горы плачут ручейками, Цветы горят росы слезами, Средь рощ вздыхают ветерки, Дуб вторит стонами тоски, А реки, горькой грусти полны, К могиле барда катят волны.2
И вся природа в скорби бурной Рыдает над печальной урной, Потоки, лес и ветерок Шлют смерти жалобный упрек. И слышится в упреке этом Грусть тех, кто был воспет поэтом: Ведь с ним, чья порвана струна, Вторая смерть им суждена. Вот призрак девы, провожая Любовь, что скрылась, улетая, Роняет слезы над холмом, Где менестрель спит вечным сном. А вот над давним полем брани Усопший рыцарь длит стенанье, И далеко разнесено Ветрами буйными оно. Вот вождь, воитель горделивым, Чье имя в древних песнях живо, Взирает с горной вышины На лес и луг своей страны. Он обречен в могиле тесной Отныне истлевать безвестно. Лишь вздохи грудь его теснят Да слезы ярости кипят. Так все, чья слава не воспета, Взывают к памяти поэта.3
Едва врагов остановили И перемирье протрубили, Дозорные издалека Опять увидели войска. Клубилась пыль на горном склоне, Копытами стучали кони И, отблеск молнии струя, Мелькали копий острия. То кланы дружеской земли На помощь Брэнксому пришли.4
И каждый клан имел свой знак. С Мидл-Марча склонов, к ряду ряд, С кровавым сердцем гордый флаг Нес грозный Дугласа отряд. Вослед ему другой возник — Держали четкий строй «Семь пик» Под властный крик и стук копыт. И Суинтон, весь в металл одет, Вздымал копье, которым сбит Был встарь с седла Плантагеиет. Сынов своих послали с гор Богатый Мерс, и Ламмермор, И светлый Твид, чтоб вел их в бой Отважный Данбар, вождь седой. А Хепберна бесстрашный род Спускался в дол с крутых высот С суровым кличем: «Хьюм! Вперед!»5
К тем, что на помощь дружно встали, Гонцы из замка поскакали, Чтоб благодарность передать За то, что выставили рать, О перемирье рассказать И поединке непременном Меж Масгрейвом и Делореном. Их просит леди в замок свой На рыцарский и честный бой, А после славного сраженья В парадный зал для угощенья. Шотландцы знают пусть заране: Приглашены и англичане. Сам сенешал пристойным счел Позвать врагов за общий стол — Их чтит за храбрость Брэнксом-холл. И Хоуард, рыцарь несравненный, Сказал, что будет непременно. Для славы воинской взращен, Учтивостью известен он. Лишь Дакр'не хочет отозваться — Он предпочтет в шатре остаться.6
Теперь пора вам, леди, знать, Как вражьи встретились отряды — Ведь перемирье соблюдать Не все, наверно, были рады, Привыкнув к распрям боевым, Где каждый гневом одержим, В дни, полные вражды печальной, Набегов, злобы феодальной, На берегу спокойных вод Для мирного рукопожатья Соединил их Тивиот, Чтоб люди встретились как братья. Ладонь в перчатке боевой, В кулак сведенная стальной, В миг встречи раскрывалась шире. Из-под откинутых забрал Вчерашний враг друзей встречал Улыбкою на общем пире. Кто по полю гонял шары, Кто в кости, в шахматы сражался, Кто в буйном бешенстве игры С друзьями за мячом гонялся.7
Но если бы раздался вдруг Военных труб призывный звук, Все эти мирные отряды, Что веселиться вместе рады, Окрасили бы кровью луг, И Тивиота берег дикий Вражды бы огласили крики, Стопой бы тяжкой смерть прошла, И сразу те клинки из стали, Что мирно пищу разрезали, Вошли бы яростно в тела. В том диком крае пограничном Был встарь и быстрым и обычным От мира к битве переход. Но в этот вечер ликовало Все в Брэнксоме, и свет свой алый Закат спокойно лил с высот.8
Не прекращался пир веселый, Хотя уже померкли долы. И в наступающей ночи В решетки окон и портала Между колонн гранитных зала Легли багряные лучи. Звон кубков своды повторяли, И громко арфы рокотали А на холмах, ушедших в мрак, Свист, крики длились неустанно, Чтоб заблудившихся гуляк Собрать призывным кличем клана. И «Дакр!» и «Дуглас!» — здесь и там Гремело дружно по холмам.9
Но вот смолкает ликованье, Уже расходится народ, И слышно только как журчанье Длит неумолчный Тивиот, Да отклики сторожевые Разносят с башен часовые, Да в темноте издалека Стук долетает молотка: Там, на лугу, теней движенье, И суета, и толкотня; Там для турнирного сраженья Сколачивают огражденья К рассвету завтрашнего дня.10
А Маргарет ушла из зала, Хоть леди ясен был запрет. Она совсем не замечала, Что вздохи ей неслись вослед. У рыцарей одно желанье: Завоевать ее вниманье И дать ей верности обет. Она одна в опочивальне, Ей все тревожней и печальней… Не спится… Подошла к окну, Покинув нежный шелк постели. С востока тучи заалели, В долинах предано все сну. Везде дремота, тишина. Лишь ей, прекрасной, не до сна.11
С высокой башенки своей Она глядит, полна печали, Во двор, где топот, храп коней Еще вчера весь день звучали. Теперь не слышно ничего. Лишь у стены безмолвным стражем Проходит рыцарь. Шлем его Украшен вьющимся плюмажем. Ужели он? Не может быть! Идет он, дерзок и бесстрашен, Как у себя, вдоль вражьих башен. Как быть? Спокойствие хранить? Окликнуть? В страхе сердце бьется. Вдруг кто-нибудь из слуг проснется? Того гляди — придет беда. Ни драгоценности короны, Ни слезы Маргарет влюбленной Уж не спасут его тогда!12
Напрасный страх — скажу заране. Паж-карлик властью заклинаний, Прибегнув к чарам темных сил, Явил здесь все свое уменье И рыцаря без промедленья В отшельника преобразил. И безопасно мимо стражи, Никем не заподозрен даже, Пришлец по лестнице всходил. Мгновенно колдовская сила Взор чистой девы затемнила. Да, это он! Кто б думать мог! В душе и страх и удивленье. Но верх берет любви волненье: Лорд Генри здесь, склонен у ног!13
Я часто размышлял: зачем он Туда явился — дух иль демон, Зачем свиданье замышлял? Любовь для сердца — наслажденье, А он, сил злобных порожденье, В ней даже радости не знал. Казалось мне, в подобной страсти Все доброе — у зла во власти, В ней только горе, грех, позор, Найдет в ней Крэнстон смерть несчастный, А доля девушки прекрасной — Срам и бесчестье с этих пор. Но сердцу ль смертному понять, Что и в любви есть зла печать? Блаженства служит нам залогом Лишь чувство, посланное богом. Оно не жар воображенья, Что остывает в свой черед, Не жгучий пламень вожделенья, Что, утолив себя, умрет. В нем душ сродство и пониманье, В нем уз и нитей сочетанье, В нем сердце с сердцем, ум с умом, Душа и тело — всё в одном. Но помолчим о тайной встрече. О поединке наши речи.14
Вдали рожков запела медь, И сразу пробудились кланы. На поединок посмотреть Они сошлись среди поляны. Качались пики на весу, Как сосны в Эттрикском лесу. Обращены на Брэнксом взгляды. Ждут двух соперников отряды, И каждый хвастает притом Своим прославленным бойцом.15
Был озабочен леди взор: Уж с Тирлстеном затеял спор Горячий Харден — кто замена Для раненого Делорена? Вступить готовы оба в бой, Достоин каждый чести той. Уж к поединку все готово — И Делорен явился вдруг. Вступает он отважно в круг — К нему вернулись силы снова, И сам сойдется он с врагом. Довольна леди колдовством. Затихло сразу все кругом.16
Ну, давка! Кто идет, кто едет. Ведет коня надменной леди Сам Хоуард. С дамою своей, В шелка разряженной на диво, Лорд собеседует учтиво О подвигах старинных дней. И он нарядом блещет тоже: Камзол из буйволовой кожи С подкладкой дорогой на нем. Бормочут шпоры с дробным смехом, Плащ оторочен польским мехом, Штаны прошиты серебром. Клинок испанской стали острой Висит на перевязи пестрой. «Кинжальным Уилли» с давних пор Слыл Хоуард у народа гор.17
За ним в расшитом покрывале, Чьи кисти землю подметали, Конь Маргарет спокойно нес, Всю в белых тканях серебристых, И на кудрях ее волнистых Лежал венок из свежих роз. С ней гордый Ангюс ехал рядом. Встревожен девы грустным взглядом, Ее он шуткой развлекал И за узду коня держал. Ему уже понятно стало, Что деву что-то устрашало, Но чем был вызван этот страх, Он не прочел в ее глазах — Собою девушка владела. Она бок о бок с леди села.18
Один из англичан на бой Взял юного Баклю с собой. Тот даже не грустил — так жадно Ждал мальчик схватки беспощадной. Вот на поле под общий шум Въезжают лорды Дакр и Хыом. Почетная дана им доля Быть нынче маршалами поля» Условья боя надо им Сперва определить самим. Трубят герольды оглашенье: Вести по правилам сраженье. Никто, покуда длится бой, Не должен криком одобренья Иль возгласами возмущенья Нарушить поединка строй. Толпа умолкла. Тихо стало. Вновь речь герольда прозвучала.19
А н г л и й с к и й г е р о л ь д Вот Ричард Масгрейв. Он силен, И смел, и знатен по рожденью. Шлет вызов Делорену он За дерзостное оскорбленье И подтвердит своим мечом, Что Уильям Делорен знаком Давно с предательством лукавым. Господь поможет в деле правом!20
Ш о т л а н д с к и й г е р о л ь д Вот Уильям Делорен. Равно От знати он ведет начало. Измены подлое пятно Его герба не замарало. Победу бог ему пошлет, И Масгрейв перед ним падет, Затем что он бесчестно лжет! Л о р д Д а к р Вперед! Вперед! Трубите в рог! Играйте, трубы. Л о р д Х ь ю м С правым бог! Звучит рожков призыв сигнальный, И Тивиот им вторит дальний, И со щитом, подъятым ввысь, Не торопя коней, спокойно, Для встречи грозной и достойной Уже противники сошлись.21
Вам, дамы, слушать не годится, Как этот поединок длится, Как шлемы гнутся под мечом, Как льется кровь из ран ручьем, Как в этом яростном сраженье Герои бьются в исступленье. Нет, лишь тому, кто тверд душой, Я б рассказал про этот бой. Я видел, как удары стали Из стали искры высекали, Как кони, кровь увидев, ржали, И наблюдать спокойно мог, Кого сразит жестокий рок.22
Свершилось! Роковым ударом Был выбит Масгрейв из седла. Он не воспрянет в гневе яром Вовек на ратные дела. Рука друзей освобождала Его от тяжкого забрала, Спешила латы отстегнуть, Чтоб мог вольнее он вздохнуть. Спеши, монах, на место боя — Великий грешник пред тобою, Грехи ему ты отпусти, Чтоб душу он успел спасти.23
Босой монах бежит в тревоге, В крови он перепачкал ноги. А гул летит со всех сторон. На эти крики ликованья Не обращает он вниманья, Над умирающим склонен. Седые волосы упали На лоб. Он в горестной печали Молитвы шепчет. Крест святой Вздымает трепетной рукой И ловит сказанные глухо Слова, невнятные для слуха. Он хочет рыцаря поднять В его последние мгновенья, Он шепчет слово утешенья, На бога просит уповать. Но Масгрейв слов его не слышит, Он холодеет, он не дышит.24
Как боем потрясенный зритель, Стоит в раздумье победитель, Смущен победою своей, И, молча отстегнув забрало, Не отвечает он, усталый, На поздравления друзей. И вдруг… В единое мгновенье Вопль ужаса и удивленья Среди шотландцев здесь и там Вдруг прокатился по рядам. Смятенье чувствуя, тревогу, Все расступились, дав дорогу Тому, кто, бледен, сам не свой, Спускался вниз тропой крутой. Перескочив за огражденье, Он стал в каком-то исступленье, Глядит испуганно кругом, Всех обводя безумным взглядом, И люди, бывшие с ним рядом, Узнали Делорена в нем, И с места женщины вскочили, На землю всадники ступили. «Кто ты? — кричит ему народ. Так кто же боя победитель?» А рыцарь снял свой шлем: «Глядите! Я — Крэнстон. Край мой — Тивиот. Я отстоял честь паладина». И к леди он подводит сына.25
Она спасенного ласкает, К груди ревниво прижимает И вся трепещет, но хранит Бесстрастный и холодный вид И мимо Крэнстона надменно Глядит, хоть встал он на колена. Хьюм, Дуглас, Хоуард с дамой тут — Ведь и врага за честность чтут! — Вступили в спор. Напрасный труд! Весь клан молил: «Смягчись душою, Покончи с давнею враждою. В брак Крэнстон с Маргарет должны Вступить на благо всей страны!»26
Взглянув на горы за рекою И вспомнив то, что Дух предрек, Она сказала: «Не тобою Побеждена я. Это — рок. Определяет звезд забота Путь Брэнксома и Тивиота. Любовь свободна и светла». И дочь она своей рукою К влюбленному в нее герою, Смиряя гордость, подвела. «Тебе служить я верно стану, Ты — моему послужишь клану. Пускай залогом дружбы нам Вот это будет обрученье. И я на праздник приглашенье Передаю сейчас гостям!»27
Хозяйке Брэнксома надменной Поведал Крэнстон откровенно, Как сшиб с седла он Делорена, Как паж его, что нагл и смел, Волшебной книгой овладел, Как под личиною заемной Пробрался в замок ночью темной, Где и украл чужой наряд, Пока был Уильям сном объят. Но Крэнстон обошел молчаньем Историю с ночным свиданьем, И леди тоже ничего Не молвила насчет того, Что ей знакомо ведовство. Другая мысль владела ею: Как наказать пажа-злодея, Как книгу черную забрать И в склепе схоронить опять? Мне ль развлекать дам благосклонных Своим рассказом о влюбленных, О том, как Маргарет сначала Была испугана немало, Когда за боем наблюдала? Как счастлив каждый, кто любим, Давно известно им самим.28
Покуда поединок длился, Внезапно Уильям пробудился. Он тотчас же узнал о том, Что кто-то с поднятым мечом В его доспехах дерзновенно Присвоил имя Делорена. Он к месту боя побежал. Его весь клан там увидал, И всем казалось в то мгновенье, Что появилось привиденье. Сэр Крэнстон рыцарю не мил, Но Уильям мужество ценил И потому врага приветом Почтил, забыв старинный спор, Хотя грубоватым с давних пор Он слыл — и неучем при этом. В бою, смиряя гневный пыл, Он тех, кто сдался, не рубил И попусту врагу не мстил. Умел ценить он в схватке ярой Своих противников удары. Так было с ним и в этот миг. На тело Масгрейва взирая, Он низко головой поник, Суровый взор свой потупляя. Так и стоял он на лугу, Скорбя по падшему врагу.29
«Ну, Ричард Масгрейв, мой когда-то Смертельный враг! Ты мертв, злодей! Да, у тебя я отнял брата, Ты — сына у сестры моей. Три месяца сидел в темнице Я в замке Нейуортском твоем И вынужден был расплатиться С тобою выкупом потом. Когда бы нам сойтись в сраженье, Когда б ты был живым сейчас, Нам не было бы примиренья, Похоронили б вместе нас! Спи, взыскан милостью господней! Врага не знал я благородней. Всем был известен с давних пор Твой клич: «Копье и пара шпор!» Быстрее лучших гончих свор Ты настигать умел оленя, И все внимали в восхищенье, Когда твой рог во тьме лесов Сзывал к тебе отставших псов. Я б отдал земли Делорена, Чтоб не был ты добычей тлена!»30
И к Камберленду в путь, домой, Лорд Дакр отряд направил свой. Положен Масгрейв был сраженный На щит, в бою окровавленный; Его посменно вчетвером На копьях понесли потом. Бард впереди идет. Стенанья Доносит ветерка дыханье. А вслед священники идут, Молитвы скорбные поют. И рядом рыцари. В печали Они копье к земле склоняли. Так тело Масгрейва несли К холмам родной его земли И в горном храме схоронили, В отцовской родовой могиле.* * *
Умолк певец. Но арфы звон Продолжил песню похорон, И звуки, полные печали, Чуть смолкнув, снова возникали, То откликаясь за горой, То поглощаясь тишиной, Как будто менестреля стоны Наполнили долины, склоны И над оставленным холмом Перекатили струнный гром. Те, кто внимал печальной были, Певца умолкшего спросили, Зачем он здесь, в глухом краю, В нужде проводит жизнь свою? Ведь там, на юге, награжденья Щедрее были бы за пенье. Бард молча оглядел гостей. Он горд был арфою своей И похвалой всеобщей тоже, Но родина ему дороже. Внимать ему невыносимо Насмешке над страной родимой, И потому был резок звон Струны, когда вновь начал он.Песнь шестая
1
Где тот мертвец из мертвецов, Чей разум глух для нежных слов: «Вот милый край, страна родная!» В чьем сердце не забрезжит свет, Кто не вздохнет мечте в ответ, Вновь после странствий многих лет На почву родины вступая? Для тех, чьи чувства таковы, Все песни немы и мертвы! Пускай огромны их владенья И знатно их происхожденье, Ни золото, ни знатный род — Ничто им в пользу не пойдет. Любуясь собственной тоскою, Они не ведают покоя. Удел и рок печальный их — В себе убить себя самих! Они бесславно канут в Лету, Непризнанны и невоспеты!2
О Каледония, твой лик Порою строг, порою дик! Страна могучих кряжей горных, Страна потоков непокорных, Лесов и вересков страна, Моя душа всегда верна Сыновней верностью великой Твоей красе угрюмо-дикой. Увы, я думаю порой, Чем прежде был мой край родной! Одна природа величаво Хранит его былую славу, Но в запустенье скорбных дней Мне милый край еще милей. Пускай брожу я одиноко У обмелевшего потока, Пусть ветер щеки холодит, Но он от Эттрика летит. Поют мне Тивиота струи. Здесь голову свою седую На белый камень положу я! Здесь от раздумий и невзгод Певец навеки отдохнет!3
В те дни повсюду бардов чтили И всех их в Брэнксом пригласили. Они сошлись со всех концов, Певцы веселья и боев. Жрецы живого вдохновенья Несут оружье песнопенья На пир и на поля сраженья. Их песни слышит клан любой, Вступая с недругами в бой. А ныне им врата открыты: Зовет их праздник именитый. Настройте струны — альт и бас, Чтоб, веселясь, как все у нас, Пустились башни замка в пляс!4
Не описать мне красоты Того венчального обряда: Гостей роскошные наряды, Гирлянды, свечи и цветы, Зеленый шелк плащей старинных, И горностай на юбках длинных, Угрюмый блеск кольчуг стальных, Плюмажей белых колыханье И шпор серебряных бряцанье И украшений золотых. Но описать всего труднее, Как Маргарет, зари алее, Встревожена и смущена, Была прекрасна и нежна.5
Нередко барды говорили, Что леди Брэнксом темной силе Настолько душу отдала, Что даже в церковь не могла Входить в часы богослуженья. Но это просто заблужденье: Она, по моему сужденью, Причастна к колдовству была, Но не служила духу зла. На зов ее в часы ночные Являлись тени неземные. Но я считаю все равно: С тем, что сокрыто и темно, Водиться вредно и грешно. Однако не могу не знать я, И клясться я не стал бы зря: В широком, длинном черном платье Она была у алтаря, В пунцовой шапочке расшитой, Жемчужной ниткой перевитой. И дрозд на шелковом шнурке Сидел у леди на руке.6
Закончился обряд венчанья К полудню. В замке ликованье, Роскошный зал гостей зовет: Для пира время настает. Шныряют слуги беспокойно, Тщась усадить гостей достойно, И держат ловкие пажи Для дичи острые ножи. Вот свита пышного павлина — И цапля, и журавль, и вина; А вот кабанья голова, Разряженная в кружева; Вот куропатки, вот олени; Вот произнес благословенье Священник — и со всех сторон Поднялись сразу шум и звон. Седые воины шумели, Как будто в дни былых боев: Кричали громко, громко пели, Наполнив кубки до краев. Так буйно гости веселились, Что на насестах всполошились И зашумели сокола, Раскинув широко крыла, Звеня тревожно бубенцами. И им в ответ раздался вой Собачьей своры боевой. А вина Рейна, Орлеана Лились, и гости были пьяны, И возрастал, как грома гул, Веселья шумного разгул.7
Но злой колдун, слуга барона, Вертлявый и неугомонный, Гостей на ссоры подстрекал, И шум, вином разгоряченный, В недобрый спор перекипал. Вот Конрад Вольфенштейн драчливый, В угаре от вина и пива, Вдруг завопил: «Какой злодей Смел увести моих коней!» Не соразмерив пьяной силы, Он, злобного исполнен пыла, Ударил толстого Хантхилла, Которого народ прозвал «Хантхилл, разяший наповал». Лорд Хьюм вскочил, и Дуглас тоже, Лорд Хоуард молвил, что негоже Такие ссоры затевать, Где подобает пировать. Но зубы сжал Хантхилл сурово И больше не сказал ни слова. Еще и месяц не прошел, Как Вольфенштейна труп огромный, От страшных ран и крови темный, Лесник напуганный нашел. И меч и щит его пропали, Его убийц не отыскали, Но кельнским кованым клинком Сэр Дикон хвастался потом.8
Страшась, чтоб не открыл случайно Барон его проделок тайных, Злой карлик спрятался в людской… И здесь вино лилось рекой. Простолюдины пировали Не хуже лордов в пышном зале. Уот Тинлинн пенистый бокал За Файр-де-Брэза поднимал. А Файр-де-Брэз кричал спьяна: «Я пью за Хоуарда до дна, Но пусть не трогает соседей И нашей не вредит беседе!» И Роланд Форстер возглашал: «Таких пиров наш клан не знал! Я не могу подняться с места, Но пью за прелести невесты!» Напиток темный и хмельной Струился пенистой волной, И славил Брэнксомов любой.9
Но злой колдун завел беседу О том, как Тинлинн храбр и смел, Как Тинлинн каждого соседа Держать в покорности умел. А Тинлинну с улыбкой злою Он нашептал совсем другое: «Ты жизнь проводишь на войне, Но с Армстронгом наедине Не скучно без тебя жене!» Он от удара увернулся И вновь к пирующим вернулся, Схватил у пьющего стакан, Как будто сам был очень пьян, И острый нож вонзил мгновенно Шотландцу в правое колено (Такие раны всех больней: Они гноятся много дней). Вскочил шотландец, дико воя, И стол перевернул ногою. Поднялись шум и кутерьма, Как будто все сошли с ума. Но колдуна не отыскали — Забившись в угол в темном зале, Он усмехался и дрожал, Твердя: «Пропал! Пропал! Пропал!10
Тут леди Брэнксом объявила, Что менестрелей пригласила, Чтоб на пиру не скучно было, И первым вышел Элберт Грэм, В те времена известный всем: Едва ли кто искусством песни Владел свободней и чудесней. Везде друзьями окружен, Всегда был горд и весел он, По обе стороны границы Встречал приветливые лица И сам любил повеселиться. Он всем понравиться сумел И песню скромную пропел.11
Э л б е р т Г р э м Английская дева в Карлайле жила — Сияет солнце, и небо ясно,— Шотландцу сердце она отдала: Ведь все на свете любви подвластно. С восторгом рассвет встречали они — Сияет солнце, и небо ясно, — Но грустно они проводили дни, Хоть все на свете любви подвластно. Все отдал отец ей, чем был богат,— Сияет солнце, и небо ясно,— Но только вино ей подал брат, Ярясь, что любви все на свете подвластно. Поклялся он смертью сестры своей — Сияет солнце, и небо ясно, — Что земли отцов — для сыновей, Не будут они шотландцу подвластны.12
Вина не успев допить до дна — Сияет солнце, и небо ясно,— На груди жениха умерла она: Ведь все на свете любви подвластно. Он сердце брата ее пронзил — Сияет солнце, и небо ясно. — Да погибнут все, кто любившим вредил! Да будет любви все на свете подвластно! За гроб господень в дальних краях, Где солнце сияло светло и ясно, Он пал с ее именем на устах: Ведь все на свете любви подвластно. Вы все, кто сердцем чист и душой — Сияет солнце, и небо ясно,— Молитесь о жертвах любви земной: Ведь силе любви все на свете подвластно.13
Закончил песню Элберт Грэм, И вышел бард с челом высоким, Творец сонетов и поэм, Гонимый Генрихом жестоким. Его сребристой арфы звон Дошел до нынешних времен. Фицтрейвер! Дар его прекрасный Любил прославленный Саррей, Герой с душой, как пламя, страстной, Бессмертный бард страны своей, Певец любви непобедимой, Всем рыцарством высоко чтимый.14
Не раз в минуты вдохновенья, Под сенью лавров и олив, Друзья мечтали, песнопенья Любви Саррея посвятив. А итальянцы поселяне Вздыхали, забывая труд: «То духи света и сиянья У кельи схимника поют». Так пел Саррей своей святыне, Своей прекрасной Джеральдине!15
Фицтрейвер! Как он ранен был, Как проклинал он рок коварный, Когда Саррея погубил Тюдора гнев неблагодарный! Тирана он не признавал И к мести яростно взывал. Оставил он аллеи чудных Уиндзорских парков изумрудных, Решив Саррею верным быть И лорду Хоуарду служить. С его роскошной шумной свитой На пир он прибыл знаменитый.16
Ф и ц т р е й в е р Саррей влюбленный целый вечер ждал, Но вот ударил колокол ночной. Заветный час таинственный настал, Когда пообещал мудрец святой, Что он увидит образ неземной Возлюбленной, хотя бы море злое Их разделяло черной пеленою, И он поймет, узрев ее живою, Верна ль она ему и сердцем и душою!17
В высоком зале сводчатом темно. Молчит поэт, молчит мудрец седой. Лишь зеркало огромное одно Озарено мерцающей свечой. И тут же книга, крест и аналой, И странные какие-то предметы, Присущие лишь магии одной — Цепочки, талисманы, амулеты — В причудливой игре густых теней и света.18
Но вдруг в огромном зеркале блеснул Мерцавший изнутри чудесный свет. Туманных форм причудливый разгул Увидел в нем взволнованный поэт. Потом обрисовался силуэт Колонн какой-то комнаты прекрасной: Большая лампа, белых роз букет, Диван покрыт индийской тканью красной. А дальше — лунный мрак, туманный и неясный.19
Но лучшее в картине чудной той Была красавица — тиха, нежна, Грудь белая, поток кудрей густой, Бледна, грустна, тоской истомлена. Читала так задумчиво она Стихи Саррея в книжке темно-синей, И так была душа ее полна Звучаньем строк о молодой богине, О дивиой красоте, о леди Джеральдине.20
Потом спустились волны облаков И скрыли милый образ навсегда. Так буря злобной зависти врагов На жизнь поэта ринулась, когда, Ни жалости не зная, ни стыда, Тиран казнил поэта без причины. Потомство не забудет никогда Тех черных дней, той роковой годины. О, кровь Саррея! О, рыданья Джеральдины!21
Все одобряли в восхищенье Поэта сладостное пенье, Кто проклял Генриха дела, В ком вера праотцев жила. Но вот поднялся бард надменный, Гарольд, Сент-Клэра друг бесценный, Того Сент-Клэра, что в бою Провел всю молодость свою. Гарольд родился там, где море Ревет, с могучим ветром споря, Где гордый замок Кэркуол Сент-Клэр над бездною возвел, Чтоб морем, как своим владеньем, Там любоваться с наслажденьем. И он смотрел, как бушевал Пентленда пенистого вал И мчался вскачь, неудержимый, Свирепым Одином гонимый. Он задыхался тяжело, Заметив паруса крыло, Когда навстречу злому шквалу Оно тревожно трепетало. Все, что чудесно и темно, Поэту нравилось давно.22
Чудесных диких саг немало Его фантазия впивала: Ведь здесь в былые времена Шла с датской вольницей война; Норвежец упивался кровью, Для воронья пиры готовя; Сюда драконы-корабли По морю вспененному шли; Здесь скальды, с бурей в состязанье, Твердили чудные преданья, А руны на могилах их Нам говорят о днях былых. Тех скальдов древнее наследство Гарольд любил и помнил с детства О змее — чудище морском, Что стиснул мир своим клубком; О девах, что свирепым воем Пьянят героев перед боем; О тех, кто в страшный час ночной Под бледной, мертвенной луной Тревожат вечный сон могильный, Чтоб вырвать из руки бессильной Заветный талисман отцов, Влекущий в бой и мертвецов. Гарольд, восторженный и юный, Любил сказанья, песни, руны. Под шепот трав, в тени дерев, Нежнее стал его напев, Но скальдов древние преданья Звучали в нем как заклинанья.23
Г а р о л ь д Красавицы, спою вам я Не о высоком ратном деле. Печальной будет песнь моя О несравненной Розабелле. «Моряк, побудь на берегу» — «Миледи, с бурею не споря, Останься в замке Рэйвенсху, Не искушай напрасно моря. Вскипают черные валы, Несется к скалам чаек стая, Дух бездны из зеленой мглы Взывает, гибель предвещая. Вчера лишь ясновидцу ты В зловещем саване предстала. Страшись: не ценит красоты Стихия бешеного шквала!» «Лорд Линдсей пир дает, друзья, Но в Рослин не затем спешу я. Томится матушка моя, О милой дочери тоскуя. Меня давно, я знаю, ждет Лорд Линдсей, молодой и смелый, Но мой отец вина не пьет, Налитого не Розабеллой!» В ту злую ночь, прорезав мрак, Возникло зарево большое: Зарделся Рослин, как маяк, Недоброй освещен луною. Зарделись башни хмурых стен, Леса, опушки и поляны. Пылали хмурый Хоторнден, Дубы — лесные великаны. И вы сказали б, что в огне Часовня, где, забыв печали, Бароны древние в броне В гробах с оружием лежали. Казалось, что пылал придел, Колонны и алтарь горели, Узор листвы в мерцанье тлел На фризе и на капители. И отблеск пламени дрожал На сводах, как во мгле пещеры: Конец внезапный угрожал Кому-то из семьи Сент-Клэра. В часовне той бароны спят, Закончив жизни подвиг смелый, Но бездны моря не хотят Отдать прекрасной Розабеллы. Молитвы звучат много лет подряд Под сводами часовни белой, Но волны гремят, и бури шумят Над телом бедной Розабеллы.24
Гарольд с такою грустью пел, Что гости даже не видали, Как день внезапно потемнел И мрак разлился в пышном зале. Так по утрам туман болот Порой над топями встает, Так солнца грозное затменье Мглой надвигается на нас — Не видим мы соседа глаз И кажемся ему лишь тенью. Холодный страх сердца объял Всех тех, кто в зале пировал. И леди Брэнксом уловила Тревожный гомон темной силы. Слуга-колдун заголосил: «Перехитрил! Перехитрил!»25
Вдруг красной молнии стрела, Блеснув сквозь мрак и дым, Весь замок словно обожгла Живым огнем своим. Возникло все из темноты. Блеснули кубки, рамы, вазы, Блеснули старые щиты, Блеснули и погасли сразу, — Как порождение мечты. А над толпой гостей дрожащей, Сверкая, дрогнул меч разящий, И над слугою-колдуном Сгустился дым, ударил гром. Тот гром, бесстрашных устрашая, А гордых гордости лишая, По всей стране он слышен был, Он в Берике, в Карлайле даже Перепугал отряды стражи, Когда во мгле дрожащей выл. Когда ж умолкнул рев победный, Слуга-колдун исчез бесследно.26
Тот — шаг пугающий слыхал, Тот — видел тень во мраке зал, Тот — слышал голос где-то ближе, Стонавший громко: «Приходи же!» На месте, где ударил гром, Где был повержен карлик странный, Мелькнули вдруг в дыму густом Рука с протянутым перстом И складки мантии туманной. Замолкли гости. Тайный страх Застыл у каждого в глазах. Но самым жутким, несомненно, Был дикий ужас Делорена: В нем стыла кровь и мозг пылал, Он ничего не понимал. Угрюмый, бледный, истощенный, Молчал он, будто пораженный, Дрожащий с головы до ног» Он рассказать, однако, смог О том, как странное виденье — Седой угрюмый пилигрим Возник внезапно перед ним Печальной и недоброй тенью. И понял рыцарь: это тот, Мудрец, волшебник — Майкл Скотт!27
Молчали гости в изумленье, Дрожа от страха и волненья; Вдруг благородный Ангюс встал. «Обет даю я, — он сказал,— И этой клятвы не нарушу. В Мелроз как скромный пилигрим Пойду молиться всем святым, Спасти смирением своим Его мятущуюся душу». И тут же каждый из гостей, Ревнуя о душе своей, Поклялся Модану святому, Пречистой и кресту честному Пойти в Мелроз, где Майкл Скотт Никак покоя не найдет. Молитва общая, быть может, Душе кудесника поможет. Их веры, их обетов пыл Миледи Брэнксом побудил Отринуть помощь темных сил.28
Я расскажу не о влюбленных, Женой и мужем нареченных, Цветущее потомство их «Не воспою в стихах моих. Не смею после сцен тяжелых Счастливых звуков и веселых В усталой песне воскрешать. Я расскажу вам в заключенье О старом Мелрозе опять, Где совершилось искупленье.29
Во власянице, босиком, Сжав руки на груди крестом, Шел каждый пилигрим. И тихий шепот чуть звучал, И вздох молчанье нарушал, И шаг был еле зрим. Глаза смиренно опустив, О гордой поступи забыв, Оружьем не звеня, Сошлись, как призраки, они Пред алтарем, в его тени Колена преклоня. Над ними ветер полусонно Качал тяжелые знамена; Таился в каменных гробах Отцов и дедов хладный прах; Из ниш, цветами окруженных, В упор глядел на них Взор мучеников изможденных И строгий взор святых.30
Из темных келий потаенных Отцы святые в капюшонах И в белоснежных орарях Попарно шли, за шагом шаг, С хоругвями святыми. Горели свечи в их руках, А на хоругвях, на шелках Сияло в золотых лучах Господня сына имя. Епископ руку протянул, На пилигримов он взглянул, Стоявших на коленях, Святым крестом их осенил: Да ниспошлет господь им сил И доблести в сраженьях. И вновь под звон колоколов Десятки скорбных голосов Запели реквием печальный. Да внемлет дух многострадальный, Что каждый час звучит, о нем Ходатайство перед творцом. Торжественной и грозной тенью Под сводами висело пенье: «Dies irae, dies ilia Solvet saeclum in favilla».[35] А после хор отцов святых Запел сурово и спокойно. Рассказ мой долгий песней их Закончить я хочу достойно.31
ЗАУПОКОЙНАЯ МОЛИТВА День божья гнева, день суда, Когда исчезнут навсегда Земля, и воздух, и вода, Что будет с грешником тогда? Куда уйдет он от суда? Как лист пергамента горящий, Потухнет неба свод блестящий, И зов трубы могучей силой Поднимет мертвых из могилы. Пусть нам приют дадут тогда, В день божья гнева, в день суда, Земля и воздух и вода!* * *
Умолк печальной арфы звон Ушел певец. Где нынче он? В каких краях обрел покой Старик усталый и седой? Там, где Ньюарк с холма глядит, Простая хижина стоит. Шумят деревья у дверей: Под мирный кров зовут гостей. Хозяин у огня не раз О прошлом повторял рассказ, Любил приют давать друзьям: Ведь столько странствовал он сам! Когда ж на светлый Баухилл Июль веселый нисходил И солнце лило с высоты Лучи на пестрые цветы, Когда дрозды на склоне дня Вились над Картеро, звеня, И Блекендро могучий дуб, Кудрявый расправляя чуб, Певца седого пробуждал,— С улыбкой старец вспоминал И шум пиров, и звон мечей, И рыцарство минувших дней. Не раз, внимая песне той, Охотник медлил молодой, И путник, придержав коня, Стоял, молчание храня, И тихо вторила река — Смолкавшей песне старика.1805
ДЕВА ОЗЕРА
Песнь первая
ОХОТА
О арфа севера, твой след заглох, Безмолвна ты уже который год, Порой струны коснется ветра вздох, Но скоро в роще у журчащих вод И струны повилика обовьет. Едва ли, арфа, ныне кто-нибудь Твою дремоту тихую прервет, Дабы мужам огнем наполнить грудь И мягкосердых дев заставить вдруг всплакнуть. А ведь в шотландском дедовском краю Не так бывало в прежние года: Тогда струнам вверяли боль свою, В них пела радость, плакала беда, Кругом звенела музыка тогда, Раздольна, величава и стройна! И знатные внимали господа Прекрасной песне, и была она Оплотом красоты и чести названа. О арфа, пробудись! Пускай груба Рука, припавшая к твоей струне, О, пробудись, хоть не сулит судьба Мне свой напев сложить по старине, Пускай не часто доведется мне Тебе напомнить песни прежних лет, Однако буду счастлив я вполне, Коль хоть в одной душе найду ответ. О чаровница, сбрось молчания обет!1
Олень из горной речки пил, В волнах которой месяц плыл, Потом он спрятался в тени За сонным лесом Гленэртни, Но только первый солнца луч Коснулся Бенворликских круч, Как огласил дремавший край Озлобленный собачий лай, И вот вдали уже звенит Короткий, легкий стук копыт.2
Как вождь, заслышав стражи крик: «К оружью! Враг в наш стан проник!» Олень, властитель этих мест, Вскочил и поглядел окрест. Он подождал сперва в лесу И отряхнул с боков росу, И ввысь рога воздел затем, Как гордый вождь — свой пышный шлем; Он оглядел отроги скал, Потом принюхиваться стал И ноздри жаркие раздул, Но, различив охоты гул И приближавшийся рожок, Бежать пустился наутек И, торопясь оставить лес, В юм-варских вересках исчез.3
Но он услышал за собой Собак озлобившихся вой, И отвечал им в тот же час Окрестных скал стоустый глас; Собаки лаяли сильней, Раздалось ржание коней, И крик, и свист, и звук рожка, И голоса издалека; А эхо, нагоняя страх, Им снова вторило в горах. И лани трепетной невмочь Смятенье было превозмочь, И сокол с неприступных скал Вниз с удивлением взирал, Пока, безумьем обуян, Вдаль не умчался ураган И понемногу стихший гул Горам покоя не вернул И не объят был край лесной Вдруг наступившей тишиной.4
А голоса лесной войны В Юм-Варе сделались слышны, Где, говорят, гигант меж скал Себе пристанище сыскал. Взойти успело солнце ввысь, Покамест люди пробрались По горным склонам — крут был путь, Пришлось коням передохнуть. Оленьи потеряв следы, Редели рыцарей ряды: Нелегкий выдался удел Тем, кто отважен был и смел.5
По южной стороне горы Олень понесся с той поры, Как увидал, взглянувши вниз, Вдали струившийся Ментиз. Его смятенный взор блуждал Меж топей, гор, лугов и скал; Ему казалось — будет он Лишь подле Локарда спасен, Но купы ивовых ветвей, Склоненных к озеру Экрей, А дальше сосны и кусты Он вдруг заметил с высоты. Надежда прибавляла сил, И он сильнее припустил, Усталых обогнав собак, И от погони спасся так.6
Вести не стоит разговор О гнавших зверя в Кэмбес-Мор — О тех, кто горной шел тропой, Бенледи видя пред собой, Кто вскоре в вересках застрял, Кто Тиз переплывать не стал, — Хотя два раза в этот день Пересекал его олень. Из них немногим, например, Пришлось увидеть Венначер, И лишь единственный из них Моста Турецкого достиг.7
Но этот всадник был ретив И, остальных опередив, Едва дышавшего коня Все понукал, вперед гоня. Весь в мыле, конь бежал вдоль скал, Как вдруг ловцу олень предстал. Два черных пса неслись за ним, Чутьем известные своим: Они держали след, и зверь Не мог уйти от них теперь. От псов порою отделен Лишь на длину копья был он, Да не догнать было никак, И дух спирало у собак. Но, как привыкли искони, Неслись вдоль озера они Через кустарники и пни.8
Охотничий заметил взор, Что поднялись отроги гор, Оленю преграждая путь И вынуждая повернуть. Нечаянной удаче рад, Охотник поднял гордый взгляд — Торжествовал победу он, Хоть не был зверь еще сражен. Когда же затрубил он в рог И верный обнажил клинок, Олень удара избежал. Свернув под сень нависших скал, Он неожиданным прыжком Исчез в кустарнике густом И, подавив на время страх, Надежно спрятался в кустах. Зверь в диких зарослях залег, Откуда различить он мог, Как, потеряв олений след, Залаяли собаки вслед И эхо лает им в ответ.9
Охотник приласкал борзых, Тем подбодрить надеясь их. Но конь, что нес его меж скал, В изнеможении упал, А он, стремясь коня поднять, Его пришпоривал опять, Но как ни бился человек, Конь пал, чтобы не встать вовек. Взяла охотника печаль, Коня до боли стало жаль: «На Сене в давние года, Я оседлал тебя. Тогда Я, видит бог, не думал сам, Что станешь пищей ты орлам, Не ждал я горестного дня, Что отнял у меня коня».10
Потом, трубя в свой рог опять, Охотник стал собак скликать, И подошли, полны тоски, Шальной погони вожаки — Явилось двое верных псов На горестный хозяйский зов. А рог по-прежнему звучал Среди насупившихся скал, Взлетали совы со скалы, Клектали горные орлы; Когда стихало все вокруг, Им отвечало эхо вдруг. Уже охотник поскорей Мечтал сыскать своих друзей, Но не спешил оставить лес, Который полон был чудес.11
По скалам на исходе дня Струились отблески огня: На горизонте он возник И озарял кремнистый пик. Но ни один пурпурный луч Не доходил к подножью круч, Где мрак в ущелье был сокрыт Под сенью горных пирамид, Оттуда, где таилась мгла, Росла огромная скала, И, охраняя каждый склон, Вставал гранитный бастион, Как будто замок среди скал В долине издавна стоял. Вздымала дикая скала Свои зубцы и купола. Подобно пагоде, она Была, казалось, сложена, А если сбоку поглядеть, То походила на мечеть; Иль скажет кто про замок тот, Что там знамен недостает, Когда в синеющую высь Над темной пропастью взвились В росе зеленые кусты И роз пунцовые цветы, И в поздний час и поутру Раскачиваясь на ветру?12
Сколь благостна природа гор! Там все цветы отыщет взор: Бальзам свой розы льют с высот, Простой орешник там растет, Боярышник и первоцвет. Чего-чего там только нет! Паслен сулит златой венец, И наперстянка — злой конец; Где посветлей, где потемней Цветы пробились меж камней. Утес осинником порос, Порос он купами берез, Дубов и ясеней стволы Растут из треснувшей скалы; Превыше всех вознесена, Стоит могучая сосна, Ветвями пышными прикрыв Ведущий к пропасти обрыв; А дальше — снежная гора Сияет ярче серебра. Тому, кто входит в этот лес, Едва заметен цвет небес, И путник смотрит, словно в сон Какой-то дивный погружен.13
Чуть дальше, скалы разделив, Безмолвный пролегал залив, Не столь широкий, может быть, Чтобы его не переплыть, Но оставлявший кое-где Простор синеющей воде, В которой он и отражал И цепь холмов и гребни скал. Охотник подошел туда, Где шире разлилась вода И где огромные холмы Не из лесной вставали тьмы, А из безмолвных вышли вод, Как замок из-за рва встает. Прикосновением волны От прочих скал отделены, Земли забытые клочки Преображались в островки.14
Но ни тропинок, ни дорог Охотник различить не мог, Покамест случай не привел С горы окинуть взором дол. Как по ступеням, он стремит Путь кверху по корням ракит И достигает высоты, Где опаленные кусты И солнца розовый закат Внезапно замечает взгляд, А по челу озерных вод Отображенье их плывет. Охотник видит, глядя вниз, Два острова, залив и мыс; И горных исполинов строй В краю чудес хранит покой. Там Бенвеню на юге встал, Сходя к воде цепями скал, Холмов, уступов и камней, Как бы руин минувших дней; Он диким лесом весь порос, А к северу — нагой утес Бен-Эн уходит в синеву, Подъемля гордую главу.15
Пришлец восторженно глядит На открывающийся вид: «О, если б тут увидел взор Старинный королевский двор — Высокой башне встать бы там, А здесь беседке быть для дам, А на лугу, как я смотрю, Пристало быть монастырю. Тогда бы утренней порой Здесь пел рожок во мгле сырой, А к ночи лютни бы напев Плыл над безмолвием дерев! Когда же скрылась бы луна, В пучину вод погружена, В тиши бы мы внимать могли, Как колокол гудит вдали. Сей звук, парящий вдалеке, Отшельнику на островке Велел бы всякий раз опять Молитву тихую читать. И пришлеца, как испокон, Спасал бы дальний этот звон, Когда с пути собьется он!16
Вот заблудиться бы тогда — Так и беда бы не беда. Но я теперь скитаюсь тут, Мне дикий лес дает приют, И можно камень за кровать И дуб за полог посчитать. Что ж, дни охоты и войны Нам не для отдыха даны, И эта ночь среди высот Меня едва ли развлечет. Не зверь владыка этих мест — Кишат грабители окрест, И встреча с ними для меня Опаснее, чем смерть коня. Теперь в горах я одинок, Но созовет друзей рожок; А если попадусь врагу, То меч я обнажить могу».17
Едва раздался рога звук, Как увидал охотник вдруг За старым дубом, что стоял У основанья древних скал, Покорный девичьей руке Прелестный челн невдалеке. Челн обогнул скалистый мыс, И волны тихо разошлись, Пред ним покорно отступив; Коснулся он поникших ив И к белой гальке в тот же миг, Притихнув, ласково приник. Охотник позабыл про страх, Однако, притаясь в кустах, Не шелохнувшись, не дыша, Глядел, как дева хороша. Она же продолжала ждать — Быть может, где-нибудь опять Прорежет рог лесную тьму. Внимать готовая ему, Она во мглу вперяла взгляд, Откинув волосы назад, Богине греческой равна. Уж не наяда ли она?18
«Но разве греческий резец, — Подумал тотчас же пришлец, — Сей дивный создал образец?» Не меньше в деве было чар, Хоть покрывал лицо загар И краска щеки залила — Дознаться, что она гребла Мог всякий: стоило взглянуть, Как тяжело вздымалась грудь. Хоть крепкую такую стать Саксонская не чтила знать, Но не ступала на луга Такая легкая нога, Воздушной поступью не смяв Ни колокольчиков, ни трав. Свой горский выговор она Считать изъяном не должна — Столь благозвучна эта речь, Что сил не станет слух отвлечь.19
На деве, вышедшей из вод, Плед, лента, брошь — все выдает Старинный горделивый род. Не всякой ленте довелось Связать такую прядь волос, Что чернотой своей была Темней вороньего крыла; Едва ль столь пламенную грудь Плед прикрывал когда-нибудь; Добрее сердца не найдешь, Чем то, что заслоняла брошь. Взор девы был и тих и мил И кротость нежную струил. Не в силах озерная гладь Яснее берег отражать, Чем отражал тот чистый взгляд, Что сердце и душа таят. Легко прочесть в ее очах Благоволение и страх, Смиренной дочери любовь, И грусть, нахлынувшую вновь, И тяжесть горестных невзгод, — Печальный взор их выдает. Девичья гордость, может быть, Не позволяла ей открыть Страсть, что пылала все сильней. Так надо ль говорить о ней?20
Кругом стояла тишина. «Отец!» — воскликнула она. Холмы, лежащие вокруг, Чудесный поглотили звук, И молвила она тогда: «О Малькольм, ты вернулся, да?» Но до того был голос тих, Что даже леса не достиг. «Меня не знают здесь», — сказал Охотник, выйдя из-за скал. Ее сомнение взяло, Она схватилась за весло, Челнок успела оттолкнуть И второпях прикрыла грудь (Как лебедь, ощутивший страх, Поджал бы крылья второпях); Но лишь отпрянула, опять Глаза осмелилась поднять — Не тот у странника был вид, Что деву в бегство обратит.21
Хоть опыт пережитых лет На нем оставил явный след, Но молодость кипела в нем Страстей бунтующих огнем. Насмешлив он и весел был И неуемных полон сил В нем загорался, только тронь, То гнева, то любви огонь. Он был могуч — казалось, он Для ратных дел был сотворен. Хотя не в латах, не в броне Он странствовал в чужой стране, Черты надменного лица Изобличали в нем бойца, И, если надо, он в бою Мог доблесть выказать свою. Он тихо начал речь вести, Сказав, что сбился он с пути. Свободно речь его текла И обходительна была, Но голос выдавал — привык Повелевать его язык.22
Взглянув на рыцаря опять, Решилась девушка сказать, Что всюду страннику приют В горах Шотландии дадут. «И вы не думайте, что вас Не ожидали в этот час: Еще рассеивалась мгла, А вас постель уже ждала, Подбитый тетерев со скал К ногам охотника слетал, И рыба попадала в сеть, Чтоб к ужину для вас поспеть!» «О, сколь безмерно вы милы, Хоть доблести мои малы, И я, увы, совсем не тот, Кого ваш дом сегодня ждет. Судьбой наказанный своей, Я растерял своих друзей Не думал я до этих пор, Что по сердцу мне выси гор, Не ведал я, что здесь живет Владычица озерных вод».23
«Я верю, — вырвалось у ней. Когда коснулся челн камней, — Что прежде не случалось вам Бродить по этим берегам. Но что постигла вас беда, Нам Аллен-Бейн открыл, когда За грань грядущего простер Свой умудренный жизнью взор. Во мгле неведомого дня Узрел он павшего коня, И на владельце скакуна Камзол зеленого сукна, На шляпе — яркое перо,— И на эфесе — серебро, И золоченый рог, и двух Собак, бежавших во весь дух. Он повелел — да будет кров Для гостя знатного готов. Но, в толк не взяв тех вещих слов, Решила я, что мой отец Домой вернулся наконец».24
Он улыбнулся: «Коль пророк Мое прибытие предрек, Должно быть он для славных дел Сюда явиться мне велел, И я свершать их буду рад За каждый ваш любезный взгляд. Так окажите же мне честь — Велите мне на весла сесть!» Взглянула на него она, Лукавой прелести полна: Едва ли рукоять весла Ему в новинку не была. Но, силой рыцарской гоним, Челнок пошел, и вслед за ним, Хотя он все быстрее плыл, Собаки плыли что есть сил. Недолго озерную гладь Пришлось плывущим возмущать — Принес их вскорости челнок На одинокий островок.25
Однако тропки между скал Взор чужеземца не сыскал. Ему казалось, человек Не появлялся здесь вовек. Лишь дева гор смогла найти Следы укромного пути, Которым и пришли они К поляне, скрывшейся в тени, Где несколько берез да ив Стояли, ветви преклонив: Там древний вождь соорудил Убежище от вражьих сил.26
Пред ними был обширный дом, И удивительный притом: Вождь гэлов, строя сей покой, Брал все, что было под рукой. Здесь за опорные столбы Сошли столетние дубы, Меж них высокая стена Была затем возведена, И смесью глины и листвы Промазаны в ней были швы. Строитель сосны для стропил Сыскал и наверх положил. И навалил на них камыш, Какой берут у нас для крыш. На запад обратив лицо, Стояло в зелени крыльцо. Природа два живых ствола Ему опорой возвела, Где, на ветвях повиснув, рос И дикий плющ и ломонос, Тот девичий прелестный цвет, Которого милее нет, И много зелени иной, Сносившей холод озерной. И Элен, встав перед крыльцом, Сказала с радостным лицом: «В сей дивный зал открыт вам вход, И дама вас туда зовет!»27
«Доволен буду я судьбой, Влекущей следом за тобой!..» Но чуть ступил он в пышный зал, Как звон металла услыхал. Хоть он и бровью не повел, Но, оглядев звенящий пол, Он у своих заметил ног Из ножен вырванный клинок. А на стене висят ножны, Бог знает кем водружены; Здесь взор во множестве найдет Следы сражений и охот. И рыцарь сразу же узрел Старинный лук с набором стрел, И различил тотчас же взор Копье и боевой топор, Окровавленные флажки И вепря дикого клыки. А по соседству турий рог И волчью пасть узреть он мог, И хищной рыси пестрый мех — Трофей охотничьих потех, И несколько оленьих шкур. Он увидал, суров и хмур, Все, чем строитель украшал В лесной глуши возникший зал.28
От стен не в силах взор отвлечь, Пришлец упавший поднял меч, Хоть сладить с тяжестью клинка Могла б не каждая рука. И тут сорвалось у него: «Встречал я только одного, Кто богатырскою рукой Клинок бы удержал такой». И молвит дева, вся горя: «Пред вами — меч богатыря! Отец держать его привык, Как я держу простой тростник. Могуч он, точно Аскапарт! Его недаром славит бард! Но он в горах, и в доме сем Лишь слуг и женщин мы найдем».29
Хозяйка в зал вошла тогда. Она была немолода, Но так любезна и мила, Как будто при дворе жила, И Элен за родную мать Ее привыкла почитать. Был столь радушно принят гость, Как у шотландцев повелось. Его не спрашивал никто Откуда он и родом кто: В горах гостям такой почет, Что даже злейший враг — и тот, Когда придет на торжество, То примут радостно его. И наконец открылось тут, Что гостя Джеймс Фиц-Джеймс зовут И он наследник той семьи, Что земли скудные свои Сумела удержать мечом. Простился нынче он с конем, Но, видит бог, готов опять С мечом за честь свою стоять. «Я с лордом Мори между скал Отличного оленя гнал, Всех обогнал, загнал коня, И вот вы видите меня!»30
Теперь надеялся пришлец Узнать, кто девушке отец. По виду старшая из дам Привыкла к шумным городам, Но младшей чистую красу Взрастили словно бы в лесу, Хоть каждый жест в ней выдает Старинный, благородный род. В толпе не сыщется пример Таких пленительных манер. Ни слова рыцарю в ответ Не проронила Маргарет, И, как ребенок весела, Вопросы дева отвела: «Мы жены вещие — вовек Нам жить не там, где человек. Мы в буйных носимся ветрах, Мы в рыцарей вселяем страх. Когда коснется бард струны, То наши голоса слышны». Тут песню завела она, И арфы вторит ей струна.31
ПЕСНЯ Спи, солдат, конец войне! Позабудь о бранном поле, Не терзайся в сладком сне Ни от раны, ни от боли. Отдохни у нас теперь, Нашей вверившись заботе, Тихой музыке поверь В этой сладостной дремоте. Спи, солдат, конец войне! Не терзайся в сладком сне, Позабудь о бранном поле, И о ранах, и о боли. Не разбудит здесь тебя Ни доспехов дребезжанье, Ни трубач, в свой рог трубя, Ни коней ретивых ржанье; Только жаворонок тут Разве крикнет на поляне Или выпи дробь начнут Выбивать на барабане. Не разбудит здесь тебя Ни трубач, сигнал трубя, Ни доспехов дребезжанье, Ни коней ретивых ржанье.32
Она умолкла, и сперва, Стараясь подобрать слова, Возобновила лишь напев, На чужеземца поглядев, Покамест на устах своих Не ощутила новый стих. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕСНИ Спи, охотник, спать пора. Отошла твоя тревога. Солнце выглянет с утра — Донесутся звуки рога. Спи! Собаки спят кругом. Спи! Олень уснул в лощине. Спи! Забудь, что вечным сном Спит твой конь прекрасный ныне. Спи, охотник, спать пора, Спи, не думай до утра. Не поднимет здесь тревога, Не разбудят звуки рога.33
Был озарен огнями зал, И вереск по углам лежал, Другим охотникам досель Не раз служивший как постель. Но в муках гостя виноват Не трав душистых аромат, Не от девичьих вовсе чар В его груди теперь пожар. В тревожном сне пред ним встает Картина бедствий и невзгод. И мнится — конь погиб давно, И в челноке пробито дно, Вконец разгромлены войска И знамя сорвано с древка. А то — да не предстанет мне, Виденье страшное вдвойне — Картина молодых годов, И вновь он верить всем готов; Вот он среди друзей опять, Готовых вновь его предать. Они, как прежде, входят в сны, Мертвы, коварны, холодны, Хоть с виду рад тебе любой, Как будто был вчера с тобой. И он решить не в силах сам, Усталым верить ли глазам Иль, может, сон недобрый сей — Грядущих знаменье скорбей?34
Ему привиделось потом, Что с Элен бродит он вдвоем И шепчет ей любви слова, И внемлет девушка сперва, А он ей руку жмет слегка, Но холодна ее рука. Тут призрак свой меняет вид И в шлеме перед ним стоит: Глаза горят, и грозен лик, Он весь в морщинах, как старик, Но рыцарь видит лишь одно — Он сходен с Элен все равно. Проснувшись, рыцарь стал опять Свое виденье призывать. Поленья, тлевшие в печи, Бросали тусклые лучи; Их отблеском озарена, Добыча дикая видна, И рыцарь беспокойный взор К мечу булатному простер. Был различить не в силах он Где сон, где явь, где явь, где сон, И поднялся, а из окна Глядела полная луна.35
Шиповник посреди ракит Свой щедрый аромат струит, Дарят березы небесам Благоуханный свой бальзам, Луна свой свет неверный льет На лоно опочивших вод. Кому могла бы быть страшна Столь благостная тишина? А рыцарь все глядит во тьму, Себе не веря самому. «Зачем покоя не дает Мне изгнанный навеки род? Зачем на дне девичьих глаз Мне виден Дуглас всякий раз? Зачем, увидев добрый меч, Я с Дугласом робею встреч? Зачем, когда я вижу сон, Опять в нем Дуглас? Всюду он. Довольно! Полно грезить мне! Враг не сдается и во сне. Так помолиться мне пора И отдохнуть хоть до утра». И вот, молитву сотворив И небесам себя вручив, Он, позабывши о былом, Спит непробудным дальше сном, Пока косач начало дню Не возгласит на Бенвеню.Песнь вторая
ОСТРОВ
1
С утра расправил тетерев крыла, И коноплянка бойкая поет, Природа радость жизни обрела, Благословляя солнечный восход; Вдаль незнакомец в челноке плывет, И старца Аллен-Бейна седина Склонилась поутру над лоном вод — Печальная мелодия слышна, И с арфой севера сплетается она.2
ПЕСНЯ Как от весла короткий след Уходит навсегда, Как не останется примет Того, что отражала свет Озерная вода, Сотрется в памяти людской Былая радость и покой,— Ступай же, странник, путь далек, И позабудь про наш островок. Ты будешь первым средь вельмож И впереди в бою, И на охоту ты пойдешь, И будет летний день хорош И скрасит жизнь твою. Владей оружием своим И будь женой своей любим,— И все равно на долгий срок Память удержит наш островок.3
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕСНИ А если счастья не сулит Блаженный, теплый юг, И если твой печален вид, И нет спасенья от обид, И ты вздыхаешь вдруг, И ты узнать желаешь, где Сумеют пособить беде,— Хоть будешь ты от нас далек, Все же припомни наш островок. А если грянет череда Несчастий и невзгод, И для тебя придут года Забот и тягот, и беда Тебя подстережет, О доле не скорби своей, Неверных не ищи друзей. Пусть будет жребий твой жесток, Тебя приютит наш островок.4
В тот миг, когда умолк певец, Причалил к берегу пришлец, Но прежде чем пуститься в путь, Он поспешил назад взглянуть И различил издалека Как лунь седого старика. Тот с арфою сидел своей В тени поникнувших ветвей. Настроясь на певучий лад, Он устремил на небо взгляд, Чтобы от солнечных лучей Душа пылала горячей. Казалось, только струны тронь, И пробудится в них огонь; Старик затих — он ждал, как ждут, Пока решенье скажет суд, И ветерок не смел поднять Седых волос хотя бы прядь, И жизнь, казалось, в мир иной Ушла за дрогнувшей струной.5
Но Элен, подойдя к нему, Смеется вдруг невесть чему. Ей любо ль видеть, как свой флот Красавец селезень ведет, И хоть спаньель рычит опять, Не может уток он поймать? Но кто же этим объяснит Румяный цвет ее ланит? О верность, велика ль вина, Что улыбается она Тому, кто издали с тоской, Прощаясь, машет ей рукой? Коль дамы милые начнут Вершить над Элен строгий суд, Пускай тогда укажут нам, Кто устоял бы здесь из дам.6
Все медлил он, и до тех пор Все отводила дева взор; Когда же гость пустился в путь, Рукой осмелилась махнуть. Потом говаривал не раз Фиц-Джеймс, что сей прощальный час Ему милее был стократ Побед турнирных и наград, Что получать случалось там Ему из рук прекрасных дам. Теперь с собаками, пешком, Охотник за проводником Идет, спускаясь по холму, И Элен смотрит вслед ему. Но чуть он скрылся меж камней, Как совесть пробудилась в ней. «Сколь ты тщеславна и пуста, — Твердили совести уста,— Ведь твой бы Малькольм стал навряд Речь на саксонский строить лад, А также, преступив обет, Глядеть другой печально вслед». «О пробудись, певец, от сна! — Вскричала горестно она.— Дремоту грустную развей, Я тему арфе дам твоей, Поникший дух согрею твой — Величье Грэмов ты воспой!» Но это вымолвив, она Была немного смущена: Во всей округе, как на грех, Был Малькольм Грэм красивей всех.7
Ударил по струнам старик — Ему был ведом их язык. И перешел их гордый гнев В меланхолический напев. Старик согнулся, говоря: «Меня ты, Элен, просишь зря, Ты только мне терзаешь грудь, Не властен в песнях я ничуть: Струнами властвует, звеня, Тот, кто стократ сильней меня; В восторге я коснулся их, Но звук безрадостен и тих, И марш победный обращен В надгробный плач, в протяжный стон. О, счастлив буду я вполне, Коль смерть сулит он только мне! Есть слух, что арфы этой глас В дни наших дедов смертный час Владельцу своему предрек. О, пусть меня настигнет рок!8
Вот так же ей пришлось рыдать, Когда твоя кончалась мать — Хотел извлечь я из струны Напевы гневные войны, Любви желал воздать сполна, Но непокорная струна, На все ответствуя одним Стенаньем горестным своим, Парадный оглашала зал, Хоть Дуглас бед еще не знал, О, если груз былых невзгод Опять на Дугласов падет И пенье арфы принесло Прекрасной Элен только зло, То радости грядущих дней Не будут воспевать на ней: Я песню скорбную спою, В нее вложив тоску свою, Потом сломаю арфу сам И душу господу отдам».9
«А ты, — она сказала, — пой, Чтоб обрела страна покой. Любой напев тебе знаком, Что прозвучал в краю родном, И там, где Спей свой бег стремит, И там, где протекает Твид, В былые дни и в наши дни — Вот и мешаются они, И вперебой твой слух томят То скорбный плач, то шаг солдат. Откуда нынче ждать беды? Уже давно мы не горды. Так отчего отцу опять Перед судьбиной трепетать? Еще какую ждать напасть? Он отдал титулы и власть. Да, буря листья унесла, Но ей не сокрушить ствола. А я, — рекла она, сорвав Цветок, пробившийся меж трав, — Я не любила никогда Былые вспоминать года. Мне этот нежный цвет полей Венца монаршего милей. Росой омытый, он возрос Пышнее королевских роз, И, коли честен ты и прям, То, верно, согласишься сам — К моим идет он волосам!» И девушка спешит скорей Цветок приладить меж кудрей.10
Ее взволнованная речь Сумела старика увлечь, И к ней свой просветленный взор Он благодарственно простер И, умилившийся до слез, Благоговейно произнес: «Прекрасная, ты знать должна, Чего ты нынче лишена. Мечтаю я о той поре, Когда ты снова при дворе По праву будешь принята. Твоя безмерна красота! Кто сам хорош собой — и тот, Тебя увидев, лишь вздохнет, И Сердце девичье в крови[36] В нем разожжет огонь любви.11
Вздохнула девушка: «Мечты! (И дрогнули ее черты.) Нет, мшистый камень мне милей, Чем трон шотландских королей, Я веселее не смогу Быть во дворце, чем на лугу. Пусть барды там поют толпой — Им не угнаться за тобой. Пускай поклонники бы там За мной ходили по пятам, Но из твоих выходит слов — Здесь Родрик мне служить готов! Саксонцев бич, отчизны честь, Он страх на всех успел навесть, Но рад провесть денек со мной, Прервав набег очередной!»12
«Ты плохо, — старец ей в ответ, — Для шуток выбрала предмет: Кровавым Родрика зовут, Над ним не посмеешься тут. Он в Холируде, я видал, Вонзил в соперника кинжал, И расступился молча двор Перед убийцей. С этих пор Он страшен — горная страна Жестоко им покорена. Мне не хотелось бы опять Тот день печальный вспоминать, И все же Дуглас в скорбный день Мечась, как загнанный олень, Где отыскал родную сень? Лишь атаман разбойных сил Нас в эту пору приютил. Ты расцвела, и он, поверь, О свадьбе думает теперь. Лишь вести ждет из Рима он, Что брак сей папой разрешен. Хоть Дуглас, и в чужом краю Отвагу сохранив свою, Поныне грозен и силен, А Родрик красотой пленен, И ты бы ныне, да и впредь, Могла б как хочешь им вертеть, Над ним не смейся, осмелев: Перед тобой — свирепый лев».13
«Поэт! — ответила она, Гордыни, как отец, полна. — Не позабыла я о том, Чем для меня был этот дом. Мы честь хозяйке воздаем. Уже за то ее я чту, Что приютила сироту, Что сын ее бесстрашный нас От короля шотландцев спас. Мы всем обязаны ему, И за него я смерть приму, Всю кровь отдам по капле я, Но не возьму его в мужья. Я в монастырь пойду скорей Влачить остаток жалких дней, Я лучше за море уйду Свою оплакивать беду, Скитаться по миру начну, В чужую убегу страну — Не назовет меня женой Тот, кто любим не будет мной.14
Старик, ты хмуришься опять? Что можешь ты еще сказать? Я знаю, он — храбрец, старик, Но как морские волны дик. Он честь блюдет, — покуда гнев Не вспыхнет, сердцем овладев. Хоть, жизни не щадя своей, Он за своих стоит друзей, Он бессердечен, точно сталь, — Врагов ему ничуть не жаль. Не стану спорить я о том, Что одаряет он добром, Какое дал ему разбой, Свою родню, придя домой. Но остается стыть зола На месте шумного села. Хоть я обязана вдвойне Руке, отца сберегшей мне, Но не могу питать любви К тому, кто весь в чужой крови. Его достоинствам дано Лишь показать, что в нем черно, И озарить дурное в нем, Как будто молнии огнем. Еще в младенчестве, пока Была по-детски я чутка, Чуть появлялся черный шлем, Терялась, помню, я совсем. Заносчивый, холодный взор Меня пугает до сих пор. И если ты, старик, всерьез Слова о свадьбе произнес, Страшиться мне пришел черед, Коль страх и Дугласов берет. Бог с ним. Поговорить пора О том, кто был у нас вчера».15
«Что мне сказать? Будь проклят час, Когда явился он у нас! Не зря звенел отцовский меч, Но чтобы нас предостеречь! Ведь тот, кто прежде им владел, Укрывшись тут от ратных дел, Знал: если меч звенит, дрожа, Враги стоят у рубежа. Суди сама — добро ль суля, Тут был лазутчик короля? Ужель, последний наш оплот, И этот островок падет? Но если даже честен гость, Умерит разве Родрик Злость? Ты, верно, помнишь до сих пор, Какой он учинил раздор,— А оттого лишь был он зол, Что Малькольм в пляс с тобой пошел. Хоть Дуглас охладил их пыл, Поныне Родрик не остыл. Будь осторожна! Но постой, Что слышу я? Не ветра вой, Не шелест трепетных ветвей, И не шипенье горных змей, И не волненье сонных вод… Все ближе, ближе голос тот! Он повторяется! Внемли! Уж не труба ль поет вдали?»16
Вставали, словно бы со дна, Четыре темные пятна, И расширялись и росли, Преображаясь в корабли: Их чем-то, видимо, привлек Забытый всеми островок. Все ближе, ближе, ближе он; И ярким солнцем сто знамен С изображением сосны На кораблях озарены. Узрели дева и старик Сверканье копий, стрел и пик, И плед шотландский на ветру Вздымался к шляпе и перу. Они заметили потом Гребцов, согбенных над веслом; Гребцы склоняются вперед, И по волнам корабль несет. А на носу, построясь в ряд, Певцы с волынками стоят; Волынки свой заводят гуд, И звуки хриплые плывут, И, поднимая гордо взгляд, Певцы поют на старый лад.17
А корабли вперед плывут, И все слышней далекий гуд, Хотя нельзя еще сперва Понять отдельные слова, Но, вырываясь из-за гор, Все явственней, все ближе хор. Вслед за тревожною трубой, Весь клан сзывающей на бой, Внезапно возникал в ушах Воинственный, тяжелый шаг. Уже казалось, что на зов Сбежались тысячи бойцов, И начал сотрясаться лог От топота солдатских ног. А этот топот среди скал Обычно людям предвещал, Что скоро гул и гром войны Им будут явственно слышны. Сулил призывный глас трубы Ожесточение борьбы, И, нарастая, звон мечей Все становился горячей; Кипела битва, и опять Враг принужден был отступать, Клан побеждал, но враг был смел, И жаркий бой опять кипел,— И вдруг стихало все, и вдруг Преображался дальний звук, Спеша излить печаль свою И славя тех, кто пал в бою.18
Смолкали трубы, и потом Гремело эхо за холмом, И тут, притихший до сих пор, Внезапно пробуждался хор, Решив, пока умолкла медь, Вождя отважного воспеть. Пел, веслам в такт, ему хвалу Гребец, склонявшийся к веслу, И голосов ломался строй, Как ветер осенью сырой. Сначала разобрал старик: «Будь славен, Родрик, и велик!» Стоустый приближался глас, И песня воинов лилась.19
КОРАБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ Храброму воину вечная слава! Вечнозеленая, славься, Сосна! В знамени нашем расти величаво, Будь горделива, светла и стройна. Влага с небес падет, Хватит подземных вод, Чтобы ты людям на благо росла. Горный собрался люд, Все как один поют: «Родрику слава, и честь, и хвала!» Ты не тростинка из нежных растений, Ты не цветок, что цветет лишь весной. Листья срывает пусть ветер осенний: Элпайн весь год под зеленой Сосной. Нет ничего сильней Цепких твоих корней, Хоть под тобой раскололась скала. Слышен со всех сторон Эха веселый звон: «Родрику слава, и честь, и хвала!»20
Наши волынки гудели в ложбинах, Слезы да стоны слыхали в ответ. Рос-Лу и Глен-Ласс поныне в руинах, Лучших оттуда в живых уже нет. А у саксонских вдов, Верно, не хватит слов, Чтобы порочить Элпайн со зла. Ленокс и Ливен вдруг Вздрогнут, чуть внемлет слух: " Родрику слава, и честь, и хвала!» Эй, налегайте на весла, вассалы, Правьте во имя зеленой Сосны, Время домой ворочаться настало, Алые розы вдали нам видны. Пусть же судьба привьет Дивной породы плод К ветви любимого нами ствола; Пусть же клан Элпайн весь Радостно грянет днесь: «Родрику слава, и честь, и хвала!»21
Тут леди Маргарет к судам Сошла в сопровожденье дам, Они спускались под откос, Не повязав своих волос, И хором воздана была Герою Родрику хвала. И, продолжая ликовать, Счастливая велела мать, Чтобы двоюродной сестрой Был встречен доблестный герой: «Не Дуглас разве твой отец? Надень же храброму венец!» И Элен, с горечью в душе, Повиновалась бы уже, Но в эту пору среди скал Трубач далекий заиграл. «О Аллен-Бейн, пришел домой Родитель благородный мой; Давай на ялике вдвоем Его сюда перевезем!» Она быстрей, чем солнца луч, К воде сбежала с горных круч; Покамест Родрик среди скал Предмет любви своей искал, Был от нее уже далек Уединенный островок.22
Из смертных быть дано иным Причастным к чувствам неземным, И так порой слеза чиста, Что человеком пролита, Как будто кротко в час тоски Скатилась с ангельской щеки, И удержать ее невмочь Отцу, увидевшему дочь. Бесстрашный Дуглас, полный сил, Дочь обнимая, ощутил, Что затмевают слезы взор, Хоть их не знал он до сих пор. И, встрече радуясь с отцом, К его груди припав лицом, Узрела дочь, что мучит стыд Того, кто в стороне стоит, А представлять его зачем, Коль это юный Малькольм Грэм?23
Тогда же Аллен увидал, Что Родрик к острову пристал, Но прежде чем глаза опять На горца гордого поднять, С тоской на Дугласа взглянул И слезы со щеки смахнул. А Дуглас, Малькольма обняв, Сказал (и был, должно быть, прав) «Мой друг, наш Аллен омрачен — Все позабыть не может он Тебе неведомого дня, Когда хвалой встречать меня К воротам Босуэла пришло Певцов несметное число. Несли у Нормана в боях Отбитый мной кровавый стяг Пятнадцать рыцарей — любой Славней, чем Родрик удалой. Я мог доволен быть собой. Но, Малькольм, верь: была тогда Моя душа не столь горда, Хоть каждый шедший в свите лорд Мной, победителем, был горд, И в Босуэле, в любом углу Все воздавали мне хвалу,— Как ныне, старца видя грусть И радость дочки, я горжусь, И мне милее их привет, Чем счастье воинских побед. Прости, но мне они дарят Замену всех моих утрат».24
От щедрой стали похвалы Девичьи щеки вдруг алы, Но в том и прелесть сих похвал, Что Дуглас рек, а Грэм внимал. И Элен, скрыть стараясь стыд, Теперь собак к себе манит, И на девичий нежный зов Спешит покорно свора псов. К ней на плечо, чуть позвала, Сел сокол и сложил крыла Он к ней и ластится и льнет, Не помышляя про полет. Она, меж сокола и псов, Подобна божеству лесов. Хотя родитель, может быть, Сверх меры начал дочь хвалить, Влюбленному еще трудней Сужденье высказать о ней: Любимый облик вновь и вновь Внушает пылкую любовь.25
Отлично Малькольм был сложен, Да и лицом хорош был он. Едва ль досель в шотландский плед Ему подобный был одет. И что, скажите мне, вилось Нежней льняных его волос? Но от него, как от орла, Укрыться птица не могла. Он все тропинки знал в горах, Не ведал, что такое страх, И лань спастись старалась зря, Когда вставал он, лук беря: Хотя как ветер мчалась дичь, Он успевал ее настичь И дальше шел путем своим, Отважен и неутомим. Он и душою и на вид Был пылок, смел, учтив, открыт. До встречи с Элен не был он Еще ни разу так влюблен. Плясало сердце в нем — совсем Как гребень, украшавший шлем. Но люди, знавшие о том, Что не мирился он со злом, Что волновал его не раз О древних подвигах рассказ, Не сомневались ни на миг: Когда б он зрелости достиг, То, полный разума и сил, Совсем бы Родрика затмил.26
Обратно двинулся челнок, И дева молвила: «Далек Ты был от нас и одинок, Отец, что ж не спешил назад?» Все прочее добавил взгляд. «Мое дитя, охота мне Напоминает о войне, Напоминает лишь она Мои былые времена. Близ Гленфинласа предо мной Явился Малькольм молодой. Небезопасно было там: За мной ходила по пятам Толпа охотников, но он, Хоть этим преступал закон, Рискнул сопровождать меня, От верной гибели храня. Надеюсь, Родрик удалой Не вспомнит о вражде былой, А иначе бог весть к чему Стоять за Дугласа ему».27
Увидев Грэма, храбрый гэл Мгновенно весь побагровел, Хотя не выдал грозный взгляд Того, что гостю он не рад. За разговорами денек Так весь у них бы и протек, Да в полдень прибывший посол В сторонку Родрика отвел, И обнаружилось тогда, Что ожидает их беда. Все Родрик мыслил о своем, Но к ужину велел звать в дом И рассадил у очага Мать, Грэма — своего врага И Элен с Дугласом. Он вдруг Умолк, потом взглянул вокруг, Как будто пробовал сперва Сыскать достойные слова. Потом, поправив свой кинжал, Он поднял брови и сказал:28
«Я буду краток — я таков, Что попусту не трачу слов. Отец мой! — если так назвать Себя позволит Дуглас. Мать! Сестра! Но отчего с тоской Ты, Элен, взор отводишь свой? И Грэм, с кем буду я знаком Как с добрым другом иль врагом (Об этом речь пойдет, когда Войдет он в зрелые года),— Внимайте: объявил король Смерть всем, кто вольным был дотоль! Кто выходить любил на лов, На дичь пуская соколов, Сам угодил теперь в капкан; А кем король на пир был зван, Кто послужить хотел ему, Тот умерщвлен в своем дому. Их кровь ко мщению зовет В краю, где льется Тивиот, Где Эттрик свой поток стремит И плещет полноводный Твид. Наш край, что вольно жить привык, Теперь пустынен стал и дик. Днесь коронованный тиран, Кровавой спесью обуян, У нас бесчинствует в стране. Охота вновь пролог к войне! Пример соседних областей Раскрыл намеренья гостей. К тому же ведайте, что враг Заметил Дугласа в горах, — Об этом мой вассал донес. Что ж делать нам — вот в чем вопрос?»29
Со страху помутился свет Для Элен и для Маргарет. Одна в отца вонзает взгляд, Где сын — глаза другой глядят. В лице менялся между тем Неустрашимый Малькольм Грэм, И, коль судить по блеску глаз, За Элен он дрожал сейчас. Тут старый Дуглас молвил им, Печален, но неколебим: «Отважный Родрик, грозен гром, Но не всегда чреват огнем, И все же лучше я уйду, Чтоб не втянуть и вас в беду И гневных молний не навлечь; Я избегу с монархом встреч. А ты, коль будешь ты не прочь Войсками королю помочь, То, покорясь и поскромкев, Ты отведешь монарший гнев. Останки Сердца — я и дочь — Уйдут вдвоем отсюда прочь Искать лесной сторожки сень, Где мы, как загнанный олень, В беде прибежище найдем И где погоню переждем».30
«Нет, — молвил Родрик, — никогда! Такого не снести стыда Моей наследственной Сосне, Мечу отцовскому и мне. Нет, Дугласов почтенный род Один на гибель не пойдет! Послушай, дай мне в жены дочь, Советом обещай помочь, И — Родрик с Дугласом вдвоем — Друзей немало мы найдем: Ведь есть причины, чтобы к нам Пристать всем западным вождям. Чуть возвестит труба мой брак, От ужаса согнется всяк Во вражьем логове в дугу, А факел свадебный зажгу — Так будет выжжена земля, Что сон пройдет у короля. О Элен, погоди! О мать, Меня не надо осуждать — Я вот ведь что хотел сказать: К чему пылание войны, Коль Дуглас всех детей страны Сплотит и все мы вместе с ним В горах проходы заградим? Ведь коль закрыт в горах проход, Король обратно повернет».31
Найдется меж земных сынов Такой, что в башне спать готов, Когда внизу морской прилив Безумствует, нетерпелив. Он спит, дурные видя сны, Покуда небеса темны. Но чуть, зарею пробужден, Внезапно в бездну глянет он, Ему откроется провал. Он слышит, как бушует шквал, И видит: ложе, где он спит, Как волос на ветру дрожит. Не здесь ли возникает страх В железных некогда сердцах, Который им велит идти По наихудшему пути? Вот так и Элен страх толкал Теперь как в бездну, как в провал: Едва понятны стали ей Все ужасы грядущих дней, Пришла ей мысль спасти отца Ценою брачного венца.32
По виду девы в тот же миг Грэм в этот замысел проник. Рванулся юноша вперед, Но не успел раскрыть он рот, Как Дуглас увидал, что дочь Не в силах муки превозмочь, И то она огнем горит, А то отхлынет от ланит Вся кровь, и вновь она бледна, Как уходящая луна. «Довольно, Родрик! Знай, что ей Вовеки не бывать твоей! Румянец у нее не тот, Что склонность сердца выдает. Тому не быть. Ты нас прости И лучше с миром отпусти. Знай, не в обычае моем На короля идти с копьем. В былые годы у меня Учился он седлать коня. Он славный мальчик прежде был, И я, как дочь, его любил. Его поныне я люблю, Хоть не угоден королю. Не стоит принимать тебе Участие в моей судьбе».33
Такой ответ смутил вождя. Он, зал огромный обходя, Глядел из-под густых бровей, Не пряча горечи своей. При факелах отважный гэл Полночным демоном смотрел, Склонившим тени темных крыл Там, где паломник проходил. Неразделенная любовь Вождя терзала вновь и вновь, И Родрик Дугласа опять Стал пылко за руки хватать, И слезы хлынули из глаз С его рожденья в первый раз. Без упованья прежних лет Померк навеки белый свет, И ходуном ходила грудь; Уж не гордился он ничуть И лишь без умолку рыдал, Притихший оглашая зал. Рыдает сын, страдает мать, И ужас деву стал терзать, Она встает, нельзя грустней, И Малькольм следует за ней.34
Но Родрик обернулся к ним, Огнем безжалостным палим. Все — стыд, и боль, и пыл, и злость — В багровом пламени слилось: Отныне Родрик удалой Вернулся к ревности былой. Он тотчас Малькольма схватил И во все горло завопил: «Назад! Иль свет тебе не мил? Назад, мальчишка! Иль не впрок Тебе недавний был урок? Так радуйся, что здесь мой дом! А счеты мы еще сведем!» Но, как борзая, между тем На Родрика рванулся Грэм: «Пусть на меня падет позор, Коль меч не разрешит наш спор!» Сильны, смелы и горячи, Схватились оба за мечи. Бой грянул. Дуглас в тот же миг Развел соперников лихих И молвил: «Кто продолжит бой, Отныне враг навеки мой! Безумцы, прочь войны металл! Ужель так низко Дуглас пал, Что даст оспаривать в бою Он дочь любимую свою?» Обоих охвативший стыд Им отпустить врага велит, Но на врага нацелен взгляд И острый меч в руке зажат.35
Но скоро меч в ножны убрать Уговорила сына мать, И храбрый Малькольм был смущен, Услышав Элен горький стон. А Родрик, спрятав острый меч, Повел язвительную речь: «Проспись! Грешно в такую ночь Ребенка гнать из дома прочь. А утром к Стюарту ступай, Скажи, что Родрик за свой край Сумеет постоять в бою И не уронит честь свою. А к нам пожалует король — Путь указать ему изволь! Мой паж, чтоб зла не сталось с ним, Охранный лист ему дадим!» Но Малькольм вымолвил в ответ: «Тебе страшиться нужды нет: Незыблем ангела приют, Хоть там разбойники живут; Глумись же ты над теми, в ком Нет силы стать тебе врагом. И знаю горные пути И в полночь там могу пройти, Хотя бы даже где-нибудь Сам Родрик преградил мне путь. О Элен, Дуглас, мы опять Должны друг друга увидать. Я отыскать сумею вас И не прощаюсь в черный час. Знай, Родрик, встретимся и мы!» Он молвил и пропал средь тьмы.36
И Аллен вышел с ним во тьму (Так Дуглас повелел ему). Он гостю объявил о том, Что Родрик Огненным крестом Поклялся озарить страну, Клан поднимая на войну, И Грэму встретить не к добру Тех, кто сойдется здесь к утру. Старик совет ему дает, Где переплыть чрез бездну вод, Но тратит на ветер слова. Не внемля старцу, Грэм сперва Снял все, во что он был одет, И, уложив в свой пестрый плед, Им обвязал крест-накрест грудь, И в озеро готов нырнуть.37
Но прежде рек: «Прощай, отец, Ты — преданности образец!» — И руку протянул ему. «О, даже в собственном дому Не властен я укрыть друзей! Господствует в стране моей Теперь король, а я пока Владелец сердца да клинка. Но если я в своем роду Хоть душу верную найду, Забудет Дуглас в тот же день, Что жил как загнанный олень, Пока его родную дочь… О, даже вымолвить невмочь! Но Родрику сказать могу, Что у него я не в долгу — Я не взял даже и челна!» И скрыла юношу волна. И вот по гребню пенных вод Отважный юноша плывет, И Аллен свой усталый взор Вслед смельчаку туда простер, Где по-над кипенем волны Тот плыл в сиянии луны, И волны прочь гнала рука, Как будто пену с молока. Не смог он, к берегу приплыв, Сдержать ликующий порыв И громко крикнул, и поэт Махнул рукой ему в ответ.Песнь третья
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ
1
Да, время всех уносит. Где же те, Что в давние года растили нас, О подвигах и прежней красоте Порой ведя волнующий рассказ? Что с ними стало? Где они сейчас? Сегодня только горстка старцев ждет На берегу морском, придет ли час, Когда прилив неукротимых вод В пучину времени навек их унесет. И все же кто-то и поныне жив, Кто мог бы помянуть былые дни, Когда с полей, и гор, и тихих нив На рог вождя поспешно шли они Всем кланом; и в кругу своей родни Со знаменем, безгласен и суров, Он ждал их, как ведется искони; И слышен был волынок хриплый зов, И крест, как метеор, пылал среди холмов.2
Над озером заря встает, Окрасив синь безмолвных вод, И ветер, их едва задев, Слегка касается дерев, И красной девицей вода Чуть-чуть зарделась от стыда, И отраженья гор на дне Дрожат, послушные волне, Неясно в эту пору дня Воображение дразня. Раскрылись лилии кругом, Чуть отливая серебром, Малютку олененка мать На луг выводит погулять, Туман уходит, друг ночей, Стремительный бежит ручей, Незримый жаворонок льет Задорно-звонко трель с высот, Дрозды стучат ему в ответ, Как бы приветствуя рассвет, И голубь песни шлет свои Во славу мира и любви.3
Волненья Родрика не смог Смягчить смиренный голубок. Всегда суров и тверд в беде, Спустился быстро он к воде И, глянув на небо, свой меч Из ножен поспешил извлечь. А под горой уже стоят, Свершить готовые обряд, Вассалы, рвения полны: Сегодня крест, как знак войны, Здесь будет гэлами зажжен И в путь далекий снаряжен. Узрев вождя суровый взгляд, Толпа отпрянула назад — Такой бросают взор орлы, Когда взмывают со скалы, И крылья, словно паруса, Несут их прямо в небеса, А тень, качаясь на волнах, Пернатых повергает в страх.4
Тем временем со всех сторон Был можжевельник принесен И ветви дуба, что упал, Грозой сраженный наповал. Был Брайан там, анахорет. Он в рясу черную одет, Бородкой чахлою оброс, Суров и мрачен, худ и бос, Все тело в ранах и в рубцах — Таков смиренный был монах. Нашествием нежданных бед Был вынужден анахорет Сменить молитву и покой На шум сумятицы мирской. А впрочем, Брайан был на вид Не столь священник, сколь друид И по жестокости своей Мог в жертву приносить людей. В своих языческих речах Сулил он людям только страх, Взяв из учения Христа Одни лишь скорбные места. Недаром из окрестных сел Никто с бедой к нему не шел. Его завидя между скал, Охотник псов своих сзывал, И даже кроткий пилигрим, На узкой тропке встретясь с ним, Спешил с молитвой на устах Сокрыть его объявший страх.5
Носился слух — ужасен он, — О том, как Брайан был рожден: Мать понесла его во мгле На кровью политой земле, Где груды праха и костей Лежат под небом с давних дней. Солдат испытанный — и тот При зрелище таком вздохнет. Здесь корень руку оплетал, Что прежде гнуть могла металл; Где сердце билось много лет, Теперь был высохший скелет, Там иволга, синица, дрозд Себе нашли места для гнезд, И, кольца мерзкие вия, Сквозь прах и тлен ползла змея. Хоть черепа размозжены У полководцев той войны, Но, как венец, вокруг чела Цветов гирлянда расцвела. Всю ночь, одолевая страх, Блуждала дева в тех местах. Не прикасался к ней пастух, И ловчих не было вокруг, И все же девичий убор Алисе не к лицу с тех пор. Ушла веселость прежних дней, И поясок стал тесен ей, И с этой ночи роковой Девица в церковь ни ногой. Пришлось ей в сердце тайну скрыть И без причастья опочить.6
Один меж сверстников своих Рос Брайан, сумрачен и тих. Сызмальства полный горьких дум, Был нелюдим он и угрюм И, уязвлен молвою злой, Все думал, кто же он такой? Ночами лесу и реке Он сердце поверял в тоске, Пока не вздумал как-то раз В людской уверовать рассказ, Что был родным его отцом Туманом созданный фантом. Вотще несчастному приют Монахи кроткие дают, Вотще ученые мужи Врачуют скорбь его души — Он и в томах старинных книг Отраву находить привык, И, в непонятные места Все углубляясь неспроста, Он в них отыскивал слова Для каббалы и ведовства, Пока, измучен и разбит, С душой, исполненной обид, В пещере горестной своей Он не сокрылся от людей.7
В пустыне позднею порой Пред ним вставал видений рой. Сын темных сил, у черных скал Он ключ кипящий созерцал, Пока, из пены вод рожден, Пред ним не возникал дракон; Туман спускался с высоты, Приняв бесовские черты, И неумолчный ветер выл, Как хор восставших из могил. И видел он грядущий бой И поле смерти пред собой,— Так, отрешенный от людей, Себе он создал мир теней. Но был на свете уголок, Который сердце старца влек: Ведь с материнской стороны В родстве с ним Элпайна сыны. И вот на дне его души Раздался вещий глас бэн-ши, А ночью ржание коней Неслось с Бен-Харроу все сильней И топот конницы у скал, Где путь ничей не пролегал. Наутро смотрит — там видна Грозой разбитая сосна. То знак войны! Он эту весть В клан Элпайна спешит принесть, Готовый клан родной опять Благословлять и проклинать.8
Все приготовлено. Пришла Пора заклания козла, И патриарха тучных стад Клинком отточенным разят. И смотрит жертвенный козел, Как ток малиновый пошел, Но вскоре смертной ночи мгла Ему глаза заволокла. Священник, хил и слаб на вид, Молитву тихую творит, И крест из тисовых ветвей Спешит связать рукой своей. Вдали, в Инч-Кэльяхе видны Деревья — Элпайна сыны Под ними спят, и, к ним склонен, Тис стережет их вечный сон. Подняв рукой дрожащей крест И дико поглядев окрест, Монах без воплей и без слез Проклятье трусу произнес:9
«Кто, с этим встретившись крестом, Не вспомнит тотчас же о том, Что мы, покинув отчий дом, Выходим все на бой с врагом, — Проклятие тому! А тот из нас, кто бросит бой И клан в беде оставит свой, Не жди пощады никакой! Нет, с прахом предков жалкий свой Прах не смешать ему!» Потом остановился он, И тут мечей раздался звон, И глас его был повторен Вассалами со всех сторон, Все вторили ему. Сперва их клятва чуть слышна, Потом, как бурная волна, Восставшая с морского дна, Растет и ширится она: «Проклятие ему!» И этот грозный клич во мгле Орла встревожил на скале, И, словно отклик боевой, В лесу раздался волчий вой.10
Когда утихнул гул в горах, Опять заговорил монах, Но глуше голос зазвучал, Покуда крест он возжигал. Безмерный гнев его не стих, — Хоть призывал он всех святых, Но тем лишь осквернял он их. И у горящего креста Твердили злобные уста: «Вовеки будет проклят тот, Кто меч немедля не возьмет. Он от возмездья не уйдет: Огонь безжалостно пожрет Его в его дому. Ему придется увидать, Как будет кров его пылать И дети малые стенать, Но он о помощи воззвать Не сможет ни к кому». И женский крик со всех сторон Был словно карканье ворон. Навек предатель осужден: Детьми — и то произнесен Был приговор ему. И прозвучал всеобщий глас: «Пускай он сгинет с наших глаз, Пускай погибнет в тот же час, Пускай навек уйдет от нас И скроется во тьму!» И смесь стенаний, воплей, слез В Койр-Эрскин голос эха нес, Туда, где ввысь ряды берез Взбирались по холму.11
Хоть Брайан после этих слов Как будто замолчать готов, Его все так же грозен взгляд: Отшельник злобою объят. Ему вторично гнев и страсть Велят отступника проклясть, Коль на креста призывный знак Тот не откликнется никак. И крест он окунает в кровь И голос возвышает вновь, И внятен каждому вокруг Глухой и хриплый этот звук: «Клан Элпайн, пусть гонец с крестом Теперь заходит в каждый дом. У тех, кто будет к зову глух, Пускай навек исчезнет слух; Пусть те, кто в бой идти не смог, Навек останутся без ног; Пусть ворон очи им клюет, Пусть волк их в клочья разорвет, Чтоб кровь очаг их залила, Как кровь убитого козла. Угаснут пусть, как жизни свет, — Предателям пощады нет! Рассыпься в прах! Исчезни, сгинь!» И глухо слышится: «Аминь!»12
Тут Родрик, поглядев вокруг, Взял крест у Брайана из рук. Пажу он молвил: «Этот крест Прими и с ним скачи окрест И в Лэнрик созывай людей. Спеши, мой Мэлис, в путь скорей!» Быстрей, чем пташка от орла, Понесся легкий челн посла. Он на корме один стоял, Бросая взор на выси скал. Гребцы без устали гребли, От милой уходя земли, И челн по вспененным волнам Стремил их к дальним берегам. Но вот осталось до камней Не более трех саженей, И спрыгнул на берег с челна Гонец, несущий весть: война!13
Спеши, мой Мэлис! До сих пор Не мчалась лань так быстро с гор. Спеши, мой Мэлис! Ведь досель Столь важной не бывала цель. Стремглав взбирайся по холму, Стрелой спускайся по нему И не страшись, коль путь ведет В лесные дебри, в глубь болот. Умей ручей перемахнуть, Подобен гончей, Мэлис, будь, Чтоб и отвесная скала Тебе препоной не была. Пусть жажда жжет тебя огнем, Ты не склоняйся над ручьем, Пока весь путь не пройден твой. Герольд, сзывающий на бой, Не к милой ты теперь спешишь, Не за оленем в чаще мчишь И, состязаясь в быстроте, С друзьями не бежишь к мете, — Война и смерть в руке твоей. Вперед, мой Мэлис, в путь скорей!14
Завидев вещий знак, спешат К оружию и стар и млад. И селянин и житель гор Хватают пику и топор. А вестник все летит вперед, Крест предъявляет и зовет Всех к месту сбора, и потом Вновь исчезает, как фантом. Бросает сеть свою ловец, Берется за кинжал кузнец. Некошен, зеленеет луг, Заброшенный ржавеет плуг, Скучает праздно борозда, Без пастухов бредут стада, И, уплатив смятенью дань, Охотник упускает лань. «К оружию!» — раздался зов, И толпы Элпайна сынов Спешат собраться поскорей Внизу, у озера Экрей. Родное озеро! Беда Ходила вкруг тебя тогда. А нынче взглянешь — выси скал И рощу тихий сон объял, И только жаворонок в зной Вдруг потревожит их покой.15
Спеши, мой Мэлис! Там, глядишь, Данкрэгген встал цепочкой крыш; И, как утес, поросший мхом, Вознесся замок за холмом. Здесь отдохнешь ты, вещий крест Отдав владельцу этих мест; И, словно ястреб с высоты, К желанной цели мчишься ты. Но слышишь?.. Плач со всех сторон Час возвещает похорон. Бойцу уж не вернуться в бой, Ушел охотник на покои, И где герой найдется тот, Что место павшего займет? Мертвец не солнцем озарен, Он факелами освещен. Лежит наш Дункан недвижим, И слезы льет вдова над ним. И старший сын скорбит душой, И плачет горестно меньшой. Толпа безмолвная стоит, И песня плакальщиц звучит.16
ПОМИНАЛЬНЫЙ ПЛАЧ Как ручей, что сокрылся Между скал в летнем зное, Так и он распростился С милой чащей лесною. Если горным потокам Дождь несет обновленье, — В нашем горе глубоком Нам нет утешенья! Зрелый падает колос, Серп по ниве гуляет, Скорбный плакальщиц голос Храбреца поминает. Бродит осенью ветер, Он играет листвою. Был наш Дункан в расцвете — Смерть сразила героя. Был он в сердце — добрейшим, Был он в беге — легчайшим, Был он в битве — храбрейшим, Спит он сном глубочайшим. В небе облачко тает, Истощаются реки, И роса высыхает — Ты уходишь навеки.17
У ног покойника поник Пес, что служить ему привык. Бывало, лишь заслышит зов, Уж он стрелой лететь готов. Но что ж он уши навострил? Чей быстрый шаг он уловил? То друг давнишний, может быть, Явился горе разделить? Но нет, ужасный вестник с гор Примчался к ним во весь опор. Никто и слова не сказал, А Мэлис уж ворвался в зал И, крест вздымая, возвестил, Там, где покойник опочил: «Сей знак пусть примет кто-нибудь, И в Лэнрик все держите путь!»18
И юный Ангюс принял крест — Ведь он наследник здешних мест, Потом родительский кинжал И меч на пояс повязал, Но уловил, взглянув назад, Молящий, безутешный взгляд И, всей душой жалея мать, Спешит несчастную обнять. Рыдая, шепчет мать: «Ступай, Не посрами родимый край!» Смахнув слезу, он глянул в зал, На ложе, где отец лежал, Потом вздохнул разок-другой, Потом берет поправил свой И, словно юный гордый конь, Неукротимый, как огонь, Прочь поспешил своим путем С подъятым огненным крестом. Еще он был среди своих, А плач вдовы уже затих, И, слезы осушая, мать Решилась Мэлису сказать: «Кому ты нес вождя приказ, Того уж ныне нет меж нас. Пал старый дуб — защитник мой, Дубок остался молодой. Он защитит нас от обид, И пусть господь его хранит. Все те, кто на полях войны Бывали Дункану верны, — На бой! А с плачем петь псалмы И без мужчин сумеем мы». Тут тихий оживился зал, И ратный зазвенел металл, И все, что на стенах висит: Кинжал и меч, копье и щит — Вдова бойцам передала. Уж не надежда ль в ней жила, Что сможет боевая рать Из гроба Дункана поднять? Но вскоре пыл ее угас, И слезы хлынули из глаз.19
Уж на Бенледи виден крест, Он освещает все окрест. Ни разу дух не перевел Младой гонец, войны посол, И слезы смахивал со щек Ему лишь легкий ветерок. Но Тиз к лесистому холму Дорогу преградил ему — Мы на холме поросшем том Досель часовенку найдем. Мост был далеко, а река Была, разлившись, глубока, Но юноша спешил вперед И стал переправляться вброд. Держа свой меч одной рукой, Горящий крест подняв другой, Он словно по земле идет По лону разъяренных вод, А волны, преграждая путь, Его стремятся захлестнуть. Споткнись он — яростный поток Его бы в глубину увлек, Но, ни на миг не устрашен, Все крепче крест сжимает он И, выйдя на берег из волн, На холм взбегает, рвенья полн.20
А там, шумна и весела, Процессия к часовне шла — Жених с невестою своей: То Норман с Мэри из Томбей. И свадебный кортеж плывет, Вступая под церковный свод. Мы различить могли бы там Почтенных лордов, чинных дам, И много юных дерзких лиц, И принаряженных девиц, И расшумевшихся детей. Пред пестрою толпой гостей Старался каждый менестрель Воспеть, как никогда досель, Невесту, что в тот час была Как роза алая мила. Она проходит краше всех, Ее фата бела как снег; Идет жених-красавец с ней, Гордясь победою своей; И вслед им продолжает мать Свои напутствия шептать.21
Но кто к часовне подошел? Судьбы безжалостной посол. Нерадостен пришельца взгляд, Тоской и горем он объят, Еще вода с него течет, И тяжко дышит он, и вот, Подняв войны зловещий знак, Всем людям объявляет так: «Сходитесь в Лэнрик до зари! Ты, Норман, этот крест бери!» Ужель теперь своей рукой, Навеки связанной с другой, Возьмется он за крест такой? Как этот день его манил? Он счастье Норману сулил. И вот теперь его должны Отнять у молодой жены! Увы, несчастлив жребий тот! Но Элпайн ждет и Родрик ждет. Приказу, гэл, послушен будь! Спеши, спеши! Скорее в путь!22
Он в сторону бросает плед, Ему невеста смотрит вслед, И слезы ей унять невмочь, Но он не в силах ей помочь. И тотчас он пустился в путь, Не смея на нее взглянуть, И несся вдоль реки, пока Не впала в озеро река. Гонец угрюм и удручен, Все снова вспоминает он, Как собирался поутру Гулять на свадебном пиру… Но тише в нем звучит любовь, И ратный пыл явился вновь, И в нетерпении мужском Он рад на бой идти с врагом, Чтоб защитить любимый клан, И, жаждой славы обуян, Победу видит впереди И Мэри на своей груди. Отдавшись пламенным мечтам, Стрелой летел он по горам, Свою печаль и свой порыв В напеве горестном излив.23
ПЕСНЯ Ночным приютом, степь, мне будь, Туман, плащом мне ляг на грудь, В тиши дозор свершает свой путь, Вдали от тебя, моя Мэри. Быть может, когда наступит рассвет, Мне ложем станет кровавый плед, Рыданья твои, твой прощальный привет Меня не разбудят, о Мэри! Ведь даже вспомнить без грусти нельзя, Как ты тоскуешь, любовь моя, И что мне сулила клятва твоя, Твои обещанья, о Мэри! Твержу себе: Норман, врага не щади И вместе с кланом к победе иди, Натянутый лук — твое сердце в груди, А ноги — стрелы, о Мэри! И если гибель настигнет в бою, Я вспомню тогда невесту свою: Тебя, одну тебя я люблю До самой смерти, о Мэри. Но если меня победа ждет, К нам счастье в тот тихий вечер войдет; Тогда коноплянка нам песню споет, Мне и жене моей Мэри.24
Стремительно во мгле ночной Пожар проносится степной. Врываясь пламенем в овраг, Он рушит все, как злобный враг, Румянит гладь озерных вод И скалы жаром обдает. Но все ж быстрей на этот раз Войны пронесся трубный глас. Принес гонец призыв к войне Угрюмой горной стороне. Он над безмолвием озер Тень знака вещего простер И повернул потом на юг. И встали все в зловещий круг, Кто честью клана дорожит: От старика, хоть и дрожит Его рука, что держит меч, До мальчика, хоть пренебречь Им можно бы — ведь в силах он Из лука лишь пугать ворон. Они по высям темных гор Сходились кучками на сбор И ручейками вдоль долин Стекались все в поток один, Который несся между скал. И голос воинства крепчал, И вот уж тысячной толпой Они вступить готовы в бой; Им всем сызмальства меч был дан, Им был всего дороже клан, И повелось у них в роду Жить так, как скажет Родрик Ду.25
А Родрик Ду в тот день послал Своих гонцов к отрогам скал Седого Бенвеню, веля Разведать, чем живет земля. И получил ответ такой: Где правят Грэм и Брюс — покой, Озера спят, как испокон, Не видно в Кэрдроссе знамен, Не видно конницы нигде, Никто не мыслит о беде. Все предвещает мир — к чему Тогда тревожиться ему, В далекий уходя поход, И ждать на западе невзгод? Но деву — дорогой заклад — Отроги Бенвеню хранят. Покинул Дуглас островок, Где жить бы мог он без тревог, И меж поросших лесом скал Себе пещеру отыскал. Хоть кельтами была она Кэр-нэн-Урискин названа, Но сакс давно уже зовет Пещерой Карлика тот грот.26
Едва ль приют ужасный тот Другой изгнанник изберет. Как рана на груди, зиял Проход в пещеру между скал. Толпясь вокруг него, лежат Обломки каменных громад, Подземным свалены толчком, И глыбы поднялись торчком, Когда-то павшие с высот, Просторный образуя грот. Деревья, облепив скалу, Хранят и днем ночную мглу. Лишь иногда полдневный луч Скользнет между зубчатых круч, Как если бы пророк свой взор Во глубь грядущего простер. Кругом покой и тишина, Лишь болтовня ручья слышна, Да легкий ветерок дневной Коснется озера порой, Гоня послушную волну Вести со скалами войну. А наверху утес навис, Грозя вот-вот сорваться вниз; Глаза волчицы там горят, Там рыси прячут рысенят, Там Дуглас с дочерью сыскал Себе пристанище меж скал. Давно ходил в народе слух, Что там живет нечистый дух, Что феи там в полночный час С урисками пускались в пляс И навсегда губили тех, Кто видел этот смертный грех.27
На озеро ложилась тень, И завершался долгий день, Но шел, отважен и упрям, С отрядом Родрик по горам. Он сквозь таинственный проход К Пещере Карлика идет, А свите назначает срок, Чтобы на озеро челнок Она спустила поскорей — К дружине он спешит своей, Что ждет его на Лох-Экрей. А сам, отстав, тоской томим, Идет вдвоем с пажом своим, Который был при нем в пути, Чтобы тяжелый меч нести; А люди, сквозь кусты пройдя, Ждут возле озера вождя. На них мы сверху бросим взор Стоят на фоне темных гор Красавцы, словно на подбор. Да, были Элпайна сыны Великолепно сложены, И был хорош их гордый строй И пестрых пледов их покрой! Перо на шапочке горит, Звенит палаш, сверкает щит. Готовы дать отпор врагу, Они стоят на берегу.28
Но медлил вождь и потому Все не спускался по холму: Уйти недоставало сил Из мест, где Дуглас дочь сокрыл Забыл он, как в начале дня Он обещал, судьбу кляня, Чтобы любовь избыть вполне, Отдать все помыслы войне. Но кто пожар гасил платком, Кто воды сдерживал песком, Тот, уж наверно, знает сам: Нельзя приказывать сердцам. И вечер Родрика застал Невдалеке от тех же скал. Пусть он не видеть дал обет Вовек любви своей предмет, Но все же он мечтал опять Хоть голос милой услыхать. Теперь он ветер проклинал За то, что тот листвой шуршал. Но что там слышится вдали? О Родрик, Аллену внемли! Там струны нежные звучат На благостный, смиренный лад, И чей-то голос различим… То Элен или серафим?29
ГИМН ДЕВЕ МАРИИ Ave Maria! Дева, приди! Девы скорбящей горе развей, И, оскорбленных, нас пощади, И, одиноких, нас пожалей, Нас разреши ото всех скорбей, Ужас изгнанья у нас впереди… О, не отринь молитвы моей, Утешь дитя на своей груди. Ave Maria! Ave Maria! К нам снизойди! Пусть наше ложе — груда камней, В ложе из пуха его преврати, Своим участьем нас отогрей. Сумрак пещеры улыбкой своей, Благостным светом для нас освети, Услышь слова молитвы моей, Прижми дитя к непорочной груди. Ave Maria! Ave Maria! От нас отведи Демонов козни дланью своей, Коварство и злобу их осуди, Нас огради от их сетей. Милостью нас, твоих детей, Не оставляй на скорбном пути. Дева, склонись к молитве моей, Отцу моему на помощь приди! Ave Maria!30
Когда умолк последний звук, Наш вождь пришел в себя не вдруг Все будто песне внемлет он, На меч тяжелый свой склонен. А паж который раз подряд Напоминает про закат, Но Родрик, завернувшись в плед, Твердит одно: «Надежды нет! В последний раз… В последний раз Я ангельский услышал глас!» И, мыслью этой взятый в плен, Сошел он, смутен и смятен, На берег, бросился в челнок, Лох-Кэтрин снова пересек, А дальше, миновав залив, К востоку путь свой обратив, Достиг он Лэнрика высот. Стемнело, вечер настает, Давно уж наготове рать — Гонцы успели всех собрать.31
Являет лагерь пестрый вид: Один сидит, другой стоит, А большей частью на земле Бойцы лежат в вечерней мгле, И взор чужой не различит Отряд, что в вереске сокрыт. Не выдаст их шотландский плед, Ни темный вересковый цвет, Ни папоротника листок; Лишь изредка, как светлячок, То тут, то там блеснет клинок. Когда, немного погодя, Бойцы увидели вождя, То их приветный клич тотчас Вершины горные потряс; Три раза Родрику была Всем кланом воздана хвала, Потом все стихло между скал, И мертвенный покой настал.Песнь четвертая
ПРОРОЧЕСТВО
1
«Прекрасна роза в девственной красе, Надежда тем светлей, чем горше страх; Как эта роза в утренней росе, Блестит любовь, умытая в слезах. О роза дикая, уж я в мечтах Берет твоим бутоном украшал — Любовь не вянет в любящих сердцах!» Так юный Норман пыл свой изливал, — Над Венначером новый день меж тем вставал.2
Признаний этих юный пыл Ему внушен любовью был. У озера, на мирный луг Слагает он свой меч и лук, На миг склоняется к кусту Цветок сорвать… И на посту Он вновь стоит и в бой готов. Но кто там? Слышен шум шагов «Не Мэлис ли нам весть несет Из Дауна, с вражеских болот? Я узнаю твой дерзкий шаг, Скажи мне, что замыслил враг?» (В разведку Мэлис послан был, Лишь только крест с себя сложил) «Скажи, где вождь сегодня спит?» — «За тем болотом, у ракит. Я провожу тебя к нему, Но прежде смену подниму. Эй, молодец, держи мой лук! Глентаркин, поднимайся, друг! Мы — к Родрику. Так жди же нас И не спускай с дороги глаз».3
Они пошли. Подъем был крут. И Норман спрашивает тут: «Какие вести? Что наш враг?» — «О нем толкуют так и сяк. Из края топей и болот Грозит он выступить в поход, А между тем король и знать Всё продолжают пировать, И скоро в небе голубом Сгустятся тучи, грянет гром. Что ж, против гроз и прочих бед Для воина защита — плед. Но как, скажи, от грозных сеч Тебе невесту уберечь?»— «Не знаешь разве? Островок Из волн поднялся, одинок,— По воле Родрика приют Готов для дев и старцев тут. Наш полководец запретил, Чтобы на остров заходил, Хоть в штиль, хоть в пору бурных волн Любой корабль — хоть бриг, хоть челн, Неважно — пуст он или полн. Тот неприступный островок Нам будет счастия залог».4
«Что ж, этот дальновидный план С благоговеньем примет клан. Но как наш вождь и господин В горах без свиты спит один?» — «Тому, увы, причина есть: Тревожную услышишь весть! Затеял Брайан ворожбу: Он стал допытывать судьбу, Какая участь всех нас ждет, — Тагхайрмом звать обычай тот. Для этого зарезан бык…» М э л и с Как жаль! А я к нему привык. Когда мы взяли Галангад, Ему был каждый воин рад. Рога — черны, сам — снежно-бел, И взор его огнем горел. Свирепый, буйный, полный сил, Он и храбрейшим в тягость был И продвигаться нам мешал На Бил-Махейский перевал. На кручах непокорный бык Отведал наших острых пик, И к Деннан-Роу он стал ручным: Ребенок мог бы сладить с ним.5
Н о р м а н Быка убили. Растянуть Решили шкуру где-нибудь Близ водопада, что свои Несет кипящие струи, Свергаясь со скалы — она Щитом Героя названа. Ты видишь тот песчаный склон? Мудрец, над пропастью склонен, Весь в брызгах пенящихся вод, Совсем один лежит и ждет. Он ждет видений, вещих снов, В немолчный вслушиваясь рев. И вождь наш тут же. Но постой! Ты видишь — сквозь туман густой Глядит монах издалека На наши спящие войска, Как будто это некий дух Над павшими свершает круг, Или, подобно воронью, От тех, что полегли в бою, Он долю требует свою?.. М э л и с Молчи и не играй с судьбой, В недобром слове — знак дурной. Поверь, меч Родрика спасет От бедствий нас и наш народ, А этот — ангел или бес, Посланец ада иль небес — От нас не отведет беду… Но вот он. С ним наш Родрик Ду!6
Вот что сказал монах, вдвоем С элпайнским шествуя вождем: «О Родрик, страшен мой удел — Я в завтра заглянуть посмел… Хоть смертен я, как все мы, хоть Слаба и бренна эта плоть, Хоть ужас этот взор сковал И эти волосы подъял — Я жив. Но знай: ужасен вид Того, что людям предстоит. Как в лихорадке я с тех пор, Мой пульс ослаб, и гаснет взор, И дух блуждает мой скорбя, Но все стерпел я для тебя! Нет, человеческая речь Не в силах то в слова облечь, Что я увидел: бесов рой Вился над этой головой… Здесь только тот найдет слова, Кто чужд законам естества. И вот, пылая как в огне, Пророчество явилось мне. Никем не произнесено, В душе с тех пор горит оно: «В сраженье одолеет тот, Кто первым кровь врага прольет».7
«Спасибо, Брайан, ты, как мог, Клан Элпагёша предостерег. Но мы в сраженьях горячи, Вонзаем первыми мечи. Уже у нас и жертва есть, Недолго ждать — свершится месть. Проник лазутчик в лагерь мой, Не возвратится он домой! Посты расставив вдоль дорог, Я путь отрезал на восток, Меж тем лазутчик у реки Взял Мэрдока в проводники. Но ложный путь укажет тот, И враг в засаду попадет. Там что за новости опять? Да это Мэлис! Что слыхать?»8
«Две рати в Дауне собрались, Знамена гордо рвутся ввысь. Здесь Мори герб звездой горит, Там Мара черный знак блестит». — «Нам по душе такая весть! Чем враг сильней, тем выше честь. А выступят когда?» — «Приказ К полудню завтра быть у нас». — «Нас ждет кровопролитный бой! Ты не слыхал ли стороной, Где задержался клан другой, Клан Эрн? Бенледи удержать Поможет их лихая рать. А если нет — то завтра днем Ущелье Тросакс мы займем, Чтоб у Лox-Кэтрин бой принять. Увидят сын, жена и мать, Как мы спасем родной очаг. Сплотимся все — и дрогнет враг… И юноша любовь свою В кровавом защитит бою. Но что туманит этот взор? Неужто слезы? О позор! Скорей сумеет сакса меч Бенледи надвое рассечь, Чем хоть слезинку Родрик Ду Уронит к своему стыду! Нет, нет, он сердцем тверд, как щит… Все по местам! Так вождь велит!» Волынки в бой зовут солдат, За строем строй, за рядом ряд, На солнце палаши горят. Вперед, знамена! Гул затих… Пора и нам оставить их.9
«Где Дуглас?» — не скрывая страх, Вблизи пещеры на камнях Сидела Элен вся в слезах, И барда ласковая речь Бедняжку не могла развлечь. «Придет отец твой, грусть развей! Покорно жди и слез не лей. О леди, мы найти должны Тебе укрытье от войны — Ведь даже элпайнская рать Приют для жен спешит сыскать. Вчера их быстрые челны Шли мимо нас, нагружены, В сиянье севера ночном, А утром — там, за островком, Они вставали на причал. Я их смятенье наблюдал. Они — как выводок утят, Что перед ястребом дрожат. Уж если дрогнул грозный клан, Тревогой смертной обуян, То должен и родитель твой Встревожиться твоей судьбой».10
Э л е н Нет, Аллен, нет, и ты не смог Избавить Элен от тревог. Когда, и нежен и суров, Со мной прощался он, готов Вступить на путь нелегкий свой, То взор его блеснул слезой. Пусть женский мой уступчив нрав, Но чувствую — отец мой прав. Ведь отражает гладь озер Твердыни неприступных гор! Отец себя, я знаю, мнит Причиной распрей и обид. Я видела, он был смущен, Когда про твой услышал сон: В оковах будто Грэм стоял — Я в том повинна, ты сказал. Но нет, не потому угрюм Отец и полон мрачных дум. Он ждал друзей, а между тем Где Родрик Ду, где Малькольм Грэм? Нет, медлить Дугласу нельзя, Когда в опасности друзья! Была печаль в его словах: «Не на земле, так в небесах Мы свидимся…» Но может быть, Должна я в Кэмбес поспешить? Отец пред троном королей, Придя на выручку друзей, Свободой жертвует своей! Но будь я сын его — не дочь, Я поступила б так точь-в-точь!11
«Послушай, Элен, старый храм Назвал он не случайно нам: Туда нам нужно путь держать, Чтоб всем нам встретиться опять. Беды не приключилось с ним, Да и жених твой невредим. Был, видно, в руку вещий сон: Вы оба живы, ты и он. Нет, голос сердца мне не лжет — Припомни странника приход Или печальный арфы звук, Беду нам возвестивший вдруг. Кто предрекал несчастья, тот Легко и радость предречет. Но прочь из этих мест! Беда В пещере может ждать всегда. О том легенда есть одна, Тебе понравится она, На сердце станет веселей». Э л е н Да, песнь поможет мне скорей Ненужных слез унять ручей. Запел он, вольно и легко, Но сердце Элен далеко.12
БАЛЛАДА АЛИСА БРЭНД Весело нам в зеленой глуши, Когда в чаще дрозды щебечут, И охотничий клич настигает дичь, И звук рога несется навстречу. «О Алиса, знай, я родимый свой край Променял на любовь твою; Где наш дом, где очаг, всякий встречный нам враг, Мы чужие в родном краю. Всё за то, что так светел был локон твой, Синих глаз твоих взор так мил — Уходя с тобой ночною порой, Твоего я брата убил. Я узнал с тех пор, что такое топор, От меча отвыкла рука, Собираю листву — приклонить главу Нам в пещере негде пока. Твоя кожа нежна, тебе арфа нужна, Чтобы струны перебирать. Ты из шкур зверей сшей мне плащ поскорей — Буду зиму в нем коротать». «О Ричард, горю не помочь, И брата не вернешь; Не знал ты в ту глухую ночь, Что кровь его прольешь. Забыв парчу, я не ропщу — На воле жизнь проста, И нам мила и для нас тепла Одежда из холста. И если, Ричард, ты порвал С отчизною своей, Тебя с Алисой рок связал — Я буду век твоей».13
ПРОДОЛЖЕНИЕ БАЛЛАДЫ Попляши, попляши в зеленой глуши, — Нам леди Алиса запела; Там слышится стук, это падает бук — Лорд Ричард взялся за дело. И тут сказал злых эльфов король, Из недр холма закричал. Словно ветра вой за церковной стеной, Визгливый голос звучал. «Это что за звук, то ли дуб, то ли бук Топором чужим сражены? Кто проникнет сюда, того ждет беда — Здесь мы пляшем при свете луны. Кто в зеленый цвет, словно эльф, одет, — Знай, что дни его сочтены. Карлик Урган, эй, эй, ты вставай поскорей, Вновь прими христианский вид, В их обличье явись, их молитв не страшись, Да и крест пусть тебя не страшит. Ты настигни его, отними у него Радость сердца и сна благодать; Уж от жизни не будет он ждать ничего, Только смерти одной будет ждать».14
ПРОДОЛЖЕНИЕ БАЛЛАДЫ Попляши, попляши, стало тихо в глуши, Прежде щебет в лесу раздавался. И Алиса одна, что-то мерзнет она, И за хворостом Ричард собрался. А карлик встает, злой Урган урод, Он явился пред Ричардом вдруг; Тот крестом хотел осенить себя, А карлик ему: «Не боюсь я тебя И твоих окровавленных рук». Но Алиса в ответ, потому что страх Этой женщине был незнаком: «Ну так что ж, если кровь у него на руках — Это кровь оленя на нем». «Бесстыдно лгут глаза твои, И ложь в твоих словах: Ведь это кровь твоей семьи Видна на его руках». Но Алиса выходит, себя осеня Знамением креста: «Это Ричард в крови, но не трогай меня — Ведь моя-то рука чиста! Я тебя заклинаю, демон злой, И всевышний тебе судья: Ты скажи нам сначала, кто ты такой И какая цель у тебя?»15
ПРОДОЛЖЕНИЕ БАЛЛАДЫ «Попляшем, попляшем в волшебной стране, Слышишь сказочный птичий посвист? Королева фей там со свитой своей, Растянулся свадебный поезд. Все сверкает, сияет в волшебной стране, Только это сиянье — обман, Словно искры на льду, в морозном саду, В декабре, когда снег и туман. Расплывается, как отраженье в воде, Даже собственный образ твой; Были леди и рыцарь — и нет их нигде, Только карлик с большой головой. На рассвете однажды меня полонил Князь эльфов, злобный властитель; В греховную распрю я втянут был; Меня, полумертвого, он утащил Навеки в свою обитель. Где бы женщину смелую мне сыскать? Пусть три раза крестом осенит И прекрасное тело вернет мне опять И простого смертного вид». Эта леди была храбра и смела, Крестит раз его и другой. Облик гнома пред ней становился бледней И смешался с пещерной мглой. В третий раз она стала его крестить, Эта леди смела и храбра, Под рукой ее рыцарь начал расти: Рыцарь — брат, а она — сестра! Как весело стало в зеленом лесу, Все птички Шотландии пели. Брат Эдуард мой возвратился домой, И все колокольни гудели.16
Он кончил. Вдруг меж горных круч Явился юноша — могуч, И статен, и собой хорош, С охотником нарядом схож, Орлиный взор и смел и горд: То Джеймс Фиц-Джеймс, сноудонский лорд. Молчала Элен, смущена, Потом воскликнула она: «Зачем, о путник, в грозный час Злой рок сюда приводит вас?» — «Злой рок? О нет, благой судьбе Обязан я — она к тебе Меня вела. Мой проводник,— Я доверять ему привык,— Провел счастливою тропой Меня к тебе. Я пред тобой». — «Счастливой? Иль не слышал ты? Дозором заняты мосты, Войска готовятся к боям…» — «Дозор? Нет, не встречался нам!» — «Я вижу, Аллен, горца плед. Беги скорей ему вослед И расспроси о том о сем, Пусть будет он проводником Для гостя нашего. Увы, К чему сюда явились вы? Никто другой бы не посмел Вступить в запретный наш предел!»17
«О, стала жизнь моя ценней, Коль ты заботишься о ней! И все ж ее легко отдам: Любовь и честь дороже нам. Покорный слову твоему, Скажу, однако, почему Явился я: чтобы пути К спасенью твоему найти. Как можно? Ты в глуши, одна! Здесь смерть и ужас. Здесь война. Внизу в Бокасле кони ждут, Они нас в Стерлинг унесут. Там уголок в своем саду, Тебе, мой цветик, я найду». — «Прошу вас, рыцарь, замолчать, Мне вас не трудно разгадать: Как обольщен был разум мой Безмерной вашей похвалой! Своей мечтой увлечены, Вы устремились в пасть войны! Как мне вину свою смягчить? Сама себя должна винить, Правдиво в сердце заглянуть Себе должна. Вот верный путь? Я правду вам хочу открыть, Стыдом прощение купить! Отец мой смерти обречен, Его преследует закон, И жизнь его оценена. О рыцарь, вам я не жена! Молчите вы? А между тем Я вам откроюсь: Малькольм Грэм — Мой верный, преданный жених (Коль жив!), и стоит слез моих. Вот мой бесхитростный рассказ. Теперь, прошу, оставьте нас».18
Наукой хитрой овладев, Как завлекать прелестных дев, Фиц-Джеймс, на Элен поглядев, Познал тщету своих хлопот: Правдивый взгляд ее не лжет. К нему доверия полна, То вся краснея, то бледна, Она ему открыла вдруг Причину слез и тайных мук, Как будто бы ее жених Уж больше не был средь живых. Фиц-Джеймс взволнован и смущен, Сочувствия исполнен он. Раскаявшись, он был бы рад Красавице служить как брат. «Нет, зная Родрика насквозь, Скажу: идти нам лучше врозь. У старца надобно узнать, Кто мог бы вас сопровождать». Глаза рукою осенив, И тем движенье сердца скрыв, На шаг, не боле, отступив, Фиц-Джеймс вернулся — словно он Внезапной мыслью поражен.19
«Внемли же мне в последний раз! Однажды, в боя тяжкий час, Мой меч вождя шотландцев спас, И в память битвы роковой Король мне отдал перстень свой. Он благодарен был судьбе И объявил, что в дар себе Все, что хочу, могу просить, Лишь стоит перстень предъявить. Но жизнь двора меня томит, Мое богатство — панцирь, щит И меч, участник ратных дел, А поле брани — мой надел. К чему мне перстень? Не нужны Мне ни владенья, ни чины. Возьми его — он без хлопот Тебя к монарху приведет. Таков неписаный закон… Верь: будет тронут и смущен Король несчастием твоим, А я в расчете буду с ним». Склонившись над ее рукой, Фиц-Джеймс надел ей перстень свой. Старик певец был поражен: Так быстро их покинул он. Фиц-Джеймс с проводником сошлись И оба устремились вниз, Тропой опасною своей, Прочь от Лох-Кэтрин, на Экрей.20
В долине Тросакс тишина. Среди полуденного сна Вдруг громко Мэрдок засвистел. «Ты не сигнал даешь ли, гэл?» Тот шепчет, продолжая путь: «Я воронье хотел спугнуть!» Фиц-Джеймс, вздохнув, глядит вокруг: «Здесь пал мой конь, мой верный друг! Как для любимого коня, Быть может, лучше для меня Ущелья Тросакс не видать. Вперед же, Мэрдок, и — молчать! Коль скажешь слово — ты пропал». Тот молча путь свой продолжал.21
По краю пропасти ведет Их тропка узкая. И вот В лохмотьях диких — страшный вид! — Пред ними женщина стоит. Обветрено и сожжено Лицо страдалицы — оно Открыто свежести ночной. И в безнадежности тупой Она глядит перед собой. Был на челе ее венок, И перьев связанных пучок Из крыльев горного орла Она в одной руке несла. Меж диких троп и острых скал Ее неверный путь лежал. Увидев горца пестрый плед, Вскричала — скалы ей в ответ Звенят… Но горец не один: В одежде жителя долин С ним Джеймс Фиц-Джеймс, знакомый нам. Воздевши руки к небесам, Она то закричит опять, То петь начнет. Та песнь звучать Под звуки арфы бы могла — В ней прелесть дикая была.22
ПЕСНЯ «Молись, молись!» — велят они, Кричат: «Твой разум ослабел!»… В горах без сна влачатся дни, В горах язык мой онемел. О, был бы Аллен предо мной, И Дэван бы вскипал волной, В молитве сладостной своей Я б смерть призвала поскорей! Велели косы заплести, Хотели с милым обвенчать, Велели в церковь мне идти, Пошла я милого встречать… Увы, все ложь! Мне нет любви, И счастье плавает в крови, Мой дивный сон прервался вдруг, Проснулась я для новых мук.23
«Кто дева эта? Что поет? За ней тропинка кольца вьет, И плащ ее летит вперед, Как будто цапля бьет крылом Над зазевавшимся птенцом». — «То Бланш безумная — она К нам в плен была привезена: Ее — невесту — ждал жених, Но Родрик вдруг напал на них, Сопротивление сломил, Упрямца юного убил, Ее увез. И вот она Без стражи бродит здесь одна». Лук поднял Мэрдок: «Прочь, живей!» Но рыцарь: «Бить ее не смей! А коль услышу свист стрелы, Тебя я сброшу со скалы». «Спасибо! — дурочка кричит И прямо к рыцарю спешит. — Я все о крыльях хлопочу, За милым в небо полечу. Слуга ваш злой — перечит вам, Ему и перышка не дам; Его б швырнуть вон с тех высот — Он там костей не соберет, Добычей станет волчьих стай, Что населяют этот край. Пусть знаменем за ним вослед Летит его проклятый плед».24
«Молчи, бедняжка ты моя!» — «Ты добр. Ну что ж, умолкну я. Пусть взор мой сух, застыл в нем страх, Но помню о родных лугах, И мил мне звук твоих речей — То голос родины моей. Ведь он, свет мой Уильям, охотником был, Он сердцем бедняжки Бланш владел, В зеленой лесной своей куртке ходил И песни лугов нашей родины пел!.. Не то хотела я сказать… Сумел ли ты меня понять?» Вновь тихо песня полилась, Но скорбных звуков рвется связь… Она вперяет в горца взор, И все глядит, глядит в упор, И рыцаря ей странен вид… И вновь поет и вновь глядит…25
«Уж колья вбиты, натянута сеть, Пой веселей, веселее; Точите ножи, будем песни петь, Охотник, гляди смелее. Жил был олень, у него рога С двенадцатью концами. Что за статный олень! Он топтал луга, — Пойте-ка вместе с нами. Он встретил лань, всю в крови от ран, Ах, кровью она исходила; «Внизу капкан, берегись, капкан!» — Она предупредила. Он острым взором смотрит вниз, Он чутким ухом внемлет. Споем-ка, споем, — берегись, берегись! Внизу охотник не дремлет».26
Прощаясь с Элен, был смущен Фиц-Джеймс, и плохо слушал он. Теперь же, вспомнив горца зов, Он понял все без лишних слов. От песни Бланш как бы прозрев, Он ринулся вперед, как лев, И меч над Мэрдоком занес: «В измене кайся, мерзкий пес, Не то умрешь!» Спасаясь, тот Стрелу на тетиву кладет; Стрела звенит, верша свой путь, И бедной Бланш пронзает грудь, Фиц-Джеймса лишь задев. Теперь Спасайся, гэл, несись, как зверь, Преследуемый по пятам,— Час пробил твой, ты знаешь сам. И он бежал, как только мог, За ним Фиц-Джеймс, как грозный рок. Знал Мэрдок — у подножья гор, В болоте, элпайнский дозор. Спеши! Но счастью не бывать: Тебе друзей уж не видать, Удел твой — жертвой сакса стать! Удар меча его настиг, Его рассекший в тот же миг, — Так ночью молния из мглы Разит древесные стволы. С улыбкою Фиц-Джеймс взирал, Как враг сраженный умирал; Потом в ножны свой меч вложил И взор к несчастной обратил.27
Она, о ствол облокотись, Перед собой глядит смеясь, Бедняжка! — а в руке стрела, Которой ранена была, И окровавленный венок Из перьев распростерт у ног. Помочь спешит он, но в ответ Услышал: «О, не нужно, нет! В предсмертный час, в час роковой, Ко мне вернулся разум мой. Пусть льется кровь, и с ней уйдет Видений диких хоровод. Пусть жалкой жизнь моя была, Но я в глазах твоих прочла Готовность мстить. И умирать Мне легче так. На эту прядь Взгляни — ее я сберегла, Сквозь кровь и муки пронесла, Над ней пролив потоки слез. Был светел цвет его волос! Откуда эта прядь взялась — Не знаю, мыслей рвется связь… Мне душно, дурно… Эта прядь Достойна шлем твой украшать, И в дождь и в солнечные дни… Ты мне ее потом верни… О боже, кто б мне мог помочь Мое безумье превозмочь?.. Пусть этой жизни рвется нить, Твою смогла я сохранить… И вот, навеки уходя, Спрошу: ты Элпайна вождя Встречал кровавого иль нет? Угрюмый вид, закутан в плед, Вот он, обидчик наш… Должна Быть гибель Бланш отомщена! Иди… Дозоров избегай… В ущельях враг… Будь тверд… Прощай!»28
Наш рыцарь мягок был душой, И взор его блеснул слезой, Когда он понял, что она Уж гибели обречена. «Нет, Родрика я не прощу. Клянусь, злодею отомщу!» Он светлый локон девы взял И с прядью милого смешал, Их алой кровью окропил, Затем к берету прикрепил. «Самою истиной клянусь, Я никогда не соглашусь Их снять. Должна их обагрить Убийцы кровь — я буду мстить! Что слышу я? Там — тихий зов, Здесь — перекличка голосов… Что ж, вызов я принять готов! Не сдался загнанный олень!» Ища спасительную тень, Меж зарослей и диких скал Обходный путь он пролагал, И, обессилен, утомлен, На землю опустился он: Обдумать надо и решить, Что делать, как же дальше быть? «Еще как будто никогда Так не гналась за мной беда! Как было знать, что горный клан, Мечтой о схватке обуян, Не пожелает ждать, пока Из Дауна двинутся войска? Враги кружат, как свора псов, И слышен мне то свист, то зов. Что ж, я останусь недвижим, Чтоб не попасться в лапы к ним, И буду ждать, чтоб ночи мгла Меня к спасенью привела».29
Сгущались сумерки над ним, Леса окутал сизый дым, Лисица вышла на бугор — Искал добычу жадный взор; Но даже в темноте была Тропа достаточно светла, И он побрел, за шагом шаг, Так тихо, чтоб не слышал враг. Он продирался между скал, Сквозь чащи путь его лежал. Хоть летний был солнцеворот, Но в полночь хладным, словно лед, Тянуло ветром из лощин. Продрогший до костей, один, Голодный, ужасом объят, Он брел все дальше наугад, Дорогам путаным не рад, Как вдруг между высоких скал Костер горящий увидал.30
Костер бросал багровый свет. Там горец, завернувшись в плед, Сидел, сжимая меч рукой. «Кто рыщет здесь? Не сакс ли? Стой!» «Я — путник, голоден, продрог, Плутал, не ведая дорог, Измучен я. Пусть кто-нибудь Вернейший мне укажет путь».— «Ты Родрика сторонник?» — «Нет».— «Я должен так понять ответ, Что недруг ты ему?» — «Да, так. Я всей злодейской шайке враг». — «Недурно сказано! И все ж, Хоть ты не трусишь и не лжешь, Хоть для охотника — закон, Когда оленя травит он, Сперва попридержать собак, Но это все бывает так, Когда хотят оленя гнать; А кто же станет проверять, Где и когда прикончен лис?.. Ты не лазутчик? Нет? Клянись!» — «Клянусь! Клевещет Родрик Ду! Управу на него найду! Сойдемся мы — и ты поймешь, Как бьют наветчиков за ложь». — «Коль не обманывает взор, Я видел меч и отблеск шпор? Ты рыцарь?» — «Да, все это так: Мне всякий притеснитель — враг». — «Тогда могу ль тебя просить, Ночлег с солдатом разделить?»31
Он с гостем делит ужин свой — Кусок оленины сырой. Швырнув в костер ветвей сухих, Плед предлагает для двоих И начинает разговор, На гостя поглядев в упор: «Знаком мне близко Родрик Ду — Родня мы, к моему стыду: Ведь должен был мой острый меч Поток хулы твоей пресечь. Но слово вещее гласит: От нас беда тебе грозит. Конечно, затруби я в рог, Твоих врагов созвать я б мог, А то б сразил тебя мечом, Но много ль чести клану в том? Закон родства — мне не закон, Коль честь забыть велит мне он. Но есть другой закон — он свят, Его недаром люди чтят: Гостеприимство! Мой язык Не лжет, и я — твой проводник: Ночлег сначала предложу, А на рассвете провожу. Минуем пропасти, мосты, Минуем Элпайна посты И загражденья их, пока Нам путь не преградит река». — «Любезность мне ценней услуг, Со мной ты поступил как друг!» — «Ложись. Нам песню горных вод На сон грядущий выпь споет». И на постель из мха и трав Ложатся, теплый плед постлав. Так перед тлеющим костром Враги уснули мирным сном, Покуда яркий солнца луч Заутра не блеснул из туч.Песнь пятая
БОЙ
1
Прекрасна, как прекрасен первый луч, Когда он то бредет в туманной мгле, То озарит тропу над бездной круч И водопад, летящий по скале, То вновь мелькнет у ночи на челе, — Прекрасна, недоступна и горда, Смягчая страх и горе на земле, Сияет Честь, как яркая звезда, Сквозь ураган войны, в крови, беде и зле.2
Багровый луч из темноты Несмело озарил кусты. Проснулись воины вдвоем На ложе каменном своем. Они, пробормотав едва Молитвы краткие слова, Костер сложили на ходу — Согреть походную еду. Когда отважный сакс поел, Свой пестрый плед накинул гэл И, верен слову, зашагал Крутым путем по склонам скал. Суровый путь! Тяжел, далек, По краю бездны он пролег, Где Форт и Тиз, шумя, текли, Где башни Стерлинга вдали Среди долины луговой Тонули в дымке голубой. Но вот подлесок, словно щит, Закрыл необозримый вид. Все круче становился путь, Все легче было соскользнуть. На плечи путникам в лесу Ронял боярышник росу, И капли падали, чисты, Как слезы юной Красоты.3
В толпе крутых кремнистых скал Утес над лесом нависал. Под ним, гремя, текла река, И, уходя за облака, К Бенледи вился путь крутой, Тропа меж бездной и горой. Здесь малочисленная рать Могла бы армию сдержать. Лесок из карликов-берез Клочками по уступам рос. Там холмик осыпи темнел, Там папоротник зеленел, Там вереск черный и густой С подлеском спорил высотой. Дремало озеро внизу, И ветер шевелил лозу. И был засыпан путь прямой Везде, где бурною зимой Прошел лавины снежный ком С камнями, глыбами, песком. Грозил паденьем каждый миг. Шаги умерил проводник И, обогнув крутой утес, Фиц-Джеймсу задал он вопрос, Что будет, если на беду Им встретится сам Родрик Ду.4
«Отважный гэл! Сказать пора: Мой пропуск — вот он, у бедра, Но я не думал и во сне, Что он понадобится мне. Меня олень сюда увлек, Мой путь был труден и далек. Кругом стояла тишина, Дремала мирная страна. Кровавый Родрик был в бою В далеком и чужом краю, Как мне сказал мой проводник, Хоть, может, лгал его язык». — «Зачем ты ищешь новых гроз?» — «Для воина — пустой вопрос. Желанье — вот один закон Для тех, кто страстью наделен. Довольно! Я простился с ней, Ленивой негой мирных дней. Узнай: покуда рыцарь жив, Его влечет любой порыв. Он за оленем гнаться рад, Его манит горянки взгляд; А если ждет опасный путь, Опасность, ты наградой будь!»5
«Твоя мне тайна не нужна. Ты слышал, что идет война? Клан Элпайн борется один С врагом, пришедшим из долин?» — «Я это слышу в первый раз. Король охотится сейчас, Но если пробежит молва, Что распря старая жива, Конечно, все оставит он И двинет лес своих знамен».— «Мы ждем! Не любит войн король, Его знамена гложет моль. Мы ждем! Всем недругам страшна Эмблема Элпайна — Сосна. Но ты не хочешь горцам зла, Тебя охота увлекла. Зачем же ты, я не пойму, Враждебен клану моему?» — «Вопроса этого я жду. Ваш предводитель Родрик Ду — Мятежник, бешеный смутьян. Он при дворе, от злобы пьян, Забывшись, выхватил клинок— Так ярый гнев его увлек. За этот грех отвергнут он И справедливо осужден».6
Пришельца молча слушал гэл. Он от обиды потемнел, Но отвечал, сдержав свой пыл: «Не только выхватил — убил. Но враг его затронул честь, А коль должна свершиться месть, То разве королевский двор Не место, чтобы смыть позор? Вожди свершают месть свою, Где их обидят — хоть в раю».— «За ним другая есть вина. Когда в былые времена Всем герцог Олбени вершил И власть использовать спешил, А наш король, в то время мал, Как сокол в клетке, часа ждал, — Тогда ваш вождь, как хищный вор, Не раз, не два спускался с гор. Он грабил нивы и стада, Плоды тяжелого труда. Пусть не согласны мы с тобой, Но не оправдывай разбой».7
Гэл посмотрел на смельчака И улыбнулся свысока: «Я видел, сакс, что с наших гор Ты бросил восхищенный взор На долы, на восток и юг, Где строен лес и сочен луг, Где всюду, сердце веселя, Шумят колосьями поля. Прекрасный вид! Не забывай, Все это древний гэльский край. Но, выгнав гэлов из долин, Там правит сакс как господин. Где нынче клан ютится мой? Скала нависла над скалой. По склонам не гуляет скот, Здесь даже колос не растет. Мы просим мира и добра, Но отвечает нам гора: «У вас от прежних грозных сеч Остался щит, остался меч. Вам грудь моя теперь приют, А пищу пусть клинки дают». Да, с этих северных хребтов На сакса гэл напасть готов. Чего он силой был лишен, То силой отбирает он. Клянусь! Пока земля долин Родит хотя бы сноп один И видит с гор наш зоркий взгляд Хотя б одно из этих стад, Гэл не уступит никому Того, что следует ему. Пускай врага бросает в дрожь: Он сам толкнул нас на грабеж. Берем мы праведную мзду. Нет, невиновен Родрик Ду!»8
Фиц-Джеймс сказал: «Мой путь иной, Не тешусь я чужой виной. Но погляди за поворот — Быть может, там засада ждет». — «Кто верный друг нам до конца, Тот дал бы знать через гонца: «Меня любовь ведет в пути, Мне надо сокола найти». Что ж, мирный путь и легкий шаг! А тайно ходит только враг. Но даже вражеский шпион Не будет сразу умерщвлен, Ему готов внимать закон». — «Пусть так, нам распря не нужна. Есть за вождем еще вина, Но пусть не ссорит нас она. Где б ни таился Родрик Ду, Я скоро сам его найду. Я с миром шел в его края, Но завтра войско двину я И сам приду не налегке — Под знаменем, с мечом в руке. Как жаждет пламенный юнец Соединенья двух сердец, Я жажду, жизни не щадя, Найти мятежного вождя».9
«Что ж, будь по-твоему!» — и гэл На всю округу засвистел. И кроншнепа протяжный крик Ему ответил в тот же миг, И проступили сквозь кусты Береты, копья и щиты. Из вереска со всех концов Поднялись плечи молодцов. Копье качнулось над скалой, Упругий лук грозит стрелой, В чащобах по уступам гор Над топором блестит топор, Из каждой заросли на свет Выходят меч и пестрый плед. И вот замкнулся круг мечей — Явилось племя силачей, Как духи каменной горы Или подземные пары. И каждый воин молча ждал, Когда ему дадут сигнал. Так глыбы в ярости слепой Висят над узкою тропой, И, кажется, в ужасный путь Ребенок мог бы их толкнуть. И так стояли в тишине Бойцы на каменной стене. Гэл бросил взгляд на горный склон, Потом взглянул на гостя он И с гордым видом молвил так: «Теперь что скажешь ты, смельчак? Мятежный клан я сам веду. Вот мой народ, я — Родрик Ду!»10
Фиц-Джеймс был смел. Нахмуря бровь, Хоть в нем и холодела кровь, Он отступил к скале назад И твердо встретил твердый взгляд. Так он стоял, к борьбе готов, Пред лесом копий и щитов. «А ну, кто первый? Я — скала, Что остается, где была». Но Родрик медлил, словно он Был не на шутку удивлен И рад, что дерзко говорил Достойный враг в расцвете сил. Вождь сделал знак, и в тот же миг Отряд растаял, как возник. Где горец был, там горца нет, Лишь дрогнул вересковый цвет. В орешнике пропали вдруг И меч, и щит, и меткий лук, Как будто бы земля, их мать, Родив, их пожрала опять. И ветер, будто напоказ, Знамена взвил в последний раз. Через минуту гладил он Пустынный вересковый склон. И солнца луч блеснул слегка На остром лезвии клинка. Через минуту тот же луч Скользнул по камню голых круч.11
Фиц-Джеймс смотрел по сторонам, Своим глазам не веря сам. Как бы в мгновении одном Все промелькнуло страшным сном. Ни слова он не произнес, Но Родрик угадал вопрос: «Не бойся. Впрочем, нет, не то… Тебя не устрашит ничто. Здесь только я имею власть И на тебя не дам напасть. Я против жителя долин Один сражаюсь на один, Но о пощаде не моли: Я прогнан со своей земли. Ступай за мной. Урок хорош. Ты, храбрый сакс, теперь поймешь: Здесь не пропустят никого Без разрешенья моего». Они пошли. Фиц-Джеймс был смел, Как я сказать уже успел, Но было все ж не по себе Ему, хоть он привык к борьбе. Вокруг утесы и кусты Казались мирны и пусты, Но стоило вождю мигнуть, Как копья, оборвав их путь, Пронзили бы пришельцу грудь. Тайком глазами он искал Незримых стражей этих скал, И что-то в вереске густом Копьем казалось и щитом, А крик зуйка напоминал Условный боевой сигнал, И все не мог Фиц-Джеймс в пути Свободно дух перевести. Но вот открылся ровный луг. Ни леса, ни кустов вокруг, Откуда прянуть бы могла Неумолимая стрела.12
Вождь шел и путь торил врагу. И вот они на берегу. Дочь трех озер, издалека Струится быстрая река И гонит за волной волну. Ее теченья в старину Достигли римские орлы, Здесь Рим воздвиг свои валы. Тут вождь, храня суровый вид, Бросает наземь круглый щит И так пришельцу говорит: «Да, грозен наш могучий клан, И чужд ему любой обман. Зовут разбойником меня, Мой меч карающий кляня. Я — страшный, кровожадный гэл, Но посмотри — ты жив и цел. Тебе защитой наша честь. Теперь мою испробуй месть. Я здесь один перед тобой, И будет равным смертный бой. Вот Койлантогл, священный брод. Теперь увидим, чья возьмет».13
Фиц-Джеймс ответил: «Я готов. В бою не тратят лишних слов, Но смерть твоя мне не нужна, И ссора — не моя вина. Ты жизнь мою сегодня спас, И это примиряет нас. Довольно крови, войн и бед. Согласен ты?» — «Нет, путник, нет! На эти горные хребты Нас гонят саксы — значит, ты. Я твердо верю, что пророк Недаром нас предостерег: «В сраженье одолеет тот, Кто первым кровь врага прольет». — «Сбылись, сбылись его слова! Вон перекопана трава: Коварный Мэрдок там зарыт. Он мною был вчера убит. То указание тебе: Не мне покорствуй, а судьбе. Поедем в Стерлинг ко двору. Король не вовсе глух к добру. Но если ты, потрясший трон, Не будешь королем прощен, То — я клянусь мечом моим — Вернешься цел и невредим, Как прежде, властвовать в горах, Своим врагам внушая страх».14
Но Родрик на врага взглянул, И взгляд, как молния, сверкнул: «Простого воина убив, Ты стал не в меру горделив! Но я не уступлю в борьбе Ни людям, ни самой судьбе. Тебе я жажду отомстить. Готовься к бою! Может быть, Ты только в замке на коврах Не знаешь, что такое страх, Таскаешь локон на груди, А в битвах вечно позади? Великий воин, пощади!» — «Благодарю за эту речь. Бодрее дух — острее меч. Я локон, нежный знак любви, Готов омыть в твоей крови. Прощай, затишье! Здравствуй, бой! Но ты не думай, что с тобой, Пока мы шли за шагом шаг, Я поступить не мог как враг. Пусть я в горах ни здесь, ни там Стрелков не прятал по кустам, Но посмотри на этот рог: Он ярость тысяч вызвать мог, Лишь протруби я невзначай. Ты хочешь крови? Получай!» Тогда по правилам войны Они отбросили ножны, И каждый, посмотрев вокруг — На солнце, воду, лес и луг, Дал ярости себя увлечь. И меч ударился о меч.15
Напрасно Родрик бросил щит, Что бычьей кожей был покрыт И часто Родрика спасал, Как верный, преданный вассал. Фиц-Джеймс был опытен и смел, Мечом искусно он владел, И стал сам меч ему щитом В бою суровом и крутом. Рука у Родрика сильней, Зато искусства меньше в ней. При каждой схватке вновь и вновь Меч сакса пил живую кровь, И грозно лег кровавый след Через широкий горский плед. Слабея, хоть как прежде смел, Дождем удары сыпал гэл. Но, атакованный вождем, Как крыша замка под дождем, Не уступал искусный враг, Неуязвимый для атак. Фиц-Джеймс мгновенье улучил, Он увернулся, подскочил, Меч выбил у врага из рук, И гордый вождь упал на луг.16
«Сдавайся! Меч остер, как нож. Клянусь всевышним, ты умрешь!» — «Проклятье твоему мечу! Просить пощады не хочу!» Как на охотника змея, Как волк на запахи жилья, Как рысь оленю на рога, Так Родрик прыгнул на врага И, хоть наткнулся на клинок, На землю рыцаря увлек. Фиц-Джеймс! Объятье разорви! То руки смерти — не любви! Такой отчаянный обхват Погнул бы и железо лат. Вождь наверху, Фиц-Джеймс под ним Сплелись объятием одним. Вождь ищет горло, давит грудь, Фиц-Джеймсу не дает вздохнуть. Рукой провел он по челу — Кровь отереть, рассеять мглу, Еще сильнее горло сжал И над врагом занес кинжал. Но ярость боя, гневный пыл Вождя совсем лишили сил, Теперь игры смертельной ход Уже ничто не повернет. Кинжал сверкнул в последний раз, Но мутный взор уже погас. Удар! И в вереск с вышины Кинжал вонзился, как в ножны. Тогда пришел в себя второй Полузадушенный герой, Не тронутый клинком вождя, Но еле дух переводя.17
Фиц-Джеймс, пошатываясь, встал. С трудом молитву прошептал. Потом туда он посмотрел, Где навзничь распластался гэл, И локон омочил в крови: «О Бланш! Меня благослови. Отважен был обидчик твой — Он мертвый страшен, как живой». Он поднял рог и дал сигнал, Свой воротник широкий снял, Сорвал берет и у воды Умылся, кончив все труды. Но вот стучат копыта в лад, Четыре всадника летят. Все четверо под цвет травы В зеленом с ног до головы. Два с копьями, два на ходу Коня держали в поводу. Вот спешились и, стоя в ряд, На тело Родрика глядят. «Не спрашивайте, что стряслось. Отсюда мы поедем врозь. Эй, Херберт, Лафнес, вы ко мне На этом сером скакуне Врага везите моего, Сперва перевязав его. Я в Стерлинг раньше прискачу. Поторопиться я хочу, Чтобы увидеть, кто каков На состязании стрелков. Баярд всех скакунов резвей. Де Во и Хэррис, на коней!»18
«Баярд!» — окликнул он коня. Тот замер, голову склоня, Но говорил горящий взгляд, Как конь хозяину был рад. Не тронул стремени ездок, И на луку он не налег — На холку положил ладонь, И вмиг почуял ношу конь. Фиц-Джеймс прикосновеньем шпор Пустил коня во весь опор. Конь прянул бешеным прыжком, Но, укрощенный седоком, Помчался лугом, как стрела, Грызя стальные удила. Они пересекают брод, На холм Карони путь ведет, И двое в брызгах и пыли За третьим чуть поспеть могли. Быстрей стремительной волны Над Тизом мчатся скакуны. И, оживляя небосклон, На башнях Дауна рой знамен Поплыл коням наперерез, Мелькнул — и позади исчез. Блер-Драммонд слышит гром копыт, Сноп искр из-под коней летит. Еще рывок — и над водой Возвысил стены Кир седой, И Форт, угрюмая река, Омыла скакунам бока. Прыжок и шумный всплеск, как гром! Они на берегу другом. Крейг-Форт по правой их руке, А вот и Стерлинг вдалеке. Твердыня Севера встает, Вонзая башни в небосвод.19
Все так же ровно конь бежал, Как вдруг Фиц-Джеймс его сдержал. Дал рыцарь знак, и вот де Во Стоит у стремени его. «Де Во, твои глаза остры. Кто там спускается с горы, Неузнаваем до поры? Он стар, но строен и высок. Зачем с горы наискосок Спешит он к башням городским?» — «Не знаю. С конюхом таким Охотиться бы мог барон, Но в небогатом платье он». — «Я вижу, тьма в твоих глазах. Так пусть тебе поможет страх. Я помню этот гордый шаг, Никто в стране не ходит так. Джеймс Дуглас! Дядя он родной Тому, кто изгнан всей страной. Скорее в город, ко двору! Джеймс Дуглас! Это не к добру. Король сильней своих врагов, Но к встрече должен быть готов». И снова — скачка, как полет, И все у боковых ворот.20
А Дуглас по горе крутой Глухой извилистой тропой Шел в Стерлинг из монастыря, С самим собою говоря: «Да, сколько тяжких перемен! Отважный Грэм захвачен в плен, И гордый Родрик обречен — За свой мятеж заплатит он. Я голову за них отдам, Успеть бы лишь по их следам. Обитель скроет дочь мою: Ее я небу отдаю, Хотя счастливее хотел Я уготовить ей удел. Но нет, роптать не стану впредь. Последний долг мой — умереть. Вы, башни смерти! Возле вас Кровь Дугласов лилась не раз. Ты, холм кровавый! Как вчера Ты помнишь звуки топора, Когда под тихий женский плач Знатнейших убивал палач. Итак, темница и топор, Готовьтесь! Я спустился с гор. Но почему на мирный лад Колокола везде звонят? Что за флажки видны с горы? Зачем одежды так пестры? И почему со всех сторон И смех, и танцы, и трезвон, И грохот, и поток людской? Здесь, видно, праздник городской. Джеймс будет там. Стрельба в мишень! Прыжки! Борьба! Ему не лень Смотреть на это целый день. Хотя как истый рыцарь он В боях турнирных искушен. Тряхну сегодня стариной. Король увидит, что со мной Не сладить силе молодой. Он сам, когда ребенком был, За эту мощь меня любил».21
Вот праздник наконец открыт. Ворота настежь, мост гудит, Копыт разноголосый звон Летучим эхом отражен, И выезжают на простор Король Шотландии и двор. Джеймс ехал улицей крутой Перед ликующей толпой. То, отдавая ей поклон, До гривы наклонялся он; То слал красавице привет, Приподнимая свой берет, И прятала лицо она, Стыда и гордости полна; То вновь поклоны раздавал; То горожанину кивал; То плясунов благодарил За их старание и пыл; И все гремело: «Да живет Король наш, любящий народ!» За королем теснилась знать, И можно было увидать, Как под бароном гордый конь Плясал и прыгал, как огонь. Так проезжал за рядом ряд. Но виден был и хмурый взгляд: Угрюмы те, в чьем сердце боль, Чью гордость обуздал король. С тоской и бешенством в груди Плелись заложники-вожди За королем и за двором. Далекий вспоминая дом, Былую власть, былые дни, Смотрели на толпу они, И каждый клял толпу и двор И ненавидел свой позор.22
В огромном парке взад-вперед Волнами движется народ. Танцуют моррис молодцы, Звенят на икрах бубенцы. Но вот уж все туда бегут, Где появился Робин Гуд. За ним, героя лучший друг, Спешит с дубинкой братец Тук, Сбегаются со всех сторон Мач, Скарлет и Малютка Джон. Король идет под звук рогов Полюбоваться на стрелков. Взял Дуглас лук. Его стрела В мишень без промаха вошла, И в тот же миг стрелок седой Разбил стрелу второй стрелой. Король ему под крик «ура» Вручил стрелу из серебра. Но тщетно ждал похвал старик: Король владеть собой привык И не смягчился ни на миг. Он только холодно взглянул И приз почетный протянул.23
Очистить место! Рог, звучи! Вперед выходят силачи. Тут Джон Элло, Хью Ларберт тут. Они борцов на бой зовут. Выходит Дуглас и в бою Колено раздробляет Хью, А Джона, подобрав в пыли, Домой родные унесли. И Дугласу, как решено, Кольцо из золота дано. Он ждет похвал, а не наград, И ловит вновь холодный взгляд. От гнева Дуглас задрожал, Но слово резкое сдержал, Ушел в толпу, смешался с ней И на метание камней Смотрел нахмурясь, тьмы темней. Но камни для него малы: Он вывернул кусок скалы, Напрягся, в воздухе качнул И под всеобщий рев и гул Метнул за дальнюю черту! Еще поныне глыбу ту Покажет в парке старожил, Чей прадед Дугласу служил, Вздохнет о славе боевой И покачает головой.24
Народ, шумя, рукоплескал, И эхо донеслось от скал. Король, неколебим и строг, Герою бросил кошелек, Но гордо улыбнулся тот И золото швырнул в народ. Тогда пронесся над толпой Как будто вздох: кто он такой? Народ, встревоженный слегка, Шептал, что в жилах старика Кровь Дугласов наверняка. Соседу говорил сосед: «Гляди, силач-то стар и сед; Наверно, много принял ран И бил отважно англичан При Дугласе, в те дни, когда Тот не был изгнан навсегда». Осанка, поступь пришлеца Пленила женские сердца. Дивились юноши вокруг Необычайной силе рук. И гул приветственный возник И перешел в могучий крик. Но ни король, ни гордый пэр, Ни самый юный кавалер Не поглядел на старика, Чья участь так была горька, Хоть встарь они почли б за честь С ним зверя бить, и пить, и есть И за щитом его в бою Спасали б голову свою. Но двор есть двор. От века тут Изгнанников не узнают.25
Король увидел пестрый флаг И знак дает спустить собак: На гибель обречен олень. Охота увенчает день, И пусть собравшийся народ Досыта ест и вволю пьет. Но Лафра — гордость диких гор И украшение всех свор, Что Дугласа лишь знала власть, — Увидела и понеслась, Легко соперниц обошла, Потом оленя, как стрела, Настигла — и наискосок Ему вцепилась в жаркий бок, И кровью облилась земля. И тут же ловчий короля, Слетев с коня одним прыжком, Ударил Лафру поводком. Все видел Дуглас. О позор! Его отверг король и двор, И пожалела чернь его, Не понимая ничего. Но Лафра всюду с ним была, Кормилась у его стола, А Элен ей среди лугов Плела ошейник из цветов. И если Дуглас Лафру звал, Он тут же Элен вспоминал. В нем закипел остывший гнев. Шагнул вперед он, потемнев. Как перед кораблем вода, Все расступились кто куда. Удар — и дюжий ловчий вдруг В крови, без чувств упал на луг. Удар был тяжек, словно он Стальной перчаткой нанесен.26
Тут королевские стрелки Из ножен вырвали клинки, Но Дуглас загремел: «Назад! Рабы! Кто первый хочет в ад? Пред вами Дуглас! Это он Тобой, король, был осужден И много лет блуждал вдали, Изгнанник из родной земли, А ныне сам на эшафот За дружбу старую идет». Король сказал: «Надменный пэр! Неблагодарности пример! Твой клан заносчив и хвастлив, Но я, весь клан твой осудив, Тебя, Джеймс Босуэл, одного Считал за друга своего. Но дружбы можно и лишить. Я скмозванный суд вершить Не позволяю никому. Эй, вы! Обидчика — в тюрьму! Конец веселью!» Гул вокруг, И кое-кто сжимает лук. «Флаг опустить! Убрать народ! Живее! Конницу вперед!»27
Нарушен праздник. Тяжкий гул В толпе народа громыхнул. Навстречу коннице, как град, Угрозы гневные летят. Там старец падает, крича, Там женский вопль, там звон меча, И понемногу там и тут Дубинки, камни в ход идут. А Дуглас окружен был вмиг Десятком королевских пик, И в их кругу пошел старик. В бессильной ярости слепой За ним народ валил толпой, И видел Дуглас: на беду Король с народом не в ладу. Начальника окликнул он: «Моим стальным мечом, сэр Джон, Ты в рыцари был посвящен? Уважь сегодня этот меч, Позволь к народу молвить речь».28
«Друзья! Сыны моей страны! Пребудьте королю верны И знайте: жизнь и честь мою Во власть закона отдаю. Шотландский праведный закон Не буйством — разумом силен. Но если даже он неправ, Решусь ли я, его поправ, Из-за несчастья своего Поднять шотландцев на него? Ведь это значит — весь мой род С любимой родиной порвет. Нет, нет! В тюремной тишине Ужасно было б думать мне, Что кровью братьев вся страна Из-за меня обагрена. Подумайте, как горько знать, Что где-то там рыдает мать, Ребенок плачет без отца, Жена целует мертвеца, Резню жестокую кляня,— И это все из-за меня. Терпите! Кто меня любил, Тот сдержит благородный пыл».29
Исходит в ливнях сила гроз, Гнев изошел потоком слез. Народ молился за того, Кто сам не жаждал ничего И, страстно родину любя, Ей отдавал всего себя. И были счастливы они, Что он не допустил резни. Ребенка поднимала мать, Чтоб мог того он увидать, Кто, пыл смирив на этот раз, Отцов и братьев детям спас. И сам суровый страж, сэр Джон, Был общим чувством заражен. Он шел понуро, хмуря лоб, Как будто провожая гроб, И вот у замковых ворот Со вздохом пленника сдает.30
Король на белом скакуне Угрюмо ехал в стороне, Дорогу к замку пролагал И шумных улиц избегал. «Да, Ленокс, разве что слепой Возьмется управлять толпой. Сейчас, забыв и долг и стыд, Толпа о Дугласе кричит, А нынче утром что есть сил Народ меня превозносил. Когда я Дугласов попрал, Еще он радостней орал, А если бы я свергнут был, Клянусь, он так же бы вопил. Кто этим стадом был любим? И кто захочет править им? Непостоянней, чем листок, Когда его кружит поток, Страшнее гнева самого От безрассудства своего, Стоглавый бешеный дракон, Где твой монарх и твой закон?31
Но кто на взмыленном коне Во весь опор летит ко мне? Он скачет, словно на пожар. Какие вести шлет Джон Мар?» — «Король, тебя просил кузен Быть под защитой прочных стен. В секрете замысел держа, Скорей всего для мятежа, Сам Родрик Ду, свиреп и рьян, Собрал в горах свой буйный клан. Есть слух, что хочет эта рать За Джеймса Босуэла стоять. Кузен твой выступит в поход И клан мятежный разобьет, О чем тебе пришлет он весть. Но ты, пока опасность есть, В какой бы ни поехал край, Охрану брать не забывай.32
Теперь запомни мой приказ. (Его отдам я лишь сейчас — Мне было некогда вздохнуть.) Итак, скачи в обратный путь И не страшись загнать коня — Возьмешь любого у меня. Скажи кузену, что война Мной, королем, запрещена, Что Родрик ранен и пленен, В единоборстве побежден, А Дуглас по его следам Себя нам в руки отдал сам. Без главарей мятеж любой Заглохнет скоро сам собой, А я меча не подниму И мстить не стану никому. Спеши, гонец! Спеши, лети!» — «Король, считай, что я в пути, Но как проворно ни скачи, Боюсь, уже звенят мечи». Из-под копыт летит земля, Спешит посланец короля.33
В тот день ни песни, ни игру Король не слушал на пиру. Умолк гостей нестройный хор, И был распущен пышный двор. На замок, улицы, дома Тревожно опускалась тьма. И кое-кто во тьме шептал, Что час резни уже настал, Что в бой выходят млад и стар, Лорд Мори, Родрик Ду и Мар. Иной о Дугласе скорбел: «Вот там же дед его сидел!» И обрывал поспешно речь, И молча руку клал на меч, Как бы грозясь его извлечь. Но в замок проскакал отряд, И вот уж всюду говорят, Что на озерном берегу Был дан смертельный бой врагу, Что битва длилась дотемна, А чем закончилась она, Был каждый погадать не прочь, Но темный стяг простерла ночь.Песнь шестая
ЗАМОК
1
Проснулось солнце — и в туманной мгле На город устремляет хмурый взгляд. Всех смертных пробуждает на земле, И даже тех, кто свету дня не рад: С попойки гонит пляшущих солдат, Пугает вора с краденым добром, На башне золотит железо лат; И грамотей с обгрызенным пером, Как нянькой усыплен, забылся сладким сном. А сколько озаряет этот свет Разнообразных горестных картин! На слабо освещенный лазарет Глядит больной, в чужих стенах один, Должник клянет позор своих седин, Юнец устал о женщинах мечтать, На утренней заре закашлял сын, И над постелью наклонилась мать — Переложить дитя и слабый крик унять.2
С зарею Стерлинг пробужден. Повсюду топот, лязг и звон, И, слыша барабанный бой, Ждет скорой смены часовой. Через бойницу луч упал В просторный караульный зал. Померкли факелы в дыму, Луч разогнал ночную тьму. Преобразился темный свод, Картина утра предстает. Повсюду шлемы и мечи, Встают от сна бородачи. На лицах заспанных видны Следы попоек и войны. Ковши и кубки кверху дном, Еда, облитая вином, Весь вид громадного стола — Все говорит, как ночь прошла. Одни храпеть не устают, Другие через силу пьют. Кто в карауле ждал врага, Тот греется у очага, И всем движениям солдат Послушно вторит грохот лат.3
То был отчаянный народ, Не ведавший ярма господ. Здесь шли не за своим вождем, Сражались не за отчий дом — Наемники в чужой стране Искали счастья на войне. Вот итальянец молодой, Испанец смуглый и живой, Швейцарец, что в краю озер Вдыхал с отрадой воздух гор. Фламандец удивлялся тут, Как пахаря бесплоден труд. Здесь был и немец и француз. Разноплеменный их союз Был дикой жадностью скреплен: Их вел на битву денег звон. Любой искусен был и смел, Легко оружием владел, Всегда пограбить был не прочь, А пировать мог день и ночь. И в это утро от вина Толпа была возбуждена.4
В кругу солдат шел бурный спор О битве у больших озер. Вскипала яростная речь, Рука нащупывала меч. И хоть порой из-за стены Бывали стоны им слышны — Солдатам, видно, нипочем, Что там, изрублены мечом, Лежат вповалку на скамьях Те, кто сражался в их рядах, Что грубой шуткой оскорблен Крик боли и протяжный стон. Вот со скамьи вскочил Джон Брент. Его вспоил широкий Трент, И робости в нем нет следа — В бою рубака хоть куда: Охотник в мирные года, Он первым выступит вперед, Коль до опасности дойдет. Он пил всех больше на пиру И вел азартную игру. Теперь он крикнул: «Эй, налей! Затянем песню веселей — В одном строю врага мы бьем. А ну-ка, братья, запоем!»5
СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ Наш викарий толкует, что Павел с Петром Наложили проклятье на водку и ром, Что беда в каждой фляжке таится на дне И семь смертных грехов в самом легком вине. Гей, Барнеби, гей! Доверимся мигу! Допьем поскорей, а викарию — фигу! Наш викарий исчадием ада зовет Развеселой подружки смеющийся рот. Мол, не баба, а дьявол берет нас в полон, Под платком Вельзевул, а в глазах Абаддон. Захлопнем-ка мы священную книгу! Целуй горячей, а викарию — фигу! Так викарий толкует — ведь каждый грешок Это прибыль ему и в карман и в горшок. Коль у матери-церкви есть грешников рать, То неплох и доход — поспевай собирать. Гей, гей, молодцы! Доверимся мигу! Любовь наш пароль, а викарию — фигу!6
Крик часового у ворот Нарушил песни вольный ход, И вот солдат спешит сюда: «Бертрам из Гента, господа! И — барабаны, громче трель! — С ним девушка и менестрель». Вошел Бертрам, боец седой. С ним менестрель, старик худой, За ним — горянка юных лет, До глаз закутанная в плед. Увидев сборище солдат, Она отпрянула назад. «Что нового?» — раздался рев. «Весь день рубили мы врагов, Но сила горская была Неодолима, как скала. Мы крови пролили поток, Но одолеть никто не мог». — «А где ты пленных взял, Бертрам? Теперь конец твоим трудам. Есть менестрель, плясунья есть, Теперь мартышку приобресть, И тут уж будет сущий рай: Ходи да деньги собирай».7
«Нет, братья, их удел иной. Вчера, как только стихнул бой, Они пришли на наш привал, И Мар их видеть пожелал. Он повелел им дать коней И в Стерлинг отвезти скорей. Итак, умерьте вашу прыть, Не вздумайте им повредить». — «Вы слышите? — воскликнул Джон, Приказом Мара уязвлен.— Чужой охотник к нам залез И, наш опустошая лес, Платить не хочет лесникам! Ну нет, свое возьму я сам, Тебе и Мару не отдам!» Бертрам шагнул, подняв клинок. Сам Аллен, хоть разить не мог, Негодованья не сдержал И ухватился за кинжал. Но Элен между трех клинков Шагнула, сбросив свой покров. Так солнце майское встает, И ослепителен восход. Глазела молча солдатня На ангела средь бела дня, И сам Джон Брент стоял смущен И восхищеньем укрощен.8
Она промолвила: «Друзья, Вам об отце напомню я. Он был солдату лучший друг, Делил с ним битву и досуг. Отец мой изгнан навсегда, Но я от вас не жду вреда». И Брент, задира и смельчак, На эту речь ответил так: «Я дерзких слов моих стыжусь, Твоим отцом, дитя, горжусь. Из мест родных я изгнан сам: Там насолил я лесникам. Да, у меня была семья, И дома дочь оставил я. Она ровесница твоя. Солдаты! К вам я речь держу. За капитаном я схожу, А на пол здесь кладу топор. Мы затевать не будем спор, Но говорю вам наперед: Кто переступит, тот умрет. Будь смельчаков хоть целый зал, Все тут полягут. Я сказал».9
Явился Льюис, капитан. Он мог любой украсить клан, Хоть рыцарских заветных шпор Не заслужил до этих пор. Умен, решителен и смел, Робеть он вовсе не умел. Его бесстрашный, острый взгляд Смущал всех знатных дам подряд. Хорош собой, красив лицом, Он вовсе не был гордецом, Но юной девы странный вид Кого угодно удивит. Простой наряд и гордый взор Догадкам открывал простор. «Привет, о дева красоты! Защитника ли ищешь ты По тем законам давних лет, Которых исчезает след? Поведай, дева, кто же он? Простой ли сквайр? Или барон?» Взор Элен вспыхнул. Покраснев, Она сдержала все же гнев. «Не время обижаться мне. Наперекор беде, войне Иду спасать я жизнь отца. Веленьем этого кольца, Что дал Фиц-Джеймсу сам король. Мне подчиниться соизволь».10
Кольцо с поклоном Льюис взял, И услыхал притихший зал Его слова: «Наш долг — твой щит. Прости, что был я с толку сбит Нарядом нищенским твоим, Не угадал тебя под ним. Когда урочный час придет, Король узнает, кто здесь ждет. Покуда ты пойдешь в покой, Достойный гостьи дорогой. Захочешь — дай любой приказ, Служанки явятся тотчас. Идем. Не гневайся на нас И недогадливость прости». Но прежде чем в покой уйти, К солдатам Элен подошла И кошелек им отдала. Весь зал ее благодарил, Но Брент смущен и мрачен был. И вот что он сказал в ответ При виде золотых монет: «Британец я и сердцем горд, Хотя не рыцарь и не лорд. Я предпочел бы, если б мог, Не деньги взять — твой кошелек. Его на шлеме я с собой Носил бы в самый жаркий бой». И был Джон Брент увидеть рад Горянки благодарный взгляд.11
Тут гостью капитан увел, И к Бренту Аллен подошел: «О сэр, прошу я одного — Вождя увидеть моего. Я менестрель его — и с ним В любой беде неразделим. Десятый я в роду моем, И род вождя мы все поем. Никто из нас ни разу сил Для господина не щадил. Вождь слышит нашей арфы звон Когда еще младенец он. Играет арфа на пиру, И любит вождь ее игру. Когда же кончен путь его, Вождя и лорда своего Под погребальный наш напев Хоронит клан, осиротев. Позволь, чтоб я в темнице жил, Я это право заслужил». «Нам дела нет, — ответил Джон, Кто от кого и кем рожден. Нам не понять, как имя — звук — Людей преображает в слуг. Но был неплох мой господин, Не оскорблю его седин. Когда бы мне пахать не лень Да не попался бы олень, Я жил бы дома по сей день. Идем, старик, ты сердцем тверд. Увидишь, где твой вождь и лорд».12
Брент властно снял ключи с крюка. Он не взглянул на старика И факел от огня зажег, И оба вышли за порог. Чем дальше путь, тем мгла черней. То слышен стон, то лязг цепей. Лежат колеса и мечи — Видать, трудились палачи. А в нишах Аллен разглядел Машины для заплечных дел. Кто строил их в углу глухом, Дать им названье счел грехом. Все дальше шел Джон Брент, но вот Певцу он факел отдает. Вход выступил из темноты. Упали цепи и болты. Они вошли. Исчезла мгла: То мрачная тюрьма была, Но не темница. Отсвет дня Чуть брезжил, узника дразня. Где не задымлена стена, Отделка грубая видна, И можно без труда понять, Что здесь всегда томилась знать. Джон Брент сказал: «Ты будешь тут, Покуда к лорду не придут. На короля он поднял меч, Но лорда велено беречь». Тут за порог Джон Брент шагнул И болт со скрежетом ввернул. И узник, слыша этот звук, На ложе приподнялся вдруг, И Аллен вздрогнул, поражен: Здесь Родрика увидел он! Все думали, что, с гор придя, Искал он этого вождя.13
Подобно судну на камнях, Которое, другим на страх, Командой брошено, лежит И под ударом волн дрожит,— Лежал в горячке Родрик Ду. Но и в горячечном бреду Пытался он владеть собой. И как грохочущий прибой В бессильный остов мощно бьет И передышки не дает, Так била раненого дрожь. Как на себя он непохож! Но вот рассеялся туман. «Где госпожа твоя? Что клан? Мать? Дуглас? Весь наш край родной? Ужель погибло все со мной? Откуда ты? Что там, в горах? Скажи, отбрось ненужный страх!» И верно — Аллен, оробев, Молчал, чтобы не вызвать гнев. «Кто храбро бился? Кто бежал? О, я бы робких удержал! Кто жалкий трус? И кто герой?» Взмолился Аллен: «Вождь, постой! Она жива!» — «О, славен бог!» — «Всевышний Дугласу помог, И леди Маргарет жива. А клан твой — где найти слова? Вовеки не был арфы звон Такой отвагой вдохновлен. Не сломлена твоя Сосна, Хоть многих унесла война».14
Вождь умирающий привстал, И жар в глазах его блистал, И словно пламя обожгло Его высокое чело. «Певец! Я слышал на пиру Твою искусную игру, На острове, где наша рать Уже не сядет пировать. Напомни мне былой напев. В нем славы звон и боя гнев. Сыграй мне, менестрель, его И мощью дара своего Всю битву мне изобрази, Чтобы услышал я вблизи И лязг меча и треск копья И саксов строй увидел я. Не станет этих душных стен, И поле явится взамен, Где войско яростью горит, Где дух мой снова воспарит». И, разом овладев собой, Коснулся струн певец седой. Представилось его глазам Все то, что с гор он видел сам И что рассказывал Бертрам. Старик забыл, что он уж стар. Проснулся в нем могучий дар. Так лодка на речную гладь Страшится берег променять, Но подхватила быстрина — И молнией летит она.15
БИТВА ПРИ БИЛ-АН-ДУАЙНЕ «Певец взошел на горный склон, Разлукой близкою смущен. Тебе, озерный тихий край, Хотел бы он сказать «прощай». В чужой стране не встретит взор Твоих приветливых озер. Не тронет легкий ветерок Береговую сень. В гнезде высоком беркут лег, И в чаще стал олень. Не свищут птицы возле вод, Не прыгает форель. Вон туча черная встает И пламенем в Бенледи бьет Сквозь огненную щель. Не гром ли громыхает так За тучами во мгле? Не войска ли тяжелый шаг Грохочет по земле? То молния меж диких круч Упала в темный лес Иль отразило яркий луч Копье наперевес? Твой герб я вижу, грозный Мар! А чья звезда горит, как жар, Врагам грозя издалека? Лорд Мори выстроил войска. И кто спешит героям вслед, Кто к шуму битв привык, Отдаст десяток мирных лет За этот славный миг!16
Отряд стрелков бежит вперед, Легко вооружен. Пока врага он не найдет, Не отдыхает он. А следом конница идет, И реет лес знамен. Ни барабанов, ни рогов, Волынки не гудят. И только слышен гул шагов Да звон тяжелых лат. Безмолвствуют ряды дружин, Весь мир кругом затих, И лишь дрожит листва осин Над головами их. Но никого не встретил тут Отряд передовой. Олени в чаще промелькнут — И ни души живой. Войска идут, как пенный вал, Когда, не встретив острых скал, Он катит гребень свой. Вот молчаливый путь привел От озера в глубокий дол. Ущелье Тросакс впереди. У входа съехались вожди, И, первым подойдя к нему, Отряд стрелков нырнул во тьму.17
Тогда такой раздался рев Из всех укрытий, щелей, рвов, Как будто ад, на все готов, Обрушил ярость на врагов. И как мякины легкий ком, Что ветром по полю влеком, Рассеян весь отряд. И беглецам стремится вслед Могучий клич былых побед, И блещет щит, и вьется плед, И к небу острый меч воздет, И тетивы звенят. Погибель скорая грозит Стоящим под горой. Лавины горцев страшен вид. Как этот натиск отразит Саксонский гордый строй? Раздался Мара грозный крик: «Копье наперевес!» И смутный шум в строю возник, И опустился, как тростник, Тяжелых копий лес. И строй стоит плечом к плечу, Готовый дать отпор мечу. «Запомнят горцы этот день Разгрома своего! Их дерзкий клан — лесной олень, Мы приручим его».18
Бегущих лучников гоня Из тьмы ущелья к свету дня, Широкой, мощною волной Клан Элпайн хлынул в смертный бой. Десятки поднятых мечей Блистали, как снопы лучей. Под каждым щит темнел. Как океан из берегов, Плеснули горцы на врагов Громадой дюжих тел. Я слышал копий тяжкий хруст, Как будто бы ломали куст. И был тяжелый звон клинков Как звон кузнечных молотков! Тут Мори, затрубив в рога, Ударил справа на врага. «Мой знаменщик, вперед! Не удержаться их рядам. Так пусть во славу наших дам Копье врага пробьет!» Таких не видел я атак. Конь прыгал, как олень. И там, где враг навис, как мрак, Теперь проглянул день. Где Родрик? Гибнущий отряд Лишь он спасти бы мог. Заменит тысячу солдат Его призывный рог. Ведь стоит саксам приналечь — И нас отбросят всех. Уже в ущелье горский меч Ударил о доспех. Как в пропасть грозной чередой Летят громады вод, Как яма, скрыта под водой, Ее, крутя, сосет, Так этой битвы жаркий пыл Ущелья сумрак поглотил. Остались те, кому война Уже вовек не суждена.19
Все дальше, глуше битвы гром В ущелье темном и сыром. Спеши через хребет, певец! Ущелья западный конец Озерную встречает гладь. У озера ты будешь ждать. И вот оно, как легкий дым — Лох-Кэтрин с островом своим. Бледнеет день, густеет тень, Все ниже небосвод. И синева, видна едва, Темнеет в бездне вод. От Бенвеню, от диких скал Порою ветер налетал, Но не окрестные края — Лишь вход в ущелье видел я И слушал с замершей душой, Как землю сотрясает бой. Там бьются молча, грудь на грудь, Лишь павший может отдохнуть. Там слышен лат тяжелый звон — Как панихида, мрачен он. Все ближе, ближе бой идет, И вот исторгнул узкий вход Передовую рать. Не медля, не считая ран, Спешит, спешит мятежный клан На горном склоне стать. А из ущелья под горой, Как туча, вышел саксов строй. У вод озерных, у мыска, Стоят враждебные войска. Над их рядами с высоты Знамен свисают лоскуты, А вмятины железных лат О смертной сече говорят.20
Страшны в молчании своем, Стояли саксы за мыском, Но Мори указал копьем: «Вот остров, с милю весь. На нем жилища и огни, При них лишь женщины одни. Разбойники в былые дни Добро делили здесь. Мой кошелек получит тот, На остров кто переплывет И лодку с привязи сорвет. Я волчье логово возьму, И гибель волку самому!» Из строя выскочил стрелок. Он сбросил латы на песок И с берега нырнул. Все дальше уплывает он, И нарастает с трех сторон Нестройный, смутный гул. Гремит клич саксов боевой, На острове и плач и вой, Рычит от гнева горцев строй. И, словно этот общий крик Небес темнеющих достиг, Поднялся ветер ледяной, Волна вскипает за волной, Как будто волн живая рать Стремится горцам помешать. Летят с утесов тучи стрел, Но сакс плывет, он жив и цел. Вот он у лодки, рад и горд. Вот ухватился он за борт. Тут пала молния в траву, И я при вспышке наяву Узнал Данкрэггена вдову. Она за дубом, на песке. Кинжал блестит в ее руке. И снова тьма, и слышен мне Тяжелый стон в крутой волне. Все тьма — и вспышка наконец. В волнах качается мертвец. Вдова стоит над бездной вод, И кровь по лезвию течет.21
«Месть! Месть!» — ревет саксонский стан. В ответ ликует горский клан. Пусть буря охватила высь, Войска торопятся сойтись. Вдруг на утесе в вышине Явился рыцарь на коне И, к самой бездне сделав шаг, С утеса свесил белый стяг. Трубач сыграл войскам отбой, И рыцарь крикнул, что с войной Король покончить повелел: Врагов своих он одолел, Лорд Босуэл с Родриком в плену, И полный мир пришел в страну…» Тут оборвался песни звук, И арфа выпала из рук! На Родрика певец-старик И прежде взглядывал на миг. Сначала вождь, томим тоской, Сидел с простертою рукой И, старца слушая рассказ, В лице менялся много раз. Но долго усидеть не мог, Закрыл глаза и снова лег. Потом, собрав остаток сил, Он руки на груди сложил, Сжал зубы, замутненный взор Бесцельно пред собой простер, И смерть, как все в его роду, Без страха встретил Родрик Ду. Ушла угрюмая душа. И замер Аллен не дыша. Но он недаром был певцом. Он так запел над мертвецом:22
ПЛАЧ «Ты ль это холоден и тих, Гроза и бич врагов своих, Весь клан обрушивший на них? Где плач? Где песен мрачный пыл? Ведь ты певцу внимать любил. Ты Босуэлам опорой был. А нынче их судьба темна, И по тебе скорбит струна. Плачь, плачь, элпайнская Сосна! О, сколько пролилось бы слез На тихий дол и на утес, Когда б я эту весть принес! Ты не помчишься в гущу сеч, Чтоб за собою нас увлечь. Не кончен бой, но выпал меч! Нет, жизнь моя мне не нужна. Лишь только б ты восстал от сна. Плачь, плачь, элпайнская Сосна! О вождь, печален твой уход! Дрозд в клетке свищет без забот. Орел в неволе не живет. И та, любимая тобой, Хоть в мыслях у нее другой, Почтит твой камень гробовой. И будет петь со мной она, Тиха, печальна и бледна. Плачь, плачь, элпайнская Сосна!»23
А Элен в башне все ждала, Не отдыхала, не спала. Рассветный луч, то желт, то ал, Цветные стекла озарял, Но тщетно он касался стен, Лаская пышный гобелен, И тщетно стол ломился тут От пряных вин и сытных блюд. Едва взглянув на все вокруг, Припоминала Элен вдруг, Как счастья тень, как добрый знак, Иной приют, иной очаг — Свой остров, спящий в тишине, Оленью шкуру на стене, Где сиживал отец седой За скромной и простой едой, Где Лафра верная у ног, Играя, терлась, как щенок, Где про охоту между тем Вел разговоры Малькольм Грэм, Но вдруг, ответив невпопад, Вдаль устремлял туманный взгляд. Кто тихим счастьем был согрет, Тот с грустью ловит счастья след. Вот Элен встала у окна. Что жадно слушает она? В суровый час, грозы темней, До музыки ли нынче ей? Из верхней башни долетев, Раздался жалобный напев.24
ЖАЛОБА ПЛЕННОГО ОХОТНИКА «Мой сокол просится в полет, Собака пищи не берет, В конюшне тесно скакуну, И грустно мне сидеть в плену. А как бы я хотел опять Оленя по лесу гонять И в рог трубить, собак дразня. Вот счастье жизни для меня! Унылый колокольный звон Здесь отмечает ход времен, Да по стене за футом фут Лучи кровавые ползут. Заутреню мне служит стриж, Вечерню — ворон с ближних крыш. Живу, судьбу свою кляня, И жизнь не радует меня! Я поутру на склонах гор Не встречу Элен нежный взор, И, проблуждав весь день в лесу, Добычу ей не принесу, И у порога не сложу, И слов привета не скажу. Такого радостного дня Вовек не будет для меня!»25
Она не вскрикнула «увы!», Не уронила головы И только оперлась на стол, Когда за дверью скрипнул пол И рыцарь сноудонский вошел. Она опомнилась — и вот Навстречу рыцарю идет. «Привет Фиц-Джеймсу и поклон. Да примет благодарность он От сироты…» — «Нет, Элен, нет. Моя награда — твой привет. Будь власть моя — клянусь душой, Отец твой был бы здесь, с тобой. Ступай со мною к королю, Его легко я умолю. Он добр, хоть в наши времена Власть непреклонная нужна. Идем! Отбрось ненужный страх. Король давно уж на ногах». Но полон слез был Элен взор. Ей рыцарь слезы сам отер И руку дал и ко двору Повел, как вел бы брат сестру. Из двери в дверь, из зала в зал Горянку рыцарь провожал. Но вот все позади. Теперь Последняя открылась дверь.26
Весь зал сверкал. Везде был свет. Здесь каждый в золото одет, Смотреть — глазам терпенья нет. Так ряд вечерних облаков Горит на тысячу ладов, И в небе взгляд рисует нам Воздушных рыцарей и дам. В молчании, дыша едва, Ступила Элен раз и два, Тихонько взоры подняла И зал глазами обвела, Еще не ведая, где он, Чья воля грозная — закон. Здесь чуть не каждый из вельмож Обличьем был с монархом схож, Одеты в бархат все и шелк. Неясный говор в зале смолк, И разом шляпы снял весь зал. Один Фиц-Джеймс берет не снял. К нему стремится каждый взор, Его вниманья ждет весь двор. На рыцаре простой наряд, Хотя вокруг огнем горят Созвездья дорогих камней. Король Шотландии пред ней!27
Как снег, что со скалы навис, Стремглав соскальзывает вниз, Так Элен, словно слыша гром, Простерлась перед королем. Она и в страхе и в тоске. Кольцо дрожит в ее руке. Король, молящий встретив взор, В нем прочитал немой укор. Окинув гневным взором знать, Он Элен поспешил поднять, И в лоб ее поцеловал, И милостиво ей сказал: «Да, Элен. Бедный рыцарь твой Повелевает всей страной. Откройся мне, не прячь лицо. Я щедро выкуплю кольцо. Но ты захочешь, может быть, За Дугласа меня просить. Не нужно. Я прощаю клан. Мы были введены в обман. Я и лорд Дуглас с этих пор Забудем злобный наговор. Невинно прежде пострадав, Перед законом Дуглас прав. И впредь Гленкорну и де Во Не дам я притеснять его. Лорд Босуэл, как в былые дни, Вернейшим подданным сродни. Так что ж, мятежница моя, Улыбки все не вижу я? Лорд Дуглас, я прошу помочь. Не верит счастью ваша дочь».28
И Элен крепко, как могла, Отца за шею обняла. Король, увидев этот пыл, Всю сладость власти ощутил, Когда повелевает власть Добру — воспрять, пороку — пасть. Недолго любовался он, Как Дуглас встречей восхищен. «Нет, Дуглас, от души прощай И дочь от нас не похищай. Поистине, врагам назло, Вас чудо с дочерью свело. Когда бродил я по стране В одежде, не присущей мне, Я звался именем другим И все ж по праву звался им: Фиц-Джеймс — так на норманский лад О всяком Джеймсе говорят. Таясь, я лучше видеть мог, Где поднял голову порок». Затем — вполголоса: «Итак, Изменница, я был твой враг! Нет, никому не открывай, Как я пришел в озерный край И как меня послала ты Туда, на горные хребты, Где чудом, в битве победив, Твой государь остался жив». И — громко: «Этот талисман Тебе в горах Фиц-Джеймсом дан. Окончена Фиц-Джеймса роль. Чем наградит тебя король?»29
Да, видно, знал король давно, Кем сердце Элен пленено. Теперь она глядит смелей, Но страх за Грэма ожил в ней, А также страх за храбреца, Что встал за честь ее отца. И, благородных чувств полна, Просила милости она, Хоть Родрика тяжка вина. Король вздохнул: «Увы, лишь бог Жизнь Родрика продлить бы мог. Вот было сердце! Бот рука! Я знаю мощь его клинка. Не надо мне богатств моих, Лишь был бы он среди живых. Но перед Элен я в долгу Чем отплатить я ей могу?» И Элен к Дугласу идет, Кольцо, краснея, отдает, Чтоб короля отец просил О том, что ей назвать нет сил. Король сказал: «Суров закон. Мятежников карает он. Где Малькольм? Да свершится суд!» Грэм преклонил колено тут. «Тебе, бунтарь, пощады нет. Ты, нашей ласкою согрет И принят милостиво в дом, Ответил буйным мятежом, И у тебя, от нас вдали, Мои враги приют нашли. Твоя вина известна всем. Вот цепь и стража, дерзкий Грэм!» И цепь из золота, светла, На грудь мятежника легла. Теперь мятеж его забыт, И Элен рядом с ним стоит.Эпилог
О арфа севера, теперь прощай! На дальние холмы спустилась тень, И в сумерках из чащи невзначай Едва заметный выглянул олень. Сойди же с колдовством своим под сень Родного вяза, к водам родника! Твой нежный глас, едва смолкает день, Как будто эхо с горного лужка Плывет в гуденье пчел и в песне пастушка. Однако же прощай и мне прости Неловкие удары по струнам. Не для того я пел, чтоб быть в чести, Вот и небрежен был по временам. Ты мне была как сладостный бальзам. Я шел один, покорствуя судьбе, От горестных ночей к горчайшим дням, И не было спасения в мольбе. Я тем, что ныне жив, обязан лишь тебе. Прощай, прислушайся к шагам моим, Неслышно затихающим вдали. Кто струн теперь коснется? Серафим? А может, духи добрые земли? Теперь твои напевы отошли, Растаяли по склонам горных рек, А то, что ветры дальше понесли, Уже не различает человек. О чаровница, звук умолк, прощай навек!1810
ПОЛЕ ВАТЕРЛОО
1
Сокрылся позади Брюссель, И только слышим мы досель, Как, эхом повторен, Несется мерной чередой Над парками и над водой Часов протяжный звон. Мы входим, темный Суаньи, В леса дремучие твои: Здесь глянцевитый бук Непроницаемый шатер Своих густых ветвей простер На много лье вокруг. Напрасно путник, осмелев, Прохода ищет меж дерев, Поднявшихся стеной; И на ковер гнилой листвы Не упадет из синевы Ни луч, ни дождь, ни зной. Свет не обрадует очей, Шумя, сверкающий ручей Не вынырнет из мглы; Куда ни обращаем взгляд, Вдоль нашего пути стоят, Угрюмо вытянувшись в ряд, Угрюмые стволы.2
Открылась неба синева, Вдаль отступают дерева, Видны кустарники, трава, Селенье и овраг. Крестьянин в поле у межи Склонился над снопами ржи; А ведь не ждал бедняк, Когда стояли зеленя Вблизи нещадного огня, Что снимет спелый злак! А там лачуги позади И храм… О путник, не гляди С презреньем на село: Хоть жалок колокольни вид, Но вспомни, что она стоит В бессмертном Ватерлоо!3
Не бойся солнца, хоть волной Нас обдает осенний зной И далеко отставший лес Не защищает от небес: Был день, когда поля и лог Иной огонь сильнее жег. Идем вперед мы, где кусты, Венчая гребень высоты, Над полем поднялись. Отлогий холм уходит вдаль И, как красавицы вуаль, Спадает плавно вниз. Немного дале, в свой черед, Пред нами новый холм встает, Сокрывший небосклон, И, образуя полукруг. Широкою грядою луг Охватывает он. Здесь спуск удобен и подъем, И дева робкая верхом Без страха правит скакуном, Спускаясь в мирный дол. Ни куст, ни дерево, ни сад Дороги ей не преградят, Ни ров, ни частокол. Но дальше, рощей затенен, Подъемлет башни Угумон.4
И если путника спросить, Что здесь могло происходить, То скажет он в ответ: «С широких вспаханных полос Крестьянин урожай увез, И тяжко нагруженный воз Своих окованных колес Оставил длинный след. А мужики навеселе На той утоптанной земле Плясали до утра, И пировали у лачуг, Там, где, спаленный, черен луг, И жены их сновали вкруг Горящего костра».5
И он и каждый так решит, Кто этот край впервые зрит. Но только не жнецы Трудились здесь, и не серпом, А пикой, саблей и штыком — Суровые бойцы. Не хлеб сбирали в сих полях, Не жалкий злак; но каждый взмах Героев повергал во прах, Как срезанный ячмень; И в час, когда ночная мгла На жатву страшную сошла, Скирдами высились тела Сраженных в этот день.6
Взгляни опять — тот черный знак Оставил на поле бивак; Вокруг него следы атак И грозного огня. А рядом, где засохла грязь, Там кровь потоками лилась И, в битву яростно стремясь, Хлестал драгун коня. Вон та глубокая нора — След раскаленного ядра. Ты чувствуешь, как смрадный пар Вливается в полдневный жар Зловонною волной Из недр засыпанных холмов? Знай — то Убийство до краев Амбар набило свой.7
То был не праздник средь равнин, Какой справляет селянин, Оставив серп и плуг! Над обезумевшей толпой Носилась Смерть под битвы вой, И всех на пир кровавый свой Она звала вокруг. А Дьявол, разрывая тьму, Гостей отыскивал в дыму, И удавалося ему Расслышать каждый звук, Вливающийся в бранный рев, — От зычных пушечных громов, И крика дикого стрелков, И лязга дикого клинков До хрипа смертных мук, Когда при скрежете зубов Смолкает сердца стук.8
Пируй, жестокий враг людской! Пируй, но знай: чем жарче бой С его нещадною резней, Тем кончится скорей: Губительный напор войны Спадает, коль истощены Все силы у людей. Надежда тщетная! С утра Поднялся к тучам клич «ура!» Над полем роковым; Теперь уж близится закат, Но не смолкает крик солдат, Клубится черный дым. И свыше десяти часов Идут, идут с вершин холмов На бранный дол ряды полков — Несметно их число; Свирепым штурмам нет конца, Не утихает град свинца: Все в страшный бой пошло — Уменье, сила и расчет, Но битвы не решен исход На поле Ватерлоо.9
Скажи, Брюссель, что думал ты, Когда с далекой высоты Протяжный несся гром И с дрожью слышал млад и стар Звук, предвещавший им пожар, Насилье и разгром? Как страшно в грохоте колес Вдоль улиц двигался обоз Страданьем груженных телег, Везя израненных калек, И позади кровавый ток Струился прямо на песок. Как часто, слыша барабан, Ты думал, что вошел тиран И что занес уже Разбой Кровавый факел над тобой. О не страшись! На поле том Напрасно на тебя перстом Указывает враг, И, не привыкший уступать, Опять вздымает и опять Кровавый вал атак.10
Он все кричал: «Марш! Марш! Быстрей! На пламя ярых батарей! На вражеский заслон! Пусть каждый латник в бой идет! Уланы с пиками, вперед! Гвардейцы, Франция зовет И я, Наполеон!» В ответ восторга клич звучал. Он смерти лучших обрекал, Но с ними горестный удел Сам разделить не захотел. А Тот — отчизны щит и меч — Являлся средь кровавых сеч, Чтобы сердца солдат зажечь, Как света луч дневной; Одушевляя каждый полк, Вождь восклицал: «Исполним долг Пред Англией родной!»11
Поднялся вихрь, сраженье скрыв, Как бури яростный порыв; Поднялся вихрь, и сталь за ним Сверкнула молнией сквозь дым; Проснулась вновь война. Три сотни пушек, озверев, Извергли из горящих чрев Потоки чугуна. И за завесою огня Пришпорил кирасир коня, Уланы, пиками звеня, Пошли, и, войско осеня, Взметнулись знамена. Как бурные потоки вод, Французы ринулись вперед. И над равниной в тот же миг Протяжный и свирепый крик В честь императора возник.12
Но страшный натиск вражьих сил Сердец британских не смутил; Никто из доблестных солдат Не опустил свой гордый взгляд, И возле падающих тел Их твердый шаг не ослабел. Как только ядра рвали строй, Они смыкались вновь стеной, И снова высились, тверды, Их непреклонные ряды. Когда ж пред ними, как мираж, Из дыма вырвались плюмаж, Кираса, пика и палаш — Загрохотал огонь! И каждый бравый мушкетер В стрельбе проворен был и скор И точно выпускал заряд, Как будто это был парад. Пробили пули бронь. Упали кони, седоки; Свалились шлемы, тесаки; Орлы знаменные, значки Валяются в пыли. А эскадроны англичан, Тесня врагов смятенный стан, Их с флангов обошли И вспыхнул рукопашный бой Вслед за ружейною пальбой; Как в кузнице, со всех сторон Металла раздавался звон. Когда ж, взметая дым и прах, Пробили пушки брешь в рядах, Когда врубилась сталь клинков В шеренги дрогнувших полков, Мгновенный страх объял солдат — И с воплем ринулись назад Остатки вражеских колонн, Без командиров, без знамен.13
Тут, Веллингтон, твой острый взор Судьбы увидел приговор: В тот день британский строй Под натиском врага стоял, Как ряд родных прибрежных скал; Когда же ты «Вперед!» сказал, Он хлынул, как прибой. А ты, коварный властелин, Узри позор своих дружин! Ты мнишь, что сломленная рать Лавину сможет удержать; Иль ветеранам нипочем С британским встретиться штыком? Теперь ты вдаль взгляни, Где скачут в бой вослед знамен За эскадроном эскадрон; Ты думаешь, они — Войска победные Груши? Нет, обольщаться не спеши — То пруссаки идут! Иль ты забыл сей трубный глас, Зловещий в твой недобрый час, Который прозвучал сейчас, Как зов на страшный суд? О, если б ты увлек с собой Остатки войск в последний бой И вместе с ними пал! Ты Риму подражать хотел — Так вспомни горестный удел Вождя, что притязал На императорский венок И гладиаторов увлек В мятежный свой союз. Он твердо встретил злобный рок, Не бросил тех, кого обрек На гибель, но, держа клинок, На поле брани с ними лег — Злодей, но все ж не трус.14
Но если робкою душой Спасения любой ценой Ты жаждешь, — прочь стреми свой бег, Хоть двадцать тысяч человек Смерть приняли в бою, Чтоб славу для тебя стяжать, А ты ее теперь отдать Готов за жизнь свою. В веках грядущих кто поймет Изменчивость твою? Где тот Герой, кого являли нам Маренго, Лоди и Ваграм? Иль дух твой — как поток: Наполненный снегами с круч, Он вниз свергается, могуч, Неистов и широк; Когда ж нет помощи ничьей, Он — жалкий, высохший ручей, И вдоль него тогда 630 Остатки буйств его видны — Навалены, наметены, Но силы нет следа.15
Пришпорь коня! Не то опять Тебе придется услыхать Твоих гвардейцев стон, В котором, мнилось, жгучий стыд Был с яростью и болью слит: «Уж лучше б умер он!» Но прежде чем скакать назад, На поле брось последний взгляд, Прощаясь навсегда. Туманный месяц свет струит В долину, и она бурлит, Как полая вода, Когда весенняя река Несет пожитки бедняка, Стремя за валом вал,— Так бешеный поток людей Знамена, пушки, лошадей Увлек лавиною своей И в поле разбросал.16
Чу! Мстительный и грозный крик До слуха твоего достиг. То в прорванном тылу твоем Пруссак орудует копьем. В снегах Березины Не так зловещ был возглас тот, Когда от крови таял лед, И, средь бегущих сея страх, Кричали яростно «ура!» Донских степей сыны. Иль вспомни вопль, что мрак пронзил Под Лейпцигом, когда без сил Тобой союзник брошен был И трупов полная река Прияла тело поляка. Тебе ж средь этих бед судьбой Назначен жребий был другой. И ныне роковой исход Ждал не сраженье, не поход; Нет, час решительный настал, Ты славу, имя потерял, Империю и честь; И пал с главы твоей венец, Когда излились наконец Небесный гнев и месть.17
Ты хочешь жить? Тогда смирись, Витиям дерзким покорись, Которых некогда презрел; Они среди ничтожных дел Решат твой царственный удел. Иль жребий менее суров — Искать приюта у врагов, Против которых свой кинжал Ты постоянно обнажал? Тому примеры есть В анналах древности седой. И, будь свободен выбор твой, Тебе б он сделал честь. Так приходи. Мы не почтем Поверженного ниц врагом, Хоть горький опыт говорит: Дружить с тобой не сможет бритт. И все ж мы скажем: приходи, Но не скрывай надежд в груди, Не помышляй, что впереди Тебя ждет власть опять. Мы не хотим, чтоб спесь твоя, Таящаяся, как змея, Могла главу поднять. Приди, но ты не сможешь, знай, Ни остров, ни единый край Теперь своим наречь; Тебя покинут все войска: Не должно оставлять клинка, Чтоб завладела им рука, Из коей вырван меч.18
Быть может, ты, покинув свет, Славнейшую из всех побед Сумеешь одержать; Триумф без крови, без вреда И без вассалов лишь тогда Дано тебе стяжать, Когда избудешь ты в тиши Неистовство своей души: Оно — твой злобный рок. Внемли мне: я не раз вздыхал, О том помыслив, чем ты стал И чем ты стать бы мог!19
А ты, чьи подвиги страна Бессильна наградить сполна, Ты истинную благодать Лишь в сердце можешь отыскать. Восторг народа твоего, И всей Европы торжество, Привет монарха и палат, Высокий сан, поток наград Не стоят тех благих минут, Когда, окончив бранный труд, Ты скажешь: «Я дерзнул извлечь Лишь для отечества свой меч И не вложил его в ножны, Пока не выиграл войны».20
Взгляни с поникшей головой На поле славы боевой. От триумфальных колесниц Всегда несется плач вдовиц. В тот день рука войны в крови Расторгла столько уз любви! Страшнее битв не видел свет, Дороже не знавал побед. И льются слезы у могил Тех, кто навеки здесь почил. Здесь и отец, что не прижмет К груди оставленных сирот; И сын, что к матери родной Уж не воротится домой; Жених, кому не обнимать Невесту робкую опять; Супруг, что не познает вновь Подруги верную любовь. Родных и близких без числа Смерть беспощадно унесла! И если черная вуаль Скрывает девичью печаль, Иль женский плач раздастся вдруг В ответ на барабанный стук, Иль потаенная тоска Терзает сердце старика,— Не вопрошай, какое зло Причиной, — вспомни Ватерлоо!21
День нашей доблести и слез, Какие жизни ты унес! Тобой Британии сыны В анналах подвигов страны Навеки запечатлены. Ты видел, как, рубясь в бою, Окончил Пиктон жизнь свою; Как Понсонби, лишаясь сил, Глаза орлиные смежил. Де Ланей вместо брачных уз Со смертью заключил союз. А Миллер, падая, привет Родным знаменам слал вослед. Потомок северных племен, Сражен могучий Камерон; И Гордон, жизни не щадя, Погиб бесстрашно за вождя. Увы! хоть силой неземной Спасен Британии герой, Всю мощь перунов роковых Изведал он в друзьях своих.22
Простите, павшие в бою, Песнь недостойную мою! Высокий стих и лиры глас Бессильны возвеличить вас Всех — от прославленных вождей До скромных и простых людей. Легко в то утро встали вы С сырого ложа из травы, Чтоб раньше чем померкнет день В могильную сокрыться сень. Падет слеза на ваш покров, Свят до скончания веков Героев будет сон. Когда ж британец здесь пройдет, Молитву тихо он прочтет За павших, тех, кого в поход Вел славный Веллингтон!23
Прощай же, поле, где видны Следы губительной войны. Надолго память сохранит Твоих разбитых хижин вид, Тебя, прекрасный Угумон, Израненный со всех сторон. Пусть сад зеленоглавый твой Стал местом сечи роковой, Пусть на деревья без конца Свирепо падал град свинца И возле почерневших врат Они поверженны лежат, Но ты в разгроме и в борьбе Обрел бессмертие себе! Да, можно Азенкур забыть, Кресси в безвестности сокрыть, Но, сколько б лет ни шло, Уста молвы и песни звон Расскажут людям всех времен Про непреклонный Угумон И поле Ватерлоо.Заключение
Река времен! покоя нет тебе. Стремясь от колыбели до могилы, Людские поколенья к их судьбе Ты неуклонно мчишь чредой унылой. Твое теченье быстрое вместило Ладью веселья, и баркас труда, И бриг тюремный, мрачный и постылый… Все вдаль плывут, рабы и господа, В один безмолвный порт стремятся все суда. Река времен! какие перемены Познала наша бренная ладья! Не ведали доселе во вселенной Подобных бед Адама сыновья. Столь странных превращений бытия, Внезапных смен блаженства и мученья, Вершенья судеб острием копья Грядущие не узрят поколенья, Покуда ты свое не прекратишь теченье. Моя отчизна, ты борьбу вела, Неколебима в радости и горе. За истину и благо, как скала, Стояла твердо ты в державном споре В дни тяжкие, когда, как псов на своре, Полмира на тебя повел злодей, И в час, когда пришло тебе подспорье, И посылала лучших сыновей Европа, чтоб помочь Владычице морей. Твой подвиг награжден. Но солнце славы Не озаряло долго небосвод И, как заря востока, величаво Оно взошло сперва над лоном вод; Затем Египет зрел его восход, И знойной Майды мирты и оливы, Где твой отважный воин в свой черед, Как до него моряк вольнолюбивый, Смыл кровью вражеской упрек несправедливый. Страна моя, прекрасен твой восторг. Вздымай хоругви своего патрона! Ведь ты, как доблестный святой Георг, Обрушилась на страшного дракона И, вызволив невинность из полона, Низвергла тираническую власть. Так пусть же мир дивится на знамена Воителя, что отвратил напасть И справедливости не дал навеки пасть. Но, слыша хор всеобщего признанья, Добытого столь дорогой ценой, Британия, запомни в назиданье Потомству, что не тот еще герой, Кто храбро ринулся на вражий строй Иль не отдал в бою родного стяга, — Корысть и спесь ведут таких порой. Пусть постоянством в сотворенье блага Венчается всегда твоих сынов отвага.1815
СТИХОТВОРЕНИЯ
БАЛЛАДЫ
ГЛЕНФИНЛАС, или ПЛАЧ ПО ЛОРДУ РОНАЛДУ
Подвластна им бесплотных духов рать,
Им ведомо — из этой вереницы
Кто может бурю и грозу наслать
Безумцам уподобясь, те провидцы
Глядят во тьму, где тайное вершится.
Коллинз О, скорбный час! О, скорбный час! Туманит горе нам глаза! Навеки вождь покинул нас, Могучий дуб сожгла гроза. Враги дрожали пред тобой, Сын Гильенора, Роналд наш: Бил прямо в цель твой лук тугой, Не знал пощады твой палаш. И горек плач саксонских вдов В краю, где Тиза плещет вал, Где ты, низринувшись с холмов, В бою мужей их побеждал. А в мае Роналда костер Всех ярче пламенел средь тьмы, И весело звучал наш хор, И до утра плясали мы. Для нас был Роналд крепкий щит, Спокойно жили стар и млад… О, как теперь душа скорбит: Он не воротится назад! К нему однажды старый друг Приехал с дальних островов, Чтоб вместе скоротать досуг Охотою в глуши лесов. Гость Роналда, отважный Мой, Был дивным даром награжден: По арфе пробежав рукой, Грядущее провидел он. Заклятья он такие знал, Что отступал пред ним злой дух, Такие песни он слагал, Что устрашался смертных слух. Тех чудных песен волшебство Сзывало мертвых из могил, И прозревал он смерть того, Кто был еще в расцвете сил. И вот, наскучив есть и пить, Решили как-то поутру Вожди оленя затравить В глухом гленфинласском бору. Нет с ними слуг, дружины нет, Чтоб на охоте их беречь: Одежда их — шотландский плед, А верный страж — шотландский меч. Три летних дня в лесу густом Летают стрелы и поют, И вот охотники вдвоем Несут добычу в свой приют. Гленфинласский угрюмый бор Один ту хижину стерег; С ней вел немолчный разговор Монейры сумрачный поток. И мирны были небеса, И был покой земли глубок, И летняя легла роса На мох, на вереск, на песок. Сквозь дымку серебристых туч Пробилась бледная луна И бросила неверный луч На лес, на Кэтрин-лох она. Беседуя, вожди едят — Настрелянная дичь вкусна,— У Роналда сверкает взгляд, И он за Моя пьет до дна. «Чего нам здесь недостает, Чтоб стал блаженным этот час? Девичьих вздохов, льющих мед, Горячих уст и томных глаз. Взрастил Гленгайл, гордец седой, Двух дочек, наших гор красу. Они сегодня, встав с зарей, Вдвоем охотятся в лесу. Мила мне Мэри с давних пор, И хитрую я вел игру, Но слишком зорок Флоры взор — Как страж, она хранит сестру. Уйду я с Мэри далеко, Ты ж Флоре преподашь урок, Чтоб поняла, как нелегко Упрятать сердце под замок. Чуть арфы прозвучит напев, Взволнованна, упоена, И Мэри и меня презрев, Вся обратится в слух она, Потом склонится головой На ложе из душистых трав… И тут поверит даже Мой, Что был отшельник Орен прав!» «Мир для меня уныл и пуст С тех пор, как Морны взор угас: В нем больше нет горячих уст, Медовых вздохов, томных глаз. В тот день я стал к надеждам глух. Когда ж коснулся струн рукой, Провидчества жестокий дух Скорбящей овладел душой. О, дар разгневанных небес — Прозрение грядущих бед! С ним проблеск радости исчез, С ним помутился белый свет! Ты в Обене ладью видал — Над ней свод неба голубел… А я у колонсейских скал Уже ее в обломках зрел. Ты помнишь, как с бенморских круч Твоей сестры спускался сын? Он шел, отважен и могуч, Войной на жителей долин. Лавиной воины неслись, Сверкали звонкие щиты, И пледы по ветру вились, И Фергюсом гордился ты. А я — я видел крови ток, И слышал смертной муки стон, И знал — его настигнет рок: Он будет копьями сражен. Ты хочешь, чтоб отдался Мой Утехам легким, не любя, А он сейчас, о Роналд мой, В тоске и страхе за тебя. На лбу твоем холодный пот, Твой ангел плачет, духи зла Ведут свой хоровод, и вот. Но дальше все сокрыла мгла». «Сиди один и брови хмурь, Пророк напастей и невзгод.. Я не боюсь грядущих бурь, Когда так ясен небосвод! И пусть правдив твой приговор — Страх не проникнет в грудь мою: Отважно примет Гильенор От вражьих копий смерть в бою. Легла роса, сгустился мрак, И Мэри ждать уже невмочь..» Он свистнул весело собак И, не простившись, канул в ночь. Медлительно текли часы, Багрово тлели головни, И вот скуля вернулись псы, У ног вождя легли они. Где ж Роналд? Полночь. Тьма кругом. У Моя на душе тоска. Склонившись перед очагом, Он угли шевелит слегка. Но что это? Шуршат кусты, В рычанье псов — смертельный страх. Они дрожат, поджав хвосты, Шерсть дыбом встала на хребтах. Открылась дверь. За ней — ни зги. И арфа зазвучала вдруг, И легкие слышны шаги, Им вторит струн дрожащий звук. При свете меркнущих огней Увидел незнакомку Мой В одежде листьев зеленей, Всю окропленную росой. Насквозь промокла от росы. На шее — капель жемчуга. Сушила золото косы Красавица у очага. И робкий голос прозвучал, И был он пенья птиц нежней: «Ты девушку не повстречал В одежде листьев зеленей? С ней вождь, прославленный герои, Он по-охотничьи одет, При нем палаш и лук тугой, По ветру вольно вьется плед». «Но кто же ты? Кто двое те? — Мой спрашивает, побледнев. — Зачем ты бродишь в темноте? Не место здесь для юных дев». «У Кэтрин-лох, меж мрачных скал, Над синевой бездонных вод, Наверно, замок ты видал? В нем доблестный Гленгайл живет. Я дочь его и в этот бор С сестрой охотиться пошла. Нам повстречался Гильенор… Меня охота увлекла, Я заблудилась… Ночь, темно… О, помоги найти сестру! Нечистой силы тут полно — Одна, от страха я умру». «Да, злобных духов здесь не счесть, И, чтоб обычай соблюсти, Молитву должен я прочесть; Потом готов с тобой идти». «Нет, прежде проводи меня! Тебе ведь жалость не чужда: Должна до наступленья дня Я дома быть — не то беда!» «Три «Отче наш» сперва скажи, Три «Славься» повтори за мной, Уста к писанью приложи, И легок будет путь домой». «И это рыцарь? О позор! Ты мне и жалок и смешон! Скорее воинский убор Смени на черный капюшон. А ведь задор в тебе кипел, Не страшен был и самый ад, Когда в Данлетмоне ты пел Беспечной Морны томный взгляд». Мой на мгновенье онемел, И пламень сумрачный в глазах, И щеки белы, словно мел, А в сердце ненависть и страх. «Когда я у костра без слов Лежал, сказав «прощай» всему, Не ветер ли тебя принес, Не ты ль кружилась там в дыму? Сгинь с глаз моих, изыди, тварь! В тебе не смертных кровь течет: Родитель твой — подземный царь, А мать — властительница вод!» И Мой лицом к востоку стал, С лица откинул прядь волос, Молитву трижды прошептал, Заклятье трижды произнес. И заиграл на арфе он — Был мрачен тот напев и дик… Какой в ответ раздался стон, Как изменился девы лик! Змеей виясь, она росла, Коснулась крыши головой И сгинула — как не была; А вслед лишь ветра свист и вой. И град пошел, и хлынул дождь, Лачугу смыл воды поток, Но невредим остался вождь: Он и под ливнем не промок. И хохот дьявольский потряс Насупившийся темный лес, Потом затих, вдали угас Под сводом северных небес. Едва он смолк, ударил гром, И с кровью смешанная грязь На угли очага ручьем, Шипя и брызжа, пролилась. Отрубленная голова Упала наземь тяжело… В глазах предсмертная тоска… Багряный пот залил чело — Чело бесстрашного вождя, Того, кто нас на битву вел И кто, с бенморских круч сойдя, В смятенье повергал весь дол. Монейры мрачной берега И ты, Гленфинлас роковой, Вовек охотника нога Не потревожит ваш покой. И путники в палящий день Вас осторожно обойдут, Затем что проклятая сень — Лесных жестоких дев приют. А мы — кто нас от бед спасет? Кто поведет на бой с врагом? О Роналд, Роналд, наш оплот, Мы над тобою слезы льем! О, скорбный час! О, скорбный час! Туманит горе нам глаза. Навеки вождь покинул нас, Могучий дуб сожгла гроза.1799
ИВАНОВ ВЕЧЕР
До рассвета поднявшись, коня оседлал Знаменитый Смальгольмский барон; И без отдыха гнал, меж утесов и скал, Он коня, торопясь в Бротерстон. Не с могучим Боклю совокупно спешил На военное дело барон; Не в кровавом бою переведаться мнил За Шотландию с Англией он; Но в железной броне он сидит на коне; Наточил он свой меч боевой; И покрыт он щитом; и топор за седлом Укреплен двадцатифунтовой. Через три дни домой возвратился барон, Отуманен и бледен лицом; Через силу и конь, опенен, запылен, Под тяжелым ступал седоком. Анкрамморския битвы барон не видал, Где потоками кровь их лилась, Где на Эверса грозно Боклю напирал, Где за родину бился Дуглас; Но железный шелом был иссечен на нем, Был изрублен и панцирь и щит, Был недавнею кровью топор за седлом, Но не английской кровью покрыт. Соскочив у часовни с коня за стеной, Притаяся в кустах, он стоял; И три раза он свистнул — и паж молодой На условленный свист прибежал. «Подойди, мой малютка, мой паж молодой, И присядь на колена мои; Ты младенец, но ты откровенен душой, И слова непритворны твои. Я в отлучке был три дни, мой паж молодой; Мне теперь ты всю правду скажи: Что заметил? Что было с твоей госпожой? И кто был у твоей госпожи?» «Госпожа по ночам к отдаленным скалам, Где маяк, приходила тайком (Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам Не прокрасться во мраке ночном). И на первую ночь непогода была, И без умолку филин кричал; И она в непогоду ночную пошла На вершину пустынную скал. Тихомолком подкрался я к ней в темноте; И сидела одна — я узрел; Не сто ял часовой на пустой высоте; Одиноко маяк пламенел. На другую же ночь — я за ней по следам На вершину опять побежал,— О творец, у огня одинокого там Мне неведомый рыцарь стоял. Подпершися мечом, он стоял пред огнем, И беседовал долго он с ней; Но под шумным дождем, но при ветре ночном Я расслушать не мог их речей. И последняя ночь безненастна была, И порывистый ветер молчал; И к маяку она на свиданье пошла; У маяка уж рыцарь стоял. И сказала (я слышал): «В полуночный час Перед светлым Ивановым днем, Приходи ты; мой муж не опасен для нас; Он теперь на свиданье ином; Он с могучим Боклю ополчился теперь; Он в сраженье забыл про меня — И тайком отопру я для милого дверь Накануне Иванова дня». «Я не властен прийти, я не должен прийти, Я не смею прийти (был ответ); Пред Ивановым днем одиноким путем Я пойду… мне товарища нет». «О, сомнение, прочь! безмятежная ночь Пред великим Ивановым днем И тиха и темна, и свиданьям она Благосклонна в молчанье своем. Я собак привяжу, часовых уложу, Я крыльцо пересыплю травой, И в приюте моем, пред Ивановым днем, Безопасен ты будешь со мной». «Пусть собака молчит, часовой не трубит, И трава не слышна под ногой, — Но священник есть там; он не спит по ночам; Он приход мой узнает ночной». «Он уйдет к той поре: в монастырь на горе Панихиду он позван служить: Кто-то был умерщвлен; по душе его он Будет три дни поминки творить». Он нахмурясь глядел, он как мертвый бледнел, Он ужасен стоял при огне. «Пусть о том, кто убит, он поминки творит: То, быть может, поминки по мне. Но полуночный час благосклонен для нас: Я приду под защитою мглы». Он сказал… и она… я смотрю… уж одна У маяка пустынной скалы». И Смальгольмский барон, поражен, раздражен, И кипел, и горел, и сверкал. «Но скажи наконец, кто ночной сей пришлец? Он, клянусь небесами, пропал!» «Показалося мне при блестящем огне: Был шелом с соколиным пером, И палаш боевой на цепи золотой, Три звезды на щите голубом». «Нет, мой паж молодой, ты обманут мечтой; Сей полуночный мрачный пришлец Был не властен прийти: он убит на пути; Он в могилу зарыт, он мертвец». «Нет! не чудилось мне; я стоял при огне, И увидел, услышал я сам, Как его обняла, как его назвала: То был рыцарь Ричард Кольдингам». И Смальгольмский барон, изумлен, поражен, И хладел, и бледнел, и дрожал. «Нет! в могиле покой; он лежит под землей, Ты неправду мне, паж мой, сказал. Где бежит и шумит меж утесами Твид, Где подъемлется мрачный Эльдон, Уж три ночи, как там твой Ричард Кольдингам Потаенным врагом умерщвлен. Нет! сверканье огня ослепило твой взгляд; Оглушен был ты бурей ночной; Уж три ночи, три дня, как поминки творят Чернецы за его упокой». Он идет в ворота, он уже на крыльце, Он взошел по крутым ступеням На площадку и видит: с печалью в лице, Одиноко-унылая, там Молодая жена — и тиха и бледна, И в мечтании грустном глядит На поля, небеса, на Мертонски леса, На прозрачно бегущую Твид. «Я с тобою опять, молодая жена». — «В добрый час, благородный барон. Что расскажешь ты мне? Решена ли война? Поразил ли Боклю иль сражен?» «Англичанин разбит; англичанин бежит С Анкрамморских кровавых полей; И Боклю наблюдать мне маяк мой велит И беречься недобрых гостей». При ответе таком изменилась лицом И ни слова… ни слова и он; И пошла в свой покой с наклоненной главой, И за нею суровый барон. Ночь покойна была, но заснуть не дала. Он вздыхал, он с собой говорил: «Не пробудится он; не подымется он; Мертвецы не встают из могил». Уж заря занялась; был таинственный час Меж рассветом и утренней тьмой; И глубоким он сном пред Ивановым днем Вдруг заснул близ жены молодой. Не спалося лишь ей, не смыкала очей… И бродящим, открытым очам, При лампадном огне в шишаке и броне Вдруг явился Ричард Кольдингам. «Воротись, удалися», — она говорит. «Я к свиданью тобой приглашен; Мне известно, кто здесь, неожиданный, спит: Не страшись, не услышит нас он. Я во мраке ночном потаенным врагом На дороге изменой убит; Уж три ночи, три дня, как монахи меня Поминают — и труп мой зарыт. Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной! И ужасный теперь ему сон! И надолго во мгле на пустынной скале, Где маяк, я бродить осужден; Где видалися мы под защитою тьмы, Там скитаюсь теперь мертвецом; И сюда с высоты не сошел бы, но ты Заклинала Ивановым днем». Содрогнулась она и, смятенья полна, Вопросила: «Но что же с тобой? Дай один мне ответ — ты спасен ли иль нет?..» Он печально потряс головой. «Выкупается кровью пролитая кровь, — То убийце скажи моему. Беззаконную небо карает любовь — Ты сама будь свидетель тому». Он тяжелою шуйцей коснулся стола; Ей десницею руку пожал — И десница как острое пламя была, И по членам огонь пробежал. И печать роковая в столе вожжена: Отразилися пальцы на нем; На руке ж — но таинственно руку она Закрывала с тех пор полотном. Есть монахиня в древних Драйбургских стенах: И грустна и на свет не глядит; Есть в Мельрозской обители мрачный монах: И дичится людей и молчит. Сей монах молчаливый и мрачный — кто он? Та монахиня — кто же она? То убийца, суровый Смальгольмский барон; То его молодая жена.1799
ЗАМОК КЭДЬО
Посвящается высокочтимой леди
Анне Гамильтон
Когда прапрадеды твои В старинном Кэдьо, в гордом зале В еселье пенистой струи Гостям по кубкам разливали, Тогда и сладкий струнный звон, И смех, беспечный и надменный, И буйный пляс со всех сторон, Ликуя, отражали стены. А ныне их пустой скелет — Плющом затянутые плиты — На зов теней дают ответ, На горной речки рев сердитый. Той славы блеск померк, погас, Но ты, красавица, велела, Чтоб я о ней сложил рассказ На диком бреге Эвендела. Порой, устав от суеты, Забыв про светские победы, К минувшим дням влечешься ты К могилам, где почили деды. И вот по слову твоему Встают разрушенные своды, Век нынешний скользит во тьму, А старые сияют годы. Там, где руины между скал Казались дикими камнями, Бойниц раздвинулся оскал И плещет рыцарское знамя. И вот на берегу речном Не цепкий хмель, не терн косматый Опоры каменных хором, Суровых башен строй зубчатый. Ночь. Эвен под скалой ревет, По волнам тень зубцов струится, Луну затмил на зыби вод Огонь из башенной глазницы. Восток сереет. Страж ночной Ушел, устав бороть дремоту. Лай. Ржанье. Радостной толпой Из замка едут на охоту. Опущен мост. Скорей, скорей! Скликай борзых — и ногу в стремя! Ретивых горячить коней И мчаться вдаль настало время. За Гамильтоном, за вождем,— Все удальцы родного клана. Под величавым седоком Скакун быстрее урагана. Бежит олень из рощ густых, В глазах у серн тоска, тревога. Из чащи горной гонит их Призыв охотничьего рога. Но что певучий этот звук Тут, между древними дубами, Как громом заглушило вдруг, Рассыпавшимся над горами? То самый мощный из зверей, Рожденный в каледонской пуще, То Горный Бык, под треск ветвей По склону дикому бегущий. Он прямо на врагов летит, Неистовый и горделивый, Очами ярыми грозит И снежной встряхивает гривой. Но без ошибки лёт копья Нацелил вождь: его добыча На землю падает, храпя. «Ура!» И лес дрожит от клича. Вот полдень. Отдохнуть пора Под сенью дуба-исполина. Клубится сладкий дым костра В кустах, где жарится дичина. И вождь на молодцов своих Глядит, и он гордится ими. Но нет здесь лучшего из них, Носящих доблестное имя. «Где Босуэло? И почему Не делит с нами труд и славу? Где он? Кому, как не ему, Любить охотничью забаву?» Нахмурился суровый Клод, Владетель Пэйзли своенравный: «Ни празднеств больше, ни охот Не хочет знать наш родич славный. Еще недавно в добрый час Он осушал свой кубок пенный, С веселым сердцем возвратясь Домой, в родного замка стены. Как роза бледная, нежна, В покое пышном и старинном Встречала воина жена С его новорожденным сыном. Но горе! Мэрри, подлый враг, Наслал убийц на дом злосчастный. Где мирный теплился очаг, Пожар бушует дымно-красный. На темных Эска берегах Чья тень скользит, роняя слезы, С младенцем — тенью на руках? Ее ли — нежной, бледной розы? И путник слышит слабый стон, Случайно поравнявшись с нею: «Наш род поруган, угнетен. Отмщенье Мэрри-лиходею!»» Он смолк. И содрогнулся лог От выкриков ожесточенных, И вождь свой эрренский клинок Извлек из ножен золоченых. Но кто там мчится между скал, Спешит сквозь заросли лесные? Чей окровавленный кинжал Язвит коню бока крутые? Безумный, неподвижный взгляд Под тяжко-хмурыми бровями, Кровь на руках… «Да это брат! Наш Босуэло! Он здесь, он с нами!» И спрыгнул всадник молодой С коня, что загнан без пощады, И карабин отбросил свой, Уже свершивший все, что надо. «Отрадно слышать, — молвил он, — Призывы рога утром рано, Но мстителю отрадней стон Лежащего в крови тирана. Как яро Горный Бык бежал На вас, друзья, в кровавой пене! Но Мэрри в Линлитгоу вступал С клевретами еще надменней. Он гордо шел от рубежа, Губя страну, глумясь над нею, И, сбавив спеси, Нокс-ханжа С улыбкой кланялся злодею. Но могут ли гордячка Власть И блеск и пышность Самомненья Порыв Отчаянья заклясть, Поколебать решимость Мщенья? В процессию вперяя взгляд, В засаде я стоял, у щели. С английскими смычками в лад Шотландские волынки пели. Шел гнусный Мортон впереди, Убийцы спутник неизменный, И выступали позади С мечами в пледах Макфарлены. Льстецы Гленкерн и Паркхед с ним, И Линдсей, мрачный, непреклонный, Чей взор был так неумолим К слезам Марии оскорбленной. Шлем регента с цветным пером Сверкал над лесом копий гордо, И конь его ступал с трудом — Так тесно вкруг толпились лорды. Следил за всем суровый взгляд Из-под открытого забрала, Рука стальным рядам солдат Стальным жезлом повелевала. Но хмурилось его чело, С сомненьем гордость в нем боролась. «Готов ко мщенью Босуэло», — Шептал ему враждебный голос. Гром выстрела. Конь на дыбах. Народ шумит, гудит, трепещет. Пернатый шлем летит во прах. Он над толпою не возблещет! Да, счастлив, кто в глазах прочел У милой ласковое слово, Кто, мстя за сына, заколол Убийцу — хищника лесного! Но я счастливей был стократ, Когда тиран, сраженный мщеньем, Души своей злодейской смрад Предсмертным изрыгал хрипеньем. И Маргарет моя чело Над ним склонила, как живая: «Свершилось мщенье Босуэло!» — Тиран услышал умирая. Встань! Знамя по ветру развей, Вождь Гамильтонов благородный! Пал Мэрри от руки моей. Сыны Шотландии свободны». Все воины уже в седле, И трубным гласом клич народа Летит по всей родной земле: «Пал Мэрри! Родине — свобода!» Но что же это? Блеска пик Не видно, стихли крик и топот. Их ветерок развеял вмиг, Унес потока мирный ропот. Где труб раскатывался гром, Веселый дрозд свистит в долине. Молчат увитые плющом Руины каменной твердыни. Не вождь свой клан зовет на бой, Крича о мести и свободе, — Красотка нежною рукой Небрежно теребит поводья. Да будет радостен удел Прелестницы, что захотела Услышать повесть давних дел На диком бреге Эвендела!1801
ВЛАДЫКА ОГНЯ
Внемлите, о дамы и рыцари, мне. Вам арфа споет о любви и войне, Чтоб грустные струны до вас донесли Преданье об Элберте и Розали. Вот замок в горах на утесе крутом, И с посохом длинным стоит под окном В плаще пропыленном седой пилигрим. Прекрасная леди в слезах перед ним. «Скажи мне, скажи мне, о странник седой, Давно ли ты был в Палестине святой? Какие ты вести принес нам с войны? Что рыцари наши, цвет нашей страны?» «Земля галилейская в наших руках, А рыцари бьются в ливанских горах. Султан навсегда Галаад потерял. Померк полумесяц, и крест воссиял!» Она золотую цепочку сняла, Она пилигриму ее отдала: «Возьми же, возьми же, о странник седой, За добрые вести о битве святой. Возьми и скажи мне, седой пилигрим, Где славный граф Элберт? Встречался ты с ним? Наверно, он первым в ту битву вступал, Где пал полумесяц и крест воссиял?» «О леди, дуб зелен, покуда растет; Ручей так прозрачен, покуда течет. Ваш замок незыблем и горды мечты, Но, леди, все бренно, все вянут цветы! Иссушат морозы листву на ветвях, И молния стены повергнет во прах, Ручей замутится, поблекнет мечта… В плену у султана защитник креста». Красавица скачет на быстром коне, (С ней меч — он сгодится во вражьей стране), Плывет на галере сквозь шторм и туман, Чтоб выкупить Элберта у мусульман. А ветреный рыцарь не думал о ней, Не думал он даже о чести своей: Прекрасной язычницей Элберт пленен, Влюблен в дочь султана ливанского он. «О рыцарь, мой рыцарь, ты жаждешь любви? Так прежде исполни три просьбы мои. Прими нашу веру, забудь о своей — Вот первая просьба Зулеймы твоей. В святилище курдов над вечным огнем Три ночи на страже во мраке глухом Безмолвно простой у железных дверей — Вот просьба вторая Зулеймы твоей. Чтоб грабить страну перестали враги, Мечом и советом ты нам помоги Всех франков изгнать из отчизны моей — Вот третье желанье Зулеймы твоей». Отрекся от рыцарства он и Христа, Снял меч с рукояткою в виде креста, Надел он тюрбан и зеленый кафтан Для той, чьей красою гордится Ливан. И вот он в пещере, где ночи черней Стальные порталы несчетных дверей. И ждал он, пока не настала заря, Но видел лишь вечный огонь алтаря. В смятенье царевна, в смятенье султан, Жрецы раздраженные чуют обман. С молитвами графа они увели — И четки на нем под одеждой нашли. Он снова в пещере, во мраке немом. Вдруг ветер завыл за дверями кругом, Провыл и умолк, и не слышно его, А пламя недвижно, и нет никого. Над графом опять заклинанья творят, Его обыскали от шеи до пят, И вот на груди перед взором жреца Крест, выжженный в детстве рукою отца. И стали жрецы этот крест вытравлять, А в полночь отступник в пещере опять. Вдруг шепот он слышит над ухом своим — То ангел-хранитель прощается с ним. Колеблется граф — не уйти ли назад? И волосы дыбом, и руки дрожат. Но дерзкой гордыней он вновь обуян: Он вспомнил о той, кем гордится Ливан. И только сошел он иод своды, как вдруг Все ветры небес загудели вокруг, Все двери раскрылись, гремя и звеня, И в вихре явился Владыка Огня. И все затряслось, застонало кругом, И пламя над камнем взметнулось столбом, И алая лава вскипела, горя, Приветствуя громом явленье Царя. Сплетенный из молний в тумане седом, Был сам он — как туча, а голос — как гром, И гордый граф Элберт, колени склоня, Со страхом взирал на Владыку Огня. И меч, полыхавший в лиловом дыму, Ужасный Царь Пламени подал ему: «Ты всех побеждать будешь этим мечом, Доколь не склонишься пред девой с крестом». Волшебный подарок отступник берет, Дрожа и с колен не вставая. Но вот Раскаты утихли, огонь задрожал, И в вихре крутящемся призрак пропал. Хоть сердце исполнено лжи, но рука, Как прежде, у графа верна и крепка: Дрожат христиане, ликует Ливан, С тех пор как ведет он полки мусульман. От волн галилейских до горных лесов Песок самарийский пил кровь храбрецов, Пока не привел тамплиеров в Ливан Король Болдуин, чтоб разбить мусульман. Литавры гремят, и труба им в ответ, А копья скрестились и застили свет, Но путь себе граф прорубает мечом — Он жаждет сразиться с самим королем. Едва ли теперь короля оградит Его крестоносный испытанный щит. Но тут налетел на отступника паж, Тюрбан разрубил, перерезал плюмаж. И граф покачнулся в седле золотом, Склонясь головой перед вражьим щитом, И только тюрбаном коснулся креста, «Bonne grace, Notre Dame!»[37] — прошептали уста. И страшные чары окончились вдруг: Меч вылетел у ренегата из рук, И молнии алой сверкнули крыла — К Владыке Огня она меч унесла. Железный кулак ударяет в висок, И замертво падает паж на песок, И шлем серебристый разбит пополам, И смотрит граф Элберт, не веря глазам. Упала волна золотистых кудрей… Недолго стоял он, склонившись над ней: Летят тамплиеры по склонам долин, Окрашены копья в крови сарацин. Бегут сарацины, и курды бегут, Мечи крестоносцев им гибель несут, И коршунов пища кровавая ждет От дальних холмов до солимских ворот. Кто в белом тюрбане лежит недвижим? И кто этот паж, что простерт перед ним? Не встать никогда им с холодной земли. То мертвый граф Элберт и с ним Розали. Ее погребли под солимской стеной, А графа отпел лишь стервятник степной. Душа ее в небе близ Девы парит, А грешник в огне негасимом горит. Поныне поют менестрели о том, Как был полумесяц повержен крестом, Чтоб дамы и рыцари вспомнить могли Преданье об Элберте и Розали.1801
ЗАМОК СЕМИ ЩИТОВ
Был Урьен-друид всех друидов мудрей. Прекрасных он вырастил семь дочерей. Наукам он их обучил колдовским. И семь королей едут свататься к ним. И первый, Ивейн, был король хоть куда: Плешив, как колено, торчком борода. А следом явились Данмайел и Росс, Не стригшие сроду ногтей и волос. Был крив король Мейдор, и Доналд был хром, А Лот от рождения был горбуном. Но Эдолф, на тех шестерых непохож, Был молод и весел, учтив и пригож. Он люб всем невестам. И вот меж сестер Идет из-за юного Эдолфа спор. Когда ж к рукопашной они перешли, Им князь преисподней предстал из земли. Они присягнули на верность ему, Им в помощь призвал он ложь, злобу и тьму. Семь прялок он дал им и семь веретен, И тайный обряд заповедал им он: «Садитесь за прялку, — сказал сатана,— И вырастет башня из веретена. Там кривда бела будет, правда — черна; Там с другом сердечным вам жизнь суждена». Луна озаряет равнину окрест. За прялками в полночь сидят семь невест. Смочив своей кровью шерсть черных ягнят, Поют заклинанья и нитку сучат. Жужжат веретена. И вот уж видны Семь призрачных башен под светом луны, Семь стен, и семь рвов, и семь крепких ворот. Из мглистого сумрака замок встает. В том замке обвенчаны семь королей. Шесть утром в крови захлебнулись своей. Семь женщин — у каждой кровавый кинжал — Приблизились к ложу, где Эдолф лежал. «Мы тех шестерых умертвили сейчас. Их жен, их владенья получишь зараз. А если услышим мы дерзкий отказ, Тогда овдовеет седьмая из нас». Но Эдолф заклят был от дьявольских сил: Святых он даров перед свадьбой вкусил. Семь раз свистнул меч — и тяжел и остер, И Эдолф сразил семь злодеек-сестер. Постригся в монахи несчастный король И вскоре оставил земную юдоль. А дьявольский замок поныне стоит. Над каждым из входов — корона и щит. Богатства семи королей там лежат. Нечистая сила хранит этот клад. Кто в замок проникнет при свете луны, Тот станет владельцем несметной казны. Но люди мельчают, наш мир одряхлел, Нет места в нем ныне для доблестных дел И где тот храбрец, что рожден для удач, Кто хладен рассудком, а сердцем горяч? И клад будет долго отважного ждать. Скорей потекут реки бурные вспять И вздыбится дно океана горой, Чем в дьявольский замок проникнет герой.1817
БИТВА ПРИ ЗЕМПАХЕ
В тот год на липах у реки Гудел пчелиный рой, И говорили старики: Запахло, мол, войной. Глядим, на Виллисау, в дол — Вся в пламени страна; Эрцгерцог Леопольд пришел, И с ним пришла война. Австрийцы зря не тратят слов, Их пыл неукротим: «Мы всех швейцарских мужиков Вчистую истребим». Оружья звон и трубный стон У цюрихских ворот, И бархат вражеских знамен Вдоль озера плывет. «Эй, рыцари с низин, вы тут Забрались в дебри гор. Не ведая о том, что ждут Вас гибель и позор. Не будет вам пути назад, Покайтесь-ка в грехах Вы попадете прямо в ад, Затеяв бой в горах». «А есть ли тут отец святой, Чтоб исповедь принять?» — «Нет, он ушел за край родной С врагами воевать. Он вас благословить готов Железным кулаком И отпущение грехов Вам даст своим копьем». Но вот уж начало светать, Роса в лугах блестит… И видят жницы — наша рать У Земпаха стоит. Люцерн собрал своих солдат, И прочен их союз: И каждый мужеством объят, Любой из них не трус. Из Заячьего замка граф Эрцгерцогу сказал: «У горца, видно, смелый нрав, Хоть мал он, да удал». «Граф Заячий, ты заяц сам!» — Тут Оксеншерн вспылил. «Что будет — мы увидим там», — Граф едко возразил. Идут, сомкнув ряды полков, Австрийцы молодцы… У остроносых башмаков Обрублены концы. Они друг другу говорят: «Похвастать нечем тут… Рассеять горсточку солдат Не столь великий труд». Швейцарцы стали в тесный круг… Услышал бог бойцов, И радуга блеснула вдруг Меж темных облаков. Сердца как молоты стучат, И, ко всему готов, Швейцарский двинулся отряд В атаку на врагов. Тут зарычал австрийский лев И гривою затряс… И стрелы, злобно засвистев, Посыпались на нас. Копье и меч — все в ход пошло, Был этот бой жесток… Немало рыцарей легло Уже у наших ног. Но враг незыблемо стоит: Лес копий — словно вал… Тогда отважный Винкельрид Товарищам сказал: «Есть дома у меня жена, И маленький сынок… Прокормит их моя страна, Победы близок срок. Колонны рыцарей тверды Пока стоят в строю… Но сквозь стальные их ряды Я братьям путь пробью». Он ринулся в австрийский строй И смел и разъярен… Всем телом — грудью, головой Упал на копья он. Пять копий раздробили шлем, В бока вонзились шесть… Но он смятение успел В ряды австрийцев внесть. Самоотверженный герой, Он первый льва смирил… Своею кровью край родной Он к воле возвратил. В брешь, что пробита смельчаком, Ударили друзья, Копьем, секирою, клинком Коля, рубя, разя. И устрашенный Лев завыл, Еще держась пока… Но Горный Бык его добил, Вонзив рога в бока. Знамена Австрии в пыли У Земпаха, в бою… Немало рыцарей нашли Могилу там свою. Да, был эрцгерцог Леопольд Несокрушим на вид, Но на швейцарцев он пошел И в прах он был разбит. А телка говорит быку: «Ну как мне не грустить? Чужак явился, чтоб меня В долине подоить. А ты ужасным рогом так Его распотрошил, Что уж на кладбище чужак, Чтоб к нам он путь забыл». Австрийский рыцарь, бросив бой, Стремительно бежит. Вот в Земпахе он со слугой У озера стоит. И кличет рыбака скорей По имени Ганс Рот: «За деньги, друг, нас пожалей, И посади в свой бот». Рыбак их вопли услыхал… Награду взять готов, Он сразу к берегу пристал И принял беглецов. Покуда ловко он гребет Средь пенистых зыбей, Вельможа знак слуге дает: Мол, рыбака убей! Рыбак, будь зорок! Быть беде! Уже кинжал сверкнул, Но Ганс увидел тень в воде И челн перевернул. А сам, вскарабкавшись на челн, Их оглушил веслом: «А ну-ка, похлебайте волн — И марш на дно вдвоем! Я нынче в озере поймал Двух рыбок золотых: Чешуйки блещут, как металл, Да гниль внутри у них». В родную Австрию спеша, Гонец летит домой: «Худые вести, госпожа, Убит хозяин мой. У Земпаха в крови лежит Труп герцога сейчас…» «О боже, — дама говорит, — Помилуй грешных нас!» Какой же бард был вдохновлен Сраженьем у стремнин? Альберт-башмачник звался он, Люцерна гражданин. В ту ночь, ликуя и смеясь, Он эту песнь сложил, Из жаркой схватки возвратясь, Где бог нас рассудил.1818
РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ФИАЛКА
В орешнике, в тени кустов Ее глазок мелькает синий… Фиалка лучше всех цветов В любом лесу, в любой долине. Как хороша росы слеза На лепестках передо мною! Но есть прелестнее глаза, И в них слеза блестит порою. Луч солнца в неге летних дней С утра осушит все росинки… Так у притворщицы моей Мгновенно высохнут слезинки.1797
ДАМЕ,
ПРЕПОДНОСЯ ЕЙ ЦВЕТЫ С РИМСКОЙ СТЕНЫ
Здесь цветы пылают ало, Где разрушен древний вал… Смелых скоттов здесь, бывало, Римский стяг на битву звал. Нет уж лавров для солдата, Но зато из диких роз Ты сплетешь венок богатый Для своих прекрасных кос.1797
ПОБЕДНАЯ ПЕСНЬ
Отпрыскам старого Аспена — слава! Снова победа к могучим пришла, К ним, устрашающим в сече кровавой, К ним, после боя не помнящим зла. Бились мечами И топорами, Трупами каждый отмечен их шаг. Брызгами стали Искры блистали, Воины Родрика биться устали, И сокрушен был заносчивый враг. Чествуют пусть все шотландские кланы Род наш, геройскую нашу семью. Пусть у живых зарубцуются раны, Вечная слава полегшим в бою. Вражьей дружине Нами был ныне Памятный дан и кровавый отпор. Павшим героям — Вечный покой им! — Вражьими стягами лица закроем, Чтобы угасший порадовать взор. Гордые нашей победою, братья, Вновь к замку Аспена держим мы путь. Нас ожидают любимых объятья, Сможем от бранных трудов отдохнуть. Сбросим кольчуги. Девы-подруги С нашего смоют чела пот и кровь. Машут нам с башен. Замок украшен. Стол уже гнется от питий и брашен. Ждут нас там песни, вино и любовь.1799
ХЕЛВЕЛЛИН
Весной 1805 года один весьма
одаренный юноша, всеми
любимый за приятный нрав,
погиб, заблудившись на горе
Хелвеллин. Его останки были
обнаружены лишь три месяца спустя,
причем возле скелета находилась
ревниво охранявшая его собака,
неизменная спутница своего хозяина
во время его частых одиноких
блужданий по диким местностям
Камберленда и Уэстморленда.
Я по склону взошел на Хелвеллин могучий. Подо мною клубилась туманная мгла. В тишине лишь порой раздавался над кручей Повторяемый скалами клекот орла. Справа Страйденский кряж над Ред-тарном вздымался, Слева Кетчидикем-исполин возвышался… Вдруг узрел я, лишь взор от вершин оторвался, Ту тропу, что для путника смертной была. Среди вереска здесь он лежал бездыханный, И, могилы лишен, как презренный злодей, С неживою природой был слит неустанной Разрушительной силой ветров и дождей. Но останки его в этом месте безвестном Охранялись одним существом бессловесным, И, всем шорохам чутко внимая окрестным, Отгонял этот страж воронье и зверей. Сколько дней, верный друг, колыханье одежды Принимал ты за жизнь! Сколько долгих недель Верил — спит он, пока не развеял надежды Вместе с плотью хозяина буйный апрель! Разве не заслужил он кончины достойной? Но, увы, ни молитвою заупокойной, Ни слезой материнской, ни веткою хвойной Не почтен был уход его ранний отсель. Князь, которого рок уравнял с селянином, Возлежит, осенен своим гордым гербом; Гроб дубовый под черным стоит балдахином, Изукрашенный золотом и серебром. Сотни факелов ночью пылают в столице, Погребальная музыка тихо струится, Путь последний свершает монарх в колеснице, Провожаемый всем многолюдным двором. Но тебе умереть, о паломник, пристало, Как и умер ты… Пусть, не оплакан никем, Среди гор, как олень, что разбился о скалы, Ты лежал распростертый, недвижим и нем; Пусть и век твоих руки ничьи не смежили — Над тобою малиновки с песней кружили, Верный друг был с тобой, и твой прах сторожили Два гиганта — Хелвеллин и Кетчидикем.1805
УМИРАЮЩИЙ БАРД
Денес Эмлин, стенай — горький миг настает, Когда эхо в лесах твоих скорбно замрет. Больше песни над Теви не будут слышны. Буйно Кэдвеллон пел их под ропот волны. Твой весенний расцвет, твой осенний убор Невоспеты пребудут, увы, с этих пор: У того, кто с восторгом их славить привык, Гаснет пламенный взор и немеет язык. Денес Эмлин, сынов твоих движется рать. Храбрецы гордых саксов сумеют прогнать. Но где арфа, что внукам расскажет о них? Где тот бард, что героев прославит твоих? Денес Эмлин, нет краше твоих дочерей: Белоснежна их грудь, черны змеи кудрей. Но в чьем сердце их взоры разбудят пожар, Коль со мною умрет обаянье их чар? Серебристая Теви, прощай! Я солью С хором бардов былых скоро песню свою. Там, где Телиссин мудрый и Мерлин седой, Где и Льюарч и Мейлор, — найду я покой. Денес Эмлин, прощай! Славься тенью лесов, Красотой дочерей и отвагой сынов. Звон смолкающих струн, мой конец возвещай… Арфа, спутпица жизни, подруга, прощай!1806
ДЕВА ТОРО
Над озером Торо закат догорает, И шорох ветров затихает в лесу, А дева печальная к ветру взывает, Взывает к потоку, роняя слезу. «Внемлите в обителях райских, святые! С мольбою я к вам обращаю свой взор. Верните мне Генри!.. О дева Мария, Спаси мне его, иль умрет и Линор!» А ветер доносит к ней отзвуки боя: Враги наступают, скрежещет металл. Вот будто затихло, вот новой волною Донесся их криков ликующий шквал. Вот видит она: вдоль излучины дальной Израненный воин идет чуть живой, И дышит тоской его облик печальный, И сталью разбит его шлем боевой. «О юная дева, спасайся скорее — Бежит наше войско, враг рвется сюда, Там, в вересках, Генри лежит, коченея. Из зарослей леса идет к нам беда!» Он больше не поднял потухшего взора, Бессильно поникла она у воды, И солнце угасло над озером Торо И для Героизма и для Красоты.1806
ПАЛОМНИК
«Откройте! Смилуйтесь надо мной! От ветра кидает в дрожь, Метет поземка, и в тьме ночной Тропинку еле найдешь. Пришел не дичи запретной стрелок Приюта у вас искать, Хотя и отверженец бы мог Здесь состраданья ждать. Я — грешный паломник из стран чужих, Измаялся, с ног валюсь! Впустите меня, ради всех святых! А я за вас помолюсь. Кресты и ладанки вам отдам И отпущенья грехов, А если не надобно этого вам, Из милости дайте кров. Оленю и лани вдвоем тепло, Зайчишка укрылся в нору, А меня, старика, совсем замело, Хоть замерзай на юру! Чу! Эттрик яростно ревет, Он страшен в полночный час. Переходить мне Эттрик вброд, Коль жалости нет у вас. Ворота заперты на засов, Железом окован вход, А к сердцу хозяина мой зов И вовсе не дойдет. Прощай! И бог не попусти Тебя в такую же ночь На старости лет, как я, брести От дома чужого прочь». Смотритель лесов слышит зов и стон, Да жаль покидать постель, Но будет не раз их слышать он В декабрьскую метель. Ведь заутра заря сквозь туман речной Узрела меж дерев: Паломник скорчился под ольхой, Давно окоченев.1806
ДЕВА ИЗ НИДПАСА
У тех, кто любит, острый глаз, Слух чуток у влюбленных. Любовь умеет в горький час Утешить обреченных. В покоях Мэри целый год Уныние царило. Но вот она на башне ждет, Когда вернется милый. В очах погас былой огонь, Краса от слез увяла; Как лед прозрачная ладонь Свечи не заслоняла. Порой, рассеянна в речах, Что маков цвет краснела; Порою, всех ввергая в страх, Была бледнее мела. Но минул год. Грядет жених, И дева еле дышит, И раньше псов сторожевых Далекий топот слышит. Чуть виден всадник. А она Один лишь взгляд метнула — И из высокого окна Ему платком махнула. Он подъезжает — и молчит, Как будто Мэри нету, И тонут в цокоте копыт Слова ее привета. Едва взглянув, проехал он. Она одна осталась… И с губ слетел чуть слышный стон, И сердце разорвалось.1806
СКИТАЛЕЦ УИЛЛИ
Я счастье забыла, когда ты, мой милый, На быстром фрегате уплыл от меня. В безбрежную даль я смотрела с печалью, Разлучницы-волны жестоко кляня. В далеких, неведомых водах кочуя, Сражался с врагами, скиталец ты мой. Тем слаще мне стали твои поцелуи, Когда наконец ты вернулся домой. Коль небо мрачнело и волны бурлили, Я к морю спешила, тревогой полна, Молясь, чтобы буря не тронула Уилли: Пусть гнев на меня изливает она! Теперь же фрегат твой стоит у причала, Теперь ты вернулся под мирный свой кров, И я не боюсь беспощадного шквала, Мне кажется музыкой рокот валов. Когда над волною пальба грохотала И вас, храбрецов, прославляла страна, Боясь за тебя, я украдкой рыдала, И слава твоя мне была не нужна. Теперь же про бури и грозные схватки Я слушаю жадно, с волненьем в груди, И я улыбаюсь: мне думать так сладко, Что все эти беды уже позади. Когда меж влюбленными дали морские, Нам страшно, что стихнет любовный порыв: Ведь часто сердца остывают людские, И может отхлынуть любовь, как прилив. И я — что скрывать? — сомневалась: быть может, Любовь, словно птица, изменит напев. А ныне сомненья меня не тревожат: Ты все их рассеял, мне душу согрев. Мой милый, ты долго в погоне за славой Блуждал по просторам далеких морей, Прославил ты родину в битве кровавой — И снова ты дома, у Джини своей. Довольно уж, право, гоняться за славой: Разбит неприятель — и ладно, бог с ним! Конец всем терзаньям, конец всем скитаньям: Вовек не расстанусь я с Уилли моим.1806
ОХОТНИЧЬЯ ПЕСНЯ
Гей, вставайте! Кто там спит? Лорды, леди, рог трубит! Горы серебрит заря. Суетятся егеря. Блещут копья. Лаю псов Вторят крики соколов. Слышно цоканье копыт. Гей, вставайте! Кто там спит? Гей, вставайте! Кто там спит? Вспыхнул день. Волшебный вид! Пробудясь, журчит ручей, И туман уже бледней. Лесники в глухом лесу По росе тропят лису. Лес как сказочный стоит. Гей, вставайте! Кто там спит? Гей, вставайте! Кто там спит? Над ущельями гранит В полдень даст прохладу нам. Мы увидим по следам, Где олень топтал луга, Где о дуб точил рога. Скоро травля предстоит. Гей, вставайте! Кто там спит? Песнь охотников звучит: «Гей, вставайте! Кто там спит? Время тоже каждый час На прицел берет и нас: Время сокола быстрей, Время гончей стаи злей. Время всюду нас тропит. Гей, вставайте! Кто там спит?»1808
РЕШЕНИЕ
Кляну я горький жребий свой, Хоть мало толку в том. Познал я с милой рай земной, Но был он только сном. Любим я был недолгий срок, Покинут — без причин… От счастья светлого далек, Я буду жить один. Меня отныне не пленят Ни яркая краса, Ни звонкий смех, ни льстивый взгляд, Ни лживая слеза. Нет, буду горький яд любви Я помнить до седин, И мерзнуть без огня в крови Я предпочту один. Хоть метко целится Амур, Я защищен от стрел. Мой дух бесстрастен, взор мой хмур, Унынье — мой удел. Благоволенье юных дев — Ловушка для мужчин. Соблазны красоты презрев, Я затаюсь один. Светильник гаснет на ветру, Но век блестит алмаз; Костер заметен всем вокруг, Но перл сокрыт от глаз. Я мнил, жемчужина моя, Что я — твой властелин, Но ты блестишь для всех, и я Уйду во тьму один. Конец обманчивым мечтам И прежнему пути: Вновь сетью шелковой не дам Себя я оплести; Не дам я, страсть, мой челн разбит Среди твоих стремнин. И тихо жизнь свою влачить Я научусь один. К чему мне душу волновать Опасным волшебством, Судьбу сперва благословлять И проклинать потом? До смерти феникс одинок, Себе он господин. Как без голубки голубок, Умру и я один.1808
ПЕСНЯ ПАЖА
Где будет погребен Тот, чье чувство живо, Кто с милой разлучен Судьбою лживой? Где не шумит волной Прибой бурливый, За рощею густой Под грустной ивой. Х о р Приснись ему сон счастливый! Там в полуденный зной Ручей освежает, А буря стороной Вдали пролетает. Роща глубокой тенью Горе остудит, Вовек ему пробужденья Не будет, не будет! Х о р Не будет, не будет! Где будет погребен Тот, чье сердце лживо, Тот, кто разрушил сон Любви счастливой? Там, где проигран бой, В поле открытом, Там беглецов толпой С ног будет сбит он! Х о р В крови там пускай лежит он! Волк будет кровь лизать Из теплой раны, Орел будет труп терзать На поле бранном, На вечное презренье Его осудят, Ему благословенья Не будет, не будет! Х о р Не будет, не будет!1808
ЛОХИНВАР
Вдоль границы скакал Лохинвар молодой. Всех коней был быстрей его конь боевой. Рыцарь ехал без лат, рыцарь ехал без слуг, Был при нем только меч, его преданный друг. Ты в любви благороден, в сраженье — герой. Кто сравнится с тобой, Лохинвар молодой? Лорд скакал по лесам, мимо гор, мимо скал, Реку он переплыл, брода он не искал, А когда замок Незерби встал перед ним, Услыхал он, что Элен венчают с другим. Да, соперник трусливый с душою пустой Взял невесту твою, Лохинвар молодой. Но бестрепетно входит он в Незерби-холл И с другими гостями садится за стол. С перепугу жених как язык проглотил, Но отец свою руку на меч опустил. «Отвечай нам: ты с миром пришел иль с войной, Иль на свадьбе плясать, Лохинвар молодой?» «Долго сватался я, дочь не отдал ты мне, И отхлынуло чувство, подобно волне. Пусть на свадьбе своей уделит мне она Только танец один, только кубок вина, А потом меж красавиц шотландских к любой Может свататься лорд Лохинвар молодой». Полный кубок пригубила Элен слегка. Гость его с одного осушает глотка И бросает ей под ноги, глядя в глаза: На устах ее смех, на ресницах слеза. И руки ее рыцарь коснулся рукой. «Что ж, станцуем», — сказал Лохинвар молодой. Так прекрасна она, так он статен и лих! Любо-дорого видеть танцоров таких! Хмурит брови отец, и тревожится мать, И жених свой платок принимается мять, А подружки твердят: «Лучше с нашей сестрой Обвенчался бы ты, Лохинвар молодой!» Чуть приблизились к двери, танцуя, они, Он возьми да ей на ухо что-то шепни. Вот они на крыльце и вскочили в седло, И обоих уже словно ветром смело. «Ты моя! У кого конь найдется такой, Чтоб догнать нас?» — кричит Лохинвар молодой. Вот и Грэмы и Форстеры гонят коней, И Масгрейвы и Фенвики мчатся за ней. Ну и скачка была — только вереск шумел! Но никто беглецов разыскать не сумел. Ты отважен в любви, ты в сраженье герой. Кто сравнится с тобой, Лохинвар молодой?1808
К ЛУНЕ
О ты, плывущий в мутной мгле Ночного неба страж бессменный! Тень облак на твоем челе, Печали полон взор нетленный. И как бы мог сиять вселенной Невинный, чистый лик луны Над миром злобы и измены, Над миром горя и войны! Нет, я не сетую сейчас На эти тучи, как бывало, Когда их тень у жадных глаз Красу любимой похищала. В те дни я их бранил немало, Хоть туч летучих череда И на моем лице скрывала Румянец сладкого стыда. Луна, клянусь, ты создана, Чтоб озарять приют влюбленных; Для них одних сиять должна В зерцале кладезей бездонных И, оставляя на оконных Решетках серебристый след, Ресниц касаться полусонных, Шепча, что близится рассвет.1813
* * *
Мила Брайнгельских тень лесов, Мил светлый ток реки; И в поле много здесь цветов Прекрасным на венки. Туманный дол сребрит луна; Меня конь борзый мчит: В Дальтонской башне у окна Прекрасная сидит. Она поет: «Брайнгельских вод Мне мил приветный шум; Там пышно луг весной цветет, Там рощи полны дум. Хочу любить я в тишине, Не царский сан носить; Там на реке милее мне В лесу с Эдвином жить». «Когда ты, девица-краса, Покинув замок свой, Готова в темные леса Бежать одна со мной, Ты прежде, радость, угадай, Как мы в лесах живем, Каков, узнай, тот дикий край, Где мы любовь найдем!» Она поет. «Брайнгельских вод Мне мил приветный шум; Там пышно луг весной цветет, Там рощи полны дум. Хочу любить я в тишине, Не царский сан носить; Там на реке милее мне В лесу с Эдвином жить. Я вижу борзого коня Под смелым ездоком: Ты — царский ловчий: у тебя Рог звонкий за седлом». «Нет, прелесть! Ловчий в рог трубит Румяною зарей, А мой рожок беду звучит, И то во тьме ночной». Она поет: «Брайнгельских вод Мне мил приветный шум; Там пышно луг весной цветет, Там рощи полны дум. Хочу в привольной тишине Тебя, мой друг, любить; Там на реке отрадно мне В лесу с Эдвином жить. Я вижу: путник молодой, Ты с саблей и ружьем. Быть может, ты драгун лихой И скачешь за полком». «Нет, гром литавр и трубный глас К чему среди степей? Украдкой мы в полночный час Садимся на коней. Приветен шум Брайнгельских вод В зеленых берегах, И мил в них месяца восход, Душистый луг в цветах; Но вряд прекрасной не тужить, Когда придется ей В глуши лесной безвестно жить Подругою моей! Там чудно, чудно я живу — Так, видно, рок велел; И Схмертью чудной я умру, И мрачен мой удел. Не страшен так лукавый сам, Когда пред черным днем Он бродит в поле по ночам С блестящим фонарем; И мы в разъездах удалых, Друзья неверной тьмы, Уже не помним дней былых Невинной тишины». Мила Брайнгельских тень лесов; Мил светлый ток реки; И много здесь в лугах цветов Прекрасным на венки.1813
* * *
«О дева! Жребий твой жесток, Жалка судьба твоя! Ты терн плетешь себе в венок, Полынь рвешь для питья. Перо на шляпе, светлый взор, Отважные черты: Вот про меня, до этих пор, Все то, что знала ты, мой друг! Все то, что знала ты! Теперь в день летний много роз Алеют по лугам; Но легче им цвести в мороз, Чем вновь сойтися нам». Вокруг себя на брег морской Он поглядел тогда, И дернул он коня уздой: Прости же навсегда, мой друг! Прости же навсегда!»1813
АЛЛЕН-Э-ДЕЙЛ
У Аллена дров — ни полена, ни палки, Ни пашни для плуга, ни шерсти для прялки. Но есть у него — неизвестно откуда — Червонного золота звонкая груда. Об Аллене храбром я нынче спою. Послушайте вольную песню мою. Барон Рэвенсворт с каждым годом надменней. Он взглядом своих не охватит владений. Барону олени нужны для забавы — Охотничьим рогом тревожить дубравы. Но Аллен свободней, чем дикий олень, Что в зарослях вереска скачет весь день. Пусть нет у него ни герба, ни короны И с ним не спешат породниться бароны, Две дюжины братьев по первому рогу Сбегутся из леса к нему на подмогу. А если с ним встретится гордый барон, Он Аллену низкий отвесит поклон. Посватался Аллен, пришелся по нраву, Но любит родня лишь богатство да славу. «Барон не нахвалится крепостью горной, Но трижды прекрасней мой замок просторный: Мой кров — небосвод, и плывут надо мной Блестящие звезды за бледной луной». Отец был кремень, да и мать тверже стали, И гостя обратно ни с чем отослали. А утром весь дом был угрюм и печален: Недаром невесте подмигивал Аллен! Она ускакала — поди-ка лови! — Послушать, как Аллен поет о любви.1813
КИПАРИСОВЫЙ ВЕНОК
О леди, ты венок мне свей Из кипарисовых ветвей. Блестящ и ярок остролист, Нарцисс прекрасен и душист, Но скрасить могут ли цветы Мои печальные черты? >Нет, леди, нет, венок мне свей Из кипарисовых ветвей. Пусть украшает, как и встарь, Лозою Радость свой алтарь; Пусть тихий тис ученым люб, А патриотам — мощный дуб; Пусть мирт любовь сердцам несет, Но мне Матильда мирт не шлет, И для меня венок ты свей Из кипарисовых ветвей. Пусть чудо-розами горды Веселой Англии сады; Пусть вереск каледонских гор Синеет, как небес шатер; Пусть изумруд собой затмил Цветок, что Эрину так мил; Но для меня венок ты свей Из кипарисовых ветвей. Пусть будет, как бывал досель, Плющом увенчан менестрель И лавром царственным увит Герой, которым враг разбит; Пусть громом труб восславлен он, А мне под похоронный звон Венок последний, леди, свей Из кипарисовых ветвей. Но чуть помедли! Дай мне срок, Дай мне хоть месяц, чтобы мог Познать я сладость жизни вновь. Испив до дна свою любовь. Когда же гроб усыплют мой Гвоздикой, рутой, резедой, Тогда венок мне, леди, свей Из кипарисовых ветвей.1813
АРФА
Ребенком, к играм склонный мало, Рос нелюдим я изначала. Когда я уходил, бывало, В свои мечты, Дух одинокий утешала, О арфа, ты! Когда, тщеславием снедаем, Я распростился с отчим краем И небеса дышали маем, Как май, чисты, Кто песней отвечал тогда им? О арфа, ты! Когда хвалила благосклонно Мои творенья дочь барона И грезил я о ней влюбленно, Раб красоты, Кто мне внимал в ночи бессонной? О арфа, ты! Но зрелость от младого пыла Меня навеки исцелила. Она надежд меня лишила И теплоты. Их лишь все так же сохранила, О арфа, ты! Междоусобицы чредою Пришли к нам с горем и нуждою. Мой дом был разорен войною, Поля пусты, И оставалась лишь со мною, О арфа, ты! Мне в тягость стал божок крылатый, Когда, огнем любви объятый, Узрел я, что в саду измяты Мои цветы. А кто смягчил мне боль утраты? О арфа, ты! Куда бы я ни шел, опальный, Ловлю твой звук многострадальный. Когда ж достигну я печальной Своей меты, Меня проводишь в путь прощальный, О арфа, ты!1813
ПРОЩАНИЕ
Я слышу шум моих лесов, Им вторит песнь полей. Но мне недолго слушать зов Родной страны моей: Уеду я ночной порой В далекие края; Как призрак, тающий с зарей, К утру исчезну я. Угаснет мой высокий род Навек во тьме могил; Друзья в нем видели оплот, Врагам он страшен был Не будет над стеной парить Наш гордый стяг с гербом; Но наше дело будет жить, И мы не зря умрем. Пускай нам больше не дано Одерживать побед, С монархом нашим все равно Мы будем в годы бед; Пускай потомки знать о нас Не будут ничего, Мы ни в бою, ни в смертный час Не предадим его. Всегда короне верен был Наш благородный род, И он в награду получил Богатство, власть, почет. Богатство, слава, блеск венца — Все минет, словно сон. И только верность — дар творца — Бессмертна, как и он.1813
ИНОК
«Куда ж вы меня собрались вести?» — Францисканец спросил опять. А у двух холуев и ответ готов: «Отходящую причащать». «Но ведь мирен сей вид, он беды не сулит, — Говорит им серый монах.— Эта леди белей непорочных лилей, И дитя у ней на руках». «Ну-ка, отче, грехи ей быстрей отпусти! Исповедуй — дело не ждет! Чин отправить спеши, или этой души Ночью ж грех на тебя падет. Панихиду по ней отслужи поскорей, Как вернешься ты в монастырь. Да вели, чтоб гудели колокола Во всю мощь, на всю даль и ширь». Вновь с платком на глазах францисканский монах, Исповедав ее, ушел. Грех он ей отпустил, а заутра вопил По хозяйке весь Литлкот-холл. Был Даррел удал, да иной ныне стал,— В деревнях старухи гугнят. Словно лист, он дрожит и молитву творит, Чуть в обители зазвонят. Никому гордый Даррел не бьет поклон, Ни пред кем с пути не свернет, Но коль серого инока встретит он, Стороной его обойдет.1813
МАЯК
Незыблем в лоне глубины, Я страж над яростью волны… Алмазом алым я мерцаю И мрак полночный прорезаю, И, лишь завидя светлый знак, Расправит паруса моряк.1814
РЕЗНЯ В ГЛЕНКО
Певец, поведай, не тая, Зачем мелодия твоя В Гленко, в безлюдные края Летит, исполненная горя? Кому поешь ты? Облакам, Пугливым ланям иль орлам, Что в небесах парят и там Твоей скорбящей арфе вторят? «Нет, струны не для них поют: У тучи есть в горах приют, Оленя в логове не бьют, На скалах птицы гнезда свили; А тех, о ком я плачу здесь, Ни тихий дол, ни темный лес, Ни кряж, встающий до небес, От вражьих козней не укрыли. Над замком был приспущен флаг; Ни барабан, ни лай собак Не возвестил, что близок враг, В одежды друга облаченный; И песни звонкие звучат, И прялки брошены — спешат, Надевши праздничный наряд, Гостей приветить девы, жены. Рука, державшая бокал, Схватилась в полночь за кинжал; Хозяин первой жертвой пал, За хлеб и соль дождавшись платы. И головня из очага, Что согревал вчера врага, Зажгла, как молния стога, Дом, безмятежным сном объятый. И все смешалось в тот же миг. Напрасны были плач и крик, И ни младенец, ни старик В ту ночь не дождались пощады. Выл ветер много дней подряд, Разбушевался снегопад, Но вьюг свирепее стократ Волк, нападающий на стадо. Я сед, меня гнетет недуг, Но хоть у арфы слабый звук, Ее не выпущу из рук, Смиренный траур не надену. Будь каждый волос мой — струна, Мой клич вняла бы вся страна: «Шотландия! Пора сполна Воздать за кровь и за измену!»»1814
ПРОЩАНИЕ С МАККЕНЗИ
Прощай, о Мак-Кеннет, наш северный лорд! Прощай, граф Локкаррон, Гленшил и Сифорт! Он утром от нас на чужбину отплыл, Ладью по волнам, словно лебедь, пустил, Утратив на родине власть и права. Прощай же, Маккензи, Кинтайла глава! Да будут борта его брига прочны, Да будут матросы смелы и верны, А судно умело ведет капитан, Хотя бы ревел и кипел океан. За здравье мы выпить успели едва, Как отбыл Маккензи, Кинтайла глава. Вздохни, как вассалы его, и проснись, Надуй его парус, полуденный бриз! Будь стоек, как стойки в кручине они, И бриг неустанным дыханьем гони К Испании дальной, но молви сперва: «Прощай же, Маккензи, Кинтайла глава!» Будь опытным кормчим в пустынях морских; Будь верным вожатым в широтах чужих; Пускай паруса, надуваясь, шумят, Но мчи их быстрей, возвращаясь назад К скалистой Скорроре, где грянут слова: «Вернулся Маккензи, Кинтайла глава!»1815
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЮНОМУ ВОЖДЮ
Усни, мой мальчик, глаза закрой. Был рыцарем славным родитель твой, А мать была леди, сама краса. Твои эти башни, поля и леса. Баюшки-баю, баю, бай, Баюшки-баю, скорей засыпай. Затишье рожок потревожил опять — Он стражу скликает тебя охранять, И прежде окрасится кровью клинок, Чем вражья нога переступит порог. Баюшки-баю, баю, бай, Баюшки-баю, скорей засыпай. Мой мальчик, усни. Настанет пора, И трубы спать не дадут до утра. Под дробь барабанов, суровый боец, На бранное поле пойдешь, как отец. Баюшки-баю, баю, бай, Баюшки-баю, скорей засыпай.1815
ДЖОК ИЗ ХЭЗЕЛДИНА
«Что льешь ты слезы над ручьем? Что слезы льешь с тоскою? Пойди за сына моего И стань ему женою, Да, стань женою моего Любимейшего сына…» Но плачет дева — нужен ей Лишь Джок из Хэзелдина. «Мой Фрэнк и молод и силен — Что слезы лить напрасно? Его владенья — Эррингтон И Лэнгли-Дейл прекрасный; В совете славен он умом, В бою — отвагой львиной…» Но плачет дева над ручьем: «О, Джок из Хэзелдина!» «На горделивом скакуне С уздечкой золотою Скакать ты будешь по стране Владычицей лесною; Заблещут на челе твоем Алмазы и рубины…» Но плачет дева над ручьем: «О, Джок из Хэзелдина!» И вот весь храм в огнях свечей, Приходит час венчанья; Жених, священник, сонм гостей Томятся в ожиданье. Нет, пировать не суждено Отцу на свадьбе сына: Невеста уж в горах давно, С ней — Джок из Хэзелдина.1816
КЛЯТВА НОРЫ
Горянка Нора молвит так: «Мне юный граф — заклятый враг! С ним не пойду венчаться я, — Тому порукой честь моя. Пусть сгинул бы весь род мужчин И граф остался бы один, И властвовал над всей страной — Не буду я ему женой!» «Обеты дев, — старик сказал,— Не вечны, словно льда кристалл. Румянцем кручи залиты — То рдеют вереска цветы; Но ветр осенний, в свой черед, Убор их пламенный сорвет, А граф до осени сырой Горянку наречет женой!» «Скорее, — Нора говорит, — На скалы лебедь залетит, Вспять побегут потоки с гор, Килхен падет на темный бор, Шотландцы повернут назад, Завидев блеск английских лат, — Чем я обет нарушу свой И стану графскою женой!» Но лебедь, словно снег бела, Гнездо на озере свила, Шумит поток без перемен, Недвижен исполин Килхен, Не дрогнул в битве грозный клан, Круша свирепых англичан… А что же с Норой молодой? Горянку граф назвал женой!1816
ВОЕННАЯ ПЕСНЯ
КЛАНА МАКГРЕГОР
Луна над рекой, и туманы кругом, И с именем клан, хоть без имени днем. Сбирайтесь, сбирайтесь! Макгрегор, ура! Макгрегор, пора! Заветный и славный наш клик боевой Греметь осужден лишь ночною порой. Идите ж, идите! Макгрегор, ура! Макгрегор, пора! Не ваши уж ныне тех гор вышины, Гленлейона селы, Кильчурна сыны. Изгнанники все мы! Макгрегор, ура! Макгрегор, пора! Не знает наш клан и главой где прилечь; Но клан наш сберег и свой дух и свой меч. Так смело же, смело! Макгрегор, ура! Макгрегор, пора! Нет крова, нет пищи, нет имени нам… Огню же их домы, их трупы орлам! На битву, на битву! Макгрегор, ура! Макгрегор, пора! Быть листьям в дубраве, быть пене в реке, Быть нам в их владеньях с булатом в руке. Спешите, спешите! Макгрегор, ура! Макгрегор, пора! Скакать через море придется коню, Корабль поплывет на крутом Бенвеню, Растает гранит по горам вековым, Но мы не забудем, но мы отомстим. Сбирайтесь, сбирайтесь! Макгрегор, ура! Макгрегор, пора!1816
ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА
Зеленый холм покоем дышит, Садится солнце за него, И вереск ветерок колышет, Лица касаясь моего. Равнина предо мной простерта В румянце гаснущего дня, Но яркость прежних красок стерта, Она не радует меня. Я равнодушными очами Гляжу на серебристый Твид И храм Мелроза, что веками В поверженной гордыне спит. Лощина. Озеро в тумане. Деревья. Утлая ладья. Ужель они не те, что ране? Иль то переменился я? Да, холст изрезанный не в силах Художник кистью воскресить! Разбитой арфы струн унылых Перстам певца не оживить! И взор мой пуст, и чувства немы, Кладбищем мнится сад в цвету… Долину светлого Эдема Здесь я вовек не обрету!1817
ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ МИСТЕРА КЕМБЛА,
которую он произнёс
после своего последнего спектакля
в Эдинбурге
Как старый конь, когда трубу услышит, Копытом землю бьет и тяжко дышит И, презирая отдых и покой, Тревожно ржет и снова рвется в бой, Так, вашим крикам радостным внимая, Не верю я, что сцену покидаю И что рукоплескания сейчас Я слышу, может быть, в последний раз. Но почему? Ужель иссякла сила, Которая так долго вам служила? Ведь юность можно рвеньем заменить, Усталость — чувством долга победить, А стариковские недомоганья — Лечить бальзамом вашего признанья. О нет! Свеча, что догорит вот-вот, Порой последней вспышкою сверкнет, Но все ж, хоть этот свет бывает ярок, Он быстро гаснет. Дотлевай, огарок! Долг, рвение, признание людей Не переспорят старости моей. Нет, нет! Могу ли я, вкусивший славы, Знать, что теперь лишь терпите меня вы, И, вспоминая, как я здесь блистал, Бесславно жить на пенсии похвал? Нет! Мне ль терпеть, чтобы юнцы смеялись: «Ужель им наши деды восхищались?», А доброхот, усмешку затая, Мне намекал, что, мол, зажился я? Тому не быть! Мой долг велит мне, чтобы И я прошел свой путь от сцены к гробу И, словно Цезарь, в свой последний миг Оправил тогу. Я уже старик: Всю роль исполнил я при полном зале, Но для себя хочу сыграть в финале. Итак, прощайте! Если, может быть, Меня вам доведется не забыть, Хотя, конечно, мне на смену скоро Придут другие, лучшие актеры, И если вы передо мной в долгу, То неужели я забыть могу — Забыть часы тревог, надежд, волнений, Забыть, как славу я стяжал на сцене, Как создавал я здесь волшебный мир, В котором жил неистовый Шекспир, Как был нередко шквал рукоплесканий Венцом моих трудов и упований… Мгновенья эти память сохранит — А вся их радость вам принадлежит. О край талантов и прекрасных женщин! И музами и Марсом ты увенчан. Смогу ли в сердце я слова найти Чтоб пламенно тебя превознести? Но кончился мой монолог прощальный, Свой колокол я слышу погребальный, И я одно скажу вам, господа: «Друзья мои! Прощайте навсегда!»1817
ПОХОРОННАЯ ПЕСНЬ
МАК-БРИММОНА
На борт стяг волшебный Мак-Лауда взяли. Гребцы на местах, корабли на отчале. Палаш и секира сверкают на воле, И песню Мак-Криммон завел о недоле: «Прощайте, утесы в бурунах и пене! Прощайте, лощины, где бродят олени! Прощайте же, озеро, речка и поле! Мак-Криммон сюда не воротится боле. Прощайте вы, сонные Квиллена тучи И ясные очи, чьи слезы так жгучи! Прощайте, о вымыслы бардов! В недоле Мак-Криммону с вами не свидеться боле. Мне бэнши стенанием смерть предрекает. Мой плащ, словно саван, меня облекает. Но сердце не дрогнет от скорби и боли, Хоть мне не вернуться на родину боле. И будут Мак-Криммона слышать стенанья Все гэлы-изгнанники в миг расставанья. Отчизна! Прощаюсь с тобой поневоле, Возврата ж… возврата не будет мне боле. Не будет во веки веков мне возврата! Не будет во веки веков мне возврата! Не будет во веки веков мне возврата! Мак-Лауд вернется, Мак-Криммон умрет!»1818
ДОНАЛД КЭРД ВЕРНУЛСЯ К НАМ
Доналд Кэрд вернулся к нам! Доналд Кэрд вернулся к нам! Мчитесь, вести, по горам: Доналд Кэрд вернулся к нам! Он и пляшет и поет, Он и лудит и кует, Пьет с соседом — тот пьянеет, Льнет к соседке — та добреет; Ну, а если зол бывает, Вмиг любого с ног сбивает. Мчитесь, вести, по горам: Доналд Кэрд вернулся к нам. Доналд Кэрд вернулся к нам! Доналд Кэрд вернулся к нам! Мчитесь, вести, по горам: Доналд Кэрд вернулся к нам! Ставит он капкан в лесу На куницу и лису, Он острогой бьет лосося, Он стрелою валит лося, Он знаток повадок птичьих, Не боится он лесничих, Гнев судьи ему смешон. Наконец-то дома он! Доналд Кэрд вернулся к нам! Доналд Кэрд вернулся к нам! Знайте все и здесь и там: Доналд Кэрд вернулся к нам! Он умеет славно пить, Он умеет крепко бить; По трактирам знает всякий: Доналд Кэрд опасен в драке; Даже пьяный — вот поди ты!— Он в седле сидит как влитый. Прочь с дороги, вождь и лэрд, Если скачет Доналд Кэрд! Доналд Кэрд вернулся к нам! Доналд Кэрд вернулся к нам! Расскажите всем друзьям: Доналд Кэрд вернулся к нам! Эй, хозяин, запирай Понадежнее сарай, И коровник, и овчарню, И конюшню, и свинарню; Да не доверяй запорам, А дозором под забором Сам ходи ночной порой: Доналд Кэрд пришел домой! Доналд Кэрд вернулся к нам! Доналд Кэрд вернулся к нам! Будет худо богачам: Доналд Кэрд вернулся к нам! Удальцу не повезло: Он попался, как назло. Но не струсил парень ловкий, Увернулся от веревки. И теперь он снова дома. Стерегите, скопидомы, Скот и птицу по ночам: Доналд Кэрд вернулся к нам! Доналд Кэрд вернулся к нам! Доналд Кэрд вернулся к нам! Не болтайте приставам: Доналд Кэрд вернулся к нам!1818
ПРОЩАНИЕ С МУЗОЙ
Прощай, королева! Не ты ль вечерами В седые дубравы манила меня, Где в полном безмолвье я слушал часами, Как шепчутся кроны, листвою звеня? Прощай! Унеси эти скорбные звуки, Лиши меня арфы своей золотой! Любовник, изведавший горечь разлуки, Поймет эту боль расставанья с тобой. В часы, когда горе мне сердце сжимало И бременем тяжким ложилось на грудь, Слабеющий дух ты одна врачевала, Сулила мне торный и радостный путь. А ныне стремнина годов чередою Уносит друзей в непроглядную ночь, И стынет душа, словно птица зимою, И ты ей, о муза, бессильна помочь. Твоим наставленьям прилежно внимая, О рыцаре мертвом я песни слагал. Как тщетно невеста его молодая К холодным губам подносила фиал! Не так ли ты тщетно даришь вдохновенье Беззвучным устам, на которых — печать? Певец твой устал от мирского волненья. Прощай! Он свиданья не станет искать.1822
ОСТРОВИТЯНКА
Островитянка! Со скалы Ты видишь в бурных водах челн? Зачем, взлетая на валы, Он борется с напором волн? То клонится от ветра он, То исчезает за волной, То парус в пену погружен… Здесь, дева, ищет он покой! Островитянка! В бурной мгле Над морем чайка чуть видна. Сквозь тучи грозные к скале Летит бестрепетно она. Но что ее туда влечет, Где вал безумствует морской, Где вспененный прибой ревет?.. О дева, в нем — ее покой! Я, бесприютный, словно челн, Стремлюсь к тебе в ненастной мгле, Стремлюсь к тебе сквозь пену волн, Как чайка к ледяной скале. Ты скал суровых холодней, Бездушней глубины морской… В любви иль гибели своей, О дева, я найду покой!1822
* * *
Идем мы с войны, Из дальней страны, Былые рабы барабана; Прощайте навек, Поход и набег, Победы, сраженья и раны. Кто болен, кто хром… Но в руки возьмем Работу забытую, братцы. Тот был дураком, Кто бросил свой дом, Чтоб с доном Испанцем подраться. За дело, жнецы, И вы, кузнецы, Работайте, сил не жалея. Ткачи будут ткать, И станут опять Детишек учить грамотеи.1830
* * *
Закат окрасил гладь озер И горные хребты, В лесу смолкает птичий хор — Что ж, Ленард, медлишь ты? Те, кто трудиться встал с зарей, Домой приходят вновь: Их всех вечернею порой Ждут отдых и любовь. На башне леди, глядя вдаль, Возлюбленного ждет: Когда ж его доспехов сталь Среди кустов блеснет? И поселянка у межи Ждет друга своего, Следя, когда мелькнет во ржи Знакомый плед его. Вот к уткам селезень плывет — Он был один весь день; Вот, встретив лань у тихих вод, С ней в лес спешит олень. Все те, кто днем разлучены, С приходом темноты Друг с другом встретиться должны… Что ж, Ленард, медлишь ты?1830
* * *
Мы с детства сроднились с тревожной трубою, Предвестницей игр и предвестницей боя. Все вражьи угрозы достойны презренья, Пока мы друзья на пиру и в сраженье. Сосед и в работе и в битве поможет, Сосед за тебя свою голову сложит, И если зовут нас волынка и знамя, Красотки соседки прощаются с нами. Так выпьем за братство до самой могилы, И пусть приумножит оно наши силы, И дерзость британца достойна презренья, Пока мы друзья на пиру и в сраженье.1830
* * *
Тверда рука, и зорок глаз, И приз за меткость — мой: Ведь я недаром в этот час Всем сердцем был с тобой. Когда друзья мои в вине Забот топили рой, Я знал: ты помнишь обо мне, Я сердцем был с тобой. Сегодня приз завоевал Я для тебя одной. Прийти к тебе я опоздал, Но сердцем был с тобой.1830
* * *
Как бы ветры ни гудели, Ввысь орел летит со скал. Как бы волны ни ревели, Чайка режет пенный вал. Что нам бешенство воды, Если мы душой тверды? Пусть беда соединится С нищетою и тоской — Все отступит и склонится Перед волею людской. Нет ни страха, ни беды, Если мы душой тверды. Ты лиши меня отрады, Отними сиянье дня, Дай мне все мученья ада И в темницу брось меня — Но вольны мы и горды, Если мы душой тверды.1830
* * *
Когда друзья сойдутся в круг, И заблестят глаза подруг, И все заботы наши вдруг Утонут в пенной чаше, И пунш кипит, и сварен грог, И настает для шуток срок, — Тогда, играя, как поток, Кипит веселье наше. Эй, пей! Кипит веселье наше. Когда охрип от песен хор, А робость смело лезет в спор, И старость не болтает вздор, И красота сдается, И к нам в окно стучит рассвет, — Тогда пора бы взять свой плед, Да распроститься силы нет, Пока веселье льется. Эй, пей, Пока веселье льется!1830
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОКАЯНИЕ
Был папа готов литургию свершать, Сияя в святом облаченье, С могуществом, данным ему отпускать Всем грешникам их прегрешенья. И папа обряд очищенья свершал; Во прахе народ простирался; И кто с покаянием прах лобызал, От всех тот грехов очищался. Органа торжественный гром восходил Горе во святом фимиаме. И страх соприсутствия божьего был Разлит благодатно во храме. Святейшее слово он хочет сказать — Устам не покорствуют звуки; Сосуд живоносный он хочет поднять — Дрожащие падают руки. «Есть грешник великий во храме святом! И бремя на нем святотатства! Нет части ему в разрешенье моем: Он здесь не от нашего братства. Нет слова, чтоб мир водворило оно В душе, погубленной отныне; И он обретет осужденье одно В чистейшей небесной святыне. Беги ж, осужденный; отвергнись от нас; Не жди моего заклинанья; Беги: да свершу невозбранно в сей час Великий обряд покаянья». С толпой на коленях стоял пилигрим, В простую одет власяницу; Впервые узрел он сияющий Рим, Великую веры столицу. Молчанье храня, он пришел из своей Далекой отчизны как нищий; И целые сорок он дней и ночей Почти не касался до пищи; И в храме, в святой покаяния час, Усердней никто не молился… Но грянул над ним заклинательный глас Он бледен поднялся и скрылся. Спешит запрещенный покинуть он Рим; Преследуем словом ужасным, К шотландским идет он горам голубым, К озерам отечества ясным. Когда ж возвратился в отечество он, В старинную дедов обитель: Вассалы к нему собрались на поклон И ждали, что скажет властитель. Но прежний властитель, дотоле вождем Их бывший ко славе победной, Их принял с унылым, суровым лицом, С потухшими взорами, бледный. Сложил он с вассалов подданства обет И с ними безмолвно простился; Покинул он замок, покинул он свет И в келью отшельником скрылся. Себя он обрек на молчанье и труд; Без сна проводил он все ночи; Как бледный убийца, ведомый на суд, Бродил он, потупивши очи. Не знал он покрова ни в холод, ни в дождь; В раздранной ходил власянице; И в келье, бывалый властитель и вождь, Гнездился, как мертвый в гробнице. В святой монастырь богоматери дал Он часть своего достоянья: Чтоб там о погибших собор совершал Вседневно обряд поминанья. Когда ж поминанье собор совершал, Моляся в усердии теплом, Он в храм не входил; перед дверью лежал Он в прахе, осыпанный пеплом. Окрест сторона та прекрасна была: Река, наравне с берегами, По зелени яркой лазурно текла И зелень поила струями; Живые дороги вились по полям; Меж нивами села блистали; Пестрели стада; отвечая рогам, Долины и холмы звучали; Святой монастырь на пригорке стоял За темною кленов оградой: Меж ними — в то время, как вечер сиял, — Багряной горел он громадой. Но грешным очам неприметна краса Веселой окрестной природы; Без блеска для мертвой души небеса, Без голоса рощи и воды. Есть место — туда, как могильная тень, Одною дорогой он ходит; Там часто, задумчив, сидит он весь день, Там часто и ночи проводит. В лесном захолустье, где сонный ворчит Источник, влачася лениво, На дикой поляне часовня стоит В обломках, заглохших крапивой; И черны обломки: пожар там прошел; Золою, стопившейся в камень, И падшею кровлей задавленный пол, Решетки, стерпевшие пламень, И полосы дыма на голых стенах, И древний алтарь без святыни, Все сердцу твердит, пробуждая в нем страх, О тайне сей мрачной пустыни. Ужасное дело свершилося там: В часовне пустынного места В час ночи, обет принося небесам, Стояли жених и невеста. К красавице бурною страстью пылал Округи могучий властитель; Но нравился боле ей скромный вассал, Чем гордый его повелитель. Соперника ревность была им страшна: И втайне их брак совершился. Уж клятва любви небесам предана, И пастырь над ними молился… Вдруг топот и клики и пламя кругом! Их тайна открыта; в кипенье Обиды, любви, обезумлен вином, Дерзнул он на страшное мщенье. Захлопнуты двери; часовня горит; Стенаньям смеется губитель; Все пышет, валится, трещит и гремит, И в пепле святыни обитель. Был вечер прекрасен, и тих, и душист; На горных вершинах сияло; Свод неба глубокий был темен и чист; Торжественно все утихало. В обители иноков слышался звон: Там было вечернее бденье; И иноки пели хвалебный канон, И было их сладостно пенье. По-прежнему грустен, по-прежнему дик (Уж годы прошли в покаянье), На место, где сердце он мучить привык, Он шел, погруженный в молчанье. Но вечер невольно беседовал с ним Своей миротворной красою, И тихой земли усыпленьем святым, И звездных небес тишиною. И воздух его обнимал теплотой, И пил аромат он целебный, И в слух долетал издалека порой Отшельников голос хвалебный. И с чувством, давно позабытым, поднял На небо он взор свой угрюмый И долго смотрел, и недвижим стоял, Окованный тайною думой… Но вдруг содрогнулся — как будто о чем Ужасном он вспомнил, — глубоко Вздохнул, стал бледней и обычным путем Пошел, как мертвец, одиноко. Главу опустя, безнадежно уныл, Отчаянно стиснувши руки, Приходит туда он, куда приходил Уж годы вседневно для муки. И видит… у входа часовни Сидит Чернец в размышленье глубоком, Он чуден лицом; на него он глядит Пронзающим внутренность оком. И тихо сказал наконец он: «Христос Тебя сохрани и помилуй!» И грешнику душу привет сей потрёс, Как луч воскресенья могилу. «Ответствуй мне, кто ты? (чернец вопросил) Свою мне поведай судьбину; По виду ты странник; быть может, ходил, Свершая обет, в Палестину? Или ко гробам чудотворцев святых Свое приносил поклоненье? С собою мощей не принес ли каких, Дарующих грешным спасенье?» «Мощей не принес я; к гробам не ходил, Спасающим нас благодатью; Не зрел Палестины… Но в Риме я был И предан навеки проклятью». «Проклятия вечного нет для живых: Есть верный за падших заступник. Приди, исповедайся в тайных своих Грехах предо мною, преступник». «Что сделать не властен святейший отец, Владыка и божий наместник, Тебе ли то сделать? И кто ты, чернец? Кем послан ты, милости вестник?» «Я здесь издалека: был в той стороне, Где ведома участь земного; Здесь память загладить позволено мне Ужасного дела ночного». При слове сем грешник на землю упал… Все члены его трепетали… Он исповедь начал… но что он сказал, Того на земле не узнали. Лишь месяц их тайным свидетелем был, Смотря сквозь древесные сени; И, мнилось, в то время, когда он светил, Две легкие веяли тени; Двумя облачками казались оне; Всё выше, всё выше взлетали; И всё неразлучны; и вдруг в вышине С лазурью слились и пропали. И он на земле не встречался с тех пор. Одно сохранилось в преданье: С обычным обрядом священный собор Во храме свершал поминанье; И пеньем торжественным полон был храм, И тихо дымились кадилы, И вместе с земными невидимо там Служили небесные силы. И в храм он вошел, к алтарю приступил, Пречистых даров причастился, На небо сияющий взор устремил, Сжал набожно руки… и скрылся.1801
СУД В ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Повесть
(Отрывок)
I Уж день прохладно вечерел, И свод лазоревый алел; На нем сверкали облака; Дыханьем свежим ветерка Был воздух сладко растворен; Играя, вея, морщил он Пурпурно-блещущий залив; И, белый парус распустив, Заливом тем ладья плыла; Из Витби инокинь несла, По легким прыгая зыбям, Она к Кутбертовым брегам. Летит веселая ладья; Покрыта палуба ея Большим узорчатым ковром; Резной высокий стул на нем С подушкой бархатной стоит; И мать-игуменья сидит На стуле в помыслах святых; С ней пять монахинь молодых. II Впервой покинув душный плен Печальных монастырских стен, Как птички в вольной вышине, По гладкой палубе оне Играют, резвятся, шалят… Все веселит их, как ребят: Той шаткий парус страшен был, Когда им ветер шевелил И он, надувшися, гремел; Крестилась та, когда белел, Катясь к ладье, кипучий вал, Ее ловил и подымал На свой изгибистый хребет; Ту веселил зеленый цвет Морской чудесной глубины; Когда ж из пенистой волны. Как черная незапно тень, Пред ней выскакивал тюлень, Бросалась с криком прочь она И долго, трепетна, бледна, Читала шепотом псалом; У той был резвым ветерком Покров развеян головной, Густою шелковой струей Лились на плечи волоса, И груди тайная краса Мелькала ярко меж власов, И девственный поймать покров Ее заботилась рука, А взор стерег исподтишка, Не любовался ль кто за ней Заветной прелестью грудей. III Игуменья порою той Вкушала с важностью покой, В подушках нежась пуховых, И на монахинь молодых Смотрела с ласковым лицом. Она вступила в божий дом Во цвете первых детских лет, Не оглянулася на свет И, жизнь навеки затворя В безмолвии монастыря, По слуху знала издали О треволнениях земли, О том, что радость, что любовь Смущают ум, волнуют кровь И с непроснувшейся душой Достигла старости святой, Сердечных смут не испытав; Тяжелый инокинь устав Смиренно, строго сохранять, Души спасения искать Блаженной Гильды по следам, Служить ее честным мощам, И день и ночь в молитве быть, И день и ночь огонь хранить Лампад, горящих у икон: В таких заботах проведен Был век ее. Богатый вклад На обновление оград Монастыря дала она; Часовня Гильды убрана Была на славу от нее: Сияло пышное шитье Там на покрове гробовом, И, обложенный жемчугом, Был вылит гроб из серебра; И много делала добра Она убогим и больным, И возвращался пилигрим От стен ее монастыря, Хваля небесного царя. Имела важный вид она, Была худа, была бледна; Был величав высокий рост; Лицо являло строгий пост, И покаянье тмило взор. Хотя в ней с самых давних пор Была лишь к иночеству страсть, Хоть строго данную ей власть В монастыре она блюла, Но для смиренных сестр была Она лишь ласковая мать: Свободно было им дышать В своей келейной тишине, И мать-игуменью оне Любили детски всей душой. Куда ж той позднею порой Через залив плыла она? Была в Линдфарн приглашена Она с игуменьей другой; И там их ждал аббат святой Кутбертова монастыря, Чтобы, собором сотворя Кровавый суд, проклятье дать Отступнице, дерзнувшей снять С себя монашества обет И, сатане продав за свет Все блага кельи и креста, Забыть Спасителя Христа. IV Ладья вдоль берега летит, И берег весь назад бежит; Мелькают мимо их очей В сиянье западных лучей: Там замок на скале крутой И бездна пены под скалой От расшибаемых валов; Там башня, сторож берегов, Густым одетая плющом; Там холм, увенчанный селом; Там золото цветущих нив; Там зеленеющий залив В тени зеленых берегов; Там божий храм, среди дерев Блестящий яркой белизной. И остров, наконец, святой С Кутбертовым монастырем, Облитый вечера огнем, Громадою багряных скал Из вод вдали пред ними встал, И, приближаясь, тихо рос, И вдруг над их главой вознес Свой брег крутой со всех сторон. И остров и не остров он; Два раза в день морской отлив, Песок подводный обнажив, Противный брег сливает с ним: Тогда поклонник пилигрим На богомолье по пескам Пешком идет в Кутбертов храм; Два раза в день морской прилив, Его от тверди отделив, Стирает силою воды С песка поклонников следы. — Нес ветер к берегу ладью; На самом берега краю Стоял Кутбертов древний дом, И волны пенились кругом. V Стоит то здание давно; Саксонов памятник, оно Меж скал крутых крутой скалой Восходит грозно над водой; Все стены страшной толщины Из грубых камней сложены; Зубцы, как горы, на стенах; На низких тягостных столбах Лежит огромный храма свод; Кругом идет широкий ход, Являя бесконечный ряд Сплетенных ветвями аркад; И крепки башни на углах Стоят, как стражи на часах. Вотще их крепость превозмочь Пыталась вражеская мочь Жестоких нехристей датчан; Вотще волнами океан Всечасно их разит, дробит; Святое здание стоит Недвижимо с давнишних пор; Морских разбойников напор, Набеги хлада, бурь, валов И силу грозную годов Перетерпев, как в старину, Оно морскую глубину Своей громадою гнетет; Лишь кое-где растреснул свод, Да в нише лик разбит святой, Да мох растет везде седой, Да стен углы отточены Упорным трением волны. VI В ладье монахини плывут; Приближась к берегу, поют Святую Гильды песнь оне; Их голос в поздней тишине, Как бы сходящий с вышины, Слиясь с гармонией волны, По небу звонко пробежал; И с брега хор им отвечал, И вышел из святых ворот С хоругвями, крестами ход Навстречу инокинь честных; И возвестил явленье их Колоколов согласный звон, И был он звучно повторен Отзывом ближних, дальних скал И весь народ на брег созвал. С ладьи игуменья сошла, Благословенье всем дала И, подпираясь костылем, Пошла в святой Кутбертов дом Вослед хоругвей и крестов. VII Им стол в трапезнице готов; Садятся ужинать; потом Обширный монастырский дом Толпой осматривать идут; Смеются, резвятся, поют; Заходят в кельи, в древний храм, Творят поклоны образам И молятся мощам святым… Но вечер холодом сырым И резкий с моря ветерок Собраться нудят всех в кружок К огню, хозяек и гостей; Жужжат, лепечут; как ручей, Веселый льется разговор; И наконец меж ними спор О том заходит, чей святой Своею жизнию земной И боле славы заслужил И боле небу угодил? VIII «Святая Гильда (говорят Монахини из Витби) вряд Отдаст ли первенство кому! Известна ж боле потому Ее обитель с давних дней, Что три барона знатных ей Служить вассалами должны; Угодницей осуждены Когда-то были Брюс, Герберт И Перси; суд сей был простерт На их потомство до конца Всего их рода: чернеца Они дерзнули умертвить. С тех пор должны к нам приходить Три старших в роде каждый год В день вознесенья, и народ Тут видит, как игумен их Становит рядом у честных Мощей угодницы святой, Как над склоненной их главой Прочтет псалом, как наконец С словами: все простил чернец! Им разрешение дает; Тогда аминь! гласит народ. К нам повесть древняя дошла О том, как некогда жила У нас саксонская княжна, Как наша вся была полна Округа ядовитых змей, Как Гильда, вняв мольбам своей Любимицы святой княжны, Явилась, как превращены Все змеи в камень, как с тех пор Находят в недре наших гор Окаменелых много змей. Еще же древность нам об ней Сказание передала: Как раз во гневе прокляла Она пролетных журавлей И как с тех пор до наших дней, Едва на Витби налетит Журавль, застонет, закричит, Перевернется, упадет И чудной смертью отдает Угоднице блаженной честь». IX «А наш Кутберт? Не перечесть Его чудес. Теперь покой Нашел уж гроб его святой; Но прежде… что он претерпел! От датских хищников сгорел Линдфарн, приют с давнишних дней Честных угодника мощей; Монахи гроб его спасли И с гробом странствовать пошли Из земли в землю, по полям, Лесам, болотам и горам; Семь лет в молитве и трудах С тяжелым гробом на плечах Они скиталися; в Мельрос Их напоследок бог принес; Мельрос Кутберт живой любил, Но мертвый в нем не рассудил Он для себя избрать приют, И чудо совершилось тут: Хоть тяжкий гроб из камня был, Но от Мельроса вдруг поплыл По Твиду он, как легкий челн. На юг теченьем быстрых волн Его помчало; миновав Тильмут и Риппон, в Вардилав, Препон не встретя, наконец Привел свой гроб святой пловец; И выбрал он в жилище там Святой готический Дургам; Но где святого погребли, Ту тайну знают на земли Лишь только трое; и когда Которому из них чреда Расстаться с жизнию придет, Он на духу передает Ее другому; тот молчит Дотоль, пока не разрешит Его молчанья смертный час. И мало ль чудесами нас Святой угодник изумлял? На нашу Англию напал Король шотландский, злой тиран; Пришла с ним рать галвегиан, Неистовых, как море их; Он рыцарей привел своих, Разбойников, залитых в сталь; Он весь подвигнул Тевьотдаль; Но рать его костьми легла: Для нас Кутбертова была Хоругвь спасением от бед. Им ободрен был и Альфред На поражение датчан; Пред ним впервой и сам Норман Завоеватель страх узнал И из Нортумбрии бежал». X Монахини из Витби тут Сестрам линдфарнским задают С усмешкою вопрос такой: «А правда ли, что ваш святой По свету бродит кузнецом? Что он огромным молотком По тяжкой наковальне бьет И им жемчужины кует? Что на работу ходит он, Туманной рясой облачен? Что на приморской он скале, Чернее мглы, стоит во мгле? И что, покуда молот бьет, Он ветер на море зовет? И что в то время рыбаки Уводят в пристань челноки, Боясь, чтоб бурею ночной Не утопил их ваш святой?» Сестер линдфарнских оскорбил Такой вопрос; ответ их был: «Пустого много бредит свет; Об этом здесь и слуху нет; Кутберт, блаженный наш отец, Честной угодник, не кузнец». XI Так весело перед огнем Шел о житейском, о святом Между монахинь разговор. А близко был иной собор, И суд иной происходил. Под зданьем монастырским был Тайник — страшней темницы нет; Король Кольвульф, покинув свет, Жил произвольным мертвецом В глубоком подземелье том. Сперва в монастыре оно Смиренья кельей названо; Потом в ужасной келье той, Куда ни разу луч дневной, Ни воздух божий не входил, Прелат Сексгельм определил Кладбищу осужденных быть; Но наконец там хоронить Не мертвых стали, а живых: О бедственной судьбине их Молчал неведомый тайник; И суд, и казнь, и жертвы крик — Все жадно поглощалось им; А если случаем каким Невнятный стон из глубины И доходил до вышины, Никто из внемлющих не знал, Кто, где и отчего стенал; Шептали только меж собой, Что там, глубоко под землей, Во гробе мучится мертвец, Свершивший дней своих конец Без покаяния во зле И непрощенный на земле. XII Хотя в монастыре о том Заклепе казни роковом И сохранилася молва, Но где он был? Один иль два Монаха знали то да сам Отец аббат; и к тем местам Ему лишь с ними доступ был; С повязкой на глазах входил За жертвой сам палач туда В час совершения суда. Там зрелся тесный, тяжкий свод; Глубоко, ниже внешних вод, Был выдолблен в утесе он; Весь гробовыми замощен Плитами пол неровный был; И ряд покинутых могил С полуистертою резьбой, Полузатоптанных землей, Являлся там; от мокроты Скопляясь, капли с высоты На камни падали; их звук Однообразно-тих, как стук Ночного маятника, был; И бледно, трепетно светил, Пуская дым, борясь со мглой, Огонь в лампаде гробовой, Висевшей тяжко на цепях; И тускло на сырых стенах, Покрытых плеснью, как корой, Свет, поглощенный темнотой, Туманным отблеском лежал. Он в подземелье озарял Явленье страшное тогда. XIII Три совершителя суда Сидели рядом за столом; Пред ними разложён на нем Устав бенедиктинцев был; И, чуть во мгле сияя, лил Мерцанье бледное ночник На их со мглой слиянный лик. Товарищ двум другим судьям, Игуменья из Витби там Являлась, и была сперва Ее открыта голова; Но скоро скорбь втеснилась ей Во грудь, и слезы из очей Невольно жалость извлекла, И покрывалом облекла Тогда лицо свое она. С ней рядом, как мертвец бледна, С суровой строгостью в чертах, Обретшая в посте, в мольбах Бесстрастье хладное одно (В душе святошеством давно Прямую святость уморя),— Тильмутского монастыря Приорша гордая была; И ряса, черная как мгла, Лежала на ее плечах; И жизни не было в очах, Черневших мутно, без лучей, Из-под седых ее бровей. Аббат Кутбертовой святой Обители, монах седой, Иссохнувший полумертвец И уж с давнишних пор слепец, Меж ними, сгорбившись, сидел; Потухший взор его глядел Вперед, ничем не привлечен, И, грозной думой омрачен, Ужасен бледный был старик, Как каменный надгробный лик, Во храме зримый в час ночной, Немого праха страж немой. Пред ними жертва их стоит: На голове ее лежит Лицо скрывающий покров; Видна на белой рясе кровь; И на столе положены Свидетели ее вины: Лампада, четки и кинжал. По знаку данному, сорвал Монах с лица ее покров; И кудри черных волосов Упали тучей по плечам. Приорши строгия очам Был узницы противен вид; С насмешкой злобною глядит В лицо преступницы она, И казнь ее уж решена. XIV Но кто же узница была? Сестра Матильда. Лишь сошла Та роковая полночь, мглой Окутавшись как пеленой, Тильмутская обитель вся Вдруг замолчала; погася Лампады в кельях, сестры в них Все затворились; пуст и тих Стал монастырь; лишь главный вход Святых обители ворот Не заперт и свободен был. На колокольне час пробил. Лампаду и кинжал берет И в платье мертвеца идет Матильда смело в ворота; Пред нею ночь и пустота; Обитель сном глубоким спит; Над церковью луна стоит И сыплет на дорогу свет; И виден на дороге след В густой пыли копыт и ног; И слышен ей далекий скок… Она с волненьем вдаль глядит; Но там ночной туман лежит; Все тише, тише слышен скок, Лишь по дороге ветерок Полночный ходит да луна Сияет с неба. Вот она Минуты две подождала; Потом с молитвою пошла Вперед — не встретится ли с ним? И долго шла путем пустым; Но все желанной встречи нет. Вот наконец и дневный свет И на небе зажглась заря… И вдруг от стен монастыря Послышался набатный звон; Всю огласил окрестность он. Что ей начать? Куда уйти? Среди открытого пути, Окаменев, она стоит; И страшно колокол гудит; И вот за ней погоня вслед; И ей нигде приюта нет; И вот настигнута она, И в монастырь увлечена, И скрыта заживо под спуд; И ждет ее кровавый суд. XV Перед судилищем она Стоит, почти умерщвлена Терзаньем близкого конца; И бледность мертвая лица Была видней, была страшней От черноты ее кудрей, Двойною пышною волной Обливших лик ее младой. Оцепенев, стоит она; Глава на грудь наклонена; И если б мутный луч в глазах И содрогание в грудях Не изменяли ей порой, За лик бездушный восковой Могла б быть принята она: Так бездыханна, так бледна, С таким безжизненным лицом, Таким безгласным мертвецом Она ждала судьбы своей От непрощающих судей, И казни страх ей весь открыт: В стене, как темный гроб, прорыт Глубокий, низкий, тесный вход; Тому, кто раз в тот гроб войдет, Назад не выйти никогда; Коренья, в черепке вода, Краюшка хлеба с ночником Уже готовы в гробе том; И с дымным факелом в руках, На заступ опершись, монах, Палач подземный, перед ним, Безгласен, мрачен, недвижим, С покровом на лице стоит; И грудой на полу лежит Гробокопательный снаряд: Кирпич, кирка, известка, млат. Слепой игумен с места встал, И руку тощую поднял, И узницу благословил… И в землю факел свой вонзил И к жертве подошел монах; И уж она в его руках Трепещет, борется, кричит, И, сладив с ней, уже тащит, Бесчувственный на крик и плач, Ее живую в гроб палач… XVI Сто ступеней наверх вели; Из тайника судьи пошли, И вид их был свирепо дик; И глухо жалкий, томный крик Из глубины их провожал; И страх шаги их ускорял; И глуше становился стон; И наконец… умолкнул он. И скоро вольный воздух им Своим дыханием живым Стесненны груди оживил. Уж час ночного бденья был, И в храме пели. И во храм Они пошли; но им и там Сквозь набожный поющих лик Все слышался подземный крик. Когда ж во храме хор отпел, Ударить в колокол велел Аббат душе на упокой… Протяжный глас в тиши ночной Раздался — из глубокой мглы Ему Нортумбрии скалы Откликнулись; услыша звон, В Брамбурге селянин сквозь сон С подушки голову поднял, Молиться об умершем стал, Недомолился и заснул; Им пробужденный, помянул Усопшего святой чернец, Варквортской пустыни жилец; В Шевьотскую залегший сень, Вскочил испуганный олень, По ветру ноздри распустил, И чутко ухом шевелил, И поглядел по сторонам, И снова лег… и снова там Все, что смутил минутный звон, В глубокий погрузилось сон.1808
РАЗБОЙНИК
Брэнгельских рощ Прохладна тень, Незыблем сон лесной; Здесь тьма и лень, Здесь полон день Весной и тишиной… Над лесом Снизилась луна. Мой борзый конь храпит… Там замок встал, И у окна, Над рукоделием, Бледна, Красавица сидит… Тебе, владычица лесов, Бойниц и амбразур, Веселый гимн Пропеть готов Бродячий трубадур… Мой конь, Обрызганный росой, Играет и храпит, Мое поместье Под луной, Ночной повито тишиной, В горячих травах спит… В седле есть место для двоих, Надежны стремена! Взгляни, как лес Курчав и тих, Как снизилась луна. Она поет: «Прохладна тень, И ясен сон лесной… Здесь тьма и лень, Здесь полон день Весной и тишиной… О, счастье — прах, И гибель — прах, Но мой закон любить, И я хочу В лесах, В лесах Вдвоем с Эдвином жить… От графской свиты Ты отстал, Ты жаждою томим; Охотничий блестит кинжал За поясом твоим, И соколиное перо В ночи Горит огнем,— Я вижу графское тавро На скакуне твоем!» Увы! Я графов не видал, И род Не графский мой! Я их поместья поджигал Полуночной порой!.. Мое владенье — Вдаль и вширь — В ночных лесах лежит, Над ним кружится Нетопырь, И в нем сова кричит… Она поет: «Прохладна тень, И ясен сон лесной; Здесь тьма и лень, Здесь полон день Весной и тишиной! О, счастье — прах, И гибель — прах, Но мой закон — любить… И я хочу В лесах, В лесах Вдвоем с Эдвином жить! Веселый всадник, Твой скакун Храпит под чепраком, Теперь я знаю: Ты — драгун И мчишься за полком… Недаром скроен Твой наряд Из тканей дорогих, И шпоры длинные горят На сапогах твоих!..» Увы! Драгуном не был я, Мне чужд солдатский строй: Казарма вольная моя — Сырой простор лесной… Я песням у дроздов учусь В передрассветный час. В боярышник лисицей мчусь От вражьих скрыться глаз. И труд необычайный мой Меня к закату ждет, И необычная за мной В тумане смерть придет… Мы часа ждем В ночи, в ночи! И вот — В лесах, В лесах Коней седлаем, И мечи Мы точим на камнях.. Мы знаем Тысячи дорог, Мы слышим гром копыт, С дороги каждой Грянет рог — И громом пролетит… Где пуля запоет в кустах, Где легкий меч сверкнет, Где жаркий заклубится прах, Где верный конь заржет… И листья Плещутся дрожа И птичий Молкнет гам, И убегают сторожа, Открыв дорогу нам… И мы несемся Вдаль и вширь Под лязганье копыт; Над нами реет Нетопырь, И вслед Сова кричит… И нам не страшен Дьявол сам, Когда пред черным днем Он молча Бродит по лесам С коптящим фонарем… И графство задрожит, когда, Лесной взметая прах, Из лесу вылетит беда На взмыленных конях… Мой конь, Обрызганный росой, Играет и храпит, Мое поместье Под луной, Ночной повито тишиной, В горячих травах спит… В седле есть место Для двоих, Надежны стремена! Взгляни, как лес Курчав и тих, Как снизилась луна! Она поет: «Брэнгельских рощ Что может быть милей? Там по ветвям Стекает дождь, Там прядает ручей! О, счастье — прах, И гибель — прах, Но мой закон — любить… И я хочу В лесах, В лесах Вдвоем с Эдвином жить!..»1813
КОММЕНТАРИИ
«ТАЛИСМАН»
Действие романа «Талисман», написанного в 1825 году, происходит во время Третьего крестового похода (1189–1192).
Обращаясь к одной из интереснейших страниц мировой истории — эпохе крестовых походов, Вальтер Скотт показывает драматическую схватку двух миров, столкновение европейской и арабской культур в эпоху средневековья.
Вспомним некоторые исторические обстоятельства, обусловившие эти события В 1095 году папа Урбан II обратился к христианскому миру с призывом начать борьбу за освобождение находившегося в руках мусульман «гроба господня» в Иерусалиме. Его проповеди были поддержаны фанатичным амьенским монахом Петром Пустынником. Пламенные речи Петра Пустынника произвели огромное впечатление на французских крестьян, увидевших в крестовом походе возможность освободиться от голода и бесправия. Прошло несколько месяцев — и огромная армия двинулась через Европу по направлению к Константинополю, где она должна была переправиться в Азию.
Это был так называемый крестовый поход бедноты, руководимый Петром Пустынником. Печальны были результаты этого похода. Плохо вооруженные отряды крестьян были уничтожены в Малой Азии, а их предводитель бежал с поля боя.
Через несколько месяцев, в 1096 году, началась новая, значительно лучше подготовленная военная операция, в которой приняли участие многие европейские монархи и крупные феодалы, шедшие во главе своих хорошо вооруженных войск. В 1099 году им удалось захватить Иерусалим. Этот поход вошел в историю под названием Первого крестового.
В 1144 году, в связи с тем, что арабам удалось вернуть себе крепость Эдессу, германский император Конрад III и французский король Людовик VII организуют Второй крестовый поход (1147–1149). Этот поход окончился неудачно.
В 1187 году египетский султан Саладин штурмует Иерусалим, и город опять переходит в руки арабов.
И снова в Европе прозвучали призывы к освобождению «святой» земли. Начался Третий крестовый поход, возглавленный германским императором Фридрихом Барбароссой (утонувшим при переправе через реку в начале похода), французским королем Филиппом II Августом и английским королем Ричардом I Львиное Сердце.
Однако на этот раз цели похода не были достигнуты. Несмотря на некоторые военные успехи (к ним относится взятие важной арабской крепости Аккры), крестоносцам так и не удалось взять Иерусалим. Им пришлось заключить на невыгодных условиях перемирие с их талантливым и грозным противником — арабским султаном Саладином — и увести большую часть войск назад в Европу.
Бесславному завершению похода во многом способствовала ожесточенная борьба за власть в лагере крестоносцев.
Скотт широко использовал в «Талисмане» подлинные исторические факты, опираясь на труды средневековых историков — близких современников или участников упомянутых событий. В первую очередь следует при этом упомянуть труды французского историка Бернарда Казначея, содержащие упоминание о ряде событий, ставших сюжетными узлами романа.
Исторические события нередко интерпретируются Скоттом по собственному усмотрению, но все они оживают под пером великого романиста, сумевшего воссоздать ряд исторически верных, тонко психологически мотивированных характеров. Стремясь воспроизвести специфику XII века, Скотт особенно акцентирует внимание на идеологических стимулах, породивших крестовые походы и сыгравших весьма немаловажную роль в их осуществлении.
Так, вполне соответствует духу эпохи сцена, где описывается пламенная религиозная проповедь отшельника Теодорика Энгаддийского, вызвавшая неистовый энтузиазм простых воинов, изъявивших готовность немедленно идти на штурм «святого города» Иерусалима.
Расходясь иногда с научно-материалистической трактовкой истории крестовых походов, недостаточно полно показывая их экономические и социальные причины, Вальтер Скотт умеет остаться верным исторической правде благодаря своей писательской интуиции.
О глубине авторского проникновения в атмосферу средневековья свидетельствует реалистическое изображение противоречии между вождями похода. Большинство этих вождей руководствуется лишь корыстными целями, не имеющими ничего общего с идеалами рядовых крестоносцев.
Ненасытной жаждой власти отличается гроссмейстер ордена тамплиеров Жиль Амори, скрывающий свое коварство и жестокость под личиной монаха. Будучи не только военачальником, но и одним из духовных вождей похода, он хладнокровно готовит убийство своего союзника, предводительствующего христианским войском Ричарда I, не брезгая при этом услугами фанатика-мусульманина. Идеологические соображения его при этом совершенно не волнуют; Ричард I для него лишь соперник в борьбе за власть, которого надо устранить.
Любопытно, что и в этом частном эпизоде Скотт верен исторической правде: средневековые историки свидетельствуют о том, что в своей междоусобной борьбе вожди крестоносцев нередко использовали наемных убийц из лагеря мусульман.
Другой руководитель похода — австрийский эрцгерцог Леопольд — и вовсе не желает прикрываться маской религиозного рвения. «Я хотел бы, чтобы наш Сион рассыпался на куски… говорю вам это по секрету», — заявляет он своим соратникам.
Низким интриганом оказывается и третий военачальник крестоносцев — Конрад Монсерратский, мечтающий стать королем иерусалимским и сеющий раздор в рядах «освободителей гроба господня». Важным стимулом похода оказывается в изображении Скотта не только захват новых феодальных владений и борьба за власть над ними, но также грабеж мирного населения «святой» земли. Так, характеризуя орден тамплиеров устами султана Саладина, Скотт замечает: «Эта стая вечно голодных волков, занимаясь грабежом, не знает отдыха и никогда не насыщается… Их мир — это война, а их честь — вероломство».
Среди эгоистических и лицемерных вождей похода особняком стоит только один — английский король Ричард Львиное Сердце.
Ричард I в изображении Скотта — это король-рыцарь, беззаветно преданный общему делу, забывающий о личных интересах и готовый, если это понадобится, идти на штурм Иерусалима в качестве рядового крестоносца. Прямой и честный, Ричард отличается благородством души, добротой и человечностью. Не задумываясь, он высасывает кровь из раны черного раба, защитившего его своим телом от удара отравленного кинжала. Впоследствии выясняется, что этим рабом был переодетый и загримированный Кеннет.
Вспыльчивый и суровый там, где дело касается нарушения воинского долга, но легко меняющий гнев на милость, доброжелательный к простым воинам — таким предстает Ричард перед читателями. Создавая образ Ричарда, Скотт не ставил перед собой задачи точно воспроизвести этот исторический персонаж. Умалчивая о многих темных страницах биографии Ричарда (так, например, средневековые историки настойчиво приписывали ему тайное убийство Конрада Монсерратского), Скотт делает энтузиазм и преданность идее крестового похода главной чертой своего героя. Отказываясь от фактографической точности, Скотт в то же время остается верен духу эпохи, которая вполне могла порождать и порождала подобные характеры.
Анализируя характер Ричарда, Скотт сам говорит об этом: «.. Дух времени был заразителен… в крестовом походе, этом безрассудном начинании, здравый смысл ставился ниже всех других душевных качеств… а рыцарская доблесть… считалась обесцененной, если только к ней примешивалась малейшая осторожность».
Эта авторская ремарка чрезвычайно существенна для проникновения не только в образ Ричарда, но и в общую творческую концепцию Скотта при создании романа «Талисман».
Центральный герой романа — наследный шотландский принц Давид, выступающий в романе под именем Кеннета, — многими чертами характера напоминает Ричарда. Подобно своему сюзерену, он глубоко верит в идеалы крестового похода и готов отдать жизнь за освобождение гроба господня. Даже горячая любовь к своей покоренной англичанами родине отступает для него на второй план по сравнению с овладевшей им религиозной идеей. «Разве мне, воину креста, подобает вспоминать о войнах между христианскими народами!» — восклицает он. Скромный и неприхотливый, Кеннет не заботится о богатстве и славе. Во время похода он буквально живет в нищете, питается ячменными лепешками и спит на ложе из листьев. Гордый и независимый герой Скотта отличается добротой, о которой свидетельствует хотя бы его отношение к больному оруженосцу.
Создавая образ принца Давида, Скотт в действительности нарисовал портрет рядового участника похода, далекого от интриг и корыстных соображений, игравших столь важную роль для вождей крестоносцев.
Для уяснения авторской оценки истории крестовых походов следует остановиться и на образе Саладина.
Подлинным героем романа о крестоносцах оказывается арабский полководец Саладин, который превосходит своих противников умом и великодушием. Такая характеристика Саладина в известной степени соответствует исторической истине. В отличие от крестоносцев, убивавших женщин и детей при взятии Иерусалима в 1099 году, Саладин при завоевании этого города в 1187 году установил специальную охрану для предотвращения зверств и освободил всех пленных за незначительный выкуп.
Самыми светлыми чертами «язычника» Саладина являются его гуманность и веротерпимость. Вот что говорит Саладин в беседе с Кеннетом: «На войне не убивай ни стариков, ни калек, ни женщин, ни детей. Страну не опустошай.»
Нет сомнения в том, что эти принципы Саладина близки взглядам самого автора, который не раз замечает, что «многие обычаи мусульман могли бы устыдить представителей более совершенной религии». Провозглашая идею равенства всех людей, независимо от цвета их кожи или вероисповедания, Скотт показывает в романе благородство Саладина, который излечивает больного Ричарда и спасает от казни своего соперника в любви — Кеннета.
Беседы Кеннета и Ричарда с Саладином свидетельствуют о широте взглядов и образованности арабского султана. Насыщая роман образами, заимствованными из арабского или иранотюркского фольклора, используя мотивы стихотворений Рудаки, сказок «Тысячи и одной ночи» или «Шахнаме» Фирдоуси, Скотт не только создает национальный колорит, но и попутно высказывает мысль о самостоятельной ценности и значимости восточной цивилизации, необходимости глубокого уважения к мировоззрению и обычаям других народов.
Так книга о далеком средневековье подчеркивает общую тенденцию всего творчества Скотта, постоянно выступавшего против жестокости и фанатизма, за гуманное отношение к людям и уважение к человеческой личности. Благодаря этому увлекательный роман Вальтера Скотта приобретает не только историко-познавательную, но и глубокую идейную ценность.
Стр. 7. «Обрученные» (1825) — роман Скотта, входивший наряду с «Талисманом» в цикл повестей о крестоносцах.
…как тьма, ниспосланная на египтян… — Согласно библейской легенде, бог наслал на Египет густую тьму, продолжавшуюся в течение трех дней. Причиной этой кары был отказ фараона разрешить евреям переселение из Египта.
Гошен (Гесем) — округ на северо-востоке Египта, отведенный фараоном для поселения родственников и соплеменников Иосифа и превращенный ими в процветающую страну.
Стр. 8. Эдом (Идумея) — страна на юге Иудеи, граничившая с каменистой Аравией. Здесь в смысле «Палестина».
«Анастазиус» — роман английского писателя Томаса Хоупа (1770–1831), опубликованный в 1819 г. Действие романа происходит в различных странах Ближнего Востока.
«Хаджи-Баба» — «Приключения Хаджи-Бабы из Исфагана», роман из персидской жизни, написанный английским писателем Джеймсом Морье (1770–1831), опубликованный в 1824 г. Автор, сын британского консула в Константинополе, хорошо знал восточные обычаи и гротескно описал их в своем романе, вызвавшем протест персидского консульства в Лондоне.
Лесаж Ален-Рене (1668–1747) — французский писатель-сатирик.
Филдинг Генри (1707–1754) — английский писатель, один из виднейших представителей просветительского реализма XVIII в.
Поэт-лауреат — Роберт Саути (1774–1843), английский поэт-романтик.
«Талаба» — «Талаба-разрушитель», написанная в 1801 г. поэма Саути, героем которой является благородный арабский витязь Талаба.
Мур Томас (1779–1852) — выдающийся английский поэт.
«Лалла-Рук» — восточная поэма Мура, написанная в 1817 г., героиней которой является индийская принцесса Лалла-Рук.
Стр. 10. Роберт Брюс (1274–1329) — шотландский король (1306–1329). В 1328 г. после ряда войн заключил мирный договор с английским королем Эдуардом III, который вынужден был признать независимость Шотландии.
Давид — Имеется в виду Давид II (1325–1371), король Шотландии с 1329 г. Изгнанный из Шотландии в 1333 г., вернулся и снова вступил на престол в 1341 г.
Дуглас Джеймс (1286–1330), сподвижник Роберта Брюса, участник его многочисленных войн с Англией. Содействовал заключению мирного Нортгемптонского договора 1328 г. После смерти Роберта Брюса поступил на службу к королю Альфонсу XI Кастильскому и погиб в Испании, в бою с маврами.
Стр. 11. …выпала монета… эпохи Нижнего Царства. — В конце IV тысячелетия до н. э. в результате объединения раннерабовладельческих египетских государств возникли два крупных египетских царства — Нижний Египет на севере и Верхний Египет на юге. Впоследствии (около 3000 г. до н. э.) северное царство было покорено южным и Египет стал единым государством. В исторической литературе применительно к Нижнему Египту иногда употребляется термин Нижнее Царство. Очевидно, Скотт использует этот термин условно, лишь для того, чтобы указать на древность монеты. В действительности в Египте в ту эпоху монет еще не было.
Стр. 12. Госпитальеры — духовно-рыцарский орден, иначе называемый орденом иоаннитов, созданный в Палестине во время крестовых походов. Согласно уставу ордена, его члены должны были заниматься уходом за больными и ранеными, а также защищать европейских паломников в Палестине.
Стр. 13. Шейх, или Горный Старик — единовластный глава фанатической мусульманской секты ассасинов (название происходит от арабского слова «хашишун», то есть «опьяняющиеся гашишем»), основанной в Иране во II в. Главной опорной базой секты была неприступная горная крепость Аламут. Впоследствии ассасины принимали активное участие в борьбе с крестоносцами в Палестине, широко используя при этом политические убийства и террор.
Стр. 14. «Возвращенный рай» — поэма английского поэта Джона Мильтона (1608–1674).
Рыцарь Красного Креста. — Участники крестовых походов прикрепляли на плечи или грудь крест из красной материи. Этот знак был символом их готовности сражаться до последней капли крови за освобождение находящегося в руках арабов Иерусалима, где, по преданию, был распят Иисус Христос.
Сиддим — долина в Палестине, упоминаемая в библии. Согласно библейской легенде, в этой долине находились города Содом и Гоморра, жители которых прославились развращенностью и беззакониями. В наказание за это Содом и Гоморра были уничтожены небесным огнем.
Стр. 15. Моисей — библейский пророк, который вел за собой древних евреев во время их переселения («исхода») из Египта. Легенда о Моисее повествует о скитаниях евреев по бесплодным пустыням после «исхода».
Стр. 17. Норманны (то есть «северные люди») — германские племена, населявшие Скандинавию и Ютландский полуостров. В VIII–XI вв. совершали ряд морских набегов на различные страны Европы и покорили некоторые из них.
Сарацины. — Так европейцы в эпоху крестовых походов называли все народы, исповедовавшие мусульманство.
Стр. 19. Эмир — арабский военачальник, полководец.
Стр. 21. Пророк — Мухаммед (Магомет; буквально: «прославленный»; 570–632), арабский религиозный проповедник и реформатор, основатель религии ислама, или мусульманства (это слово означает «покорность богу»). Сущностью ислама является вера в единого всемогущего бога — аллаха, а также в божественное предопределение человеческих судеб и загробную жизнь Проповедь мусульманства была использована Мухаммедом в период становления классового общества у арабов для объединения кочевых племен, ранее поклонявшихся силам природы и исповедовавших многобожие. Вскоре после смерти Мухаммеда его наместники (халифы) и последователи под знаменем ислама покорили ряд стран Ближнего Востока и Африки и создали обширный арабский халифат.
Назареянин — христианин (слово это происходит от названия города Назарета, где, по преданию, родился Христос).
Стр. 22. Полумесяц — эмблема мусульман, связанная с легендой о том, что Мухаммед, желая обратить в свою веру некоего безбожника, совершил чудо: снял с неба месяц и разрезал его пополам.
Коран — по-арабски буквально «чтение», священная книга мусульман. Представляет собой сборник поучений и законов, якобы сообщенных Мухаммеду аллахом, а в действительности заимствованных из древнееврейских и христианских источников.
Мекка — священный город мусульман, родина Мухаммеда, расположен на западе Аравии, в области Хиджаз. По завету Мухаммеда, каждый мусульманин должен в течение своей жизни совершить в Мекку паломничество.
Стр. 24. Франк. — Так во времена крестовых походов арабы называли всех европейцев.
…Чермное море не могло выдержать фараона с его войском. — Согласно библейской легенде, волны моря поглотили войско фараона, гнавшееся за бежавшими из Египта евреями.
Стр. 26. Готы — восточногерманские племена, в IV в. разделившиеся на остготов и вестготов.
Стр. 27. Менестрель — средневековый певец, музыкант или поэт, обычно состоявший на службе у феодального сеньора.
Стр. 29. …у древних заповедей Моисея… — В одной из библейских легенд повествуется о том, что Моисей на горе Синай беседовал с богом, и тот сообщил ему заповеди, которые должен соблюдать еврейский народ.
…лакаешь это ядовитое пойло. — Коран запрещает мусульманам употреблять вино.
Измаил — мифический родоначальник арабов, упоминаемый в библии как сын патриарха Авраама и его наложницы Агари, изгнанной с ребенком в пустыню.
Стр 30. Авраам (арабск. Ибрахим) — библейский патриарх, отец Измаила, почитаемый мусульманами как «друг аллаха».
Соломон — древнеиудейский царь, упоминаемый в библии как величайший мудрец. У мусульман считается одним из пророков, повелителем духов и стихий.
Бальсора и Багдад — города Малой Азии, в те времена важные центры мусульманской культуры.
Стр. 31. Кааба — по-арабски «куб», храм кубической формы, находящийся в центре Мекки. В стену его вделан «черный камень» (метеорит), считающийся священным.
Мансур Абу (серед. X в.) — иранско-таджикский писатель. Его версификация старинного эпоса («Книга царей») была использована Фирдоуси в знаменитой поэме «Шахнаме».
Стр. 32. …для захвата пустой гробницы. — Освобождение легендарного места погребения Христа (в Иерусалиме) из-под власти мусульман было одним из религиозных предлогов крестовых походов.
Ричард Английский Ричард I (1157–1199), король Англии (1189–1199), один из руководителей Третьего крестового похода. За смелость и воинские подвиги современники прозвали его Ричардом Львиное Сердце. Погиб во Франции через семь лет после окончания крестового похода, во время феодальной войны с Филиппом II Августом.
Саладин — Салах-ад-дин Юсуф (1138–1193), курдский феодал, впоследствии египетский султан, основатель династии Эйюбидов. Будучи проницательным государственным деятелем и смелым полководцем, Саладин в 60—70-х гг. XII в. покорил Египет, Сирию и ряд месопотамских государств. Вслед за тем Саладин начал военные действия против крестоносцев и в 1187 г. занял Иерусалим, оттеснив христианское войско в район сирийско-палестинского побережья. В 1192 г. он заключил выгодное для арабов перемирие с крестоносцами, которые вынуждены были отступить, так и не достигнув Иерусалима — главной цели своего похода. Вскоре после этих событий Саладин умер от лихорадки.
Стр. 33. Дамаск — один из древнейших городов Сирии.
Стр. 34 Абубекр Альвакель — сподвижник и тесть Мухаммеда, первый правоверный халиф («заместитель пророка»), правил с 632 по 634 г. Сумев предотвратить отход от ислама, начавшийся среди арабов после смерти Мухаммеда, он начал проводить завоевательную внешнюю политику. Под его руководством арабские войска вторглись в пределы Византии и Ирана.
Иезед бен-Софиан — богатый купец и рабовладелец из Мекки, сначала противник Мухаммеда, а затем один из его близких приближенных. Под его руководством начался захват Сирии арабами, завершенный при калифе Омаре (634–644).
Исса бен-Мариам — Иисус, сын Марии.
Стр. 37. Сельджуки — тюркское племя.
Стр. 40. Леон и Астурия — области Северной Испании.
Сион — гора близ Иерусалима В данном случае имеется в виду «святая» земля — Палестина.
Стр. 43. Рудаки — виднейший таджикско-иранский поэт X века (умер в 941 г.). Жил в Бухаре.
Стр. 44. Эблис — дьявол. По мусульманским верованиям, он некогда был ангелом, низвергнутым на землю за отказ поклониться Адаму после его сотворения аллахом.
Стр. 45. Зоххак (или Заххок) — легендарный завоеватель Ирана, установивший там свою тираническую власть, персонаж из поэмы Фирдоуси «Шахнаме». Джамшид — также персонаж из «Шахнаме», мифический царь древнего Ирана, в царствование которого на земле не было ни смертей, ни болезней. Джамшид был свергнут с престола пришельцем Зоххаком. В романе Скотта Зоххак ошибочно назван потомком Джамшида, хотя в легенде речь идет именно об иноплеменном (вероятно, арабском) завоевателе.
Истакар (Истахар) — в средние века название Персеполя, бывшей столицы древнего Ирана.
…подобно храброму Кузнецу и непобедимому Феридуну. Кузнец Кова и Феридун — персонажи из «Шахнаме». Кова поднимает народное восстание против жестокого царя Зоххака. Феридун — законный владыка Ирана из рода Джамшидов, свергнувший и сменивший тирана Зоххака.
Стр. 46. Джиннистан — мифическая страна духов (джиннов).
Пророк Гарун — библейский пророк Аарон, почитаемый также мусульманами. Согласно библейской легенде, брат Моисея Аарон убеждал фараона отпустить евреев из Египта, соревнуясь в доводах с египетскими мудрецами и чародеями. Во время этого спора он благодаря дарованной ему богом силе волшебства превратил свой жезл в змею, которая проглотила жезлы его соперников. Однако фараон не внял этому знамению и продолжал упорствовать.
Стр. 47. Ариман — олицетворение зла в древнеиранской мифологии.
Стр. 53. Магунд — искаженное имя Мухаммеда (Магомета).
Термагант — персонаж средневековых мистерий и фарсов, изображающий вымышленное мусульманское божество.
Стр. 57. …проповедям Петра Пустынника на Клермонском соборе… — В 1095 г. во Франции, в городе Клермоне состоялся съезд высшего духовенства, на котором с призывом к крестовому походу выступил папа Урбан II. Его призыв позднее был подхвачен фанатическим амьенским монахом Петром Пустынником, одним из вдохновителей Первого крестового похода.
Стр. 67. Кармелитский орден. — В 1156 г. на горе Кармель в Палестине, близ города Хайфы, была основана церковь монашеской общины, положившей начало ордену кармелитов.
Стр 72. …в лице «дочери венгерского короля»… — «Дочь венгерского короля» — название старинной английской народной баллады.
Стр. 73. Уортон Томас (1728–1790) — английский поэт.
Стр. 76. Геневра — супруга короля Артура, героя древнего кельтского эпоса и средневековых рыцарских романов. Смертельно раненный в бою, Артур был посажен тремя феями в ладью и уплыл с ними по морю на остров Авалон (в средневековом эпосе местопребывание волшебного царства фей).
Гвидо Иерусалимский — Гвидо Лузиньян, король Иерусалимского королевства (1186–1192).
Стр. 78. Аккра и Аскалон — крепости в Палестине, игравшие важную роль в эпоху крестовых походов.
Стр. 79. Филипп — французский король Филипп II Август (1165–1223), один из руководителей Третьего крестового похода, впоследствии противник Ричарда I, начавшего феодальную войну с Францией.
Стр. 80. …подобно воде Вифлеемского источника, предмету вожделения… царя Давида… — Имеется в виду библейский рассказ о сражении царя Давида с филистимлянами, отряд которых находился в Вифлееме Давид захотел пить, и трое смельчаков принесли ему воды из колодца, находившегося в стане врагов.
Стр. 85–86. Глупый австриец — Леопольд V (1157–1194), эрцгерцог австрийский, участник Третьего крестового похода. После штурма арабской крепости Аккры водрузил свое знамя на одной из башен захваченного города. Ричард I приказал сорвать это знамя и бросить его в грязь. На обратном пути из Палестины в 1192 г. Ричард I был захвачен в плен Леопольдом и через два года отпущен за крупный выкуп.
Стр. 86. Маркиз Монсерратский Конрад — маркграф одной из провинций Северной Италии, участник Третьего крестового похода, провозгласивший себя королем иерусалимским в 1191 г, что вызвало сильное недовольство Ричарда I. Убит фанатиком-мусульманином в 1192 г.
Тамплиеры (буквально — «храмовники») — духовно-рыцарский орден, основанный в начале XII в Получил свое наименование в связи с тем, что его резиденция находилась неподалеку от того места, где, по преданию, был храм Соломона. Военная деятельность ордена вскоре получила преобладание над монашеской, и его могущество непрерывно росло. Тамплиеры приобрели значительные земельные владения и богатства. Отличаясь крайней жестокостью и неразборчивостью в средствах, храмовники всячески усиливали свое политическое влияние. Это вызвало серьезный конфликт между ними и многими королями Европы, в частности с Ричардом I, который активно преследовал тамплиеров в Англии после своего возвращения из Третьего крестового похода.
Стр. 88. Жиль Амори — вымышленный автором персонаж.
Стр 90. «Битва при Оттерборне»— народная шотландская баллада о битве 1388 г., в которой шотландцы одержали победу над англичанами.
Стр. 91. Эдуард I (1239–1307) — английский король с 1272 г.
Вильгельм Шотландский — король Вильгельм (Уильям) Лев (1165–1214). В 1174 г. заключил договор о вассальном подчинении Шотландии английскому монарху.
Стр. 104. Поп Александр (1688–1744) — английский поэт времен классицизма
Стр. 108. Архиепископ Тирский Вильгельм (1130–1190) — один из организаторов Третьего крестового похода.
Стр 113. Хиджра — мусульманский год, состоящий из двенадцати лунных месяцев.
Стр. 122. Святой Андрей считается покровителем Шотландии.
Стр. 123. Святой Георгий считается покровителем Англии
Когда мы потеряли нашего благородного вождя… — Имеется в виду германский император Фридрих I Барбаросса (1152–1190), один из предводителей Третьего крестового похода, утонувший в Сирии при переправе через реку.
Стр. 124. Беренгария (ум. ок. 1230 г.) — королева Англии, дочь Санчо VI, короля Наварры. В 1191 г. вышла замуж за Ричарда I и сопровождала его в Третьем крестовом походе.
Стр. 130. Храбрый шотландец, который хотел без лестницы взобраться на небо… — Имеется в виду библейский рассказ о патриархе Иакове, увидевшем во сне лестницу, ведущую с земли на небо.
Стр. 131. В эпиграфе цитата из исторической хроники Шекспира «Генрих IV», ч. I (акт I, сц. 1).
Стр. 134. Латинское иерусалимское королевство — государство, основанное после Первого крестового похода (1096–1099) в Палестине и прибрежной полосе Сирии. Саладин почти полностью захватил это государство к 1187 г.
Готфрид Бульонский (1060–1100) — герцог Лотарингский (Бульон — название его замка), один из предводителей Первого крестового похода. После захвата Иерусалима стал правителем Иерусалимского королевства и принял титул «защитника гроба господня».
Стр. 135. Гиббон Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).
Ты клянешься храмом на горе Сион… — Имеется в виду храм Соломона, воздвигнутый на этой горе.
Стр. 141. …ожидал увидеть запутавшегося в чаще ягненка… — Скотт имеет в виду библейский рассказ о том, как Авраам хотел принести в жертву богу своего сына Исаака. Ниспосланный с небес ангел остановил Авраама и указал на запутавшегося в кустах ягненка, который и был принесен в жертву.
Молох — финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. Карфагенские жрецы сжигали людей в чреве раскаленного быка, олицетворяющего Молоха. В данном случае имеется в виду ненасытная, сжигающая человека страсть.
Стр. 142. Дэвид Линдсей (1490–1555) — шотландский поэт, последователь Чосера.
Стр. 147. Лев святого Марка — крылатый лев, эмблема евангелиста Марка, считающегося патроном Венеции. Изображен в гербе города Венеции.
Стр. 149. …внуку норманского ублюдка? — Имеется в виду норманский герцог Вильгельм (1027–1087), прозванный после покорения им Англии (в 1066 г.) Завоевателем. Известен также под прозвищем Батард (незаконнорожденный), ибо был незаконным сыном герцога Нормандии Роберта Дьявола. Вильгельм был предком Ричарда I.
Стр. 150. Безант — византийская золотая (а также серебряная) монета, распространенная в Европе во времена крестовых походов.
Стр. 159. Орифламма (букв, «золотое пламя») — старинное знамя французских королей. На его красном полотнище были вышиты языки золотого пламени. В битве это знамя должно было находиться впереди армии.
Стр. 162. Гей Джон (1685–1732) — английский поэт-сатирик.
Стр. 164. Мерлин и Могис — волшебники, персонажи из различных сказаний и романов о короле Артуре.
Стр. 171. Пресвитер Иоанн — властитель легендарного христианского государства в Азии или Африке.
Стр. 180. «Дон Себастьян» — трагедия английского писателя Джона Драйдена (1631–1700).
Стр. 183. «…Мухаммед… изгнанный из… Мекки, нашел пристанище у друзей в Медине». — Деятельность Мухаммеда вначале была враждебно встречена знатью и купцами в Мекке, опасавшимися, что его проповедь единобожия приведет к упадку культа Каабы и отрицательно отразится на их торговле с кочевыми языческими племенами. Поэтому Мухаммеду пришлось в 622 г. переселиться в город Медину (ныне — Саудовская Аравия).
Стр. 186. Генрих Шампанский — племянник и вассал Ричарда I, в дальнейшем король иерусалимский (1192–1197).
Стр. 187. …топора, подобного тому, какой снес ворота Аккры… — Аккра, город и порт в Западной Палестине, крупная арабская крепость, была взята крестоносцами в 1191 г. Ричард I лично участвовал в штурме города.
Стр. 189. Чаттертон Томас (1752–1770) — английский поэт, автор книги вымышленных старинных баллад.
Стр. 192. …между Эдуардом Первым и Третьим, силой навязавшими свое господство этой свободной стране… — В 1296 г. Эдуард I завоевал и включил в состав своего королевства значительную часть Шотландии. В 1333 г. Эдуард III (1312–1377, английский король с 1327 г.) нанес решительное поражение шотландцам при Хэлидон-хилле и захватил Южную Шотландию.
Стр. 194. …был одним из тех, кто, по словам Яго, «не стал бы служить богу, только потому, что так ему приказал дьявол» — «Отелло» Шекспира (акт I, сц. 1).
Стр. 211. …клянусь… святым Илией, основателем нашего ордена… — Первая церковь кармелитов была заложена около источника, носившего имя святого Илии. Этот святой считался покровителем ордена.
Баярд — легендарный рыцарский конь.
Стр. 214. «Альбумазар» — пьеса Т. Томкиса об Альбумазаре (805–885) — арабском астрономе и астрологе.
Диван — в данном случае совет сановников султана.
Дервиши — мусульманские монахи, обычно странствующие. Дервиши отличались фанатичностью и аскетизмом.
Стр. 215. Блондель — Блондель де Нель — менестрель Ричарда I. Когда Ричард находился в плену в Австрии, Блондель пересек всю Германию в поисках своего сюзерена и разыскал его. Имя Блонделя стало синонимом верности.
Стр. 220. …Мусса бен-Амрам ударил жезлом в скалу. — Имеется в виду библейская легенда о том, как пророк Моисей вызвал ударом жезла поток воды из скалы. Коран почитает Моисея как одного из пророков.
Стр. 224. …эманация Сатурна, грозящая тебе мгновенной и жестокой гибелью… — По представлениям средневековых астрологов, планеты, располагаясь в том или ином сочетании с созвездиями, оказывают влияние на судьбы людей. Так, например, астрологи верили, что знак Сатурна предвещает старость, болезни, горе, смерть.
Стр. 225. …зашипят его неуклюжие пальцы, сжимая раскаленный… шар! — Ричард имеет в виду средневековое испытание огнем.
Стр. 226. Ангел смерти остановился, как некогда у гумна Орны Иевусеянина… — Иевусеи — ханаанское горное племя. По библейской легенде, на гумне иевусеяиина Орны во время моровой язвы царь Давид видел ангела с мечом, обращенным на город. Как утверждает библия, на этом памятном месте и был сооружен иерусалимский храм.
Стр. 229. Тофет — место близ Иерусалима, куда свозились разные нечистоты и отбросы.
Стр. 230. Приходится звать бедных, ибо богатые отказались от пира. — Отшельник намекает на евангельскую притчу о пире у царского сына, на который не явились приглашенные, сославшись на свои домашние дела и торговлю. На пир были приглашены все те, кто встретился посланцам царя на дороге.
Фесвитянин — библейский пророк Илия, происходивший из города Фисвы.
Стр. 235. Елисей — библейский пророк, последователь Илии. Во время легендарного вознесения на небо Илия сбросил Елисею свою овчину.
Стр. 236. Ваал — «владыка», «господин», верховное божество семитских народов. Культ Ваала, символизировавшего производительные силы природы, отличался сладострастием и чувственностью. В данном случае приспешник Ваала означает «язычник», «идолопоклонник».
Стр. 242. Бо-Сеан — название черно-белого священного знамени тамплиеров, а также их боевой клич.
Стр. 244. Хариджиты (буквально — «восставшие») — радикально-демократическое направление в исламе, отражавшее недовольство широких слоев населения нестерпимым гнетом халифов. Хариджиты требовали выборности халифов и утверждали, что «нет халифов без воли народа». Некоторые исследователи образно называют их «пуританами ислама». Скотт односторонне изображает хариджитов одержимыми фанатиками, сторонниками политических убийств как главного решения спорных вопросов.
Стр. 256. Эзоп — греческий баснописец (VI в. до н. э.). Согласно преданию, Эзоп был рабом, впоследствии вольноотпущенником и отличался уродливой внешностью. Остроумие Эзопа вошло в поговорку.
…как лютня Исаака. — Исаак — библейский патриарх, сын Авраама и Сарры. Лютня Исаака в библии не упоминается. По-видимому, Скотт имеет в виду другой библейский персонаж — Давида, «игравшего на струнах перед царем Саулом».
Рустам (или Рустем) — один из героев древнеиранского эпоса.
…статую искуснейшего мастера, ожидающую, чтобы Прометей вдохнул в нее жизнь. — В античной мифологии Прометей — титан, похитивший у богов огонь и отдавший его людям. Согласно другой версии мифа, Прометей вылепил первых людей из глины.
Генрих VIII (1491–1547) — английский король (1509–1547).
Стр. 258. Джон (1167–1216) — брат Ричарда I. Когда Ричард после Третьего крестового похода оказался в плену у австрийского эрцгерцога Леопольда, принц Джон распространил слухи о смерти брата и попытался захватить королевскую власть, но его планы рухнули из-за возвращения Ричарда. После смерти Ричарда Джон стал королем Англии (1199–1216). Царствование его было крайне несчастливым: в результате феодальных войн Англия потеряла все свои владения во Франции, и король приобрел укрепившееся за ним в веках прозвище Джона (Иоанна) Безземельного.
Джеффри (1158–1186) — другой брат Ричарда I. Убит на турнире.
Стр. 259. Марабуты (мурабиты) — члены воинствующего мусульманского ордена монахов-дервишей.
Стр. 263. В эпиграфе цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (акт II, сц. 1).
Стр. 265. Мартынов день — 11 ноября.
Стр. 266. Терьяк — изобретенное в древности противоядие. Орвиетский терьяк, или орвиетан, — средство, изобретенное в итальянском городе Орвието в XVII в., так что упоминание о нем у Скотта является анахронизмом.
Стр. 273. Юсуф бен-Ягубе — Иосиф, сын Иакова. По библейской легенде, Иосиф был продан своими братьями в рабство и попал в Египет. Впоследствии благодаря своему умению толковать сны он приобрел доверие фараона и стал правителем Египта. Много лет спустя его братья прибыли по торговым делам в Египет, но Иосиф не стал мстить им и призвал в Египет отца и всех своих родственников.
Стр. 276. Сулейман бен-Дауд — библейский царь Соломон, сын Давида. В библии он изображен как великий мудрец, прославившийся умением решать самые спорные вопросы, а у мусульман почитается как пророк и обладатель волшебного перстня, на котором вырезано важнейшее из девяноста девяти имен аллаха.
Стр. 277. Мухаммед — пророк бога… — Это важнейший постулат ислама, подразумевающий всеединую сущность божества и направленный как против языческого многобожия, так и против иных монотеистических религий (например, христианства).
Стр. 282. Борак, конь пророка — сказочное животное, напоминающее кентавра. Согласно легенде, Мухаммед молниеносно переносился на этом волшебном коне из Мекки в Иерусалим и другие города.
…Али, его родственнику и сподвижнику… — Али, зять Мухаммеда, четвертый халиф (656–661), убит хариджитами во время смуты, вызванной обострением социальных противоречий в арабском халифате.
Стр. 289. Заккум — по мусульманским верованиям, дерево, растущее из глубин ада. Его плоды — головы дьяволов.
Стр. 294. Локман (Лукман) — имя, под которым известен в мусульманских странах греческий баснописец Эзоп. Одна из глав корана, содержащая приписываемые Эзопу поучения и притчи, называется «Лукмаи».
Стр. 296. Докиуджи — имя одного из джиннов (злых или добрых духов) из сказок «Тысяча и одна ночь». Перстень Джиуджи — талисман, дающий его владельцу способность быть невидимым. Тем же свойством, по античному мифу, отличалось и кольцо пастуха Гига.
Стр. 297. Генрих II — король Англии (1154–1189), отец Ричарда Львиное Сердце.
Розамунда из Вудстока — Розамунда Клиффорд (ум. в 1176 г), прозванная Прекрасной Розамундой, любовница Генриха II, от которого имела двух сыновей — Уильяма, графа Солсбери (действующее лицо романа), и Джеффри.
Стр. 309. Молитва об избавлении от власти пса. — Имеется в виду один из псалмов библейского царя Давида, сочиненный им в то время, когда он спасался от преследований жестокого и безумного царя Саула. Слова об избавлении от власти пса звучат в данном контексте двусмысленно и иронически: гроссмейстер ордена тамплиеров намекает не только на избавление от власти Ричарда, но и на собаку Кеннета, разоблачившую преступление Конрада Монсерратского.
Стр 312. В эпиграфе отрывок из стихотворения английского поэта Ричарда Лавлейса (1610–1643).
Тристрем и Изулт — Тристан и Изольда, герой и героиня средневековых поэм и рыцарских романов, в которых повествуется о том, как эти двое влюбленных сохранили на всю жизнь свое чувство, несмотря на постигшие их тяжелые испытания.
Стр. 317. Копты — потомки исконных обитателей Египта, принявшие христианство.
Стр. 320. Цехин — старинная венецианская золотая монета, дойт — мелкая голландская монета, мараведис — испанская.
Стр. 325. Старого кипрского из подвалов короля Исаака, которое мы захватили при штурме Фамагусты. — Фамагуста — столица Кипра, который в то время принадлежал Византии. Исаак, один из представителей византийской династии Комнинов, бежал после дворцового переворота в 1185 г. на Кипр и стал его королем. Отряд крестоносцев, направлявшийся во главе с Ричардом в Палестину, захватил Кипр в 1191 г. После этого Ричард I провозгласил себя королем Кипра.
Стр. 329. Беневент — город в Южной Италии, к северо-востоку от Неаполя.
Стр. 344. Два доблестных монарха… обнялись затем как братья… — Ричард I и Саладин действительно обменивались подарками и пытались договориться о личной встрече. Однако встреча эта в действительности не состоялась. Упоминание о ней в романе является вымыслом Скотта.
Стр. 345. Уэстминстер-холл — здание в Лондоне, где в средние века заседал английский парламент.
Стр. 348. Эскалибар (или Эскалибур) — так назывались два меча легендарного короля Артура. Один из них он вытащил из скалы, другой ему вручила фея озера. Средневековые предания приписывали Ричарду I обладание одним из этих мечей, якобы доставшимся ему по наследству от предков.
Стр. 351. Ширазское вино. — Шираз — город в Южном Иране.
Стр. 356. Грей Томас (1716–1771) — английский поэт.
Стр. 369. Сент-Ниниан — знаменитое в середине века аббатство близ города Стерлинга в Шотландии.
Язычники Боруссии — литовские племена, жившие на юго-восточном побережье Балтийского моря. Боруссия — старинное название Пруссии.
Стр. 370. Синедрион — высшее государственное учреждение и судилище древних евреев в Иерусалиме. В данном случае — божий суд.
Сгр. 375. …с кровью, хлыну вшей из вен. — Скотт воспользовался здесь сообщением историка крестовых походов Бернарда Казначея о том, что Саладин собственноручно казнил пленного крестоносца — герцога Рейнольда, запятнавшего себя насилиями над мирным арабским населением. Обстоятельства этой казни были весьма сходны с описанными в романе: Саладин ударом сабли обезглавил своего врага, когда тот подносил к губам чашу с шербетом.
…им был заколот… Конрад Монсерратский… — В действительности Конрад был убит рукой араба-фанатика. Современники подозревали, что подстрекателем убийства был король Ричард Львиное Сердце.
Ю. ПЕТРОВСКИЙ
ПОЭМЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ
Для большинства советских читателей Вальтер Скотт — прежде всего романист. Разве что «Разбойник» Э. Багрицкого — блестящий вольный перевод одной из песен из поэмы «Рокби» — да та же песня в переводе И. Козлова, звучащая в финале романа «Что делать?», напомнят нашему современнику о Вальтере Скотте-поэте. Быть может, мелькнет где-то и воспоминание о «Замке Смальгольм» Жуковского — переводе баллады Скотта «Иванов вечер». Пожалуй, это и все.
Между тем великий романист начал свой творческий путь как поэт и оставался поэтом в течение всей своей многолетней деятельности. В словесную ткань прозы Скотта входят принадлежащие ему великолепные баллады, и песни, и стихотворные эпиграфы. Многие из них, обозначенные как цитаты из старых поэтов, на самом деле сочинены Скоттом — отличным стилизатором и знатоком сокровищ английской и шотландской поэзии. Первая известность Скотта была известность поэта. В течение долгих лет он был поэтом весьма популярным; Н. Гербель в своей небольшой заметке о поэзии Скотта в книге «Английские поэты в биографиях и образцах» (1875) счел нужным напомнить русскому читателю, что поэма «Дева озера» выдержала в течение одного года шесть изданий и вышла в количестве 20 тысяч экземпляров и что та же поэма в 1836 году вышла огромным для того времени тиражом в 50 тысяч. Когда юный Байрон устроил иронический смотр всей английской поэзии в своей сатире «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), он упомянул о Скотте сначала не без насмешки, а затем — с уважением, призывая его забыть о старине и кровавых битвах далеких прошлых дней для проблематики более острой и современной. Скотта-поэта переводили на другие европейские языки задолго до того, как «Уэверли» положил начало его всемирной славе романиста.
Итак, поэзия Скотта — это и важный начальный период его развития, охватывающий в целом около двадцати лет, если считать, что первые опыты Скотта были опубликованы в начале 1790-х годов, а «Уэверли», задуманный в 1805 году, был закончен только в 1814 году; это и важная сторона всего творческого развития Скотта в целом. Эстетика романов Скотта тесно связана с эстетикой его поэзии, развивает ее и вбирает в сложный строй своих художественных средств. Вот почему в настоящем собрании сочинений Скотта его поэзии уделено такое внимание. Поэзия Скотта интересна не только для специалистов, занимающихся английской литературой, — они смогли бы познакомиться с нею и в подлиннике, — но и для широкого читателя. Тот, кто любит Багрицкого, Маршака, Всеволода Рождественского, кто ценит старых русских поэтов XIX века, с интересом прочтет переводы поэм и стихов Скотта, представленных в этом издании.
Объем издания не позволил включить все поэмы Скотта (из девяти поэм даны только три). Но все же читатель получает представление о масштабах и разнообразии поэтической деятельности Скотта. Наряду с лучшими поэмами Скотта включены и некоторые его переводы из поэзии других стран Европы (баллада «Битва при Земпахе»), его подражания шотландской балладе и образцы его оригинальной балладной поэзии, а также некоторые песни, написанные для того, чтобы они прозвучали внутри большой поэмы или в тексте драмы, и его лирические стихотворения.
Скотт-юноша прошел через кратковременное увлечение античной поэзией. Однако интерес к Вергилию и Горацию вскоре уступил место устойчивому разностороннему — научному и поэтическому — увлечению поэзией родной английской и шотландской старины, в которой Скотт и наслаждался особенностями художественного восприятия действительности и обогащался народным суждением о событиях отечественной истории.
Есть все основания предполагать, что интерес к национальной поэтической старине у Скотта сложился и под воздействием немецкой поэзии конца XVIII века, под влиянием идей Гердера. В его книге «Голоса народов» Скотт мог найти образцы английской и шотландской поэзии, уже занявшей свое место среди этой сокровищницы песенных богатств народов мира, и — в не меньшей степени — под влиянием деятельности поэтов «Бури и натиска», Бюргера, молодого Гёте и других. Переводы из Бюргера и Гёте были первыми поэтическими работами Скотта, увидевшими свет. О воздействии молодой немецкой поэзии на вкусы и интересы эдинбургского поэтического кружка, в котором он участвовал, молодой Скотт писал как о «новой весне литературы».
Что же так увлекло Скотта в немецкой балладной поэзии? Ведь родные английские и шотландские баллады он, конечно, уже знал к тому времени по ряду изданий, им тщательно изученных. Очевидно, молодого поэта увлекло в опытах Гёте и Бюргера то новое качество, которое было внесено в их поэзию под влиянием поэзии народной. Народная поэзия раскрылась перед Скоттом через уроки Гёте и Бюргера и как неисчерпаемый клад художественных ценностей и как великая школа, необходимая для подлинно современного поэта, для юного литератора, стоящего на грани столетий, живущего в эпоху, когда потрясенные основы классицизма уже рушились и когда во многих странах начиналось движение за обновление европейской поэзии. Недаром молодой Скотт выше всех других родных поэтов ценил Роберта Бернса. В его поэзии Скотт мог найти поистине органическое соединение фольклорных и индивидуальных поэтических средств.
В 1802–1803 годах тремя выпусками вышла большая книга Скотта «Песни шотландской границы». К славной плеяде английских и шотландских фольклористов, занимавшихся собиранием и изучением народной поэзии, прибавилось еще одно имя. Книга Скотта, снабженная содержательным введением, рядом интересных заметок и подробным комментарием, а иногда также и записью мелодий, на которые исполнялась та или иная баллада, стала событием не только в европейской литературе, но и в науке начала XIX века. «Border» — «граница», или — точнее — «пограничье», — край, лежавший между Англией и Шотландией; во времена Скотта в нем еще жили рассказы и воспоминания о вековых распрях, не затухавших среди его вересков, болот и каменистых пустошей. Именно здесь разразилась кровавая драма семейств Дугласов и Перси, представлявших шотландскую (Дугласы) и английскую (Перси) стороны. Лорд Генри Перси Хотспер (Горячая Шпора) из драмы «Король Генрих IV» Шекспира — сын разбойных и романтичных пограничных краев, и это сказывается в его неукротимой и буйной натуре.
Граница была в известной мере родным для Скотта краем. Здесь жил кое-кто из его родного клана Скоттов, принадлежностью к которому он гордился. Здесь пришлось жить и трудиться в качестве судебного чиновника и ему самому. Объезжая на мохнатой горной лошаденке одинокие поселки и фермы Границы, бывая в ее городках и полуразрушенных старых поместьях, Скотт пристально наблюдал умирающую с каждым днем, но все еще живую старину, порою уходившую в такую седую древность, что определить ее истоки было уже невозможно. Кельты, римляне, саксы, датчане, англичане, шотландцы прошли здесь и оставили после себя не только ржавые наконечники стрел и иззубренные клинки, засосанные торфяными болотами, не только неуклюжие постройки, будто сложенные руками великанов, но и бессмертные образы, воплотившиеся в стихию слова, в название местности, в имя, в песню.
Скотт разыскивал еще живых народных певцов, носивших старинное феодальное название менестрелей, или тех, кто что-нибудь помнил об их искусстве, и бережно записывал все, что еще сохранила народная память — текст, припев, мелодию, присказку, поверье, помогавшее понять смысл песни. Народные баллады, которые Скотт разделил на «исторические» и «романтические», составили две первые части издания.
Не менее интересна была и третья часть книги, в которую вошли «имитации» народных баллад, среди них — «Иванов вечер», «прекрасная баллада Вальтера Скотта, прекрасными стихами переведенная Жуковским», как писал Белинский. По его мнению, эта баллада «поэтически характеризует мрачную и исполненную злодейств и преступлений жизнь феодальных времен».[38]
Вдумаемся в эти слова Белинского. В них содержится очень точная оценка всей оригинальной балладной поэзии Скотта — она действительно была «поэтической характеристикой» той или иной эпохи английского и шотландского средневековья. Именно характеристикой эпохи, вложенной иногда в рамки баллады, иногда — в пределы целой поэмы.
Работа над собиранием баллад, их изучением и творческим усвоением была только началом того пути, на котором Скотт развил свое искусство характеризовать эпоху — это филигранное и для тою времени, бесспорно, живое мастерство воскрешения прошлого, завоевавшее ему, по словам Пушкина, имя «шотландского чародея».
Переход от жанра баллады к жанру поэмы был вполне закономерен. Могучему эпическому сознанию поэта стало тесно в рамках краткого повествования. Как человек своего времени, увлеченный новым представлением об истории, выстраданным в долгих мыслях о бурной эпохе, в которую он жил, Скотт выступил как новатор в самом жанре поэмы.
Именно он, по существу, окончательно победил старую классицистическую эпопею, представленную в английской литературе конца XVIII века необозримой продукцией стихотворцев-ремесленников.
Девять поэм Скотта[39] — целый эпический мир, богатый не только содержанием и стихотворным мастерством, строфикой, смелой рифмой, новаторской метрикой, обогащенной занятиями народным стихом, но и жанрами. Так, например, в поэме «Песнь последнего менестреля» воплощен жанр рыцарской сказки, насыщенной веяниями европейской куртуазной поэзии, великим знатоком которой был Скотт. Поэма «Дева озера» — образец поэмы исторической, полной реалий и подлинных фактов В основе ее действительное событие, конец дома Дугласов, сломленных после долгой борьбы суровой рукою короля Иакова II, главного героя поэмы Скотта.
Этот жанр исторической поэмы, богатой реалистическими картинами и живыми пейзажами, полнее всего воплощен в поэме «Мармион», которая, как и «Властитель островов», повествует о борьбе шотландцев против английских завоевателей, и особенно в поэме «Рокби». От «Рокби» открывается прямой путь к историческому роману Скотта. Несколько вставных песен из этой поэмы помещены в настоящем томе и дают представление о многоголосом, глубоко поэтическом звучании «Рокби».
Другие жанры представлены «Видением дона Родерика» и «Гарольдом Бесстрашным». «Видение» — политическая поэма, переносящая в сон вестготского короля Испании Родериха картины будущих событий истории Испании, вплоть до эпопеи народной войны против французов, за которой Скотт следил со всем вниманием британского патриота и врага Наполеона. «Гарольд Бесстрашный» — относительно менее интересная поэма, написанная по мотивам скандинавских саг.
Первые поэмы Скотта предшествовали появлению и триумфу поэм Байрона.[40] В истории европейской романтической лироэпической поэмы роль Скотта очень велика и, к сожалению, почти забыта.
Небольшая поэма «Поле Ватерлоо» написана по свежим следам великой битвы, разыгравшейся здесь. Нельзя не сопоставить картину сражения в этой неровной, но во многом новаторской поэме Скотта с двумя другими образами битвы при Ватерлоо, созданными его современниками — с «Одой к Ватерлоо» Роберта Саути и строфами, посвященными Ватерлоо в третьей песни «Странствований Чайлд-Гарольда». Саути в этой оде превзошел самого себя по части официального британского патриотизма и елейного низкопоклонства перед лидерами Священного союза. Байрон создал потрясающее обобщенное изображение побоища, тем более поражающего своей символикой, что ему предпослана весьма реалистическая картина Брюсселя, разбуженного канонадой у Катр-Бра — предвестьем битвы при Ватерлоо.
Скотт пытался дать исторически осмысленную картину события, которое — на его взгляд, вполне закономерно — оборвало путь человека, имевшего все задатки стать великим, но погубившего себя и свою страну. Особенно важны строфы, посвященные английским солдатам, подлинным героям битвы, стойко умиравшим вплоть до того момента, когда подход армии Блюхера драматически решил исход сражения. Понятие «мы», звучащее в этой поэме Скотта, обозначает его представление о единстве нации, выраженном в тот день в ее железной воле к победе. Русскому читателю поэмы Скотта не может не броситься в глаза интонация, сближающая некоторые лучшие строфы «Поля Ватерлоо» с «Бородином» Лермонтова. Это ощущение явной близости делает «Поле Ватерлоо» для русского читателя особенно интересным — при очевидном превосходстве «Бородина», этого великого, народного по своему содержанию произведения.
Шли годы. Появлялись роман за романом Скотта. Вырос Эбботсфорд — прославленная резиденция шотландского чародея. А он не переставал писать стихи, о чем свидетельствуют и песни, появляющиеся в его драмах (драмы Скотта написаны тоже стихами), и стихотворения 1810-х и 1820-х годов, многие из которых представлены в нашем томе.
В 1830 году Скотт переиздал свой сборник «Песни шотландской границы», снабдив его пространным предисловием под заглавием «Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских (преимущественно шотландских) баллад» (см. т. 20 настоящ. издания). В нем была не только историческая справка об изучении баллады в Англии и особенно в Шотландии: это предисловие дышит глубокой поэтичностью, живой, творческой любовью к тому, о чем пишет старый художник.
Вальтер Скотт остался поэтом до последних лет своей жизни.
ПОЭМЫ
ПЕСНЬ ПОСЛЕДНЕГО МЕНЕСТРЕЛЯ
События начала поэмы относятся к исходу XVII в. Вступление и отдельные отрывки в концах глав полны отголосков недавней гражданской войны и намеками на них. Нет сомнений в том, что и сам Последний менестрель и приютившие его хозяева замка — сторонники Стюартов, якобиты. Это хорошо известная Скотту среда шотландского дворянства, описанная во многих его романах.
События повести, вложенной в уста старика, относятся, как писал Скотт в кратком предисловии к поэме, к середине XVI в., когда некоторые из персонажей, упоминаемых в поэме, были известны в Шотландии. Пограничные распри шотландских и английских рыцарей — излюбленная тема поэм Скотта.
Стр. 384. Баклю — шотландский род, игравший важную роль в пограничных битвах.
Стр. 387. …Кресты Георгия святого… — На знамени и доспехах англичан был изображен крест святого Георгия («Святой Георгий!» — боевой клич англичан). Боевое знамя шотландцев было украшено синим косоугольным крестом святого Андрея.
Стр. 389. …И не отбрасывал он тени… — По средневековому суеверью, дьявол не отбрасывает тени. Это поверье распространялось и на людей, о которых ходила молва, что они продали душу дьяволу. Здесь идет речь о дальнем предке Скотта, легендарном шотландском волшебнике; он был настолько известен в средневековой Европе, что Данте счел нужным поместить его в аду, среди прочих грешников.
Стр. 392. …Собьет он спесь с Единорога, Возвысит Месяц и Звезду. — То есть принесет победу Шотландии. Единорог — одно из геральдических изображений в английском гербе, Месяц и Звезда — геральдический символ шотландских рыцарей.
Стр. 393. Ищейки Перси. — Имеются в виду слуги дома Перси, которые, как и слуги шотландских феодалов Дугласов, действовали на границе и искали повода для нападений и грабежей.
Стр. 402. Под белым крестом сражался и я… — Рыцарь был участником крестового похода или какого-нибудь предприятия, связанного с войной против мусульманских государств на Ближнем Востоке.
Стр. 434. Аккра — см, прим. к стр. 187.
Эскалада — штурмовая лестница (в момент штурма пускались в ход лестницы, приставленные к стенам замка).
Стр. 440. …И Галилея и Сион… — Намеки на события крестовых походов: Галилея — область в Палестине, где развертывались многие сражения в эпоху крестовых походов; Сион — Иерусалим, временно захваченный крестоносцами.
Стр. 446. …сбит был …Плантагенет. — Упоминание о старых англо-шотландских распрях. Во время так называемой Столетней войны (1337–1453) между Францией и Англией многие шотландские рыцари служили французской короне. Один из них, Суинтон, в стычке при Боже во Франции выбил из седла брата короля Генриха V Плантагенета, герцога Кларенса. В описании пограничной битвы против англичан копье, которым выбили из седла английского принца королевской крови, упоминается как реликвия.
Стр. 468. Фицтрейвер — поэт-рыцарь, одно время находившийся при дворе Генриха VIII. Фицтрейвер подвергался преследованиям за верность католическому вероисповеданию.
Саррей (собственно, Сарри) Генри Говард, граф Сёрри (1517–1547) — блестящий политический деятель, полководец и поэт, казненный Генрихом VIII.
ДЕВА ОЗЕРА
«Дева озера» — одна из характерных поэм В. Скотта, в которой переплетена историческая быль — повесть о том, как шотландский король Иаков II Стюарт усмирил род Дугласов, — с народными преданиями о Дугласах и о самом короле, будто бы любившем странствовать по Шотландии в одежде простого охотника. В поэме он называется Фиц-Джеймс — «сын Джеймса», это звучит как распространенная в английском дворянстве после 1066 г. (а позже и в шотландском) англо-французская форма родового имени, в данном случае объясняемая тем, что король Иаков был действительно «сыном Джеймса»: так звали и его отца, короля Иакона I (по-английски — Джеймс).
Стр. 514. …у саксонских вдов… — Речь идет о распрях между областями равнинной Шотландии со смешанным англо-шотландским населением (с преобладанием английского) и Шотландии горной, куда ушли кельтские (гэльские) кланы, вытесненные пришельцами-англичанами. Саксы — распространенное в кельтских языках и диалектах название для англичан, по племенному имени саксов, составлявших некогда большинство среди германских племен (англы, юты, саксы), завоевавших и заселивших Британию, а затем вторгшихся в Каледонию (Шотландию). Саксонские вдовы — в данном случае женщины равнинной Шотландии с ее смешанным англо-кельтским населением.
Стр. 531. Бэн-ши — сказочные феи кельтских поверий.
Стр. 545. Уриски — в кельтской мифологии существа, напоминающие, по словам Скотта, сатиров («уриск, или гайлендский сатир», — писал он в примечаниях к поэме).
ПОЛЕ ВАТЕРЛОО
Скотт написал эту небольшую поэму после посещения места битвы при Ватерлоо, происшедшей 18 июня 1815 г.
Стр. 624. Угумон — ферма в районе боевых действий, разыгравшихся в день битвы при Ватерлоо между деревнями Бель-Альянс и Ватерлоо. За ферму Угумон, превращенную англичанами в укрепленный пункт, велись ожесточенные бои.
Стр. 627. А Тот — отчизны щит и меч… — Имеется в виду герцог Веллингтон, при Ватерлоо командовавший английскими и голландскими войсками.
Стр. 629. …Войска победные Груши? — Маршал Груши, один из военачальников Наполеона, сбился с дороги, опоздал к битве при Ватерлоо и, узнав о поражении, отступил, так и не соединившись с войсками императора, который начал битву в твердой надежде на своевременный подход колонны Груши. Зато, потеряв тысячи человек отставшими, прусский фельдмаршал Блюхер форсированным маршем вырвался на помощь к англичанам и ударил во фланг Наполеону в тот момент, когда Наполеон уже исчерпал свои основные силы в бесплодных попытках сбить англичан с их позиций. В первые минуты появления пруссаков на опушке леса, откуда они выходили, французы приняли их за войска Груши, что еще больше способствовало успеху частей Блюхера.
Стр. 630. Маренго, Лоди, Ваграм — места сражений, в которых Наполеон одержал блестящие победы над австрийцами.
Стр. 632. …Под Лейпцигом, когда без сил Тобой союзник брошен был И трупов полная река Приняла тело поляка. — Один из вождей польских вооруженных сил, входивших в состав армии Наполеона, Станислав Понятовский, утонул при переправе через реку Эльстер в битве при Лейпциге, где он прикрывал со своими частями отступление основных сил французской армии, разбитой в так называемой Битве народов (16–18 октября 1813 г.). Многие винили в смерти Понятовского французское командование, преждевременно взорвавшее мост через Эльстер.
Стр. 636. Азенкур и Кресси — населенные пункты, вблизи которых разыгрались знаменитые битвы Столетней войны. В обеих битвах англичане нанесли решительное поражение феодальному французскому ополчению. Победы при Кресси (1346) и Азенкуре (1413) надолго определили ход войны во Франции с перевесом для англичан. Но Скотт считает, что Ватерлоо затмило более давние успехи британского оружия.
СТИХОТВОРЕНИЯ
БАЛЛАДЫ
Гленфинлас
Эта баллада была напечатана в третьей части сборника «Песни шотландской границы», в разделе «Подражания древним балладам». Впервые она появилась в книге «Чудесные рассказы» (1801), изданной при участии Скотта М. Льюисом, известным писателем конца XVIII в., автором романа «Монах». Скотт приложил к ней мелодию, на которую написал «Гленфинлас».
Стр. 641. Коллинз Уильям (1721–1759) — один из выдающихся поэтов, подготовивших формирование английского преромантизма. Скотта роднит с Коллинзом острое поэтическое чувство природы, живой интерес к образам народной поэзии, сочетавшийся у Коллинза с широким использованием образов античной мифологии.
Иванов вечер
Это стихотворение помещено в том же издании «Песен шотландской границы». Как вспоминал Скотт, его сюжет был навеян рассказами о развалинах старого замка и монастыря, находившихся поблизости от места, где жила бабка Скотта.
Стр. 649. Боклю (Баклю) — см. прим. к стр. 384.
Стр. 650. Анкрамморския битвы барон не видал… — Имеется в виду битва при Анкрам-Муре в 1545 г. между английским полководцем лордом Эверсом и шотландскими рыцарями под предводительством Баклю и Дугласа.
Замок Кэдьо
«Замок Кэдьо» также входит в третью часть «Песен шотландской границы», охватывающую «имитации» народных баллад, то есть собственные стихотворения Скотта, написанные по их мотивам.
Стр. 655. Посвящается высокочтимой леди Анне Гамилътон. Посвящение адресовано представительнице старинного рода Гамильтонов, дочери герцога Арчибалда Гамильтона. В предисловии к этой балладе, напечатанном в книге «Песни шотландской границы», Скотт описывает поэтические руины замка Кэдьо, принадлежавшие семейству Гамильтон, и рассказывает о сохранившемся до его времен великолепном парке. Поэт сочувственно говорит о верности рода Гамильтсшов династии Стюартов и, в частности, Марии Стюарт.
Стр. 659. Нокс Джон (1505–1572) — выдающийся руководитель реформации в Шотландии, противник шотландского абсолютизма, возглавлявший борьбу прогрессивных сил против королевы Марии Стюарт. Талантливый проповедник и публицист.
Владыка огня
В примечании к этой балладе Скотт утверждает, что она была написана по предложению Льюиса для сборника «Чудесные рассказы». При этом Скотт не оговаривает источника, откуда заимствован сюжет, но вскользь упоминает, что в основе его лежит подлинная история рыцаря ордена храма (тамплиера), некоего Сент-Альбана, перешедшего на сторону сарацин и причинившего много бед христианам.
Стр. 663. Курды. — Эти горные племена, населявшие и населяющие ныне некоторые территории Ирака, в эпоху крестовых походов были втянуты в борьбу между крестоносцами и арабскими феодалами, в которой они участвовали и как наемники и как самостоятельная сила.
Стр. 665. Болдуин. — Не вполне ясно, о каком из трех королей Иерусалима, носивших это норманское имя, идет речь: трое первых носителей этого имени (Болдуин Первый, царствовавший с 1100 по 1118 г., Болдуин II, с 1118 по 1131 г. и Болдуин III, с 1144 по 1162 г) вели постоянные войны в пределах своего государства и на его границах, и их быт и привычки все теснее связывались с обычаями завоеванной ими страны. Мусульманское воинство также проникалось влиянием западноевропейских рыцарских обычаев. Именно такую ситуацию, в которой переплелись культурные традиции западного и арабского, ближневосточного феодализма рисует баллада Скотта. В таких обстоятельствах переход рыцаря-тамплиера на сторону мусульман был явлением, не раз зафиксированным историей. При этом он не обязан был изменять своей религии.
Замок семи щитов
Стр 666. Друиды — в кельтском обществе эпохи родового строя и в пору его распада — жрецы, хранители религиозных традиций, прорицатели и духовные наставники, пользовавшиеся почетом в кельтской общине.
Битва при Зенпахе
В битве при Земпахе (9 июля 1386 г.) ополчение нескольких швейцарских кантонов нанесло тяжелое поражение спешенной коннице австрийского эрцгерцога Леопольда, претендовавшего на владение этими кантонами. В этой битве совершил свой подвиг легендарный швейцарский патриот Винкельрид, герой ряда литературных произведений
Стр. 673. Альберт-башмачник — Альберт Чуди, полулегендарный швейцарский мейстерзингер. Он считается автором первого поэтического произведения, воспевшего подвиг Винкельрида.
РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Победная песнь
Отрывок из драмы Скотта «Дом Аспенов», которая, как свидетельствует в предисловии к ней Скотт, писалась, очевидно, в самом конце XVIII в. (1799?), когда молодой поэт был увлечен Гёте, Гердером и Шиллером и немецким средневековьем. В предисловии 1829 г. к изданию этой пьесы Скотт не скрывает того, что в то время он был под сильным влиянием немецкой драматургии «Бури и натиска», и рассматривает «Дом Аспенов» как произведение во многом подражательное. Действие происходит в семье Аспенов в Баварии.
Умирающий бард
Стр. 678. Телиссин, Мерлин, Льюарч, Мейлор — имена бардов и кудесников, известных в преданиях древних кельтов.
Песня пажа
Отрывок из поэмы «Мармион» (III, 10).
Лохинвар
Отрывок из поэмы «Мармион» (V, 12).
К луне
Отрывок из поэмы «Рокби» (I, 33).
«Мила Брайнгельских тень лесов…»
Отрывок из поэмы «Рокби» (III, 16).
«О дева! Жребий твой жесток…»
Отрывок из поэмы «Рокби» (III, 28).
Аллен-э-дейл
Отрывок из поэмы «Рокби» (III, 30).
Кипарисовый венок
Отрывок из поэмы «Рокби» (V, 13).
Арфа
Отрывок из поэмы «Рокби» (V, 18).
Прощание
Отрывок из поэмы «Рокби» (V, 23).
Инок
Отрывок из поэмы «Рокби» (V, 27).
Резня в Гленко
Стихотворение это, в отличие от баллад, написано на историческую тему. Поэт рассказывает о подлинном событии, имевшем место в 1692 г. В стихотворении ясно сказываются симпатии Скотта к шотландскому населению, порабощаемому английскими завоевателями.
Прощание с Маккензи
В основе стихотворения лежит гэльская баллада, восходящая к событиям 1718 г., когда граф Сифорт, один из вождей клана Маккензи, был вынужден покинуть родину после неудачного восстания, поднятого им во имя династии Стюартов.
Джок из Хэзелдина
Как сообщает Скотт, «первая строфа этой баллады — древняя». Остальные написаны в 1816 г. «для антологии мистера Кембела» — сборника стихов известных в начале века английских поэтов.
Клятва Норы
Написано для той же антологии по мотивам старинной гэльской песни, о чем Скотт пишет в примечании, оговаривая отличие своего стихотворения от оригинала.
Военная песня клана Макгрегор
Скотт замечает, что песня написана на старинную, «очень дикую и все еще живущую мелодию».
Прощальная речь мистера Кембла
Написано для эдинбургского кружка друзей и почитателей выдающегося актера Джона Кембла (1757–1823), известного исполнителя шекспировских ролей, близкого знакомого Скотта и ценителя его драматургических опытов. Стихотворение посвящено спектаклю «Макбет», в котором Кембл играл заглавную роль, избрав ее специально для прощания с шотландскими зрителями и восхитив еще раз эдинбургскую публику, высоко ценившую этого актера. После этого спектакля, в апреле 1817 года, Кембл уехал из Эдинбурга. Прощальное послание Скотта появилось тогда же, в апреле 1817 года.
Похоронная песнь Мак-Криммона
Скотт сообщает, что Мак-Криммон — наследственный волынщик при лэрде Мак-Леоде — сочинил эту песнь перед особенно опасным походом своего клана, из которого не надеялся вернуться живым.
Доналд Кэрд вернулся к нам
Стихотворение, близкое к народной песне, воспроизводящее ее метрику и строфику.
Прощание с музой
Образец светской лирики Скотта. Со временем «Прощание» стало популярным романсом, положенным на музыку шотландским композитором Джорджем Кинлок оф Кинлок.
«Идем мы с войны…»
Песня из пьесы «Окиндрейн, или Эрширская трагедия» (I, 1)
«Закат окрасил гладь озер…»
Песня из драмы «Проклятие Деворгойла» (I, 1).
«Мы с детства сроднились с тревожной трубою…»
Песня из драмы «Проклятие Деворгойла» (I, 1),
«Тверда рука и зорок глаз…»
Песня из драмы «Проклятие Деворгойла» (I, 1).
«Как бы ветры ни гудели…»
Песня из драмы «Проклятие Деворгойла» (I, 2).
«Когда друзья сойдутся в круг…»
Песня из драмы «Проклятие Деворгойла» (II, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Покаяние
Вольный перевод незаконченной баллады Скотта «Серый монах».
Суд в подземелье
Отрывок из поэмы «Мармион» (песнь II).
Разбойник
Отрывок из поэмы «Рокби» (III, 16). Ср. перевод И. Козлова в разделе «Разные стихотворения» («Мила Брайнгельских тень лесов..»).
Р. САМАРИН
СОДЕРЖАНИЕ
ТАЛИСМАН
Предисловие...............................7
Глава I.......................................14
Глава II......................................21
Глава III.....................................35
Глава IV.....................................60
Глава V......................................73
Глава VI.....................................78
Глава VII....................................90
Глава VIII...................................104
Глава IX.....................................117
Глава X......................................131
Глава XI.....................................142
Глава XII....................................162
Глава XIII....................................170
Глава XIV....................................180
Глава XV....................................189
Глава XVI....................................198
Глава XVII...................................204
Глава XVIII..................................214
Глава XIX....................................231
Глава XX....................................246
Глава XXI....................................263
Глава XXII...................................272
Глава XXIII...................................285
Глава XXIV...................................296
Глава XXV....................................312
Глава XXVI...................................322
Глава XXVII..................................336
Глава XXVIII..................................356
ПОЭМЫ
Песнь последнего менестреля
Вступление. Перевод Вс. Рождественского..383
Песнь первая. Перевод Вс. Рождественского..386
Песнь вторая. Перевод Т. Гнедич..397
Песнь третья. Перевод Вс. Рождественского..411
Песнь четвертая. Перевод Т. Гнедич..425
Песнь пятая. Перевод Вс. Рождественского..445
Песнь шестая. Перевод Т. Гнедич..461
Дева озера
Песнь первая. Охота Перевод П. Карпа..480
Песнь вторая. Остров Перевод П. Карпа..502
Песнь третья. Огненный крест.
Перевод Т. Сильман..526
Песнь четвертая. Пророчество.
Перевод Т. Сильман..549
Песнь пятая. Бой.
Перевод Игн. Ивановского..572
Песнь шестая. Замок.
Перевод. Игн. Ивановского..597
Эпилог. Перевод П. Карпа..621
Поле Ватерлоо. Перевод Ю. Левина..622
СТИХОТВОРЕНИЯ
Баллады
Гленфинлас, или Плач по лорду Роналду. Перевод
Э. Липецкой..641
Иванов вечер. Перевод В. Жуковского..649
Замок Кэдьо. Перевод Н. Рыковой..655
Владыка огня. Перевод В. Бетаки..662
Замок семи щитов. Перевод М. Донского..666
Битва при Земпахе. Перевод Б. Томашевского..668
Равные стихотворения
Фиалка. Перевод Б. Томашевского..674
Даме, преподнося ей цветы с римской стены.
Перевод Б. Томашевского..674
Победная песнь. Перевод М. Донского..675
Хелвеллин. Перевод В. Шора..676
Умирающий бард. Перевод П. Мелковой..677
Дева Торо. Перевод Я. Ювенской..678
Паломник. Перевод С. Петрова..679
Дева из Нидпаса. Перевод Я. Комаровой..680
Скиталец Уилли. Перевод Г. Бена..681
Охотничья песня. Перевод В. Васильева..683
Решение. Перевод Я. Мелковой..684
Песня пажа. Перевод В. Бетаки..685
Лохинвар. Перевод В. Бетаки..687
К луне. Перевод И. Комаровой..688
«Мила Брайнгельских тень лесов..» Перевод И. Козлова..689
«О дева! Жребий твой жесток..» Перевод К. Павловой..691
Аллен-э-Дейл. Перевод Игн. Ивановского..692
Кипарисовый венок. Перевод Я. Мелковой..693
Арфа Перевод В. Васильева..694
Прощание. Перевод Г. Бена..695
Инок. Перевод С. Петрова..696
Маяк. Перевод Б. Томашевского..697
Резня в Гленко. Перевод И. Комаровой..697
Прощание с Маккензи. Перевод С. Петрова..699
Колыбельная юному вождю. Перевод Г. Шмакова..700
Джок из Хэзелдина. Перевод Г. Бена..700
Клятва Норы. Перевод Г. Шмакова..701
Военная песня клана Макгрегор. Перевод К Павловой..702
Печальная перемена. Перевод Г. Шмакова..703
Прощальная речь мистера Кембла, которую он произнес
после своего последнего спектакля в
Эдинбурге. Перевод Г. Бена..704
Похоронная песнь Мак-Криммона. Перевод С. Петрова..706
Доналд Кэрд вернулся к нам. Перевод Г. Бена..707
Прощание с музой. Перевод Г. Шмакова..709
Островитянка. Перевод Г. Усовой..709
«Идем мы с войны…» Перевод Г. Усовой..710
«Закат окрасил гладь озер…» Перевод Г. Бена..711
<Мы с детства сроднились с тревожной трубою…»
Перевод Г. Усовой..712
«Тверда рука, и зорок глаз..» Перевод Г. Усовой..712
«Как бы ветры ни гудели…» Перевод Г. Усовой..713
«Когда друзья сойдутся в круг…» Перевод Г. Усовой..713
ПРИЛОЖЕНИЕ
Покаяние. Перевод В. Жуковского..717
Суд в подземелье. Повесть (отрывок).
Перевод В. Жуковского..724
Разбойник. Перевод Э. Багрицкого..741
К о м м е н т а р и и..747
П. А. Оболенским переведены главы I–XVII романа «Талисман», Т. Л. и В. И. Ровинскими — предисловие и главы XVIII–XXVIII. Составителем разделов «Поэмы» и «Стихотворения» является Ю. Д. Левин.
Примечания
1
Действующих лиц (лат.).
(обратно)2
В настоящее издание это приложение не включено (Прим. ред.).
(обратно)3
Стихотворные переводы в романе «Талисман», кроме особо оговоренных, выполнены В. Давиденковой.
(обратно)4
Радуйся, Мария! (лат.).
(обратно)5
Ступка (франц.).
(обратно)6
Моя вина! Моя вина! (лат.).
(обратно)7
Истинный крест (лат.).
(обратно)8
Слава отцу (лат.).
(обратно)9
Назад и вперед (франц.).
(обратно)10
Лекарь (Прим. автора.).
(обратно)11
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)12
Это означало, что его познания могли быть приобретены в течение ста лет (Прим. автора.).
(обратно)13
Да будет с вами благословение божье (лат.).
(обратно)14
Иерусалимский кодекс — сборник феодальных законов, составленный Готфридом Бульонским для правительства латинских владений в Палестине после отвоевания у сарацин. Он был составлен при участии патриарха и баронов, духовенства и мирян и, как говорит историк Гиббон, «является ценным памятником феодального законодательства, основанного на принципах свободы, характерных для этой системы». (Прим. автора.).
(обратно)15
Так называли германских менестрелей. (Прим. автора.).
(обратно)16
Да здравствует герцог Леопольд! (нем.).
(обратно)17
Так называли Ричарда восточные народы. (Прим. автора.).
(обратно)18
Это может показаться настолько необычайным и невероятным предложением, что необходимо оговориться, что таковое действительно было сделано. Историки, однако, смешивают вдовствующую королеву неаполитанскую, сестру Ричарда, с невестой, а брата Саладина принимают за жениха. По-видимому, им не было известно о существовании Эдит Плантагенет. (Прим. автора.).
(обратно)19
Так обычно англичане говорили о своих бедных северных соседях, забыв, что их вторжение в независимую Шотландию заставляло более слабую нацию защищаться, применяя не только силу, но и хитрость. Бесчестие должно было быть поделено между Эдуардом Первым и Третьим, силой навязавшими свое господство этой свободной стране, и шотландцами, которые должны были насильственно принимать присягу без всякого намерения выполнять ее. (Прим. автора.).
(обратно)20
Буквально — «рубище». Так называется одежда дервишей. (Прим. автора.).
(обратно)21
Господи помилуй (древнегреч.).
(обратно)22
Любовница (франц.).
(обратно)23
Сознаюсь, каюсь (лат.).
(обратно)24
Вина моя (лат.).
(обратно)25
Велика истина, и она восторжествует (лат.).
(обратно)26
Не забудь о пребывающей в беде невесте (лат.).
(обратно)27
Речь идет, по-видимому, о каком-то препарате опиума. (Прим. автора.).
(обратно)28
Вероятно, то же самое, что Гиг. (Прим. автора.).
(обратно)29
Да погибнет лев (лат.).
(обратно)30
Широко распространенная легенда приписывает сэру Тристрему, знаменитому своей любовью к прекрасной королеве Изулт, составление свода правил (так называемых venerie) относительно способов ведения охоты, так как этот свод регламентировал охоту, он, по-видимому, имел важное значение в средние века (Прим. автора.).
(обратно)31
Веселой науке, т. е поэзии трубадуров (франц.).
(обратно)32
Плащ (исп.).
(обратно)33
На смертном одре (лат.).
(обратно)34
Прими это! (лат.).
(обратно)35
День гнева, тот день Развеет весь мир в пепел (лат.).
(обратно)36
Хорошо известный герб Дугласов. (Прим. автора.).
(обратно)37
Смилуйся, божья матерь! (франц.).
(обратно)38
В. Г. Белинский, Собрание сочинений в трех томах, т. III, Гослитиздат, М. 1948, стр. 250.
(обратно)39
«Песнь последнего менестреля», 1805; «Мармион», 1808; «Дева озера», 1810; «Видение дона Родерика», 1811; «Рокби», 1813; «Свадьба в Трирмене», 1813; «Властитель островов», 1814; «Поле Ватерлоо», 1815; «Гарольд Бесстрашный», 1817.
(обратно)40
Подробнее об этом см.: В. Ж и р м у н с к и й, Пушкин и Байрон, Л. 1924.
(обратно)



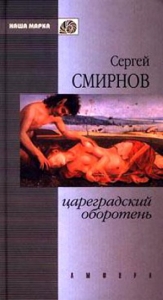

Комментарии к книге «Том 19. Талисман. Поэмы и стихотворения», Вальтер Скотт
Всего 0 комментариев