Владимир Прасолов Золото Удерея Роман
© Прасолов В.Г., текст, 2013
© Художественное оформление серии, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2013
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2013
Моей маме, Валентине Ивановне, посвящается...
Медленно вторгаясь в жизнь ангарского народа, золотодобытчики безвозвратно крушили сложившийся вековой размеренный уклад его жизни. Традиции людей, привыкших тяжелым трудом добывать свой хлеб, ломались под напором лавины разномастного люда, внезапно нагрянувшего и сыпавшего из грязных ладоней самородное золото. Обесценивая труд таежных охотников, охотники за удачей развращали народ, но это были, как в народе говорят, еще только цветочки. Слух о золотоносных местах быстро докатился до Петербурга; горных дел промышленники, влиятельные особы при дворе его императорского величества, купцы и прочие состоятельные люди всех сословий щедро вложили средства в разведку месторождений. И загудела ангарская тайга. Мелкие ватаги бродяг-старателей затерялись в потоке соревнующихся между собой хорошо организованных разведочных партий, сплошным потоком хлынувших в эти места. Получив в Горном приказе разрешение на изыскания золота, они, открыв в близлежащих деревнях и селах свои конторы, по весне нанимали сотни работников, приезжавших со всей России, и, снабдив всем необходимым, отправляли в тайгу. Запестрела таежная глухомань починными столбами и явочными ямами, пробив два-три шурфа и взяв пробы, партии уходили дальше, закрепив для своих хозяев навсегда золотоносные места. Следом шли приглашаемые для отводов участков чиновники и отводчики Горного приказа, а уж затем разворачивалась приисковая добыча золота. Село Рыбное и деревня Мотыгина стали воротами в золотую северную тайгу. Сюда шли обозы с провиантом и инструментом, здесь формировались и набирались наемные рабочие для приисков. Громко зазвучали имена первых золотопромышленников, открывших богатые месторождения, — Машарова, прозванного «таежным Наполеоном», братьев Котовых, Орозова, Мыта-рева, Воробьева. Открылись и заработали, давая невероятно богатую добычу, первые прииски. Пуд, два пуда, три пуда золотого песка снимали в день, оглашая свою удачу стрельбой из пушек приисковые смотрители и управляющие. Приисковые рабочие, выполнив урочную работу, подав на золотомоющую машину сто — сто двадцать тачек к двум-трем часам пополудни, имели право на неурочную старательскую добычу и продолжали мыть лотками уже лично для себя. По Приангарью покатилась своей беспощадной волной золотая лихорадка.
В начале девятнадцатого века в приангарской тайге нашли золото.
Речки и ручьи, затерянные в бескрайней, дикой тайге, дотоле неизвестные и безымянные, оказались золотоносными. Золотой песок да самородки с Удерей-реки потекли в государеву казну. Долгий был этот путь, сложный да опасный.
Тихий закат разливался над рекой. Багрянец всеми оттенками пронизывал высокие кучевые облака, уходящие за горизонт. В небе царила причудливая, неспешно меняющая вид картина. Лучи солнца, пробиваясь на излете, высвечивали в вышине легкую пелену, отчего небосвод казался бархатным золотым куполом.
Мальчишка лет десяти, обняв руками голые коленки, сидел у небольшого костра на крутом яру широко раскинувшейся реки. Его выгоревшие на солнце, волной упавшие на лоб волосы пошевеливал теплый ветерок. Он завороженно смотрел на этот огромный и непонятный ему небесный мир. Мир, в котором все было так красиво и загадочно. В его воображении облака то преображались в замки и дворцы, парящие над густой синевой таежных сопок, то казались сверкающими всеми красками заката, зовущими в неизведанные дали невесомыми и призрачными кораблями. Он сажал их себе на ладошку и следил, как они уползали с нее медленно и осторожно.
На углях костра, нанизанные на тонкие ветки, пеклись, покрываясь розовой корочкой, небольшие рыбешки. Снизу, с реки, слышались озорные ребячьи крики и плеск воды.
— Федька! Пошли с нами морды проверять!
Мальчишка встал, подошел к краю обрыва.
— Идите без меня! — крикнул он ватаге ребят.
Когда солнце, залив малиновым соком небосвод, почти зашло, мальчишка спустился к воде. Вытащил из-под камня снасть и бережно, кольцами, уложил лесу, плетенную из конского волоса. Достав из берестяной бадейки крупного выползка, осторожно, не прокалывая червя лишний раз, наживил на большой железный крючок. Плюнув на наживу, раскачал рукой грузило и ловко бросил снасть в воду. Леса упала точно и без натяга, мальчишка подтянул ее и, присев на корточки, замер. Течение заставляло жилку слегка вибрировать, иногда она ослабевала, и мальчишка осторожно, чтобы не сорвать грузило со дна, подтягивал ее на себя. Густая темнота накрывала землю, тайгу, реку. Тихо. Только всплески играющей рыбы. Звезды, прорываясь сквозь облака, бликами играли на темной массе движущейся воды. Он терпеливо ждал. Резкий удар — и леса ослабла. Мальчишка вскочил и, быстро перебирая руками, стал выбирать слабину. Вот он почувствовал: что-то живое и сильное бьется в глубине, заставляя его то шагнуть в воду, то, отпуская, пятиться на берег. Несколько минут борьбы — и уставшая сопротивляться рыбина пошла без рывков. Мальчишка с колотящимся от восторга сердцем выбирал и выбирал лесу, пока к его ногам из воды не вылетел поддернутый последним рывком крупный налим. Оттянув его подальше от уреза воды, мальчишка в темноте нащупал ногой скользкое извивающееся тело, прижал и несколько раз ударил камнем. Налим затих. Подхватив под жабры, мальчишка с трудом поднял рыбину и, взвалив ее на спину, потащил вверх, по еле ощутимой босыми ногами тропке, к костру. Наскоро перекусив жареными рыбешками, мальчишка смотал снасть. Вспоров, выпотрошил налима, уложил в заплечный мешок и смело зашагал по знакомой тропинке домой.
Деревня встречала его мерцающими огоньками в слюдяных окошках изб, лаем собак, пьяными криками от заезжего двора. Все как вчера, деревня теперь засыпала поздно. Проезжий путь, проложенный через нее, постепенно менял сложившийся веками размеренный деревенский уклад. А изменилось все. Несколько лет назад где-то там, на реке Удерей, старательский люд нашел золотые пески. С ранней весны, еще по снегу, спеша Ангару по льду перейти, тянулись теперь ватаги через деревню на север. По двое, по пятеро, а то и дюжиной шли, редко на лошадях, телегами и повозками, а больше пешком, шли и шли со всей России. Кто, — по слухам от бывалых людей, в надежде разбогатеть в одночасье, шли к Удерей-реке. Кто — сам по себе, воли да удачи искать в этих необжитых таежных краях. С той весны и стали в деревне замки на двери вешать — лишняя трата, да с ключами забота. С другой стороны, веселее стало. Деревенский богатей Иван Авдеевич Никифоров подсуетился, съездил в Енисейск, бумаги справил да кабак открыл рядом с заезжим двором. Вот в тот кабак Федор и носил свежую рыбу, за нее прыщавый Епифан, что за стойкой стоял, булку хлеба давал, а то и деньгами платил. Немного, да все в доме прибавка. После того как сгинул в тайге отец Федора, трудно стало жить. Бабушка обезножела уж как год. Мать да две сестренки младшие при одних-то его мужицких руках… Небольшое хозяйство кормило, корова, лошадь, козы, куры — вся эта животина пропитания на долгую зиму требовала, потому Федору не до ребячьих забав было. Днем управлялся с хозяйством, помогал матери, вечером бегал на Ангару, ловил налимов на отцовскую снасть.
Федор подошел к заезжей избе. В потемках углядел нескольких привязанных у коновязи лошадей и крытую, на больших тонких колесах, фуру. Такой необычной телеги Федор еще не видал — прямо шатер на колесах. Это хорошо, подумал он, значит, Епифан кривить рожей не будет, возьмет рыбу и заплатит. Гостей заезжих кормить будет свежей ухой.
Федор смело шагнул в широко распахнутые двери кабака, в гул пьяных голосов.
— Это что за отрок? — услышал он чей-то грубый голос.
Осмотревшись в полутемном зале, сквозь висящий табачный дым, смешанный с винным духом, Федор увидел сидевшую за большим, покрытым скатертью столом компанию. В центре, в малиновой шелковой косоворотке, сидел и смотрел на него широкоплечий скуластый мужик с могучей гривой: из кольца в кольцо черные волосы и борода. Его озорные с хитринкой глаза никак не вязались с хриплым грубым голосом.
— Кто таков, сказывай? — повторил он свой вопрос, и все сидящие за столом, обернувшись, пытливо посмотрели на оробевшего Федора.
— Федор, Васильев сын, Кулаков, — назвался мальчишка.
— А не рано ль тебе, Федор Кулаков, по ночам в кабаки заходить?
— Я не для блуда пьяного сюда пришел, я рыбу принес свежую с реки, — ответил Федор.
— Так, значит, мы здесь блудом занимаемся, ха, ха, ха! — громко захохотал бородач. — А он по делу зашел, во как! А ну, показывай рыбу. Мы ее купим, если не брешешь!
— Брешут собаки, а я всегда правду говорю. — С этими словами Федор снял с плеч мешок и, ловко развязав его, вывалил на свободный стол налима.
— Ого, вот это зверюга! — воскликнул сидевший ближе к столу мужик.
— Знатная рыбина! — прогудел прокуренным басом еще кто-то из сидевших за столом.
В это время из каморки вышел Епифан и, увидев на столе налима, гнусаво закричал:
— Ты чё, Федька, рыбу вывалил на стол, тащи ее сюды, возьму, так и быть!
— Не, дядя, погодь. Эту рыбину я сам покупаю, ты ее после своим кухаркам отнеси, пусть готовят, — твердо сказал бородатый, пытливо разглядывая Федора. — Никак сам поймал?
— Сам, — ответил Федор.
— Во брешет пацан, а! — крикнул кто-то из мужиков.
Федор насупился, готовый ответить, но не успел.
Епифан, стоя у стойки, вдруг вступился за него:
— Сам он ловит, безотцовщина, точно говорю, батька его уж второй год как в тайге пропал.
Тишина, наступившая в кабаке, вдруг разорвалась грубым, но веселым голосом бородача:
— Ну, раз такое дело, Степан, ну-ко, достань кошель!
Здоровенный детина вытащил из-за пазухи увесистый кожаный кошель и поставил его перед бородачом. Тот, развязав шелковую веревку, запустил в него свою пятерню и, вытащив, положил на белую скатерть стола окатыш желтого цвета, чуть меньше голубиного яйца.
— Что артель скажет, не дорого платим мальцу за рыбу? — подмигнув Федору, спросил бородач у своих товарищей.
— За правду, за смелость, за удачу — достойно! — громко и весело, под одобрительный шум артельщиков, сказал за всех Степан. — Плати, Семен! Эй, чё встал, как пень, забирай рыбу на кухню, жареную хочу!
Епифан, не сводя глаз с золотого самородка, суматошно укладывал скользкую рыбу в фартук.
— Ой, подфартило тебе, Федька, ой подфартило, надо ж так, а… — шептали его губы.
— Держи, малец, мамке отдай! — протянув ему окатыш, сказал бородач.
— Что это? — спросил Федор, взяв его в ладонь.
— Это золото, парень, самородное, с Удерей-реки! Смотри не утеряй, за этот самородок хорошего коня купить можно!
Федор низко поклонился артельщикам и протянул самородок назад:
— Нельзя так, я вам налима, а вы мне коня.
— Не сумлевайся, сынок, бери, сделка честная, старательская, — зажал мальчишечью ладонь с самородком старый артельщик. — Раз артель решила, значит, твой налим того стоит! Верно говорю, мужики?
— Верно, верно! — раздались голоса.
— Все, иди, сынок, домой, до матки, обрадуй ее добычей, а мы тут, как ты говоришь, пьяным блудом займемся, — с хохотом закончил артельщик.
Федор пулей вылетел на улицу и побежал домой. Дома мать уже уложила девчонок и, сидя у лучины, пряла.
— Мама, смотри, чем со мной артельщики за налима расплатились, — раскрыв ладонь, показал Федор матери самородок.
— Что это, сынок? — на секунду оторвавшись от пряжи, спросила мать.
— Мам, это золото самородное, за него коня купить можно!
— Пошутили, наверное, над тобой мужики.
— Нет, мама, смотри. — И Федор положил перед ней окатыш.
Мать взяла самородок в руку, взвесив на ладошке, посмотрела на неровную, матово блестевшую поверхность.
— Может, правда золото, положи, сынок, за божницу, утром у соседа спросим, он на артельных работал, точно скажет, что это.
Федор стоял перед мамой, ожидая какой-нибудь похвалы, и мать, глянув на него, прижала к себе костлявое, но крепкое тело сына.
— Добытчик ты мой. — Она ласково поцеловала его в щеку и отпустила. — Там в горшке каша, поешь и спать.
Долго Федор ворочался на полатях и не мог уснуть: «И где это загадочная Удерей-река? — Поглядев на сопевших рядом сестер, решил: — Вот девчонки подрастут, уйду с такой же ватагой золото искать…»
Прошло десять лет. Много чего изменилось в деревне. Уж не деревня это — село с тремя постоялыми дворами; пять кабаков денно и нощно гудели от гостей приезжих да пролетных. Иван Никифоров собственную пивоварню на Енисейском тракте поставил. Пиво знатное, на чистой ключевой воде да хмелю таежном, аж в Енисейск возить стал. Еще больше разбогател. Хоромы под железной крышей справил, одних лошадей две сотни по тракту гостей да грузы таскали. Подросли и окрепли сестры Федора. Да и сам он возмужал не по годам. Высокий и сильный, косая сажень в плечах, красавец — копна светлых, слегка волнистых волос и загорелое волевое лицо с голубыми глазами под черными, как углем рисованными, бровями. В общем, девки со всей округи заглядывались на Федора, на вечеринках и игрищах не раз бивали его ремнем, вызывая на прогулку наедине, да все неудачно. Не бросал Федор ремень в круг, соглашаясь на предложение, а отдавал ремень дружку своему, и тот продолжал нехитрую забаву. Лупил ремнем девицу по мягкому месту и, бросив ремень, по законам игры уводил ее из круга по темным деревенским улочкам прогуляться. Была и у Федора зазноба, да не ходила она на деревенские игрища — отец не пускал. А не пускал специально, чтобы не виделись они, и тому, по его мнению, причина была. Когда дела Никифорова пошли в гору, стали ему потребны работники. Он давно приглядывался к ладному парню, что у вдовой Анастасии Кулаковой подрастал. В прошлом году и подошел к нему, позвал служкой в кабак работать, посулил в приказчики вывести, если справно служить будет. Отказался Федор, дерзко отказался, обидел богатея: «Я казацких кровей, в служки к вам никогда не пойду, сам себе хозяин».
Запомнил эти слова Никифоров, обиду затаил на парня, озлобился, когда узнал, что его дочь младшая с этим Федором дружит, встречается и гуляет с ним вечерами. Федор действительно еще сызмальства заприметил смешливую и сообразительную девчонку с красивым именем Анюта. Вместе, еще подростками, они с компанией деревенских ребятишек бегали на речку купаться, по грибы-ягоды в тайгу ходили. Года на два младше Федора она, какое-то время была выше его ростом и, шутя, задирала его. Он не злился, почему-то этой девчонке прощал любые шутки. Только ей он доверял свои мальчишечьи секреты. Показывал потаенные уголки, где ловилась рыба, где как на подбор стояли в тихом бору белые грибы, где сплошным ковром наливалась спелостью брусника. Она свято хранила его тайны, это нравилось Федору. Позже, когда он пошел в рост, она с удивлением наблюдала, как из угловатого мальчишки он превращался в крепкого высокого парня. Резкий и всегда умеющий дать любому отпор, Федор все так же оставался беззащитен перед этой девчонкой. Анюте это нравилось. Шло время, их дружбу заметили на деревне, стали злословить, женихом да невестой дразнить. Не раз Федору приходилось кулаки в ход пускать, чтобы кое-кто языку ходу не давал, да это только подогревало сплетни. Отчасти из-за этого, да и потому, что подросли, не так часто уже девчонки принимали участие в мальчишеских затеях, только реже они стали встречаться, и слухи как-то сами по себе улеглись. Шли годы. Отец увозил Анюту, и два года она жила у его родни в Енисейске, училась в гимназии. Вернулась, и подруги плотным кольцом закружили ее в своих девичьих делах. Казалось, забыла она о Федоре, как забывают взрослые любимую детскую игрушку. Они взрослели и однажды, случайно столкнувшись на улице, вдруг как будто впервые увидели друг друга. Им не нужно было ничего говорить, они просто встретились взглядами, и каждый из них все понял.
Густо цвела черемуха той весной, дурманила и кружила голову, а может, им это только казалось, а голову кружило то счастье, которое пьянило их, когда они были вместе. Когда вечерами тайком встречались и до утра гуляли. Взявшись за руки, уходили к реке, там, под скалой Колокольчик, жгли костер и мечтали, сидя у огня. Не раз уже Федор обнимал и целовал Анюту, и она таяла в его сильных руках. Не раз уже Федор, в неистовстве своем, прижимал к себе ее тело, и его руки мягко и нежно убирала Анюта с запретных мест. «Федор, любимый, негоже так», — целуя его, шептала она. Он подчинялся. Она целовала его и гладила пальцами бешено пульсирующую жилу на его виске, успокаивая и лаская. Проводив ее, он еле живой возвращался домой, томимый желанием и бунтующей плотью мужчины.
«По осени сватов зашлю», — как-то решил Федор, засыпая под утро. Утром объявил свое решение матери. Мать подошла и, прижавшись к широкой груди сына, долго молчала. Затем, отстранившись, внимательно поглядела в его глаза.
— Правда люба тебе эта девушка?
— Правда, мама, не могу без нее дня прожить, — признался Федор.
— А ты ей люб? Пойдет за тебя?
— Так люб, сколько уж вместе, пойдет, конечно.
— А ты спроси ее.
— А это надо, мам? Так все ясно, я же чувствую.
— А что ж вы прячетесь от людей, вечерами да ночами, что ж днем вместе не гуляете?
— Так боится она, отец наказал со мной не гулять.
— А как же свататься пойдешь, коль отец ее против? Откажет, не благословит, что тогда?
— Я уж решил: уйдем, тайно венчаемся в Пашенной часовне. Что он нам сделает? Мне приданого ее не надо, мне она нужна.
— Ой, сынок, знаю, не послушаешь ты меня, только голову ты совсем потерял со своей Анюткой. Кто ты и кто ее отец? Подумай. На него пол волости работает. Батюшка откажет в венчании тайном. Не пойдет он против Никифорова.
— Откажет? — Федор задумался. — Дальше уйдем, в Стреловское село иль в Казачинское.
— Ой, сынок, не даст он вам уйти, кругом его люди, схватят и забьют тебя, ой, горе-то какое! — заплакала мать.
— Мама, что ты, что ты, не плачь! Может, отдаст он мне Анюту, она ж любит меня, попросит отца сменить гнев неразумный. Нетто он дочери счастья не желает?
— Молод ты еще, большой, красивый вырос, да разум у тебя еще детский, чистый. Ну да ладно, до осени еще далеко, милуйтесь пока, жизнь покажет.
Лето в тот год жаркое задалось, в самый разгар покосный тайга загорелась. Огонь пошел от молнии, разбившей вековой листвяк, полыхнул и двинулся огненной лавиной, накрывая сопки и увалы. Легкий ветер помогал верховому огню преодолевать небольшие ручьи и речки, быстро распространяться, охватывая и пожирая все на своем пути. Тяжелый дым, расстилаясь над Ангарой, плотной завесой закрыл взошедшее солнце. Набатный звон церковного колокола собирал народ. Смешиваясь с утренним туманом, дым вязкой массой висел над землей; першило в горле, заставляя людей кашлять, жгло глаза. Настоятель церкви Святого Спаса отец Кирилл был в отъезде, молодой дьякон Василий с иконой в руках встречал народ. Когда площадь перед церковью была полна, Василий поднял над головой икону святого Спаса, и все, повалившись на колени, стали молиться. Высокий елейный голос дьякона величественно провозглашал святые слова, и толпа вторила ему. Далеко по реке слышна была эта молитва, с высоты Рыбинского утеса, на котором стояла церковь, растекалась она над водной гладью. Колокольный звон затих. Закончив молитву, священник уступил место старосте села Ивану Ивановичу Коренному.
— Земляки! Беда пришла, сами видите. Огонь остановить надо! Если речку Черную пройдет, сгорит село, не удержим. Верховой огонь по макушкам хлещет, под ним пекло, дышать нечем. Все, кто может в руках топоры да пилы держать, срочно на баркасы грузитесь — и на Черную. Рубить и валить лес по нашей стороне, руководить работами будет Иван Авдеич Никифоров.
Никифоров, стоявший за спиной головы, выдвинулся вперед и зычно крикнул:
— Пятьдесят человек с пилами и топорами — на мои баркасы, через час сам поведу, еще сотня мужиков с ведрами, баграми, топорами — на баржи купеческие, что под разгрузкой на винные погреба стоят, через три часа Митрофан Безруких поведет. Бабы, готовьте мужикам харчи на три-четыре дня с собой. Не управимся, прокорм сам подвезу. Иван Косых, с парнями с Закатиловки улицы лошадей три десятка берегом к Черной гоните. Чтоб к вечеру были на месте! Пока все, помоги нам Бог! — закончил Никифоров и пошел, увлекая за собой толпу, к пролетке.
Федор, как и все, внимательно слушавший Никифорова, понял, ему вместе с Косых лошадей надо гнать. Не теряя времени, бегом кинулся домой, собрался и через полчаса, готовый к действиям, был у его избы. Там уже толпой стояли полтора десятка парней, ожидая своего начальника. Скоро вышел Иван Косых, тридцатилетний кряжистый мужик. Коротко стриженная борода не закрывала мощную шею. Тонкий кожаный ремешок наискось опоясывал его крупную голову, прикрывая левую глазницу. Никто не знал, где он потерял глаз, но оставшимся он грозно глянул на собравшихся. Было в этом взгляде что-то такое пронизывающее и пугающее, что заставляло людей подчиниться, отвести свои глаза, как будто он мог вызнать их мысли сокровенные. Начальственно прошелся, вглядываясь в лица парней. Уже много лет он был при хозяйских лошадях. Хозяйство вел справно, за что у Никифорова и среди люда в почете был.
— Так, парни, пошли отбирать лошадей. Вот узды, на одной верхом, одну в поводу, сполняйте скоро, управиться к вечеру надоть.
Тайга горела люто, не щадя ни зверя, ни птицы. Ровным гулом, слышимым издали, дышал огромный пожар. Плотным дымом окутав сопки, сполохами взлетая ввысь, огонь с ревом и треском мгновенно превращал вековые сосны в горящие факелы. Ветер, срывая пламя, перекидывал его с одной вершины на другую, и оно, обуглив хвою кроны, живыми струями спускалось по стволам вниз. Там, внизу, было пекло. Усыхая, скручивались травы. Гибло все живое. Мелкий кустарник, высыхая, горел, как порох, превращаясь в огненную лавину. Небольшие ручьи, что были на пути пожара, из-за жаркого и сухого лета пересохли. Только речка Черная, с ее болотистыми берегами, заросшими густым ельником, могла стать препятствием для разбушевавшейся стихии. Туда к вечеру и подтянулись Косых и его команда. Работа уже шла вовсю, прибывшие раньше на баркасах мужики валили лес по берегу реки, вырубали молодняк и кустарники. Все это нужно было оттаскивать, чем и занялись приехавшие на лошадях люди. Пожар еще только спускался в пойму реки, но сильная задымленность и жара делали работу людей очень тяжелой. Задыхаясь, с красными от дыма, воспаленными глазами, мужики подпиливали метровые стволы елей и сосен, валили деревья, упираясь в них длинными толканами. С хрустом и стоном падали лесные великаны, обливаясь свежей смолой, плакали деревья. Не обращая внимания на людей, через реку переходили лоси, выводками переплывали белки, ходом проскакивали соболя, никто не трогал спасавшуюся животину — не до нее было.
Никифоров, в одной косоворотке, ходил по берегу, где-то подсказывая мужикам, где-то взяв в руки топор, помогая. Его озабоченный вид и личное участие в тяжелой работе говорили сами за себя. Никто живота не щадил. Федор лошадьми таскал стволы, обработанные рубщиками, на берег Ангары и несколько раз встречался с Никифоровым. Под вечер на легкой плоскодонке к устью Черной приплыли Анюта и еще две девушки. Они привезли несколько корзин с продуктами. Девушки быстро принялись готовить ужин.
У костра, в излучине Ангары и Черной, разбили бивак и готовились ужинать все, кто приехал на работы. Здесь не так было дымно, ветерок с реки освежал разгоряченные тела. Многие купались и, смыв с себя пот и грязь, наскоро перекусив, вновь брались за топоры и уходили. На берегу было людно. Федор тоже, отцепив приволоченные бревна, поставил лошадей и, раздевшись, бросился в воду. Проплыв саженками метров пятьдесят, лег на спину, некоторое время лежал, отдавшись течению. Затем, развернувшись, быстро поплыл к берегу. Еще с воды он увидел Анюту, она полоскала отцову рубаху, низко склонившись над водой с прибрежного валуна. Их разделяло метров двадцать, Федор нырнул. Прозрачная вода не могла скрыть его приближающегося тела, но Анюта, занятая стиркой, думала о чем-то своем и ничего не замечала. Когда он в фонтане брызг вылетел перед ней из воды, Анюта испуганно вскрикнула. Довольный своей проделкой, Федор тут же получил мокрой рубахой, отчего, отшатнувшись, поскользнулся и упал в воду. Все это происходило у всех на глазах и вызвало общий смех. Кто-то крикнул:
— Что ж ты девку так пужаешь, рожать не будет!
— Так его, Анюта, пусть охлынет, ишь, выскочил вахлаком!
Федор не слышал этого крика, вынырнув, он, скользя на камнях, бесшабашно улыбаясь, выбирался из воды. Голый по пояс, в одних облепивших его тело подштанниках, он, по-мальчишески дурачась, прикривая ладонями то, что высвечивало через мокрую ткань, выходил прямо к ней. Он хотел просто извиниться за неудачную проделку, но получилось хуже. Анюта, пунцовая от возбуждения и вдруг нахлынувшего на нее стыда, подхватив белье, быстро, под смех и соленые шутки мужиков, убежала. Федор вылез на берег и под насмешки взрослых мужиков молча, не обращая на них внимания, одевался. Он не заметил подошедшего Никифорова. Получив от него крепкую затрещину, отлетев, упал.
— Еще раз к ней подойдешь, голову оторву! — тихо, но внятно сказал Никифоров и, повернувшись, спокойно ушел.
Федор поднялся и, потирая ушибленное плечо, смотрел ему в спину. Все, кто был рядом, молчали. Старый дядька Петро, по прозвищу Карась, подошел к Федору и, похлопав его по плечу, тихо сказал:
— Утрись, сам виноват, — и уже громче, чтоб все слышали: — А руки распускать никому на казака не дозволено, чё он такого сделал, чтоб его по морде, а?
Уже отошедший Никифоров, услышав, приостановился и глянул в сторону Федора. Их взгляды встретились. Тяжелый взгляд зрелого, опытного мужчины, знающего себе цену и имевшего власть над людьми, и непокорный, вызывающе открытый взгляд парня, только-только вступавшего в самостоятельную жизнь. На старика Никифоров не смотрел, тот, как-то засуетившись, вклинился средь сидевших мужиков и исчез. Федор выдержал взгляд. Никифоров ничего не сказал словом, но взгляд… этот цепкий, оценивающе пренебрежительный взгляд ничего хорошего Федору не сулил. Никифоров посмотрел на сидевших вокруг, делавших вид, что ничего не произошло, работников.
— Ну хватит, передохнули и за работу, мужики, время дорого!
Все молча с готовностью вставали и, прихватив инструмент, уходили. Пошел и Федор — не время было для разборок, да и не хотел он этого. Горько и обидно было на душе. Глупо, так глупо все получилось… Злясь на себя, он все же не мог простить Никифорову рукоприкладства. Негоже руки распускать. Понятное дело, виноват, но его ударили при всех, и он не мог ответить — кипела в его сердце обида. Не мог, потому что не ожидал и растерялся, не мог, потому что был виноват, не мог, потому что это был отец Анюты, — все это билось в голове Федора, пока он шел к лошадям. Потом он про все это забыл, потом была работа, и все эти мысли просто покинули его. Трое суток две сотни мужиков бились с тайгой, слишком широким фронтом шел пожар. Там, где он огненными языками успел проскочить водную преграду, люди, отступив, валили лес и рубили просеки, встречали его лопатами и водой, сбивая и гася беспощадное пламя. На четвертые сутки небо заволокло тучами, ветер стих и ударил сильнейший ливень. Даже после него пожар долго сопротивлялся, но был сломлен. Не обошлось без жертв. В спешке при лесоповале падавшим стволом размозжило голову парню с Ко-маровки улицы, Степке Потапову, одному из сыновей большой семьи рыбацкой, лучшему да и, пожалуй, единственному другу Федора. Бросив коней, грязный, весь в крови, Федор, задыхаясь в дыму, вытащил тело друга к Ангаре. Был уже вечер третьего дня, и уставшие до изнеможения мужики только горестно покачивали головой, проходя мимо. Было видно, что парень мертв и помочь ему уже нельзя. Федор, роняя слезы, непроизвольно катившиеся из глаз, сидел у бездыханного тела и не мог понять и поверить в случившееся. Он впервые видел смерть человека. Он видел, как хоронили умерших, но это было другое. Ему было жаль умершей бабушки, но он понимал, что она отправилась на небеса по воле Бога, отжив на свете положенный срок. Но Степка, такой же как он, вот так внезапно перестал быть, и ничто не могло заставить его дышать, биться его сердце. Это было неправильно, несправедливо и жестоко.
Тело друга забрали его братья. Они молча, по-мужски, скорбно опустив головы, уложили его на носилки из еловых веток и медленно и осторожно понесли по берегу к баркасам.
Речные волны ласково накатывали на песчаную косу, на которой остался Федор. Ничего не изменилось в окружавшем его мире. Весело и стремительно летали береговые стрижи, где-то плескала рыба, выхватывая прямо из воздуха мотыльков, ровным гулом шумела река, унося своими водами слезы и горе Федора.
Прошел месяц с тех пор, как остановили пожар. Сразу после похорон Степки Федор отправился на покосы на острова и, вернувшись домой, узнал, что Анюты в селе нет. Так и не успел он ее увидеть и обьяснить-ся за ту шалость на реке. Видя печаль в глазах сына, мать успокаивала его:
— Чего приуныл, Феденька, если девка любит, ей преград нету, приедет — встретитесь. Все на свои места станет. Делом-ка займись, воды потаскай, скотина не поена.
— А когда она вернется, не слыхала?
— Люди говорят, отец отправил ее с приказчиком в Енисейск, товары для лавки закупать да погостить у родичей, вернется…
— Это с каким приказчиком?
— Да новый, выписал его Никифоров, откель — не знаю, но, говорят, в торговле понимает — большую лавку рубят по его разумению на берегу. Вот для этой лавки и поехали за товаром.
Совсем плохо на душе стало у Федора после мамкиных рассказов. Посерел лицом парень, схватил ведра и ушел. Вечером, когда на дальнем конце села, там, где берег реки не был так крут, заиграла гармонь, зазывая молодежь на гулянье, Федор, надев белую косоворотку, подпоясавшись еще отцовским шитым кушаком и начистив до блеска новые сапоги, отправился туда. Чуть впереди, под руку, медленно шли его сестры Вера и Катерина. Длинные русые косы с вплетенными китайскими лентами спускались по их прямым спинам, тяжело покачиваясь в такт шагов. «Заневестились сестренки», — думалось Федору. Он невольно загляделся на их стройные фигуры. Походкой Катерина была чем-то похожа на Анюту. Защемило сердце. Федор, слегка загрустив, уже хотел повернуть назад, уйти одному на старое место свиданий, под скалу Колокольчик, но передумал и пошел на веселый шум голосов. Ярко горевший костер освещал большой круг, по которому ближе к огню стайками стояли девчата, чуть поодаль, дымя табаком, прохаживались парни. Гармонист, взяв перерыв, курил в окружении самых бойких девчат, наперебой болтавших о чем-то. Стоило Федору выйти к свету, они почему-то замолкли и, поглядывая на него, прыснули смехом. Федор, сделав вид, что ничего не заметил, направился к своим знакомцам с Нижней улицы.
— Привет, други! — приветствовал он их.
— Здорово, Федор! Когда вернулся? Как там, на островах? Как укосы? — обступив, засыпали его вопросами парни.
Все были рады его приходу, не виделись давно, жали руки, дружески хлопали по плечам, угощали табаком. Федор отвечал, весело шутил.
В это время медленная мелодия разлилась над рекой, и девчата, разбиваясь парами и сходясь, пошли замысловатым хороводом. Парни невольно замолчали, выглядывая своих подружек в этом цветном и нарядном шествии. Через какое-то время гармонь, на секунду примолкнув, взорвалась плясовой, и пошла-поехала разудало и широко народная пляска. Парни, выделывая замысловатые колена, как бы состязались с девчатами. Девушки по очереди выходили в круг, и их плавное движение сопровождалось быстрой дробью каблучков, и взлетами рук, и гордым взглядом, и озорными улыбками. Музыка то замирала, то взрывалась. То замирала, то взрывалась и энергия пляски в разгоряченных молодых сердцах. Длинные юбки, вздымаясь на секунду, оголяли стройные колени в белых кружевах тонких одежд, завораживая парней, бросавшихся вприсядку и не щадящих каблуков перед очередной молодицей.
Не устояв, с разбойным свистом ворвался в круг и Федор. Крутанувшись на месте, он прошел вприсядку перед плясавшей девицей и, вскинув руки, закружил вокруг нее в неистовом притопе. Девица ответила не меньшей ловкостью и сноровкой, и они, то сходясь, то расходясь в круге, долго отстаивали свое право на первенство в танце. Наконец, притворно сдавшись, Федор уступил, и она повела его, гордо и счастливо улыбаясь, за собой по кругу, кружась и пританцовывая. Федор всем видом своим показывал, что нет краше этой девушки на всем свете белом. Красив был танец, красивы были плясуны, и оттого всем было весело и задорно на сердце. Уставший гармонист опустил руки, и мелодия закончилась, но тут же звонкие девичьи голоса полились в песне, захватившей и понесшей их души своей нежностью и красотой. Парни, утираясь носовыми платками, вынимали кисеты с табаком и тихо делились впечатлениями. Гулянье только начиналось. Федор отошел к своим и закурил. Песня, грустная и протяжная, замерла. Вновь зазвучала гармонь, оживленно и неприкаянно, озорно и зовуще. Частушечный напев с короткими выходами сгустил толпу. Федор оставался в стороне и слушал веселые частушки. Взрывы смеха сопровождали их. Вдруг резануло его слух:
Федор долго сети ставил, Осетра хотел поймать! А Никифоров отправил Дочку замуж выдавать!Словно ледяной водой окатило и полоснуло по сердцу. Он сначала кинулся было в толпу, но, остановившись, развернулся и быстро исчез в темноте. За спиной взрывы хохота сопровождали очередную частушку. Наверное, никто и не обратил внимания на его уход, слишком много было веселья и шума, но он отчаянно побежал, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не увидел его и не остановил. «Вот, значит, как! Значит, не просто отправил Анюту отец!» — билось в разгоряченном мозгу. Все в нем клокотало от обиды и ярости. Он бежал по берегу, спотыкаясь о камни, пока не выбился из сил. Спустившись к воде, снял рубаху и долго обливал разгоряченную голову и грудь водой. «Не может того быть, не может Анютка согласиться!» Но чем больше он себя убеждал, тем меньше верил в это. Обхватив колени, он сел на камень и долго смотрел на воды плавно текущей реки. Длинная лунная дорожка, переливаясь серебром, успокаивала.
Чья-то рука легла ему на плечо. Он, вздрогнув от неожиданности, отшатнулся.
— Федя. Это я, Ольга, не признал?
В лунном свете перед Федором стояла девушка, высокая и стройная, в длинном сарафане, мягко облегавшем ее юный, но уже женственный стан.
— Ты чего здесь? — спросил Федор.
— А ты чего? Все там, на гулянье, а ты один?
— А я не один, — спокойно ответил Федор, вглядываясь в ее глаза.
— А с кем же ты?
— А с тобой!
— Ишь ты, какой верткий! Это ты сейчас со мной, а чего с гулянья ушел?
— А ты чего ушла?
— А ты ушел, и я ушла!
— Эт почему?
— Потому, неинтересно стало!
— А со мной интересно?
Даже в лунном свете Федор увидел, как вспыхнуло девичье лицо, как взметнулись ее брови и она рванула в темноту. Но Федор успел ухватить девичью руку. Притянув ее к себе, Федор встал и почувствовал, как уже без насилия, сама прижалась Ольга к его груди. Еле слышно прошептали ее губы:
— С тобой интересно…
Только по утренней зорьке вернулся Федор домой. Горластые петухи уж третий раз орали в селе, когда он, забравшись на сеновал, упал в дурманящее пахучее сено. Мать, поутру управляясь со скотиной, не стала будить сладко спавшего сына. Прикрыв его разметавшееся в свежем сене тело медвежьей шкурой, она перекрестила спавшего, беззвучно ее губы прошептали одну ей известную молитву, берегущую сон родного сыночка. Вот и спал Федор крепко, без сновидений, а часа через два проснулся, отдохнувший и бодрый.
— Маманя, приготовь харчи в дорогу дня на три, пойду седни, зимовье тятино надо посмотреть да поправить, — сказал Федор, войдя в избу.
— Садись за стол, поешь. Когда пойдешь? — вынимая из печи чугунок с кашей, спросила мать.
— Мам, поем да и отправлюсь, чё время терять, по доброй погоде быстро доберусь. Где там Разбой, чё-то я его не заметил?
— У Петровых сучонка гуляет, наверняка твой Разбойник у их плетня трется.
— Ничё, шомполку только увидит, сразу все забудет, за мной пойдет.
— Вот-вот, все вы, мужики, такие. Что отец твой, что ты…
— Мам, это ты про чё?
— Ладно, ешь уже, это я так, о своем.
Федор ел с аппетитом, но на душе было нелегко. Вспоминал, как миловался с Ольгой до рассвета. Как целовал ее сладкие губы, мял и прижимал ее к себе. Дышал ароматом ее волос. Чувствовал, как дрожит ее тело от легких его прикосновений и ласк. Как долго они не могли расстаться… Как, прощаясь, она спросила:
— Придешь?
Он ответил:
— Нет, — и, увидев ее смятение, успокоил: — Не могу, в тайгу на несколько ден ухожу. Вернусь — дам знать.
— Хорошо, милый, — услышал он в ответ, и так ему стало легко и спокойно на душе, так ладно, как будто он обрел что-то новое и светлое.
Но все это было ночью, на реке. А сейчас, утром, он вдруг почувствовал свою вину перед Анютой. «Как я мог?! А как же она?» — билась в голове одна и та же мысль, не давая покоя. Чувство вины захлестывало Федора. Он буквально видел перед собой наполненные слезами и укором глаза Анюты. Отложив ложку и отодвинув уже не лезшую в горло кашу, Федор встал. Посмотрел на строгий взгляд Егория Победоносца с иконы, перекрестился трижды и отбил трижды поклон, прошептав про себя: «Прости, Господи, душу грешную!»
Пока мать в кутье собирала мешок, Федор вытащил из-за печи отцово ружье-шомполку. Аккуратно смазанное жиром, оно матово блестело, освобождаясь от мешковины, в которую было завернуто. Тут же, в жестяной цветастой банке из-под китайского чая, были и пороховница, и крупная картечь, и пули, литые еще его дедом, а может, прадедом. Федор, оглядев оружие, проверил ударник, кремень, прошелся шомполом по стволу. Вынув засапожный нож из кожаных ножен, несколько раз легко провел по лезвию тонким правилом. Убедившись в его остроте, сунул в голенище сапога и встал, принимая из рук матери заплечный мешок с едой.
— Федя, взял бы кого из парней с собой. Мужики сказывают, медведя много бродит, прям за околицей коровенку зайцевскую порвали.
— Поделом им, пожалели полушку пастуху платить. Теперь без коровы остались, слыхал — бабы голосили на подворье. Скупой вдвое платит.
— Господи, чё ты, Федь, чужой беде рад, что ли? Покайся немедля, перекрестись!
— Да не злобствую я, просто Васька Зайцев всей общине козни строит. Старосте нажаловался, что неправильно покос ему выделили, а сам в чужом наделе зарод поставил. Голованов на покос пришел, а сено скошено. К старосте, а там уже жалоба Васькина лежит. Будто Голованов на его покос залез. Крику было! Если б не мужики, Голованов точно бы морду ему расквасил, удержали. Прошлый год Голованов тот участок все лето чистил. Корчевал кустарник, все знают, а этот напа-скудничал, залез на готовое. Вся родова у них такая.
— Не суди, Федя, хотя отец тоже недолюбливал их. Ой, да бог с ними, оставь ты это. Я те про медведей, взял бы кого с собой.
— Мам, я ж с Разбоем, он медведя держать умеет. Рогатину возьму, да шомполка на всякий случай за плечом. Чё ты, мам, не впервой же в тайгу иду.
— Ладно, иди уже, с Богом, сынок, — проводила, крестя сына, мать.
На улице Федор призывно свистнул, и откуда ни возьмись выскочил его пес.
— Разбой, пошли! — строго приказал Федор.
Пес, увидев ружье на плече хозяина, радостно взвизгнул и опрометью бросился в сторону околицы. Верст десять до речки Карнаевки Федор шагал по дороге, хорошо проторенной старательским людом, затем свернул и углубился в тайгу одному ему ведомой тайной тропой, скрытой от посторонних глаз, проложенной еще его дедами. Густой, непролазный ельник был сырым и темным. Лучи солнца не могли пробиться к земле, застревая где-то там, в кронах. Рассеянный полумрак изредка прошивали лучики света в тех местах, где, раздвинув ели, стояли мощные листвяки. Мхи толстыми пластами скрывали под собой все, даже небольшие ручьи, журчащие меж камней. По щиколотку, а то и по колено проваливались ноги в это живое мягкое одеяло, которое, не прорываясь, тут же восстанавливало свою поверхность, стирая оставленные следы. Не зная тропы, идти по таким местам утомительно. Федор хорошо знал тропу и уверенно шагал, проскальзывая меж стволов и корчей, стараясь не обломить ни одной истки, не сорвать мох с камня. Его тропа, тропа его отца и деда, должна быть неведома никому.
Разбой, державшийся сзади, пока не вошли в тайгу, ринулся вперед. Он шел зигзагом чуть впереди Федора, тщательно исследуя каждую мелочь. Внюхиваясь и вслушиваясь в окружающий его дикий мир, всем своим видом он показывал хозяину, что готов к охоте, что все видит и все слышит. Иногда, остановившись, он шумно втягивал в свои ноздри воздух и оглядывался на Федора. «Там, там таится зверь, — красноречиво говорили его глаза. — Дай команду, хозяин, и я его найду!» Но хозяин не обращал внимания на призыв и говорил: «Вперед!» — срывая Разбоя с места, и он продолжал свою охотничью службу. Хозяин лучше знает, что он должен делать, — Разбой ему доверял и верил, преданно, добросовестно выполняя свою работу. Стая рябчиков внезапно взлетела чуть ли не из-под носа Разбоя. Это развеселило пса, азартно бросившегося ловить часто-часто бившую крыльями, но медленно поднимавшуюся в воздух птицу.
— Во дурень, дуй вперед! — рассмеялся Федор, видя прыжки Разбоя.
Часа через четыре пути Федор устроил привал, до избушки оставалось часа полтора хода, но именно здесь отец всегда останавливался попить отвару смородиновых листьев со зверобоем. Чистый ручеек вырывался из межкаменья на свободу, омывая галечную россыпь, его берега были сплошь покрыты кустарником черной смородины. Место для костра, раз и навсегда сотворенное из крупных валунов руками его отца, хранило память о нем и было для Федора священным. Сбросив с плеч поклажу, прислонив шомполку к стволу огромного листвяка, Федор насобирал сушняка и развел огонь. Зачерпнув чистой воды, установил на подвес котелок и стал собирать лист смородины. Нужно было запастись впрок. Он обрывал только самые молодые листочки и укладывал их в небольшой тряпичный кисет. Разбой куда-то исчез и появился только тогда, когда Федор, уже заварив котелок ароматной приправой, развязал мешок с едой.
— Держи! — крикнул ему Федор, оторвав почти половину шаньги. Он подбросил кусок слегка вверх, и пес, радостно взвизгнув, в прыжке поймал лакомство.
До ручья было недалеко. Иногда ему казалось, что он слышит, как журчит живительная влага, перекатываясь через камушки, увлекая за собой длинные, свесившиеся в нее травы. Сил подняться уже не было. Не было сил просто шевельнуть рукой. Последний раз, когда он выползал из избушки, не смог плотно закрыть дверь, и теперь комары, истошно звеня в тишине, нещадно жалили его беспомощное тело. Проваливаясь в беспамятство, он отдыхал от боли и мучительной жажды. Мутнеющее сознание уже не сопротивлялось предстоящему концу. Только одна мысль успокаивала душу.
Когда-нибудь кто-то придет в зимовье и похоронит по-христиански, а не зверью достанутся его кости. Закрыв глаза, он медленно положил руки на грудь. Он чувствовал, как приходило успокоение, как отступала боль. Откуда-то издали послышался лай собаки, или ему это показалось. Раскрыть глаза не было сил.
Уже рядом с зимовьем Разбой вдруг остановился и ощерился. Федор, наткнувшись на резко остановившуюся собаку, чертыхнулся и остановился.
— Что случилось, Разбой? — тихо спросил Федор.
Дверь зимовья была неплотно закрыта. Там кто-то есть. Он, уходя, как всегда, оставил дверь настежь открытой, чтоб медведь не сломал. Кто мог тут быть? Федор снял с плеча шомполку и взвел курок. Прислушиваясь, стал медленно приближаться к зимовью. Тихо. Ничто не выдавало присутствия гостей, только Разбой несколько раз предостерегающе гавкнул и зарычал. Уже у самых дверей Федор заметил, что неизвестный гость оставил следы, не было на месте заготовленных им бересты и щепы на растопку. Но в зимовье не слышно было ни единого шороха. Федор резко распахнул дверь. В нос ударил приторно кислый запах, он шагнул через узкую и низкую дверь и в слабо освещенном пространстве увидел тело человека, лежащее на его топчане. «Упаси боже, никак покойник?!» — с ужасом подумал Федор, опуская ружье. Разбой, проскочив меж ног хозяина в зимовье, встав передними лапами на топчан у изголовья, вдруг начал облизывать языком лицо лежавшего. Федор изумленно смотрел на это, не зная, что предпринять. Вдруг рука лежавшего дрогнула, ладонь сжалась в кулак. «Живой, слава господи!» Эту мысль подтвердил слабый стон-просьба: «Воды! Пить…»
Федор, схватив берестяную баклажку, бросился к ручью, тот был в десятке шагов от избушки, и через минуту, придерживая голову лежавшего мужчины, тонкой струйкой вливал в его растрескавшиеся губы воду. Напившись, незнакомец потерял сознание, безвольно и слабо его голова откинулась, борода больше не скрывала острый кадык на худющей шее. Федор присел и только сейчас смог разглядеть человека. Перед ним лежал крупный, но сильно исхудавший мужчина лет под сорок, черные, с сединой кудри и такая же борода обрамляли его лицо. Что-то знакомое увиделось Федору в его облике, но его внимание отвлекли раны, покрывавшие грудь и плечи мужчины. Глубокие, покрытые коркой спекшейся крови и, вероятно, загноившиеся, они жутко пахли. «Никак медведь мужика рвал», — подумал Федор. Решив не терять времени, Федор разжег в очаге огонь, принес воды и через какое-то время куском своей нательной рубахи осторожно омывал рваные раны на теле мужчины горячей водой. Набрав листьев подорожника, жевал их и кашицу прикладывал к опухшим, нарывавшим порезам. Изорвав в ленты свое исподнее, как смог, перевязал широкую горячую грудь так и лежавшего без памяти мужика. Только поздно вечером, когда Федор решил поесть, мужчина пришел в себя. При свете горевшей лучины Федор увидел, что он приподнял голову и смотрел на него. Федор молча жевал кусок шаньги, устроившись на пеньке перед сложенным из камня и обмазанным глиной очагом. Огонь весело горел, потрескивая и выбрасывая снопики искр в уходящую в потолок такую же искусно сложенную из камня трубу. Какое-то время мужчина молчал, наверное осмысливая произошедшее.
— Спасибо, парень — прошептали его губы, голова устало опустилась.
Только сейчас в памяти Федора вспыхнула картина из его детства, и он вспомнил, когда видел этого человека.
«Да это именно тот здоровенный чернобородый весельчак, что купил когда-то рыбу, расплатившись поцарски золотым самородком! Он, точно он!» Глаза, именно глаза запомнил тогда Федор, и теперь он видел эти же глаза, только вместо того неистового озорного огня в них была боль и благодарность.
Федор подошел к изголовью и, приподняв голову мужчины, из ложки влил ему в рот теплый отвар смородины. Тот проглотил, Федор дал еще несколько ложек:
— Пейте, дядя Семен!
Глаза мужчины слегка приоткрылись, в них вспыхнуло удивление, но тут же погасло — не было сил. Он опять провалился в беспамятство. Всю ночь он бредил, что-то кричал и обливался потом, расшвыривал шкуры, которыми его укрывал Федор. Под утро успокоился и уснул. Федор тоже уснул прямо на земляном полу, уткнувшись головой в свернувшегося калачом Разбоя.
Яркие солнечные лучи, проникшие в полдень в избушку через небольшое окошко, затянутое бычьим пузырем, разбудили Федора. Разбой уже давно сбежал и мышковал поблизости от избушки. С хрустом в суставах потянувшись, Федор встал. Низкий потолок не давал ему, как раньше, распрямиться в полный рост. Его знакомец лежал с открытыми глазами, лоб покрывали крупные капли пота, но дыхание было ровным и спокойным. Склонившись над ним, Федор отер мокрой тряпицей его лоб, повернулся, чтобы отойти. Крепкая рука взяла его за запястье.
— Откель мое имя знаешь?
Федор без особого усилия освободил руку и, внимательно вглядываясь в лицо лежавшего, ответил:
— Давно это было, но помню, в селе нашем, в Рыбном, в кабаке заплатили вы мне за рыбу самородком.
— И ты запомнил мое имя?
— Обличье у вас, дядя, запоминающееся, и голос вспомнил. И вообще отец говаривал: «Доброе дело помнить надоть!»
— Правильный у тебя батя был, славно тогда погуляли, а тебя не помню. Мой отец говорил: «Сделал добро человеку — забудь, сделал зло — век помни». Помоги-ка, сесть хочу, совсем спина занемела.
Федор помог.
— Что ж, извини, не помню, как тебя звать, давай знакомиться. — Он протянул Федору руку.
Федор осторожно пожал огромную костлявую ладонь старателя, назвался:
— Федор Кулаков.
— Уже думал, Богу душу отдам здесь, да, видно, рано еще мне, не заслужил. Каким ветром тебя занесло, парень, сюда?
— Так это мое зимовье, наследственное, от отца, от дедов. Все Кулаковы здеся охотничали, соболя да белку промышляли. Пришел к зиме поправить избушку да кулемы подновить, а тут такое дело. Как, дядя Семен, полегче вам?
— Слава богу, дышу да тебя слышу, водички дай. — Напившись, Семен прикрыл глаза. — Посплю я.
Трое суток Федор не отходил от больного, тот то просыпался, пил воду, то засыпал и спал непробудно. Только пару раз Федор смог заставить его проглотить несколько ложек мясного отвара, рябчиков между делом настрелял и варил их себе да Разбою на прокорм. Целой одежды на Семене практически не было. В клочья изодранная куртка и штаны из грубой ткани не поддавались починке, высокие кожаные бахолы огромного размера были целы. Когда Федор спросил Семена, где ж его так угораздило, тот только мотнул головой и отвернулся к стенке. Не спрашивая больше, Федор решил: захочет сам расскажет, чего пытать чужое горе. На четвертые сутки Семену стало значительно лучше, он поел и даже встал на ноги. Высокий, широкий в плечах, но страшно худой. Его от слабости качнуло. Опершись на Федора, Семен встал и вышел из избушки. Свежий таежный воздух пьянил. Семен сел на завалинку:
— Эх, закурить бы!
Федор протянул кисет с табаком:
— Закури.
— А чего ж ты молчал, что табак есть?
— Так не спрашивал.
— Я и не спрашивал. Вижу, не куришь, думал, не пристрастен ты к этой дурной забаве.
— Нельзя в зимовье табаком дымить, одежка пропахнет, зверь издали тебя чуять будет, не принято у нас. Вот на ветерке дыми себе.
— Ай, славно, — прокашлявшись после первой затяжки, прошептал Семен. — Аж в голову вдарило.
— Раз на табак потянуло, дело к поправке. Это хорошо, а то ведь мне домой надо, мать, наверное, молитвы шепчет за меня, обещал на два-три дня, а сам уж пятый дён не вертаюсь.
Семен молчал. Молчал после сказанного и Федор. Пауза затянулась, и Федор нарушил ее:
— Может, со мной потихоньку пойдешь? За день-дна доберемся. Мать тебя там быстро на ноги поставит, а, дядь Семен?
— Спасибо, Федя, не могу я к тебе в гости идти. Нс дойду, слаб еще и тебе обуза.
— Да кака обуза, денек еще отлежишься — и айда, пойдем, а?
После некоторого молчания Семен сказал:
— Нельзя мне, Федька, на люди казаться, пока не разберусь. Кое-кто хотел, чтоб я в тайге сгинул, пусть ык и считают. Вот таки мои дела.
— Да. То другое дело. Тогда жди меня здесь, отлеживайся, я домой и в обрат, одежку тебе принесу. Ватина как раз впору будет. На два дня еды хватит, а гам и я возвертаюсь. Договорились?
— Договорились, — ответил Семен.
Когда через два дня Федор вернулся, избушка была пуста. Семена не было, как будто и не бывало. Только запах табака остался в зимовье да теплый еще очаг. Федор немного огорчился, но не обиделся. «Значит, так решил, ему видней». Несколько дней ушло на нехитрый ремонт да другие охотничьи дела, и Федор собрался домой.
После того случая на реке гнев отца обрушился на ни в чем не повинную Анюту.
— Значит, повод даешь, раз так себя ведет! — орал Никифоров на дочь, обливавшуюся слезами. — Все! Хватит, завтра же собирайся, поедешь в Енисейск, к родичам, чтоб духу твоего здесь не было, не позволю позорить меня! Мать, собирай непутевую, с Акинфием пущай едет завтра же, заодно товары для лавки пусть смотрит, нечё бездельем маяться!
Мать Анюты, тихая и спокойная женщина, Алена Давыдовна, прижав к себе рыдающую Анюту, увела ее на свою половину.
— Отец сказал, так и должно быть, утри слезы, доченька, его слово закон, он же тебе добра желает, — успокаивала она Анюту.
— Мама, так люблю же я его, как же я поеду, что он-то подумает?
— А он тебя? Ой, девонька, не пара он тебе, что от него проку-то? Отец его на службу к себе звал, так не пошел, а пошто? Гордыня заела. А любил бы тебя, гордыню-то поунял бы. Да все, может, и сложилось бы, а так что? Кто он, твой Федька? Голь перекатная, да еще с норовом!
— Мама, ну что ты говоришь, иль ты меня не любишь? Иль счастия мне не желаешь?
— Потому и говорю, что счастия тебе желаю, доченька. Успокойся, подумай, время тебе будет, проветришься, людей многих увидишь, а там все на свои места и станет. А слезы утри, говорю, негоже взрослой девке слезы лить, не стоят мужики девичьих слез, не стоят, поверь мне.
К вечеру на небольшом дощанике Акинфий Сумароков отчалил от пристани. В каюте на корме у прорезного окошка сидела Анюта, ее красные от слез и опухшие глаза напрасно всматривались в берег. Не появится Федька, не махнет рукой, не улыбнется. Нет его в селе, на покосах он. Знала об этом Анюта, подружки шепнули напоследок, а все равно обидно было, и сердце девушки разрывалось.
Другое настроение было у Акинфия. Среднего роста, плотного телосложения, не по годам осанистый, стоял он на носу дощаника, подставив лицо свежему ветру. Небольшая подстриженная черная борода и аккуратные усы едва прикрывали чувственные тонкие губы. Зализанные назад блестящие волосы открывали довольно широкий лоб и выразительные, карие с поволокой, глаза. Это был красивый мужчина тридцати лет от роду и неплохого роду. Его отец начинал с Мангазеи, торговые дела теперь имел и в Енисейске, и в Казачинском, и в Красноярске. Будучи дружен немало лет с Никифоровым, отправил сына наладить торговлю мануфактурой в Рыбном селе. Уж больно интересным место оказалось, старательский люд сплошным потоком шел золото искать в те места, и находил, и, возвращаясь, оставлял львиную долю добычи в кабаках и лавках. Акинфий у отца был старшим сыном при трех дочерях, и потому не жалел он денег на его обучение, несколько лет в Москве и Санкт-Петербурге провел Акинфий; познавая тонкости торгового дела. И не зря. Вернувшись, сын взялся за дела, и скоро отец почувствовал его деловую хватку. Всем был доволен старший Сумароков в своем сыне, одного ему не хватало, сын не был женат и как-то не проявлял в этом никакой инициативы. Одна работа была в его голове, это и радовало отца, но, с другой стороны, хотелось ему и внуков на коленях подержать. Наследников, иначе к чему это все делалось? Отправляя его к Никифорову, он надеялся, что вдруг там зацепит сердце сына кто из дочерей его старого друга. Вот ладно-то было бы! Та же Анюта. Очень нравилась ему эта девушка, был бы рад такую в невестках иметь. Намекал об том Никифорову, тот руками развел, сватай, супротив не будет. Да только за тем ли дело встало? Надо, чтоб сын его, Акинфий, руку предложил и сердце, чтоб ладом все было. Теперь ждал старший Сумароков сына да Анюту в гости, ждал и надеялся.
В голове Акинфия мысли были другие. Между делом, пользуясь полным доверием хозяина, посчитал Акинфий торговый оборот никифоровского хозяйства, спрос изучил и понял, что не закрывает он и трети возможностей. А возможности у Никифорова были сегодня огромные, а если в завтра заглянуть? Не пять кабаков нужно, а десять, не две лавки с мануфактурой да съестным припасом, а пять, да с добротными складами. Опять же товар не совсем тот, товар надобен дорогой и качественный. Старательский люд, из тайги после фарта выходя, тут же свои латаные портки на парчовые сменить хочет да портянки бархатные намотать на грязные ноги. Тут поспеть надо, пока раж не пройдет. Никифоров, может, это и понимает, да размах у него не тот, тут связи нужны не в Енисейске, тут московские связи нужны, кредиты и товары. Вот это он, Акинфий, имеет, да деньги отцовские если привлечь? Однако, ежели дело пойдет, получается, перейдет он дорогу Никифорову у него под носом, в его вотчине сливки снимать будет, а это негоже. Отец не позволит друга своего обидеть. Тут поразмыслить надо, с какого конца ниточку потянуть.
Акинфий вглядывался в плывущие мимо берега. Ангара, полноводная и мощная, несла дощаник как перышко, взбрасывая на перекатах и увлекая прижимами к берегам. Удержать суденышко в фарватере — единственная задача гребцов и рулевого, уж очень своенравная и коварная эта река. На широком ее раздолье внезапно налетавший ветер поднимал такие валы, что, не угляди вовремя да не укройся в берегу, ничто уже не спасет, только чудо. Потому неотрывно впередсмотрящий вглядывался в даль, не просыхали рубахи у гребцов, с надеждой ждавших попутного ветра. Под парусом-то веселее, но ветер, как на грех, был встречный. Рыбинский утес, с высоким, рубленным из ендо-вых лесин храмом над рекой, постепенно скрылся из вида, растаяв в колыханье воздушных потоков над водной гладью. Береговые скалы и сопки, сплошь укрытые вековой тайгой, простирались нескончаемо. Островками открывались редкие, небольшие, но крепко посаженные деревни, больше по левому берегу. Небольшие пристани были утыканы разными по размерам лодками и дощаниками. Река и кормила, и единственной живой ниткой связывала меж собой людей в этих краях. Отвоеванные тяжким трудом у тайги пашни и покосы, как лоскуты, расползались от деревень. Зрели и наливались колосом хлеба. Мощные зароды сена на заливных лугах и стада домашней животины говорили о том, что народ работящий крепко осел на берегах красавицы реки и надолго. Уж четыре, а то и пять поколений считали себя коренными ангарцами. А начиналось все с времен далеких. Небольшими отрядами, спускаясь с низовья по Енисею, казаки отвоевывали земли у местных тунгусских князьков, заставляли, где добром, а где силой, платить ясак русскому царю. Немало крови пролито было на берегах Ангары, не уступали тунгусы своих мест, встречали казаков засадами да меткими стрелами. Не раз, несолоно хлебавши, с Ангары возвращались ладьи казачьи с убитыми и ранеными в Енисейский острог. Да больно богат был край пушной рухлядью, соболь и белка, медведь и рысь, лиса и росомаха — все это требовал царский приказ для торговли с Европой. Потому шли и шли отряды казаков, тесня тунгусов, огненным боем и воинской доблестью сокрушая их отчаянное сопротивление. Только поставленный в отвоеванном месте, называемом тунгусами на своем языке Рыбной ловлей, острог, на высоком Рыбинском утесе, окончательно сломил их, подчинил под ясачную дань. Однако князек Тесей, объединив непокорные племена, еще долго отбивал атаки казаков, пытавшихся овладеть его рекой, дважды возвращались битыми казаки с Тесеевой реки. Умно поставленные засады встречали казаков, простреливаемое с обоих берегов пространство реки много лет еще оставалось непроходимым. Но время диктовало свое, необходимость в товарах заставляла тунгусов торговать с казаками. Оставляя пушнину в условленных местах, они получали за нее то, чем не могли разжиться, кочуя в тайге. В конце концов внутренние распри князьков и дипломатичное поведение казаков возымели действие, склонив племена к повиновению. Худой мир лучше хорошей войны. И потекла ясачная пушнина в Москву, а оттуда через Архангельск в Англию, Швецию, Германию, да мало ли где в сибирских соболях щеголяли богатеи. «Мягким золотом» называли в те времена сибирскую пушнину. Царским указом запрещено было лес разрабатывать по берегам красавицы Ангары, дабы не оскудить угодья звериные. От Рыбинского острога и пошли малые деревни по Ангаре-реке, смешались казаки и пришлые русские с местными племенами, оттуда и пошло название народа особое — ангарцы, поскольку в крови у теперешних жителей толика тунгусской коренной ангарской крови была. Веками ковался ангарский характер, свободолюбивый и независимый.
Вобрал в себя лучшее от своих предков, сплавив в огне костров и закалив ледяной стужей отчаянную казачью храбрость и свободолюбие, неприхотливость и выносливость таежного народа, его умения и навыки.
Не терпела ангарская природа слабых и ленивых, да и откуда им было взяться? Получив царские подорожные, уходили добровольно в Сибирь крестьяне, землей наделяли в этих краях, да какой землей!.. Сказки о сибирской земле будоражили крестьянские умы. Уходили от помещиков в бега, зная, что по царскому указу в этих краях можно безродно представиться и получить новое имя и землю, жизнь начать вольную. Крепостных в Сибири не было, как не было и помещиков. Много и лихих людишек, спасаясь от кары за злодеяния, уходили и, не помня родства, заново представившись, обретали новую жизнь в глухомани сибирской. Старообрядцы, не склонив голову перед патриархами новой веры, шли сюда, чтобы особняком поселиться подальше от всех, никому не мешая и никому не подчиняясь. Прибывали в эти края люди из России пешим ходом и на лошадях, по два года добираясь до сибирских земель местами безлюдными, опасными, многие целыми семьями гибли в пути от бескормицы или лихого дела. Теряли в тяжком пути родичей от болезней, умирали женщины и дети; похоронив их, стиснув зубы, мужики шли дальше, и только самые сильные добирались в эти края. Так уж получалось, что женщин русских в ту пору большая нехватка была в Сибири. Царь, поразмыслив с дьяками думными, даже указ издал: воровским да разбойным женкам смертной казни не чинить, ноздрей не рвать и чело не клеймить, а ссылать в Сибирь на вечное поселение. По Ангаре пахотных земель не было, потому в эти края заходили промышленники, те, кто охотой да рыбной ловлей промышляли. Обосновываясь в угожем месте, постепенно обрастали они людьми пришлыми, и те места становились деревнями да селами, на века сохранив имена первопоселенцев в своих названиях.
— Эй, Петро! Что за деревня на берегу? — спросил Акинфий у кормчего.
— То Сметанина.
— Здесь заночуем, что ли?
— Не, барин, дальше пойдем, пока светло, в Кулаковой деревне ночевать будем, так нам сподручней.
— Ну, как скажешь, тебе видней, — согласился Акинфий.
Стало прохладно, и, запахнув кафтан, он зашел в каюту. Уткнувшись в сложенные на столе руки, спрятав заплаканные глаза, за столом сидела, делая вид, что уснула, Анюта. Акинфий, зная о ее печальных думах, не стал тревожить девушку. Его не волновали ее переживания. Время как мельница, все перемелет, из мук девичьих мука будет, а поспеет девица, так и хлеб народится. Осторожно пройдя дальше за перегородку, он устроился на топчане и скоро уснул. Анюта давно заметила неравнодушные взгляды молодого Сумарокова. Отец не раз приглашал его к столу и рядом сажал. Если бы не Федор, пригляделась бы она к Акинфию, да сердце занято было, потому неприветлива она была и молчалива в его присутствии. Не принимала его ухаживаний, дичилась и равнодушно не замечала Акинфия. Тот не обижался, казалось бы не замечая холодности Анюты, все так же мило ей улыбался при встрече. Заговаривал с ней шутя и приветливо, легко и непринужденно флиртовал. Она чувствовала, как провожал он ее удивленным взглядом, когда она, уклоняясь от возможного уединения, сославшись на что-нибудь, уходила. Отец ничего ей об Акинфии не говорил, но она видела, как недовольно хмурились его брови, когда она уперто молчала, не отвечая взаимной вежливостью в разговоре, когда торопливо покидала общество, как только появлялся сын Сумарокова. Сначала отец думал, что она просто стесняется этого человека, которого он так приблизил к семье, и это пройдет, и постепенно они станут дружны, а там, глядишь, и до свадьбы дело дойдет. Потом понял, в чем причина, и принял меры, Анюта со двора только с разрешения отца пойти могла, да еще под присмотром. Это еще более усилило неприязнь Анюты к Акинфию, хотя вины его в этом совсем не было. Не пытался Акинфий понравиться Анюте, его поведение в ее присутствии было всего лишь вежливым поведением галантного мужчины по отношению к девушке. То, что для Акинфия было допустимым и даже обязательным в поведении, для Анюты и окружающих считалось ухаживанием с далекоидущими последствиями. Она вообще не была в его вкусе. Одно обстоятельство не учитывал отец Анюты, так же как и отец Акинфия. Это то, что Акинфий, проведя долгое время в Москве, приобрел там некоторые привычки общения со светскими, образованными женщинами. В его голове сложился некий стереотип женщины, с которой он мог бы связать судьбу. Увы, здесь, в сибирской глубинке, встретить женщину, отвечающую его требованиям, просто не было возможности. После некоторых попыток он оставил эту затею, целиком и полностью отдавшись работе, надеясь вырваться в Москву, где и заняться делами личного плана. Теперь, реализуя новые замыслы, он и рассчитывал, что ему удастся уговорить отца на эту поездку. Аргументов в пользу его замыслов было много, и они были весомы, так как весомо золото, которое потечет в их закрома. Потому Акинфий спокойно спал, полный сил и желания реализовать задуманное.
Анюта не спала, она не могла успокоиться. Скандал, устроенный ее отцом, причиной которого было глупое поведение Федора, ломал все ее планы, все их с Федором думки. Теперь она уезжала, не свидевшись, не попрощавшись. Уезжала далеко и надолго, сердцем чувствуя, что ждет ее недоброе, ненадобное ей событие. А река уносила судно все дальше и дальше от родных мест, от милых сердцу подруг, от любимого и столь дорогого ей Федора. Слезы, наворачиваясь сами собой, капали из глаз. Анюта, тихо всхлипывая, утирала их, а они все катились и катились. Как несправедлива к ней жизнь, как жестока!..
Попался Яшка Спирка по глупости. Воровал он давно, сызмальства. Еще родители живы были, а сам под стол пешком ходил, норовил он из чужой миски лишнюю картофелину стырить. Бит был неоднократно, но от того привычку чужое брать не утратил, а только научился делать это так, чтоб поймать его не могли. Любил все так устроить, что искали у других и хватали других по его делам. К двадцати пяти годам мошенником стал известным в определенных кругах. Весь воровской Петербург имел честь за столом со Спиркой посидеть в ресторации, кофею испить иль шампанским побаловаться. К тому времени родители его оставили этот свет, теперь с того с ужасом взирали на проделки сына своего. Мастак был Спирка на выдумки, манеры и обличье его вводили в заблуждение самых маститых купцов и промышленников. Имея, от родителей своих, на Невском небольшую квартирку, жил он только в номерах в квартале от нее. В широких кругах представлялся как коммерсант Яков Васильевич Спиринский, дела торговые и промышленные якобы имел в Сибирской губернии, потому жил на широкую ногу. Легко говорил по-французски, знал немецкий, начитан, знакомством с Пушкиным, Державиным ненароком хвастал, мог прочесть кое-что из их стихов. Это сражало наповал женщин, и он этим умело пользовался, плетя свои многоходовые комбинации.
В этот раз все складывалось на редкость удачно. Прибывший из Красноярска купчик средней руки, имея при себе жену и дочь, поселился в номерах и два дня кутил в ресторации, ублажая свою лучшую половину столичными деликатесами. Разгоряченные вином барышни не смогли не обратить внимания на элегантного, скучающего в одиночестве Якова, и скоро он был приглашен к столу. Выяснив о нем, что он успешный коммерсант, купец Иван Васильевич Сазонтьев, подливая новому знакомцу наливочки, стал выведывать у него про товары да цены на мануфактуру. Тем временем жена его — в бок локтем дочке, чтоб глаза пялила на столь обаятельного знакомца. Та рада стараться, вся выложилась, и Яков, оглядевшись, ненароком прояснил, что холост и уже тяготится этим, гак как для кого ж он капиталы наживает. Сам тут же решил поближе с семейством познакомиться. Ему по вкусу, правда, жена купеческая пришлась, но и дочка, чувственно припадая к нему в танце, показалась съедобной. После двух душещипательных бесед Яков чуть ли не признался в любви и преданности обворожительной Глафире Ивановне. Отчего купеческая дочка все уши прожужжала маменьке про Якова и ни в какую без него не соглашалась выходить на Невский. Яков, ссылаясь на занятость, сопротивлялся для виду уговорам, но сдавался и в конце концов все время проводил в компании семьи Сазонтьева. Естественно, за их счет кушал и вкушал дорогие напитки. В мирных беседах за чаем или ликером, под неотрывным взглядом влюбленных глаз дочери купца, обсуждал он с Иваном Васильевичем дела торговые, перспективы кредитных операций, чем убедил его в недюжинных своих способностях в части дел коммерческих. Причем размах и широта обсуждаемых проектов, цифры, которыми с легкостью оперировал Яков Васильевич, просто ошеломляли Сазонтьева. Ловко подстроенные встречи с «крупными и значительными личностями», с которыми Яков по-свойски обменивался новостями, возымели свое действие. Сазонтьев раскрыл перед Яковом свои планы и попросил содействия у столь влиятельной персоны. Естественно, не безвозмездно. Как капли живительной влаги на иссохшую почву, были слова Якова о том, что, возможно, капитал не выйдет из круга семьи. Глафира Ивановна, бывшая при этом разговоре, зардевшись, потупила глаза. Ее грудь, едва прикрытая вечерним платьем, взволнованно вздымалась от избытка переполнявших ее сердце чувств.
— Яков Васильевич, папенька, ну что вы все о делах да о делах, так мы опоздаем на променад, — томно взглянув на своего кавалера, проговорила она.
— Да, Иван Васильевич, вопрос очень серьезный, и мне следует его тщательно обдумать, не будем торопиться. — Взглянув на Глафиру Ивановну, добавил: — Если вы позволите, разрешите пригласить вашу дочь на вечернюю прогулку.
— Конечно, уважаемый Яков Васильевич! Продолжим завтра наш разговор, — довольно согласился Сазонтьев.
Сын мелкого чиновника одного из департаментов Сената, Яков не слишком лукавил, рассказывая о своем родителе. Его отец действительно до конца дней своих добросовестно исполнял государственную службу и не раз удостоен был похвалы начальства. Только от своего положения коллежского регистратора дальше в табели о рангах не поднялся, недоставало ума и напористости, изворотливости и хитрости. Зато этих качеств с избытком хватало у его сына. И положенное обращение к его отцу «ваше благородие» он незаконно, но принимал к своей личности, хотя на службе не состоял. Это было преступно и строго наказывалось. Это и подвело. Громко произнесенная фраза приветствия: «Ваше благородие, господин Спиринский, Яков Васильевич!» — постарался один из прикормленных им ранее, проигравший свое состояние в карты сынок мелкопоместного дворянина Федосова, — была услышана в ресторации. Случайно находившийся там фискал герольдмейстерской конторы Сената навел справки и выяснил, что Спиринский на службе не состоит, согласно табели о рангах, дворянского звания от отца не унаследовал и именоваться подобным образом права не имеет. О чем и была написана подробная бумага и подана по инстанции. Произошло то недели три назад, но именно сегодня, когда Спиринский вальяжно вышагивал под руку с Глафирой Ивановной по Невскому, из экипажа, остановившегося рядом, выскочили двое крепких мужчин в штатском и, ни слова не говоря, скрутив руки, схватили его и, втолкнув в экипаж, увезли. Ошарашенная случившимся, буквально потерявшая дар речи, барышня так и осталась стоять одна среди гуляющих столичных бездельников и повес. Не помня себя, она вернулась в номера и, долго рыдая в истерике, пыталась объяснить родителям, что произошло с Яковом Васильевичем. Ничего понять из ее объяснений ни отец, ни мать не смогли. Только то, что на него набросились и увезли «варнац-кие» рожи, как красочно описала их дочь.
Доставленный в полицейский участок, Спиринский вел себя смирно и честно объяснил свое происхождение полицейскому чину, рассматривавшему его дело. «По глупости и незнанию, не сам, а токмо со стороны его величали, не на богослужении или официальном приеме, а в ресторации при компании после пития обильного» — все эти объяснения выслушаны были и приняты во внимание. Однако ночь Яков провел в арестантской, вместе с бродяжками и ворами. Утром же, получив устное предостережение, выпущен был на свободу.
Так все гладко шло, и теперь этот арест мог все расстроить, сокрушался он. Ох, как неуютно в арестантской, противно и мерзко. Нет, никогда он не даст больше схватить себя, думалось ему. От тюрьмы да от сумы не зарекайся, мелькнуло в мозгу. Яков, оглянувшись по сторонам, поправил шляпу, стряхнув налипший в камере на камзол мусор, широко и уверенно зашагал по Литейному. Он решил сразу найти Сазонтьева и объясниться, его изобретательный ум лихорадочно искал убедительную версию. Его репутация и добропорядочность для осуществления задуманного должны быть безупречными. Открывая парадное, еще только подыскивая варианты, он нос к носу столкнулся с Иваном Васильевичем.
— Господи, что произошло? Глашенька вчера сказала, что вас похитили!
— Как видите, сударь, я цел и невредим. — Ответив, Яков, широко улыбнувшись, как к отцу родному, прижался к Сазонтьеву. — Времена такие, Иван Васильевич, по дерзкому навету чуть не записали в декабристы, да, слава Всевышнему, сразу и разобрались. Ошибочка вышла, ох, сурова царская воля, ох сурова, но, слава богу, справедлива. В Третьем отделении, графа Бенкендорфа, жестокие нравы. Потому и грубо схватили, без объяснений, посчитав меня за беглого. Фамилия подвела, на польский манер, а там бунт, измена, вот и сполошились. Всех поляков хватают. Да, слава богу, личность моя известна, и вот, что б вы, сударь, думали, всю ночь принимал извинения, пришлось не отказаться с самим полицмейстером Шлыковым шампанского попить. Тоже надо, а как же, из уважения. Немного подремал — и к вам, успокоить.
Хлопая глазами и прикрыв ладонью открытый рот, Сазонтьев выслушал речь Спиринского. Затем, приобняв за плечи, увлек его за собой.
— Слава богу, Яков Васильевич, слава богу, идемте, любезнейший, там Глашенька все успокоиться не может, супруга моя тоже в недоумении.
— Вам я открыто все изложил, Иван Васильевич, нельзя барышням такие подробности, прошу, увольте от этого.
— Не беспокойтесь, уж я сам все им поясню, — благодушно улыбаясь, заверил его купец.
Земля слухами полнится. Еще никто, кроме охотников, промышлявших пушного зверя, не ходил в этих местах с иными помыслами, а слух о том, что золотом богаты эти края, пополз по деревням и селам. Из уст в уста передавались легенды об охотнике, нашедшем в зобу глухаря самородок. Про золотой песок в реках, про таинственных китайцев, таежными, потаенными тропами приходивших ранней весной и также тайно осенью уходивших из тайги. Что заставляло их покидать свою Поднебесную, преодолевая тысячи верст, тайно, с риском для жизни пробираться сюда и исчезать в тайге? Летом охоты нет. Летом комар да мошка свирепствуют в долинах таежных ручьев. Непролазные болота и крутые скалистые сопки, дикие звериные места, ручьи и речки с ледяной водой — ничто не останавливало их. Ничто не было препятствием на пути. Самым страшным для них были люди. Люди, выслеживавшие их на пути, охотившиеся на них, хитрые и беспощадные. Для многих дорога домой была последней дорогой в их жизни, но они шли и шли, передавая из поколения в поколение, неведомо как, знания о пути и местах золотоносных. Старики учили молодых: одной тропой два раза не ходи. Глаза и уши, выносливость и молчание — главное оружие китайца. Умение не оставлять следа, проникая в глубину чужой, враждебной, но сказочно богатой страны. Так же тихо и незаметно уйти, обойдя западни, вынести на груди и отдать семье горсть золотого песка. Это стоило жизни, это стоило тяжелого и опасного пути и не менее тяжелого труда. Золото — древний и могущественный металл — манило людей…
Грустно было на душе. Не радовало Федора даже солнечное утро и веселый лай Разбоя, чувствовавшего близкое село. Ноги просто привычно несли его по знакомой дорожке, а радости возвращения домой не было. Он знал, придет вечер, а не ждет его на берегу у камня Анюта. Нет ее в селе. Уехала не простившись, как будто сбежала. Да еще с приезжим приказчиком. Видел как-то его Федор — плотный мужик, справный. Девки на селе о нем болтали, мол, в самих столицах жил, грамоте обучен и отец его богатей из Енисейска. Завидный жених, однако на сельские вечеринки не ходил, книги читал вечерами. На девичьи взгляды внимания не обращал, словно не из того теста леплен. Не знали девки, как к нему подступиться. Оттого злились и кличку ему дали — Павлин. Хотя никто такой птицы в глаза не видел, только на картинке да по рассказам одного пришлого дядьки, что в далеких индиях побывал. У самого села Федор догнал подводу с сеном. Степки Потапова, покойного, самый младший брат, еще совсем мальчишка, вез сено, да колесо, на камень наскочив, сорвалось со ступицы.
— Ну чё, Сила, сидишь?
— Сижу, Федь, помогни, может, вдвоем подымем?
— Не, такой воз не подымем, разве что лагой.
Попробовали, срубив еловую сушину, пристроив под камень, навалились. Приподнять приподняли, да только колесо поставить иль подпорку не могли.
— Беги в село, братьев зови, я тута посижу пока, — сказал Федор Силантию.
— Дак они не в селе, на покосах.
— Ну, тогда давай разгружать, чё делать-то.
Федор, ухватив большие, похожие на рогатину деревянные вилы, с силой вогнал их в хорошо уложенную копну. Разбой, повертевшись у подводы, потихоньку исчез. «В село убег, соскучился по дому», — подумалось Федору. Он уже взмок от работы и, остановившись, сбросил с себя рубаху.
— Попей кваску, Федь.
— Спасибо, Сила! — приняв баклажку, поблагодарил парня Федор и большими глотками, проливая на голую грудь хлебный аромат, принялся пить кисловатый терпкий домашний напиток. — Ух, хорош квасок. Чё там в селе?
— Да ничё, все как усегда. Никифоров со своей бабой на днях дощаником ушли в Енисейск. Стоко добра в него грузили, и меха, и рыбу, и мясо. Чё это они, среди лета?
Федор утерся рубахой и молча взялся за вилы. Сметав на землю полвоза, вновь попробовали лагой, и, приподняв, Федор повис на ней, а Силантий ловко и быстро приладил колесо на место.
— Ну вот, спасибо, Федь. Ты уж иди, я сам загружусь.
— Забирайся на воз, принимай да укладывай, сам он загрузит, подрасти малех надо! — улыбаясь, скомандовал Федор, видя, как сноровисто и ловко Силантий вскарабкался наверх.
Подавая сено, Федор думал о своем: «Чего это Никифоров всем семейством вдруг в Енисейск наладился, да еще среди лета? Анюта в Енисейске уж месяц, а тут родители туда ж». Нехорошие мысли отгонял от себя Федор, только они лезли и лезли в голову. Не заметил, как и сено сметал на подводу.
— Все, вилы давай да байстрык притяни! — крикнул Силантий сверху. — Федь, чё, не слышишь, чё ль?
Федор весь в своих думках не сразу понял, чего хотел мальчишка.
— Держи, — выполнил он его просьбу и в два приема крепко притянул байстрык к телеге. — Пока, Сила. Накинув мешок на плечо, Федор пошел по дороге.
— Садись, Федь, — догнав его на подводе, позвал Силантий.
— Не, езжай, я пехом, торопиться некуда, — ответил Федор.
— Ну как хошь, спасибо, заходи в гости вечером, братья с покоса вернутся.
— Может, зайду, — кивнул ему Федор.
Как не хотелось ему возвращаться в село! Ноги будто свинцом налились. Федор сошел с дороги и сел на поваленное дерево.
«Неужели Анюта так осерчала, уехав, даже словечко не передала?» — думал он, вспоминая ее глаза. Тогда на берегу ему показалось, они были какими-то другими. Как-то не так она глянула на него, когда, сорвавшись с места, убегала. Как будто увидела его впервой. Неужели она не поняла, что он просто хотел пошутить. Да не к месту и неловко все произошло, но он ведь не хотел, он же ее любит больше своей жизни!
— Чего грустишь, казак? — услышал он знакомый голос.
Федор глянул на дорогу. Из тайги тяжелой походкой, весь в рванине, опираясь на сосновый посох, вышел Семен.
— Вот те раз! Дядя Семен, чё ж ты с зимовья ушел, я ж тебя там встретить собирался?
— Дак ждал два дня, а на третий сам пошел, вдруг ты не придешь! — улыбнувшись, ответил Семен.
— Я ж слово дал! — обиделся Федор.
— Ладно, не серчай, пошутил я, знал, что вернешься.
Семен устроился рядом на ствол дерева.
— Просто решил тебе навстречу выйти, да разминулись. Тропу твою не разглядел. Только сейчас и вышел к дороге, считай, три дня плутал. А тут ты, вот как быват. Видно, нам с тобой дальше одной дорогой жизнь пробивать придется. Не зря нас сводит судьба. Ты как считаешь?
— А чё? Я с детства мечтал с тобой на Удерей-реку податься, золото промышлять. Веселый ты тогда был, и други твои понравились мне. Где ж они теперь, а?
— Долго рассказывать. Кто где, а кто уже в сырой земле, потом расскажу, время будет в достатке.
— Ладно, пойдем в село. В баньке помоемся, тут недалече уже. Слышишь — собаки брешут.
— Не могу, Федор, я ж тебе говорил.
— Что ж делать?
— Сам не знаю, схорониться пока надобно, сил набраться, потом видно будет.
— Тут недалече избушка есть, брошенное зимовье, старое, если подладить, лето пожить можно, идем туда.
После недолгого раздумья Семен согласно кивнул:
— Что ж, идем.
Продираясь сквозь чащу, без тропы, они добрались до вросшего в землю строения. Оно притулилось к скалистому обрыву в густом ельнике и совсем обветшало. Пологая крыша светилась дырами, почерневшие стволы низкого сруба обросли мхом. С пяти шагов не сразу приметишь. Ни двери, ни очага, и сырой плесневелый воздух внутри.
— Да, не хоромы, — вздохнул Семен.
— Ничё, подлатаем крышу, очаг сложим, протопим, дверь наладим, дядь Семен, иль все ж в село? — сбросив с себя мешок с поклажей, спросил Федор.
— Дак сам же говоришь — подлатаем, протопим! Остаюсь, коль сии хоромы поправить поможешь.
— Ну, тогда собирай сушняк, костер зажжем, перекусим — и за дело. К ночи надо поспеть, а то комары зажрут.
Федор, схватив котелок, спустился ниже, где журчала в каменьях вода. Набрав ее, чистой и студеной, он сначала напился, сполоснул лицо, а потом, наполнив котелок, вернулся к зимовью. У зимовья уже весело трещал костер. Семен, подкладывая зелень, дымил, разгоняя летучую нечисть.
— Скоко тут зверья, заживо сожрут! — ворчал он, отмахиваясь от полчищ комаров.
— Вечером, если такая тишь будет, точно сожрут. Место тут такое, комариное, зато мошки нет.
— От то уже хорошо.
— Там ручей, дядь Семен, иди сполоснись, и вот, я тебе одежку принес, оденься, все с комаром легче справляться будет, а то у тебя не кафтан, а решето.
— Добро, Федор, спасибо.
Прихватив одежду, Семен ушел к ручью. Федор поставил котелок на огонь. Разложил немудреную еду на камне, нарезал кусками вяленое мясо, лепешки, лук.
Семена не было долго, уж закипела вода, и Федор заварил ее травами. Тонкий аромат поплыл от млеющего в живительной влаге листа зверобоя и мяты. Не удержавшись, Федор окликнул Семена, не услышав ответа, спустился к ручью. На излучине ручья, по щиколотку в воде, согнувшись, стоял Семен и что-то делал.
— Дядь Семен, ты чё там, пошли, все готово, поспешать надо, делов-то много.
Семен оглянулся, увидел Федора и, широко улыбаясь, распрямился во весь рост. В его руках была деревянная, лопнувшая в нескольких местах, черная от старости посудина, больше похожая на лопату без рукоятки.
— Поди сюда, глянь! — крикнул он.
Федор спустился к ручью.
— Чё там?
— Гляди! — Семен протянул ему посудину. На самом ее дне среди небольшой горстки песка с водой проблескивали желтые песчинки.
— Что это? Нетто золотой песок? — не веря своим глазам, спросил Федор.
— Точно, Федька, это золото! Ручеек-то золотой, во как! — тихо, но с азартом сказал Семен.
— Вот те на, совсем рядом. Нетто правда золото?!
— Оно, оно, Федька, самому не верится. Таку даль ходили, а оно вот, под боком, прям рядом, далеко мы от села?
— Да верст пять-шесть, не боле.
— Это, Федь, хорошо и плохо. Этот ручеек теперь беречь надо, чтоб ни одна душа живая не проведала про него! Кто зимовья этого хозяин? Не наведается, часом?
— Да брошенное оно, сколько себя помню. Охотился, отец сказывал, тут ране дед Мотыга, да давно это было. Зверь перевелся, он и ушел дале, а избушка, вишь, в землю уже вросла.
— Все бы так, то ладно бы было!
Выбираясь из ручья, Семен ухватился за протянутую руку Федора. Федор легко выдернул его на крутой в этом месте берег.
«Силен парень», — подумал Семен, направляясь к зимовью.
— Однако кто-то здесь был, кто-то этот лоток здесь оставил, — указывая на деревянную посудину, сказал Семен, когда они, уже расположившись у костра, ели. — Это струмент специальный, как он сюда попасть мог?
— А где ты его нашел?
— Дак на бережку ручья, у дерева поваленного, в корневище.
— Может, его водой принесло откуда? По весне? Весной этот ручеек в речку превращается, не перейдешь.
— А где его начало?
— Кто знает? Впадает в Карнаев ручей, а где зачинается, не ведаю, не ходил по нему.
— Может, и принесло водой, лоток-то давно сделан, не так, как сейчас.
— Гадать не будем, надо избушку ладить, а то сожрут ночью звери лютые, — отмахиваясь от надоедливых комаров, сказал Федор, поднимаясь.
Дотемна они затыкали мхом и берестой дыры и прорехи в избушке, благо и того и другого было вдоволь. Семен нарубил еловых лап и что-то плел из них. Федор, смекнув, помогал, и вскоре они улеглись на душистые и пружинящие под тяжестью тела постели.
— Ловко у тебя, дядя Семен, это получилось.
— Первое дело в тайге у старателя — на земле не спать. А еловая лапа — лучший материал для матраса. Зимой и летом пушистая. Правильно сплети — и хоть на снег, хоть на каменья ложись, тепло из тела земля не заберет.
На скорую руку сложенный очаг еще не обогрел зимовья, и сырость выступала на бревнах бурыми каплями. Дым, медленно выходя через дверной проем, застилал все, оставляя только три вершка от пола, на котором они спали. Щипало глаза, першило в горле, но зато не было комаров.
— Ничё, завтра день топить буду, просохнет, да дверь наладим, во жизня будет, песня, да, Федь? — устраиваясь поудобнее, раны сильно беспокоили его, сказал Семен.
— Поутру пойду в село. Разбой домой вернулся, а я нет, мать суматоху поднять может. Медведь коло села озорует, надо пораньше вернуться. Еды возьму, кое-что из припасов и вернусь.
— Кайло у тебя есть?
— Нету, но знаю, где взять.
— Найди, Федь, без кайла мы тут ничё не сможем проверить, и пару лопат.
— Неужто здесь можно золота намыть?
— Посмотрим, как фарт пойдет. Бывало, неделю лопатишь — и ничего, а иной раз копнул — и вот оно, окаянное. Фарт, Федор, в старательской жизни — главный козырь! Сколь тебя не будет?
— Вечером завтра и буду.
— Хорошо, а чё скажешь своим?
— А чё говорить, я сам себе хозяин, надо в тайгу, и все, — повернувшись на бок, ответил Федор.
Он закрыл глаза, но сон не шел. То про Анюту думалось, то про своих домашних. Как он матери скажет, что в самую пору сенокосную ему, все бросив, в тайгу надо? Хозяин-то он сам себе хозяин, токо какой хозяин вот так свое хозяйство на бабьи руки бросит. Не управятся без него, ох не управятся! Тяжело вздохнув, он перевернулся на другой бок.
— Не спишь?
— Не, не спится что-то. А сколько сможем добыть, ежели сейчас возьмемся и до конца лета работать? Я без отдыха согласный, пока ты подлечишься, токо показывай, чё делать.
Семен, выслушав столь наполненную желанием речь, улыбнувшись, спросил:
— Вот ты неугомонный, я ж тебе объяснял, как фарт пойдет. А для чего тебе золото, Федь? Коней купить или лавку открыть хошь, богатеем стать, чтоб все тебе завидовали? Величали по батюшке, шапки сымали перед тобой. А, Федь?
Федор, увлеченный своими мыслями, не сразу заметил иронию в словах Семена.
— Жениться хочу, — ответил он и замолчал.
— Ты, однако, персидскую княжну решил в жены брать? Там за баб большой выкуп потребен. Иль у тунгуса какого дочку купить? Только они золотом не берут, им олени, соболя иль для охоты припас надобен.
Только теперь Федор понял, что Семен смеется над ним. Он насупился и отвернулся от него.
— Я серьезно, а ты…
Семен, не выдержав, громко расхохотался, хватанув дыма, закашлялся и, только перестав охать и ахать от боли бередивших ран, успокоившись, тихо и серьезно сказал:
— Ладно, извиняй, не хотел тебя обидеть. А в чем дело-то? Парень ты видный, хоть куда, нешто за тебя дочь ее родители не отдадут? Иль повинен в чем?
— Ни в чем не повинен, с отцом ее не поладил, отказался в служки к нему идти, вот он и окрысился на меня. Анютке запретил видеться со мной. Взаперти девку томил, а месяц как вообще ее отправил в Енисейск, в гости как бы. А народ языками чешет — просватал он ее там за приказчика, сынка купеческого.
— Во оно как. Так а она-то что?
— А что она супротив отцовской воли может. Хотели тайно сбечь, повенчаться, так не успели.
— Ежели только просватал — это еще не все пропало. Главное, под венцом не была. Есть воля родительская, а божья воля сильней. Ежели допустит до венца вас Господь, значит, так оно правильно будет, по его воле. А ежели нет, значит, не судьба вам вместе быть, тоже его воля. Токо за свое счастье бороться надо, брат.
— А что я могу, говорю же, увезли Анюту.
— Красивое имя, сама, наверное, тоже пригожая, а, Федь?
— Ты опять?
— Да нет, я серьезно. Просто если в сердце она у тебя, стоит и побиться в кровь. А ежели так, из обиды, что ее отец против, тогда не стоит трепыхаться.
— Говорю же, люба она мне, с другими гулял, а она в глазах стоит. Другу девку мну, а ее вижу!
— Паря, кто отец-то ее?
— Никифоров.
— Ого, слыхал, это тот, кто всеми кабаками да извозом по реке владеет?
— Он и есть.
— Да, Федь… — запустив пятерню в бороду, задумчиво сказал Семен и немного погодя продолжил: — Может, персидскую княжну и легче было бы взять, чем дочку Никифорову. Тут не золото решает, его у него в достатке, не переплюнешь. Воровским путем тоже навряд получится, он тебя из-под земли найдет. Уж я-то знаю его людишек, ты, брат, не представляешь, с кем тягаться надумал. Мой тебе совет, оставь это, выбрось из головы, не пара она тебе. Ни с какого конца. Не роднись с Никифоровым, не марай рода своего.
Услышав такое, Федор аж сел.
— Ты чё, дядь Семен, такое говоришь? При чем здесь род их, почему не пара она мне?
— Что знаю, то говорю, злодей он и весь род его злодейский.
— Да быть того не может! Нет у меня к нему приязни, то верно, но уважать я его не перестал, дела умеет Никифоров делать. Вон как развернулся, люди на него не в обиде, всем работу дает и платит справно. Суровый, нерадивости не терпит, однако справедлив к работникам, любой скажет. Напрасно ты его так.
— О, как ты за своего будущего тестя в заступ пошел! Однако, Федька, не знаешь ты многого, чего я про вашего купчика знаю. Верно говорю, злодей он, кровавый злодей.
— Ну так расскажи!
— Не время сейчас, давай поспим, устал я что-то. И так уж полночи проболтали.
— Ладно, только слово дай, что все мне расскажешь.
— Даю, вот те крест расскажу, только позже. Сильный удар грома прокатился над тайгой. Дождь крупными каплями замолотил по крыше, успокаивая и убаюкивая возбужденное услышанным сердце Федора.
Вот чего не ожидал Яков Спиринский, так того, что его внезапный арест сыграет как раз ему же на руку. И мать и дочь Сазонтьева, даже не выслушав толком объяснений Ивана Васильевича, окружили Якова такой трогательной заботой и вниманием, будто он только что вернулся с поля боя, где героически сражался за Отечество. Он благосклонно и несколько виновато улыбался, отвечая любезностями и маме и, особливо, дочке, чем ввергал ее сердце в томление, и глаза ее уже не раз внезапно наполнялись слезами умиления, когда он страстно припадал устами к ее руке. К вечеру все сомнения относительно Якова в плане его сердечной привязанности у Сазонтьева исчезли. Он решил не медля рассказать свой главный прожект будущему зятю, а в этом он был уверен, видя нежную привязанность буквально сгорающей от любви Глафиры и соответствующее поведение Якова.
— Так, прошу оставить нас для разговора, — тоном, не допускающим возражений, после обильного ужина сказал женщинам Иван Васильевич.
Дождавшись, когда они вышли, Сазонтьев, поближе подсев к Якову, чуть ли не шепотом спросил его:
— А известно ли вам, сударь, что в землях по Енисей-реке да по Верхней Тунгуске, то бишь Ангаре, люд старательский золотом промышляет? Несметно народу в те края прет и несут по осени песок золотой да самородное золото. За все про все им же и расплачиваются по пути назад. Енисейский тракт золотым песком посыпан, у старателей карман-то дырявый. А до самого Красноярска он себе порты новые купить не может, потому как негде. Товару в лавках деревенских нет, а им бархат да парча потребны, сапоги яловые подавай да кушаки шелковые. Тыща процентов на копейку затрат, дорогой мой! Я уж и места присмотрел, и с начальством волостным разговоры вел. По тракту Енисейскому кабаки да лавки ставить надоть!
— Так за чем дело стало, Иван Васильевич?
— Не могу я сам управиться, а довериться некому, вот коли бы с вами, Яков Васильевич, это дело вместе поднимать, с вашими связями, размахом-то вашим, а?!
— Ну что вы, Иван Васильевич. Не преувеличивайте мои способности, — потупив глаза, поскромничал Яков, в то время как его мозг лихорадочно перемалывал информацию, пытаясь найти варианты собственной выгоды. — Но я вам скажу: интересно, очень даже интересно-с. Следует подумать, — выдержав глубокомысленную паузу, продолжил он.
— Что ж тут думать, тут считать надо, да и это я уж подсчитал, вот, взгляните, тут у меня все — полный балансец, так сказать, Яков Васильевич! — С этими словами сибиряк вынул из саквояжа целую кипу бумаг и стал раскладывать на столике перед Спиринским.
Яков на дух не переносил бумажную работу, он и читал-то только стихи книжные да газетные статейки о светской жизни. А тут расчеты, цифры, аршины да пуды. Зарябило в его глазах, и томление в голове наступило от этого.
— Хорошо, хорошо, Иван Васильевич, я позже, позже просмотрю ваши расчеты. Мне суть понять надо, а это проще от вас услышать. Я же верю вам как отцу родному, не сомневайтесь, бога ради. Уже согласен с вами создать компанию.
— Вот и хорошо, вот и славно! — расчувствовался Иван Васильевич. — Вот за это можно и наливочки выпить, а потом и обсудим все до мелочей.
Два часа кряду, чередуя наливочку и торговые расчеты, Иван Васильевич убеждал Якова в целесообразности и выгодности задуманного им предприятия. В конце концов, оба уже изрядно навеселе, откинувшись в креслах, замолчали. Одному из них виделись наполненные товарами лавки и гудящие от старателей кабаки, другому — золото, текущее в руки, и разгульная жизнь в столице. Оба были счастливы от достигнутого взаимопонимания, остался-то сущий пустяк — все это воплотить в жизнь, в аршины и пуды, кабаки и лавки, а главное — в золото, в этот притягивающий и манящий металл, ради которого что один, что другой готовы были на все.
Рассвет в тайге, промытой ночным ливнем, долго боролся с туманом, плотно висевшим в сыром воздухе. Ни ветерка, ни звука птичьего, только тонкий звон надоедливых комаров. С утра Федор собрался и ушел. На прощание махнул рукой Семену:
— К вечеру буду.
— Про кайло не забудь.
— Помню.
К полудню он вошел в свой двор. В горнице мать обеспокоенно посмотрела на сына.
— Чё запропал-то? Я уж беспокоиться начала. Хотела к старосте бечь.
— Все хорошо, мам, по делу задержка вышла.
— Дак Разбой пришел вчера, а тебя нет и нет. Садись к столу, руки-то обмой. Небось голодный, сейчас покормлю.
Пока Федор уплетал за обе щеки кашу, мать рассказала все новости, что в селе за эти дни случились.
— И как это ты про все знаешь, ма? И про это, и про то, ну ладно деревенское, а про то, что в самой столице, — откель?
— Дак, сынок, в заезжей избе, что на Комарихе, аж из самого Петербурга гости приехамши. Государевы люди. Важные, седне в церкви сама видела. Глашка, что там полы моет, сказывала, что сам государь батюшка их сюда отправил. Волостной голова перед ними шапку снимат и аж в пояс в поклон!
— Интересно, за каким лешим они к нам пожаловали? — отложив ложку, спросил Федор.
— Не ведаю то, и никто не знат, одно знаю — с ними конными два десятка казаков при оружии и из Тобольска[1] от губернатора фискал.
Поздним вечером, когда Федор вернулся в зимовье, Семен уже обмазывал глиной очаг, дикий камень пластинами послужил хорошим материалом, осталось только разжечь огонь. Вскоре зимовье согрелось веселым пламенем, уносящим в трубу сырость и прель. Настроение было хорошее. Федор вытаскивал из мешка и раскладывал припасы. Семен взвесил на руке принесенное кайло и принялся строгать из колотого березового полена рукоять. Он сам, не дожидаясь просьбы Федора, начал рассказ.
— Недавно все случилось, а зачиналось давно. Задолго до того, как мы с тобой впервой встретились. С Урал-камня пришла наша ватага в здешние края, прослышали про песок золотой в Удерей-реке и пошли. Долго шли, больше года, прятались по лесам, несподручно нам было на глаза царским слугам казаться. С демидовских заводов ушли, искали нас, а нам воля нужна была. А воля-то здесь была, вот и шли, впроголодь, без дорог, на восход солнца, по пути сказанному, да никем не указанному. Дошли до Енисей-реки, а там уже открыто вниз до Ангары, тут документы никто не спрашивал. А кто спрашивал — на безродство ссылались, и таковы были, хватать не хватали, на земле осесть предлагали. Мы отказывались, не пахотные, работные, да мы и зубы особо не скалили. От работы на прокорм да одежонку не отказывались, чужого не брали, в общем, добрались-таки. Было нас пятеро, вернее, дошло до мест здешних. Двоих похоронили по пути-дороге. Жаль, не дошли до вольной землицы.
Семен закурил и долго молчал. Его глаза, слегка прикрытые веками, как бы вглядывались во что-то неведомое Федору, сокрытое от него, и Семен, похоже, как бы решал: все ли рассказать парню аль не все. Решив про себя что-то, он продолжил:
— Так вот, пятеро нас добралось до Удерей-реки, однако не мы первыми там оказались, понятное дело. Мы по осени глубокой, под самый снег пришли, то там, то здесь раскопы, балаганы пустые, народ работный уже домой зимовать подался. А нам некуда итить, знали, на что себя обрекли. Зато надеялись по весне первыми фартовое место найти и застолбить. В нашем деле старательском все от этого зависит. А найти это место не просто, тут нюх нужен, чутье особое на золото. Не каждый тем даром обладает, один, может, из тысячи. Так вот, Лексей Перегуба, с нами шел, золото нутром чуял. На него и надеялись. Три недели, уже и морозец прихватывать начал, водил он нас за собой по ручьям. Умаялись землю топтать по тайге непролазной, пока не кинул он шапку к ногам и не сказал: «Все, хлопцы, здесь зимовать будем, фартовый ручеек». Решили проверить, пока воду не перехватило, копнули, и на тебе — золото. Чуть не плакали от счастья. Не поверишь, Федька, трое суток на снегу спали, а пока ручей не замерз, мыли золото. Еще бы мыли, да, хорошо, Лексей на нас заорал — он тогда старшой у нас был. Чуть не кулаками заставил бросить лотки и за зимовье браться. Опомнились, взялись за топоры, за три дня срубили землянку, только накрыли землей, и мороз ударил, да такой, что дых перехватывало. Если б не старшой, замерзли бы до смерти, ей-богу. Потихоньку обосновались, по ручью зайца хоть ногами пинай, петли ставили. Степан Пар-ханов с Силантием Рябым на рогатины медведя взяли, совсем рядом берлогу нашли. Рябчики да глухари, припас какой был… В общем, перезимовали. А как только солнышко пригревать стало, отрядили двоих в село ваше, Рыбное, тот песок, что намыть успели, на муку да одежонку поменять, износились, да и без хлеба туго стало. Ушли они, три дня ходу туда, день там да три обратно, ждали неделю — нету Степана с Силантием. Еще три дня прошло, уже плохо подумали, а они вот они — нарисовались, да не одни. Вернее, пришли-то они одни, да рассказали, что по их следу люди идут, тайно идут. Они заметили, пытались следы путать, да невозможно это, снег нетронутый кругом. Сами чуть не заблудились, вот и вернулись, выходит, гостей ждать надо. Товар в лавке брали, у твоего Никифорова. Когда золотом расплатились, за ними и увязался служка. Наши-то по простоте души и на баньку согласились, погреться, и отужинали у него. После бражки, может, что и сболтнули, не помнят — честно признались. Наутро вышли обратно, а к вечеру, пока костер собирали да лапник рубили, заметили, что за ними идут. Силантий охотник добрый, в темноте обошел, подкрался к их стоянке да подслушал. По наказу Никифорова следят за ними, и люди его, вот так.
Семен подкинул сушняка в огонь, отчего брызнули в восходящем потоке искры, запузырилась смолой листвяжная перекладина. Заклокотала в котелке ключевая вода, прося заправить ее таежными травами.
Федор, внимательно слушавший рассказ Семена, нетерпеливо заерзал:
— Так что дальше-то было?
— А что было, то быльем поросло.
— Дядя Семен! Ты ж обещал рассказать! — с неподдельным волнением вскинулся Федор.
— Давай перекусим, а уж потом доскажу, — улыбнувшись, ответил Семен.
Только когда плотно поели и устроились на лежаках, Семен продолжил:
— Так вот, насторожились мы, два дня ждали гостей непрошеных, а они так и не явились. Силантий сходил в дозор и, вернувшись, рассказал, что ушли они восвояси, доглядели, где мы стоим, и ушли. А тут, помню, запуржило, заметелило, столь снега намело, с трудом из землянки откапывались. Зимовали-бедовали. Помалу наступала весна, мы и забыли о том случае. Зажурчали ручьи, закипела кровь в жилах, пошла работа. Да, Федька, фартовое место было, ручей на сторону отбили, от зари до зари мыли песок, самородки от зерна до горошины попадали. Лексей бродил по тайге, промышлял дичь, кормил нас да приглядывал попутно места. Однажды вернулся, глаза горят, бросил на столешню узелок и молча сел к огню. Развязали мы узелок, а в нем самородки золотые ровно семь штук, каждый с голубиное яйцо будет. Давай мы его расспрашивать, где он их взял. Молчит Лексей, как заговоренный, глаза отводит, отворачивается. Потом рассказал. Часах в трех хода от нашей стоянки набрел он на землянку брошенную, ручей рядом, шурфы, бутара[2] железная, желоба — все грамотно сделано, знающими людьми сработано и брошено уж не один год: кустарником поросло да березками молодыми. Решил посмотреть, а в землянке — страх божий, мертвяки. Судя по всему, побиты сонными, поскольку босы да в исподнем, а одежонка не тронута, по стенам, ну как у нас на просушку, на ночь вывешена. Обыскал Лексей землянку-то, да в тайнике и нашел самородки. Потому и подумал, что побили старателей, ежли б чё другое было, тайник-то пустой был бы, ну, если кто из своих скурвился. Видно, самое ценное отдельно старшой от кошеля держал, так и у нас принято было. Задумались мы, крепко задумались. Ясно, надо ухо востро держать, тайга кругом глухая, от людей далеко мы ушли, думали, хорошо, да только с одной стороны оказалось. Коль выследили нас, вызнали, значит, выждут время и нападут. Ближе к осени, чтобы как можно больше взять. Уберечься невозможно, они с ружьями и конные, это нам, когда все на месте осмотрели, понятно стало. С топорами против них не управиться. Да и не разбойные мы, несподручно нам душегубством заниматься, так, морды побить можно, ежели за дело. А тут совсем расклад другой. Они за золотом нашим придут, трудами многими взятым, нас, как вот этих, положат. Выходит, в западне мы. Но крышка еще не захлопнулась. Уходить надо с места, а бросать жаль, надумали вот что. Хитростью на хитрость. Им неведомо, что мы в догадках по их умыслам. Значит, мы на полшага вперед них. Тропа к нам звериная, вот мы ее и приготовим для зверей. Тем паче они по своим же затесям пойдут, что зимой оставили.
Не откладывая, принялись за работу, две хороших ямы с кольями и более десятка самострелов поставили на тропе, что к нам вела. Силантий да Лексей мастаки по этим затеям. Потратили время, но с пользой, как оказалось. Как березки зарыжели, Силантия от работ освободили, ушел на тропу, сторожить. Через три дня вернулся, отоспался и снова ушел, а еще через день вернулся и вот что рассказал: «Завалился конный в яму, коня на колья и сам поранился. Ох и крику было! Не ожидали они такого, смело шли, без опаски — и на тебе! Раненного в голову перевязали, вроде как глаз он потерял и сразу в обрат ушли, даже коня бросили. Видно, старшой их в яму-то влетел…»
Семен закурил. Глянул на Федора. Тот внимательно слушал и соображал про себя: «Во всем селе без глаза только Иван Косых, скрытный мужик, в доверии полном у Никифорова. Складно все получается, неужто правда?!»
Как бы услышав мысли Федора, Семен продолжил:
— Вот так-то вот было. Теперь нам уходить надо. Ясно дело. Вернутся они, шибко осерчали, даже пальнули пару раз. Теперь из мести вернутся. А куда нам идти? Волку в пасть — в ваше Рыбное. Опять же поразмыслили. Когда мы заходили, нас никто не видел. Видели только Силантия да Степана, когда они выходили в село, да и то — только раз. Опять же яма на звериной тропе, на зверя и поставлена была. Поди докажи другое. Это если на людях — не докажешь. А если здесь спрос учинят, тут доказывать некому, побьют, и все. Порешили. Выходить надо, вместе с людом старательским, что ниже по ручьям копают. А пока время не приспело, уйти на то брошенное зимовье и переждать там. Ушли так, что травинки не примяли, глубоким обходом. По ручьям да болотиной. Землянку порушили слегка, будто без пригляда давно. Кострище водой пролили, следы все замели, не поленились, даже нужник засыпали и дерном закрыли. Опять же Силантия приглядеть оставили. Да и самострелы сымать не стали. Вот на них они и нарвались, хоть и шли уже с опаской. А тут мы маху дали, самострелы-то явно на всадника выставлены были, опытный человек сразу определит, что не на зверя. Силантий тогда чудом ушел, с собаками они были, и те собаки не на зверя, на человека притравлены были, вот что страшно! Увел их Силантий в сторону от нашей стоянки, увел, а к нам возвернулся порванный, мы уж сомневались, что выживет. Однако выжил, но пометили его крепко, пока он от собак отбился, по-полосовали они его. А тут время приспело выходить. А как с ним выходить, вся рожа в ранах!.. На ногах еще не крепко стоит, ослаб. Одного не бросишь, а вместе не пройти, высмотрят. Думали и порешили выйти втроем за припасами и остаться еще на зимовку. Хотя решение это не всем по нутру пришлось, честно скажу. Золото, что намыли, вот оно, в руках. Считай, три года в скитаниях, так захотелось мягких перин да бабского тепла, мочи нет. А тут такой расклад. Еще год, да неизвестно, как его прожить. Решили уйти еще дальше. Лексей нашел нетронутое место на другом ручье в двух днях пути. Эх, Федька, не можешь ты понять, какое раздолье тогда было! Ушли, до снега обосновались, на зиму заготовили таежного припасу: орех кедровый, брусника, грибов насушили. Рыбы вяленой да мяса — все загодя приготовили. Залегай на зиму, как медведь в берлогу, да лежи. Ан нет, натура не та — двигаться надо, рукам дело всегда найдется! Баньку срубили, к охоте изготовились, все ладно, все хорошо. По первому морозу, когда ручьи перехватило, двинулись мы за припасами, Степан с Силантием остались. Село ваше ночью обошли, миновали без остановки. По льду, еще черному, ломкому, Ангару перешли. Натерпелись страху, но зато утром открыто вышли на тракт, и как будто впервой Ангару в обрат перешли, и зашли в Рыбное. Остановиться в заезжей избе хотели, да не смогли. Все избы народом забиты, гулеванит старательский люд, золото транжирит, водка рекой да мордобой. Осмотрелись мы, по лавкам прошлись, муки, соли прикупили, железа кое-какого и устроились на две ночи у старика, что Карасем кличут.
— Дак он и сейчас жив! — вставил Федор.
— Вот-вот, так оно и было, — продолжил Семен. — Платили за все мы песком, взяли с собой кружку, остальное золото, что добыто было, схоронили у Степана с Силантием. Чтоб не рисковать, значит. Оставили у деда товар, вечером решили в кабак сходить, не для пития, а так, народец послушать да чтобы не отличаться от всех. Медвежьего нутряного жира глотнули, кто скоко смог, и пошли — это чтоб хмель не брал, пить-то все одно надо будет. Так вот, зашли в кабак, а там гульба, пьют мужики, баб лапают, весело. Присели за стол, заказали мяса, выпивки, и пошло-поехало. Вид делаем, что во хмелю, а сами смотрим да слушаем. Ан не все в кабаке упиваются. Один мужичок то к одним подсядет, то к другим, угощает, а сам не пьет, разговоры ведет. К нам подсел, по чарке поднес, говорит, баба сына родила, вот он и празднует. Выпили мы за рождение и за бабу его выпили, а он разговор ненароком на золото перевел. Откуда мы, где копаем, фартово ли поработали, и все так, как бы само собой, безобидно, из любопытства как бы. Глаза у него нехорошие, все бегают, бегают… Наплели мы ему с три короба, что проболтались в поисках все лето, что намыли — то сейчас и потратили, вроде как место фартовое нашли, да поздно, теперь весны ждать будем. Платили при нем. Глянул он на наш тощий кошель и потихоньку перешел за другой стол. Прислушались — ту же песню поет. Запомнили мы его, кушак у него необычный был, розовый шелковый, а кисти на концах черные. Нос картошкой и борода стрижена черная, а сам-то светлого власу. Голос такой с хрипотцой. Да двух зубов впереди нету. Не признаешь, о ком речь, Федор? — Семен глянул на парня.
— Признаю, однако, на деда Зайцева похож, точно он, он и сейчас такой, токо борода поседела, — сразу ответил Федор. — Только, дядь Семен, у него сыно-вей-то нет, одни девки.
— Во, то-то и оно, врал он, мы это сразу поняли, а зачем? За каким бесом он деньгами сорил, аль богатей?
— Да какой богатей! Он же всю жизнь на никифоровских подворьях холуем обретался.
— Вот и я к тому — доглядчик он был от хозяина своего, от Никифорова. Нам то дед Карась подтвердил, когда мы, вернувшись, рассказали о нем. Еще дед рассказал, что два дня тому уехал Никифоров со своими ближними на охоту, медведя бить. Решил я дождаться их возвращения, поглядеть хотел на того, кто за нами охоту устроил. Не знаю, что лучше было бы, уйти в тот день али остаться. На другой день после обедни услышали мы, как пролетели конные ходом мимо избы. Выскочили глянуть, двор-то никифоровский недалеко. Только и увидели, как ворота закрывались. А заборы у него крепкие да высокие. Прошли мы мимо и ни с чем вернулись. Под утро ушли в тайгу, старика отблагодарили двойной платой за постой и хлеб. Сговорились с ним, чтоб к весне припасу нам приготовил да подвез в условное место, оставили ему задаток песком золотым, на том и расстались. Пять дней добирались обратно, поклажу на санях тащили, умаялись, снег валил, чуть не заблудились, однако вышли к старому месту. Побывал там Никифоров, землянку сожгли, злодеи, а нас-то там и не было. Вот так, Федор, вот весь мой сказ. Душегубец твой Никифоров, как есть душегубец, только слово-то молвить можно, а вот дело не докажешь. Сам на каторгу загремишь. Как сам-то думаешь?
— Если твой сказ правда — чё тут думать, все складно, а дальше-то как было?
— Добрались мы до своих, перезимовали, никто нас не беспокоил зиму, далеко мы забрались. Старик не подвел, по весне припасу подвез. Как уговаривались, встретили мы его, он нам и рассказал тогда. В кабаке Зайцев битым был, свои били, а он кричал, что всех смотрел, не мог не признать лиходеев, не было их. А его лупили да приговаривали: упустил — получай. Вот так вот.
С первой водой мыть начали, бутару наладили, в общем, к осени собрались на выход, раньше многих. Вот тогда-то и встретились мы с тобой, Федор, впервой, наверное. Зайцева мы уже не опасались, время прошло, не вспомнил бы уже он наших, а коль вспомнил бы — поди докажи. Народу старательского тот год в тайге втрое, а может, и боле прибавилось, угляди-ка за всеми. Рожи-то у всех на один манер: копна волос да бородища. Погуляли мы у вас тогда дня три и уехали в Казачинское село. Там зиму и зимовали, а по весне назад. В Казачинском опосля корни пустили, Степан с Силантием семьями обзавелись. Каждую весну уходили мы в тайгу, по осени возвращались. Всяко было. Когда хорошо, когда не очень, но пустыми не были. Прошло с тех пор лет десять, однако. Многое изменилось. Прошлое быльем поросло, да не забылось. Старались мы ваше село ходом проходить, без остановки, но в прошлом году занедужил Лексей. Вышли, как всегда, под снег, а ему так плохо стало, пришлось в ваше село зайти да и остаться почти на месяц. Здесь и схоронили его, да не мы его земле-матушке предавали…
А было так. Остановились мы в заезжей избе, Лек-сею все хуже. Сговорились с бабкой, что недалече жила. Определили его к ней на постой да на пригляд, пока оправится. Семейные мои до дому рвутся, я их отпустил. С Игнатом остались, Лексея ж не бросишь! А ему все хуже. Бабка уж и попа приводила, ночами не отходила от него. Долго мучился, в беспамятстве метался, в жару, а перед смертью пришел в себя. Я рядом был, взял он меня за руку и давай шептать, шепчет что-то, а сам потом обливается. Трясет его, аж подкидывает. Я понять силюсь, а не могу. А он все шепчет и руку так сильно жмет. Когда замолчал, лицо его и успокоилось, тут и отошел. Бабка-то, что за ним ухаживала, тоже рядом была, как сквозь землю провалилась, исчезла, и все! Как не было ее. Я руку-то его разжал, чтоб свою освободить, а в ней, Федька, вот эта штучка, вроде ладанки, что ли.
Семен вытащил откуда-то и, вывесив на ладони на шнурке, показал тонкую ребристую пластинку из матово поблескивавшего желтоватого металла. Федор протянул руку, чтобы взять и рассмотреть на свету.
— Э, погодь, парень! — остановил его Семен. — В руки не дам, так смотри.
— Дядь Семен, чё ты? Куда я дену, дай у огня рассмотрю.
— Не в том дело, Федор. Эта штучка столько мне несчастий принесла, боюсь, как бы на тебя не перекинулись, так смотри, если хошь, — сказал твердо, как отрезал, Семен.
— Так не видно ничего.
— Ладно, днем рассмотришь.
Семен убрал пластинку, не обращая никакого внимания на недовольную физиономию Федора.
— Слушай дальше. Так вот, закрыл я глаза Лексею и вышел на улицу, так на душе тягостно было. Сунул эту ладанку в карман и стою, цигарку сворачиваю, а табачок-то на снег сыпется. Руки дрожат. Тут Игнат подошел — чё да как? Сказал ему, что Лексей помер. Присели мы на завалинку, задумались, хоронить же надо. Где эта бабка запропастилась? Хоть у нее вызнать, как тут все устроить можно. Ждали-ждали, нету ее. Дело уж к вечеру. Решили к попу пойти. Только отошли, а тут к избе бабкиной розвальни подлетают, а в них мужики да конными еще человек пять. Мы за плетень и присели. Видим, дело неладно. Мужики по избе пометались, на улицу высыпали.
Слышим, командует один из них, криком орет:
— Сыскать и притащить мне их!
В ответ:
— Найдем, куды они денутся, некуды!
Мы прикинули — а ведь о нас это, больше не о ком — и закопались в сугроб, благо снега намело. Сидим в сугробе, слушаем.
— Прошлый раз не углядели, упустили! Не дай бог уйдут, шкуру со всех спущу! — крикнул из отъезжавших розвальней тот, кто командовал всеми.
Оставшиеся столпились у коновязи.
— Все слышали, двое — ты и ты — здеся будьте, если объявятся, хоть одного живым вяжите, Никифоров не простит, если маху дадим. Все дороги перекрыть!
Люди молча садились на коней, разъезжались.
— В заезжей их смотрели — нету, а мешки-то там. Куды они без жратвы?! Значит, вернутся… — услышали мы от удалявшихся верхами.
Дождались темноты, благо одежка таежная, сильно не померзли — и ходу от той избы. А куда идти? Заскочили к деду Карасю, рассказали все. Я тебе говорил, с давних пор с этим человеком в доверии мы были. Запер нас дед в избе и ушел. Только отогрелись и уснули, он вернулся. Разбудил. Хмурым было его настроение. От верного человека узнал он, в чем дело. Лексей в бреду горячечном, оказывается, про все дела наши попу исповедался, бабка Ваганиха все слышала и, дура баба, видно, языком по деревне разнесла. До женки Косых дошло, тот к Никифорову — смекнули, что к чему, ну и кинулись. Еще сказал, что попа, что у Лексея был, тоже у Никифорова видели опосля. С большой корзиной его к дому подвезли служки никифоровские пьяненького. Видно, не устоял батюшка, тоже язык развязал.
— Так что давние ваши подвиги Никифорову известны, особливо Косых мечется, — продолжал дед. — Лексея уж облачили для погребения, а все для того, чтоб обыскать. Что-то важное у него было, шибко ценное. Что искали — не знает никто, только не нашли ничего.
Дед Карась, рассказывая, хмуро посматривал на нас и закончил примерно так:
— Давно знаю вас, мужики, потому верю вам и помогу чем могу. Супротив Никифорова ничего не имею, но давно чувствую — темны его дела, ох темны. Ну да не мне судить. А вам помогу.
Трое суток просидели мы у Карася в подполе, трое суток по селу рыскали никифоровские подручные. У деда тоже побывали, в гости как бы зашли, а он хворым прикинулся, попросил молодчиков воды с колодца принесть да дровишек поколоть. Те воды принесли, а до дров дело не дошло, сказались, что торопятся, и ушли восвояси. У нас-то выхода не было, зиму в подполе не высидишь. А дорога одна, на ней в каждом селе глаза да уши. Пришлось нам в тайгу вер-таться. Дед вывез под сеном до Мотыгина деревни, а там ушли. До Рождества просидели впроголодь в землянке своей, не готовы были, да и вдвоем тяжко. Дед Карась, правда, сколько мог муки да солонины дал, за что спасибо ему большое. Потом спохватились. Что про нас Степан с Силантием подумали? Плохо будет, если они искать в Рыбном нас станут. Схватят их, головы потеряют, они ж не знают ничего. Тут, брат, дело такое, сам помирай, а товарища выручай. У них семьи, ребятишки малые. Как упредить, как беду отвести?! Жратвы все одно на двоих до весны не хватит, зверь с мест старательских дале ушел, да и охотники мы с Игнатом никудышные. Посидели, покумекали, что к чему, и решили: казну артельную надежно припрятать и выходить мне, кровь из носу добраться до Казачинского, а Игнату зимовать и ждать нас. Аккурат к Рождеству Христову вышел я к селу вашему, думал, по веселью-то легче незаметно проскочить будет. Народ гуляет, весело, с размахом. Через Ангару тройки с бубенцами наперегонки. Тут у меня промашка вышла, я в таежной одежонке-то средь люда разряженного как белая ворона. Залег в овражке, мерзну, снег жую, а на душе так тоскливо, хоть плачь. Как вор от народа прячусь, а куды деться? До ночи пролежал и потемну рванул на ту сторону. Благо ни на кого не нарвался. Иду по дороге, а мороз крепчает, надо где-то обогреться, иначе замерзну. Шаг ускорил, чуть не бегу! Не могу согреться, и все. Прихватывает лицо, дышать не дает, борода куржаком взялась. Была не была, помирать, что ль! Постучал в последнюю избу в Денисовой деревне, открыла мне двери женщина, глянула и впустила без слов. Я уж ни рук, ни ног не чувствовал. Повезло мне, добрая казачка оказалась, отогрела меня, отмыла, одежонку мужа своего покойного мне отдала. Я отблагодарил как мог.
Как-то светло улыбнувшись, Семен продолжил:
— И песком золотым и по-мужски, конечно.
— Как той вдовы имя, дядь Семен?
— Зачем тебе?
— Да так, тетка у меня в той деревне, вдовая и на краю живет, Татьяна Демьяновна.
После некоторой паузы Семен, ударив себя по колену пятерней и сморщившись от боли, расхохотался. Успокоившись, сел и, как-то озорно и лукаво глянув на Федора, сказал:
— Во как? Врать не буду, она это была, выходит, породнились мы с тобой, Федор, надо же, а! Я ведь, Федька, не женат, грешным делом, думал к ней посвататься, да не пришло время, видно, еще.
— Что дальше-то было, добрался ты до товарищей своих?
— Добрался, слава богу, ко времени, они уж собирались вертаться, нас искать. Поведал им о том, что случилось. Лексея помянули. Стали думать-решать, как дальше быть. Вижу, в сомнениях больших други мои. Это и понятно. Одно дело от государевых доглядчиков песок тайком мыть, тут при беде какой откупиться можно. Другое — когда кровники мести жаждут. Тут откупиться только головой можно. Кому охота голым задом в муравейник, после того как сами его и разворошили. В другие края уходить на промысел без Лексея надежи на фарт никакой. Силантий родственника жены своей привел, тот уж три лета на бугры с ватагой ходит. Копают старые бугры — курганы в степях, золото, серебро вынимают. Он и предложил ватагу сбить да в степи хакасские податься. В Красноярске бугровое золотишко сам губернатор скупает, хорошие деньги дает. Не в обиду, а из здравого рассуждения понял и принял я их выбор. Сам в обрат ближе к весне снарядился, народец гулящий прибился ко мне, сколотил свою ватагу — и айда. Ямщиной почти до Рыбного долетели, вот тут-то и начались злоключения. Нос к носу столкнулся с Никифоровым. На постоялом дворе в Сметаниной деревне это было. Только за стол уселись, в кабак еще путники завалили, как ясно стало — Никифорова люди. Уселись в другом конце, посматривают в нашу сторону, разговоры меж собой тихо ведут. Мы тоже сидим, ушицу стерляжью уминаем. Поднимается один из них — и к нам. Крепкий такой мужик, коренастый, один глаз тесемкой закрыт. Я сразу сообразил, кто он.
— Откель мужики в наши края?
— Издалека, — отвечаю.
— По какой такой надобности?
— Посмотреть — как люди живут, чем земля богата, а пошто спрос?
— А про то и спрос, что рожа твоя нам знакомая. Нукось, выйди на свет, убедиться хочу.
— Ты, дядя, никак попутал чего, я не холоп твой, чтоб твою волю сполнять, надо будет, выйду, а пока не замай. Мы тебя не трогаем, и ты нас не трожь!
Одноглазый, обернувшись к своим, руками развел:
— Хотел по-хорошему, ан не получается. — И уже мне: — Выходь, не то силой вытащу, рожа варнацкая!
Ватага на меня поглядыват, чем отвечу, им-то невдомек мои старые дела.
— За слова, мил-человек, отвечать надо! — Скинул я с плеч зипун. Встал, рукава катаю.
Одноглазый — тож шубу долой. Тут служка выскочил, как заверещит, дескать, во двор все. Ну и пошли мы на свежий воздух. Следом и все вывалили. Нас четверо, а их около десятка. В круг встали. Вышел я, супротив меня одноглазый. Схлестнулись. Врать, Федька, не буду, силен мужик, однако ростом маловат для меня, у меня руки длиннее. Тем и взял, не долетел его кулак до меня, снес я его встречно в зубы. Упал он навзничь, ногами сучит, снег кровавит. Кинулись было никифоровские, да остановились. Всадник врезался меж нами, сам Никифоров подоспел. Плетью с коня шибанул мне по голове, аж звон пошел. А он и своих опоясал — расступились. Своего на ноги поднимают, а тот не стоит, валится. Сошел Никифоров с коня, против меня встал:
— Кто таков?
У меня лицо кровью заливает, рассек плетью, сволочь. Я снег приложил и молчу. Кто-то из моих товарищей крикнул: мол, одноглазый зачинщик, сам на разговор вызвал!
Повернулся он к своим, спросил грозно:
— Так было?
Мужики молча кивнули. Тут одноглазый вроде очухиваться стал, мычит что-то, башкой крутит, из рук вроде как ко мне рвется. Кивнув на одноглазого, Никифоров сказал:
— Тащите его в дом, а ты проваливай, пока цел!
Еще раз глянув в мою сторону, повернулся и, похлопывая плетью о сапог, пошел в кабак.
Мы долго ждать не стали, ямщик уже смекнул, в чем дело, и, с ходу попадав в возок, уехали.
Спасло нас тогда только-то, Федька, что хорошо я приложил одноглазому, не смог он свои мысли относительно меня сразу высказать. А когда пришел в себя, видно, мы уж далеко были. Задерживаться в Рыбном селе у нас резону не было, насквозь пролетели и ушли сразу в тайгу, ямщика попросили молчать про нас. Да прогадали. Перехватили его сразу, он про нас что знал, то и сказал. Бог ему судья. Нагнали нас конные в распадке. На третьи сутки под вечер нагнали. Окружили, повязали под стволами. Пытать стали, про покойного Лексея, про ящерку золотую. Что к чему, я и сам не сразу понял и молчал, а остальные ничего и не знали. Покуражились над нами, поизгалялись, но сильно не били. Видно, приказ был живыми нас доставить. А ночью я ушел. Один ушел, зубами веревку перегрыз и ушел. Снег уж растаял, а собак у них не было, не отыскали они моего следа. Вот так вот. А товарищей моих погубили, я на третий день к тому месту вернулся. Не знаю, пошто так случилось, не видел. Не думал, что на такое решатся, да, видно, я им был нужен, а людишки для них — только обуза. Неглубоко тела прикопали, зверь-то и разрыл. Выходит, Федор, привел я людей на смерть, из-за меня ни в чем не повинных порезали…
Семен замолчал, закурил. Федор видел, как остановились и потемнели его глаза. Как дрогнули пальцы и сжались губы. Очаг прогорел, и только уголья малиновым светом еще обозначали себя, еще отдавали свой жар.
— Поздно, давай спать. — Голос Семена звучал глухо.
Федор молча укрылся и закрыл глаза. Сон не шел, он слышал, как Семен ворочается и тоже не может уснуть.
«Да, — думал Федор, — живешь вот так, а рядом страшное творится! Людей, живых человеков, запросто убивают…»
Он еще долго не мог заснуть, не давали покоя мысли. Они клубились в голове, цеплялись одна за одну, выхватывая и перебирая в памяти рассказ Семена. Некоторые деревенские события и слухи, известные ему раньше, теперь находили свое объяснение. Так или иначе — многое ему становилось понятным. Когда сон овладел им, он улетел куда-то в синее бездонное небо, к сказочным облакам, и только утренний солнечный луч, пробравшись сквозь оконце, вернул его отдохнувшее и полное сил тело в этот мир. Мир, наполненный красотой природы и тяжким бременем людских отношений.
Первая мысль, что пришла Федору в голову при пробуждении, совершенно ясно и отчетливо: не Семен им был нужен, не за старые грехи его искали, не из боязни, что он знает об их злодеяниях и выдать может. Нет. Ладанка им нужна, тайна в ней сокрытая, покойным Лексеем сказанная, да Семеном не понятая. Видно, Лексей в бреду горячечном что-то такое бабке иль попу на исповеди сказал, а Семену уж не смог!
— Доброе утро, дядь Семен! — сгорая от нетерпения, осторожно тормошил старшего товарища Федор.
— Доброе, доброе! — ответил Семен, просыпаясь. — Чего ты?
— Хочу при свете ладанку посмотреть.
— От приспичило! Смотри…
Семен вынул и выставил на свет пластинку. Она заиграла на солнце гранями, излучая мягкий и приятный свет.
— Дак это и есть ящерка золотая! — восхищенно прошептал Федор.
— С чего ты взял? Почему ящерка? — удивился Семен, пытаясь понять и увидеть-то, что видел Федор.
— А узор-то, смотри на узор! Вот так, если на солнце повернуть, глянь — ящерка и есть.
Переливаясь и отражая свет солнечного луча, пластинка своей ребристой поверхностью как бы оживала, и действительно, как будто маленькая золотая ящерица шевелилась, извиваясь на поверхности пластинки.
— Ну ты даешь, Федор, я, сколько ее ни рассматривал, ничего не видел, а теперь вижу, прав ты. Только что это значит? Для чего Лексей мне отдал ее?
— Мы не знаем, а Никифоров, видно, знает. Он ее ищет, через то и беды все на твою голову, дядя Семен.
— Может, ты и прав, Федор! Надо же — углядел! — всматриваясь в золотистый узор, прошептал Семен. — Не зря нас Бог свел, не зря!
— Воры кругом! Хитники! До чего дошло?! Без всякого дозволенья, без контроля, моете на государевых землях золото! Хорошо устроились! На каторгу пойдете, в кандалы!
— Помилуйте, ваше благородие, ясак и все подати исправно собираются, и задержки нету с отправкой в казну, а золото, так бродяги по тайге шарятся, может, где и копают, так разве уследишь? Да и не прописано оное в бумагах, потому как спрос учинить? Выходят из тайги тайно, как хитника от промышленника отличить? — не поднимая глаз, отвечал сельский голова широко шагавшему из угла в угол кабинета приезжему начальнику.
Тот хмурил брови и, выпучив глаза, продолжал отчитывать, как по-заученному, не внимая доводам и ответам:
— Все, кончилось воровское времечко. Порядок наводить надобно! Порядок!
— Как скажете, как скажете, примем меры незамедлительно! Ваше высокоблагородие, а сейчас не угодно ли осмотреть казну — ясак и подати, все готово к отправке!
Коренной полагал, что при виде вязок соболей и прочей пушной рухляди сердце начальства смягчится и гнев уляжется.
— Что ты мне покажешь? Меха да рыбу, а золото, золото где?!
— Дак что сказать-то? — смешался волостной. — Откель у нас золото, говорю же, ежели кто его где и копает, так то дело тайное…
— Тайное, вот то-то и оно, что оно у вас тайное! От государя да губернской власти оно у вас тайное! А кабаки да лавки по всему тракту! Ямщики в Красноярске золотым песком за овес платят! А это у них откель?! Дурака ломаешь передо мной! В арестантскую захотел?
— Как прикажете, — опустил голову Коренной, переступая с ноги на ногу. Его лицо налилось кровью, руки нервно сжимали шапку. «Какая паскуда донесла!» — думал он.
Повисла тяжелая пауза.
— Ваше благородие! — справившись с собой, выдавил наконец из себя Коренной. — Ежли есть промашка в чем — оно без умысла…
— Без умысла, говоришь?! А это что? Что это?! — багровея и стервенея, заорал начальник. Метнувшись к столу, он, едва не порвав, вытащил из портфеля какую-то бумагу и ткнул ею прямо в лицо Коренному. — Читай, песий сын, грамоте обучен!!!
Трясущимися руками Коренной взял лист бумаги и поднес к лицу, но буквы мельтешили перед глазами, он не мог разобрать ни слова. Жаркая волна прошла по телу и ударила в голову, кровавый туман перекрыл свет.
— Не могу… — начал было он и вдруг как подкошенный рухнул, гулко ударившись затылком о выскобленный добела деревянный пол.
— Лекаря! — заорал в открытую дверь начальник.
— Лекаря! — подхватил приказ сидевший в коридоре казачий десятник, затем, повернувшись к начальнику, сам и ответил: — Ваш благородие, так откель здесь лекарю взяться?! Нету тут ни лекаря, ни больнички.
— Воды тащи! — приказал начальник.
— Воды — щас! — Десятник с готовностью бросился из дверей.
Только к вечеру Коренной пришел в себя, но говорить не мог и двинуть ни рукой, ни ногой тоже не мог. Только смотрел жадно на ревущую жену и собравшуюся у его постели родню. Выискивал глазами Никифорова, но не находил…
Давно, очень давно, еще по молодости, перекрестились пути сельского головы, тогда просто десятника казачьего Ивашки Коренного и торгового человека Ивана Никифорова. Свела их судьба и повязала крепкой дружбой, да такой крепкой, что крепче не бывает. Холостые они еще были, встретились случайно, в пути. Коренной ехал из Енисейска, после сопровождения ясака, а Никифоров обедал в заезжей избе на самом краю небольшого села. Рядом за столом и Коренной присел отобедать с дороги да нутро пивом промочить. Он был один, сопровождавшие казну казаки были приписными из Красноярска, поехали по родным местам — они свой срок службы отбыли. Иван тоже мог остаться в Енисейске, два года в аккурат закончились, да приглянулась ему девица в Рыбном селе. Зацепила казака за сердце. Решил вернуться. Отписал прошение на имя атамана и получил одобрение. Земельный надел и довольствие отвели ему по заслугам. При волостном голове десятником назначили — должность ответственная. Ясак собирать с тунгусов и промышленников. С этой грамотой и ехал он в село Рыбное на постоянное жительство. Никифоров же в те годы уже имел деньгу немалую, никто не знал, с чего он разбогател, однако дом в селе у него самый видный был. Прадеды его из первых поселенцев. Дед еще при остроге Рыбинском лавку держал. Отец и мать тоже торговлю вели, да река их жизни унесла, вместе с товаром, что на дощанике плавили. Малым сиротой остался, бабка да дядья вырастили. Церковно-приходскую школу окончил и уехал. Десять лет не казал глаз в родном селе, а потом вернулся, на родительской земле новый дом построил, лавку открыл. Товары возил, торг вел, ямщиной собственной обзавелся, справно хозяйство вел. Пора пришла жениться, сватов послал в Енисейск, давно приглядел там молодку, согласие получил и теперь перед свадьбой решил гульнуть. Проводить жизнь холостяцкую. Да только не с кем было. Веселым взглядом и приветствием встретил тогда Никифоров земляка, пригласил за свой стол. Коренной возражать не стал, раньше видел он Ивана не раз в селе и слышал о нем только хорошее. Познакомились, пожали друг другу крепкие ладони, выпили по чарке водки-очистки[3], закусили жареным тайменем, тут стерляжью ушицу подали, еще выпили и как-то так ладно разговор пошел, что время пролетело незаметно. В ночь не поехали, заночевать решили.
Их компании купец представился, из Енисейска в Красноярск ехал за товарами, уж потемну подкатил к заезжей избе, пригласили к столу, и пошел пир горой. Как уж так получилось, однако перебрали они тогда и кто-то первым спор начал, а кто — и вспомнить не могли, только поутру нашли купца под коновязью с проломленной головой. Когда в себя пришли — руки у обоих в крови. Кто смертоубийство учинил, вспоминать не стали. Но и в кандалы за купца идти не хотелось. Молча, не сговариваясь, подошли они к хозяину заезжей избы, разбудившего их и теперь стоявшего, сняв шапку, около тела купца. Вскрикнув от ужаса и боли, упал он рядом, рассеченный саблей Коренного. Кто еще был в заезжке, выяснять тоже не стали. Подперев дверь, Никифоров высек огонь, и, ярко вспыхнув, занялась набитая сеном крыша. Сопровождавший Никифорова крепкий, коренастый мужик молча подвел оседланных коней и бросил на крючья поводья. Легко подняв сначала купца, а потом и хозяина заезжки, подтащил тела к дверям уже люто горевшей избы. Пинком отбросив полено, открыл дверь и одного за другим забросил тела убитых внутрь. Захлопнув дверь, подпирать ее не стал. Молча же подошел к сидевшим уже верхами Коренному и Никифорову.
— Я, это, приголубил уже приказчика и ездового, что с купцом были, больше в заезжке никого, — медленно и спокойно сказал он, глядя исподлобья на Никифорова.
Коренной положил руку на рукоять сабли. Никифоров, заметив это движение, твердо сказал:
— Это мой человек, надежный, — и, уже обращаясь к мужику, крикнул: — Косых, прыгай в седло, поехали!
— Негоже кошеву купеческую бросать, зацепа для сыска, — возразил мужик, кивнув в сторону уже запряженной в кошеву двойки хороших гнедых лошадей.
Никифоров, глянув, нахмурился, было видно, что его, еще хмельная, голова плохо соображала.
— Езжайте, ждите в Сметанино, я вас там нагоню, — продолжил, не дождавшись ответа, Косых и повел свою лошадь к кошеве.
— Ладно, поехали, — запоздало, уже в спину ушедшему, прохрипел Никифоров и пришпорил коня.
Двое всадников быстро удалились по заснеженной таежной дороге. Туман, стоявший над великим Енисеем, катившим свои еще не скованные льдами, свинцовые, холодные валы на север, не скоро открыл просыпавшемуся селу пожарище. Только верст через десять они услышали катившийся далеко над речными водами тревожный набат колокола. Ехали быстро и молча. Каждый думал о том, что ими было сотворено. Коренной молился про себя, прося у Бога прощения за тяжкий грех. Хмельной туман вылетел из головы, и он горько сожалел о совершенном, каялся и не находил себе прощения. Никифоров злился и клял себя за то, что позволил себе расслабиться, выпил много, ну и… Оба понимали, что повязаны теперь навек и с этим придется жить. Оба понимали, что, если тайное станет явным, не сносить им головы, впереди — кандалы и каторга в лучшем случае. Поди докажи, кто виноват, коли сами ничего толком не помнят. Всем их планам и мечтам приговор, а жить так хотелось! Только-только обрели уверенность в себе, только-только вышли на жизненный путь, и надо же! Бес попутал! Змеиная дурь глаза застила!
А уж потом выхода другого не было — пытались они оправдать теперь себя.
Только Косых, уже далеко отстав от них, хмуро поглядывая на заснеженные сосны, плывущие мимо, думал о другом. А ведь не вспомнил Никифоров о нем, когда избу поджигал, не вспомнил, поджег и все, подперев ход. А ежели б он спал как все?! Через какое-то время, завидев сворот к реке, он пустил коней туда. У самой кромки крутого берега распряг лошадей и привязал их к седлу своего коня. Легко скользнув полозьями под уклон, кошева, с хрустом проломив тонкий заберег, ушла в воду.
— Ну вот и ладно, так-то оно лучше будет, правда, Каурый? — заключил Косых, обхлопав от снега рукавицы.
Конь, повернув к нему голову, коротко всхрапнул.
— Вот и я говорю, на кой ляд нам эта кошева? — поправляя стремя, продолжил мужик и легко взлетел в седло.
Через два дня в сметанинской заезжей избе, как и было сговорено, он нашел Никифорова и Коренного. В дальнем углу кабака сидели они за столом; ополовиненная бутыль очистки, видно, не прибавила им настроения. Хмуро глядели они, как ввалившийся в кабак Косых, найдя их глазами, бодро шагнул к столу. Глянув, что чужих нет, Косых вытащил из-за пазухи туго набитый кошель купца и положил его на стол.
— Кони мои, а это ваше, не бросать же.
— Убери с глаз! — зло прошипел Никифоров.
— Дак нету никого, — возразил Косых.
— Все одно убери! Потом поделим, с умом.
Косых молча смотрел на них и ухмылялся — видно, до сих пор поджилки трясутся, ничё, теперь обвыкнете кровушку пускать, коль первый раз лихо миновало! Уж он-то это хорошо знал.
— Чё скалишься?! — рявкнул на него Никифоров.
— Чё смурные такие, будто похоронили кого?!
Никифоров оглядел пустой зал и взял кошель.
— Как добрался? — спросил Коренной, молча сидевший до этого.
— Тихо все. Кошева с барахлишком кой-каким подо льдом. Ночевал в тайге, так что меня никто не видел. Последним дощаником через Енисей перемахнул, мужики втрое за перевоз взяли, а назад уж не пошли, зашуговало реку напрочь. Теперь недели две Енисей закрыт для прохода, пока лед не встанет.
— Ну и ладно, зови прислугу, ужинать будем. — Никифоров, вывернув большим пальцем пробку из бутыли, налил полную чарку: — Пей!
Появившийся будто из ниоткуда половой учтиво спросил:
— Что изволите, барин?
Ощущая за пазухой плотно набитый деньгами кошель, Никифоров, подмигнув Коренному, громко сказал:
— Гуляем, мечи на стол все, что есть, девок зови, водки, вина! Эх! Зальем тоску вином, Иван Иванович, помирать теперя, что ль? Проспимся — и в путь, до дому недалече!
— Да, что было — то было, гуляем! — поддержал его Коренной, расстегивая на крутой шее косоворотку. — Зови девок, плясать хочу! — крикнул он.
И пошло-покатилось, понесло-поехало. Отправив Косых с лошадьми в Рыбное, три дня гуляли Никифоров с Коренным в Сметаниной деревне. Три дня и три ночи в пьяном шальном угаре спаивали они всех, кто заходил в кабак, одаривали питьем и угощением без меры. Немало слез пролили обласканные ими женщины, когда поутру четвертого дня собирались они в отъезд. Уж больно хороши мужики были. После этого неуемного веселья как-то отошло, отлетело все ранешнее, как и не было его вовсе. Не говорили больше о том они никогда, но с тех пор по жизни рука об руку шли. Потому и поднимались в гору их дела, что Коренной способствовал Никифорову во всех его коммерческих начинаниях, за что последний всячески способствовал росту его карьеры. Так и пролетели годы. Немало стоило денег Никифорову, чтобы помочь другу стать головой в селе. Но и немало труда Коренной положил, чтоб у его друга никаких препон в его делах не было. А дела у него разные были… Все шло-бежало к обоюдному удовольствию, спокойно и ровно, пока не прошла молва о золотом песке на речках таежных. Пока не появились старатели и не повалил в Рыбное пришлый народ. Вот тут и началось. Загорелись глаза, когда голь перекатная на грязные ноги бархатные портянки мотать стала. Засвербило внутри: как так? Они, коренные ангарцы, этой земли хозяева, а не знали, не ведали, что золотым песком она полна. И теперь эти пришлые, варначье, рожи каторжные, расползаясь по тайге, как мураши, выносят из нее песок золотой да самородки. Нахально хапают, нагло и дерзко себя ставят перед местным людом. Это ж надо! Одна из ватаг, выйдя по осени из тайги, в кабаке рыбинском прилюдно бабу раздели догола, за каждую тряпку песком платили. Сама раздевалась. Другие, выйдя, по лавкам прошлись, приоделись в бархат да шелк, а одежонку таежную, порты рваные да прокопченные у костров приказали отправить в стирку аж в сам Париж! Почтмейстер за сердце схватился от эдакой дерзости, а поделать ничего не мог, оплачено — сполняй!
Все лето деревни и села ломились от наезжего люда, но самое прибыльное время наступало осенью. Рабочие приисков, получив расчет, выходили из тайги. Почти каждая изба к этому времени готовилась особо, хозяева запасались спиртным и съестным припасом. До самого Покрова, а то и дольше превращались они в кабацкие заезжки, где и накормят, и напоят, и спать положат. Оголодавшие по женскому телу мужики золота не жалели. Деревенские бабы, вдовые да гулящие, под напором золота быстро освоили древнейшую профессию. Не желая огласки своих дел, выходили они в тайгу навстречу старательским и приисковым рабочим. Строили в тайге шалаши, пекли шаньги, коими потчевали гостей. Понеслась срамная слава о горе «шанежной» да о шалашовках, только не останавливала она никого. Мужние женки и те, нужду испытывая, уходили на «шанежную» с молчаливого согласия запойных мужиков. Пришлые, таежных законов не признавая, стародавние, из поколение в поколение передаваемые охотничьи угодья рушили и зорили. Зверь и соболь уходил из тех мест, где вгрызались они в золотоносные ручьи. Не было никакой управы на этих хитников. Те, кто пытался отстоять свои угодья, пропадали в тайге.
Тихий злобный ропот катился по коренным ангарским деревням. Копилась ненависть и чесались кулаки у мужиков. Не раз уже в драках проливалась кровь. Старосты отписывали о тех безобразиях голове. Волостной голова жалобам ходу особого не давал. До поры придерживал, и из волости до губернии они вообще не доходили. Куражились старатели и в кураже своем порой золотом платили за все — для Никифорова сплошной прибыток. Уже три кабака при избах заезжих открыл и еще пять только в Рыбном заложил. Ямской извоз по Ангаре под себя подмял, потекли тоненьким ручейком пески золотые и в его карман. Однако видел и понимал он, что мимо него золотой рекой проносится неслыханное богатство. Тогда-то и решили они с Коренным, что несправедливо это. Ладно наемные да приисковые. Те, расчет получив, львиную долю в кабаках да лавках оставляли. А бродяги-хитники, что сами по себе в тайге золото промышляют? Они делиться должны, отдавать часть им, потому как на их земле они мошну набивают, на их исконной ангарской земле потом их предками политой. Надежных людей подобрали десяток, желающих попортить крови пришлым хоть отбавляй было. Косых ту десятку возглавил. Крест целовали на верность Никифорову, животом клялись.
В конце лета пошли они старательской тропой, на одном из притоков реки Шаарган наткнулись на ватагу. Миром подъехали, вроде как поговорить, мужики работу побросали, собрались у зимовья. Старшой их вышел, в руках топор, видно, только топорище насадил. Косых будто не понял, а может, задумал так, пальнул в упор из шомполки картечью. Полголовы снесло, рухнул старатель, так с зажатым в руке топором и умер. А Косых с коня спрыгнул и к остолбеневшим мужикам:
— Таперь я у вас старшой!
Окруженные конными вооруженными людьми, старатели молча приняли условия: половина добытого золота — дань за выход из тайги. Тут же, под ружьями, старательскую казну из сундучка вынули, ровно половину отмерили и забрали.
— Вот так оно таперь будет! Ежели жизня дорога, платите. А на нет спроса нет, кто не согласный — в тайгу не зайдет. А ежели без моего допущения зайдет, здеся и останется! — Взлетев на коня, Косых внимательно и жестко посмотрел на угрюмые лица старателей. — У меня память хорошая, вам дорога домой открыта, и весной в тайгу пропущу! — Вздыбив коня, махнул рукой, и его подручные пришпорили коней.
— У нас тоже память хороша, дядя! — раздалось ему вслед.
Но Косых этих слов не услышал. А если и слышал, не обернулся. В этой тайге он не боялся никого. Здесь он был полный хозяин. Тугой кошель золотого песка в его седельной суме весомо подтверждал это. По крайней мере, он был в этом уверен. Неделю мотались они по тайге, выискивая старательские ватаги.
Выдавливаемые приисковыми партиями, они забирались в самые непроходимые и неизведанные места. Нашли еще две, крови больше пролито не было, но половину золота у них забрали. Разъединенные и чужие в этой земле, небольшие ватаги старателей были беззащитны. Все понимали, что дорога в эти места одна — через Рыбное село, не обойти, не объехать, потому, сжав зубы, соглашались и отдавали тяжким трудом добытое. Среди старателей тогда и родилось негласное название этого села — Разбойное. Тем летом старатели отступили, откупились и вышли по осени. Но не только золото вынесли они тогда на Большую землю, злобу и ненависть вынесли они тогда и распространили среди своего брата. К следующей весне народу в тайгу валило еще больше. Косых день и ночь пропадал у причалов, встречая дощаники. Некоторые его узнавали, молча проходили мимо, опустив глаза. К осени, собрав своих людей, Косых отправился в тайгу. Но получил отпор. По знакомой тропе они вышли на Шаарган, особо не торопились. Миновав несколько приисковых станов, развернутых золотопромышленником Машаровым, поздоровавшись со смотрителем, углубились в тайгу. Ехали долго, и вот уже должно было показаться зимовье старателей, тех, первых. И они его увидели — головешки сгоревшего сруба.
— Вот черт! — успел выругаться Косых, выезжая на поляну, и услышал выстрел.
Пуля с визгом прошла мимо его головы, обдав жаркой воздушной волной. Ойкнув, завалился в седле ехавший сзади Семен Карев, друг и дальний родственник Косых. Глухой, непролазный ельник, обступавший поляну, казалось, вспыхнул выстрелами.
— Засада! — истошно заорал кто-то сзади, и, сбившись в кучу, на злополучной поляне перед остатками зимовья, заметались его люди, разворачивая коней.
— Уходим! — рявкнул Косых, падая к гриве своего Каурого. — Выноси, родной! — шептал он, врезаясь шпорами в бока коня.
С версту гнали, опомнились, только когда Косых, придержав коня, перегородил тропу.
— Стоять! — орал он, гарцуя на разгоряченном коне.
Остановились. Спешились.
— Ну что, братва, делать будем? Получили по мусалам — и в кусты? В порты не наделали? Таперь они хвост задерут, суки! Карев где? Где Семен?
Мужики молча опускали глаза.
— Матанина тоже нет, — сказал кто-то.
— У-у-у, суки! Бить погань надо! — заорал Косых, свирепо вращая глазами.
— Чё орешь, Иван. Али не с нами был? Подстрелили Семена, видел я, как он с лошади падал. Да в кутерьме этой еле душу вынес. Вертаться за Семеном надоть. А Матанина я видел уж посля пальбы, за мной он с поляны выскочил, последним. — Высокий жилистый мужик, прямо ему в глаза глядя, сказал это громко и отчетливо.
Косых недобро глянул по сторонам. Остальные, подняв головы, смотрели на него и ждали решения. Раздавшийся в тишине топот копыт заставил всех схватиться за оружие.
— Э, не балуй, свои! — услышали они.
На тропе показался всадник, это был Матанин.
— Как вертаться-то, второй раз на те же грабли наступать? Перебьют! — продолжая разговор, сказал кто-то, когда подъехавший спрыгнул с коня и подошел.
— Не перебьют. Хотели бы — сразу перебили, — отвечал Степан Матанин, коренастый мужик с коротко посаженной головой и мощными руками. — Там их десятка полтора было, я по выстрелам сужу. А прицельно токо в одного угодили. Я так думаю, не в того целили. Ты, Иван, на меня не серчай, тебя они приговорили за старшого своего, а Семка нарвался под твою пулю. Остальная пальба поверх голов была, для острастки. Это я уж потом понял, когда вернулся.
— Как — вернулся?!
— Да так, решил посмотреть, кто по нам пальбу открыл. Коня привязал и назад подполз, а они уж на поляне, Семку нашего смотрят. Убитый он. С разговора их понял, что упредил их кто-то из села.
— Кто?!
— Не ведаю того, не слышал, а целили они в тебя. Точно говорю. Ушли они сразу, сам видел. Едем Семена забирать!
— Ты запомнил их рожи? — уже на коне спросил его Косых.
— А зачем бы я возвращался? — вопросом на вопрос ответил Матанин ухмыльнувшись.
Вскоре они подъехали к месту гибели Карева. Ничего не напоминало о том, что еще час назад произошло на этой поляне. Так же шумел густой ельник, так же, журча на перекатах, катил свои воды золотоносный Шаарган. Только прибавилось тело Семена с пробитой грудью. Пришлось возвращаться в село. Уже у околицы трое, догнав ехавшего чуть впереди Косых, отказались более участвовать в набегах.
— Неволить не стану, но ежели сболтнете чего о наших делах, закопаю, вы меня знаете, рука не дрогнет, — ответил вожак.
— Подоспевший Матанин спросил:
— Чё, старшой?
— Эти больше с нами не пойдут. Жила тонка.
— Семка мне добрым товарищем был, на меня можешь рассчитывать. Утром же в тайгу уйду, один, по-тихому выслежу этих варнаков. Через три дня ждать буду у старых завалов на Шааргане. Спускать им это никак не с руки. Обо мне никому — для всех я к себе в деревню подался.
— Лады, Степан, так и будет, Семена схороним и вернемся, — ответил Косых.
Никифоров был дома, когда Косых вошел в его просторную горницу. Выслушав рассказ, Никифоров сжал кулаки.
— Значится, так, не хотят платить. По-хорошему не хотят — силой заставим. За жизнь Семки Карева ответят. Через неделю едем, дорогу перекрыть, чтобы ни одна мышь не проскочила!
— Легко сказать, как перекрыть-то?
— Засаду поставь!
— Дак неизвестно, когда они пойдут, упустим, тут по-другому надо. Пока они на месте, обложить по-тихому и ночью взять. Ехать надоть, через три дня ехать, пока старатель валом на выход не пошел.
— Почему через три дня?
— Скажу почему, только знать об этом никто не должен. Упредили старателей о нашем набеге, боюсь, и сейчас упредить могут.
— Откуда известно?
— Варначье об том проболталось, а Матана услыхал.
— Кто упредил?
— Об том разговора не было, не знаю. Однако, кроме нас с тобой, кто еще знал заранее?
— Да никто не знал, а с другой стороны, все и знали. Не знали куда, а то, что в тайгу собрались, из этого никто тайны и не делал. Твоя женка за неделю знала, не так, что ль?
— Да, надо про все про это крепко подумать. Кто-то в селе доносит, но кто?
— Две с половиной тыщи душ, поди дознайся…
— Скоко веревочке ни виться — конец будет, все одно вызнаю гада! — Косых грохнул по столу кулаком.
— Ты у меня в доме по столу не стучи, — рыкнул на него Никифоров. — Решили, через три дня выезжаем, и чтоб об этом даже жены не знали. Ты да я! Понял?
— Понял, — поднимаясь из-за стола, ответил Косых. — Чё родне про Семена-то сказать?
— А то и скажи, что угодья объезжали, в зимовье пришлые пригрелись. Турнуть их решили, а те стрельбу открыли, вот Сенька и нарвался на пулю.
— Помочь с похоронами надоть.
— Поможем, то дело святое, завтра сам заеду к его старикам, благо неженатый, сирот не оставил…
Через три дня у старых завалов (ураган, пронесшийся когда-то по этим местам, уложил сотни вековых деревьев в плотную стену, перекрывшую, как мост, реку). Матанин поджидал своих. Бывалый охотник, он выследил ту из старательских ватаг, что организовала засаду у зимовья. Они далеко ушли, без тропы, почти не оставляя следов, но они не были потомственными таежниками, такими как тот, что их искал. Несколько часов, находясь совсем рядом, он внимательно наблюдал, как они работали. А работали они слаженно и азартно. Один таскал из небольшого шурфа песок и ссыпал в кучу. Другой большой лопатой кидал песок из этой кучи в диковинное сооружение, куда хитроумным способом из сделанной запруды поступала вода: что-то вроде большой бочки, дырявой как решето, укрепленной на стояках под наклоном, — ее как колодезный ворот вращали непрерывно двое, и длинный желоб, по которому с водой скатывалась песчаная масса, вытекающая из этой бочки. Крупные камни и галечник ссыпались из нее на сторону. Несмотря на тучи мошки, люди работали по пояс раздетые. Лишь головы и лица были обвязаны платками. Загорелые крепкие тела лоснились от пота, терпкий запах дегтя издалека дал знать охотнику о том, что он на верном пути. Единственное, что удерживало его около них так долго, — это то, что он не был уверен — тех ли он нашел? Лиц видно не было, а работали они молча, объясняясь жестами и взглядами. Только к полудню, когда солнце в зените стало нестерпимо жалить своими лучами обнаженные тела, они остановились и ушли в тень разлапистой ели, у основания которой был устроен из еловых ветвей небольшой балаган. Тут же на костре готовили пищу.
— Порфирий, сходи в землянку, соли принеси, кончилась, — услышал Матанин голос одного из них.
— Щас! Ослобоню брюхо и схожу! Задолбала уже эта каша, говорил, надо было стрелить и коня у этих разбойников!
Матанин и по голосам уже понял, что это именно те, кто был на злополучной поляне. Он проследил за ушедшим — тот привел его к недалеко расположенному старательскому стану. «Вот здеся мы вас, голубчики, и накроем!»
Эта ночь стала последней для старателей, Никифоров не пощадил никого. Ворвавшись ночью в землянку, стреляли вслепую по нарам, спящих. Не ждали их, к горю своему, золотишники. Забрав из уже знакомого сундучка намытое золото, не дожидаясь утра, возвращались в село. Ехали медленно по ручью. Молчали. Кони спотыкались на валунах, то и дело упирались в стволы поваленных деревьев.
— Стоп, здеся до рассвета переждем, — распорядился Никифоров, поворачивая коня на берег.
— Надо было бы кого живым приволочь! Выведать, кто на нас клепает! — бросил Косых, когда пламя костра осветило поляну и лица устроившихся на отдых подручных.
— Доставай-ка чарки из мешка, закусим, мужики, помянем Семена Карева, этим варначьем убиенного. Мы в долгу не остались, другим наука будет — супротив нас пришлым голову поднимать! — оставив без внимания слова Косых, сказал Никифоров.
Хмурились мужики, принимая чарки из рук Косых. Пили горькую, поминая Семена, а на душе тошно было — то не медведя в берлоге валили. Души человечьи губили. Но водка обжигающе пронеслась по жилам, залила угрызения и смуту в душе. Загорелись глаза, когда при свете пламени замерцал в струе золотой песок. Ровно половину отмерил Никифоров на дележ, долю Семена Карева из своей половины выделил-то родителям его в споможение!
— Справедливо, — рассудили мужики и второй тост подняли за своего хозяина.
Однако, как ни пытался Косых к осени, не пошли больше в набег на старателей. У каждого объявилось столько причин к отказу, что и придраться не к чему и заставить нельзя. Степан Матанин, который ездил вместе с Косых, хитро улыбаясь, заметил:
— Не пойдут они больше старателей зорить с тобой, головой рисковать не будут ради Никифорова кошеля. Тогда пошли, знать не думали, что ты кровь пустишь. Потом пошли за Сеньку отомстить. Теперь не пойдут.
— Так крест же целовали! Клялись!
— Крест целовали, верно. Но одно дело заставить варначье пришлое добычей делиться, а другое — воевать на живот с ними. Головы под пули подставлять чего ради? Чтоб потом с оглядкой в своей тайге ходить? Побили мы энтих, да на поляне тогда их втрое больше было, прознают все одно рано или поздно! Мы-то у них как на ладони были, а вот кто они — мы не ведаем, потому от каждого старателя, что из тайги пойдет, можно нож под ребро получить и знать не будешь, кого опасаться. Повременить надо. Куда они денутся, все одно свое возьмем! Не мытьем, так катаньем!
— Со мной к Никифорову пойдешь, надо его убедить, что с другого конца заходить надо.
— Добро.
К вечеру они уже сидели на скамье в коридоре конторы при складах Никифорова и ждали хозяина, принимавшего отчеты у приказчиков.
Никифоров, узнав об отказе подручных, стукнул кулаком по столу:
— Сделай людям добро! Ну… я им…
— Не горячись, Иван Авдеич, силком на такое дело люди не пойдут. Охотники они, на зверя пойдут, а на людей нет. Грех на душу брать больше не хотят.
— Каких людей? Варначье прожженное, рожи каторжные прут из тайги нашей золото, охотничьи угодья пустошат, баб их под кусты таскают, а им грех разбойников за это в стойло поставить? По-хорошему не пойдут, заставлю!
— Не заставишь, Иван Авдеич! — вмешался в разговор Матанин. — А и заставишь — толка не будет, в таком деле из-под палки негоже! Надоть, чтоб сами пришли к тебе и под твою руку попросились, а ты бы им простил, но уж теперь за отказ или язык пусть животом отвечают!
— Они ж отказались, как их заставить самих придти?
— Есть мыслишка у меня, разозлить их надо! Так разозлить, чтоб кидались на старателя, как на зверя лютого!
— Понял я вас, дело говорите, а получится?
— Не сумлевайся, Иван Авдеич, мы все продумали, под самый дых ударим, а на пришлых подумают! Сами к тебе придут! Время дай!
В ту осень многие охотничьи зимовья ограблены были, а многие пожжены. Косых с Матаниным свое дело сполнили умело и хитро. Охота да рыбный промысел кормили большинство ангарцев. Каково было негодование охотника, когда он, зайдя по осени в свои угодья, видел, что его зимовье ограблено — ни припасов, ни снастей охотничьих из поколения в поколение передаваемых. А то и пепелище на месте избушки! И опытным глазом определял он, чьих это рук дело. И закипала ненависть и злоба в людских сердцах. Один раз только промашка у них вышла. Прикрывая дела Косых, Никифоров отправил его якобы в Пашинские луга, посмотреть места для косьбы пригодные. Там его уже поджидал Степан. Лодкой перейдя Ангару в обрат, вышли они ниже спускавшегося к реке, как драконова спина, скалистого быка, что Гребнем зовут. Там в защищенном с севера просторном логу были дальние угодья Кулакова Василия, разорить которые и намеревались они. В момент, когда Косых поджег избушку, из тайги к зимовью и вышел Василий.
— Что же это вы творите!.. — только и успел он крикнуть, сбрасывая с плеча поклажу, как пуля Матанина прошила его грудь.
— Вот дьявол его сюда принес! Плохо дело, но…
— Хорошо, что он уже не сможет ничего рассказать! Знаешь, что было бы, если бы он нас выследил! — переворачивая бездыханное тело, жестко ответил Косых.
— Я потому и стрелил.
— Его нужно убрать отсель, пуля твоя у него в груди.
— В реку, быстрее, вдруг он не один.
— Если не один был, уже ясно бы было.
Зимовье быстро занялось, и дым стал стелиться пологу, поднимаясь в сопку. Косых бросил на тропе порванную старательскую рукавицу, и они потащили тело убитого вниз к раскинувшейся в этом месте широко и просторно реке.
С тяжелым камнем в ногах ушло тело охотника в ангарскую быструю воду.
Через неделю страшная весть облетела округу. Ушел и не вернулся из тайги Василий Кулаков, трое детей остались без кормильца, убитая горем жена в ногах валялась у старосты села, чтоб отрядил мужиков на поиск. Вернулись, рассказали, что зимовье сожжено, тела не нашли, но след старательский на тропе обнаружили! Как весомое и неоспоримое для людей доказательство легла на стол порванная старательская рукавица, найденная недалеко от сожженного зимовья. Глухой ненавистью встречали в Рыбном селе выходивших из тайги старателей. В кабаках вспыхивали драки до крови, только повод дай. А выходившие из тайги, не понимавшие причин вражды люди, как всегда, шедро сыпали золотым песком, оплачивая и ночлег, и еду, и женщин, что еще более озлобляло ангарцев. Удалось, все удалось Никифорову. Выходящие из тайги охотники сатанели от одного упоминания о пришлых старателях. Уже зимой, после Рождества Христова, собрались подручные в кабаке на Комарихе. Позвали Ивана Косых. Тот не пошел, сославшись на занятость. «Пусть думают, что не так уж надо мне с ними вязаться».
— Что делать будем? — спросил собравшихся Степан Матанин. — Звал нас Косых летом, не пошли, вот теперя щи лаптем хлебаем. Совсем в тайге житья нету, мое зимовье, еще прадедом рубленное, сожгли, сволочи!
— И мое!
— Мое тож начисто ограбили! — раздались голоса.
— Ваську Кулакова, ясно, загубили и зимовье в распыл! Вот оно доказательство — такие рукавицы только у пришлых водятся!
Шум и гвалт голосов долго не стихал, водка, выставленная по приказу Никифорова, свое дело делала.
— Сходи, Матана, к Косых, ты ж с ним на короткой ноге, пусть не серчает на нас, скажи, согласные мы ребра артельным помять, пусть не думает, спуска не дадим!
— Завтра и схожу, а седня гуляй, други, эй, служка, тащи, что есть в печи, я угощаю!
Вечером следующего дня Матанин был у Косых, туда же наведался и Никифоров. Они сидели в предбаннике хорошо протопленной бани на лавках, разопревшие и хмельные. Хватая горстями мороженую бруснику, Никифоров внимательно слушал рассказ Матанина. Крепкие зубы с хрустом перемалывали ледяную ягоду.
— Вот таперь можно и дела делать, — выслушав Степана, сказал Косых.
— Да, только надо, чтоб наверняка, без промашки чтоб было!
— Догляд за ними учинить надо, когда повалят весной, проследить тайно, куды подадутся, дать им золотишко добыть, а по осени одну-две ватаги накрыть. Да так, чтоб об этом никто не вызнал. Тихо. Как тех. С каждым годом их все больше в тайгу прет, но не все оттуда вертаются, знают, на что идут.
— На том и порешим. Теперь дело. Весной по кабакам своих людей посадим, пусть высмотрят фартовых — тех и проследим. На извозе тоже смотреть надо и слушать. Иван, подбери людишек для этого дела, чтоб пить могли, да не напиваться. Чтоб язык умели у золотишников развязать, да тебе только докладывали, сколь надо денег для того, сообрази — оплачу. — Никифоров вытер ладони. — Степан, ты одного-двух себе подбери из охотников, кто понадежней, чтоб к осени мы знали точно, где фартовые ватаги стоят. К ним и наведаемся. А теперь пошли в парную. Ванька, нуко, пройдись по моей спине, как ты умеешь!
— Заходи, Авдеич, я уж пихтовые запарил, щас я тя так обработаю, как наново народишься!
— Степан, там под лавкой у входа жбан с медовухой стынет, достань пока.
Степан достал четвертной жбан и, раздвинув закуски на столе, поставил его посредине. Налив себе кружку, в одно дыхание опустошил ее и, закусив солеными подъеловиками, откинулся к бревенчатой, гладко выскобленной стене. Из парилки потянуло пихтовым парным настоем.
— Хорошо! Ой хорошо жить на белом свете! Сейчас бы бабенку сюда, чтоб ухватить ее покрепче да приласкать!
Горазд Степан был до баб, любил их и никакой меры не знал. Жена уж восьмерых нарожала, а опять на сносях. Уж которую неделю к себе не подпушает, а ему ж невтерпеж! «Не, надоть седьни наведаться к молодке одной, давно на нее глаз положил, давно и она глазки строит, счас после баньки и навещу!» — решил он и, сбросив на лавку простыню, в которой сидел, протиснулся в узкую дверь парилки.
— Пустите, а то весь пар на вас уйдет! Разгулялись тута, про меня забыли?
— Забирайся, Степан, на всех хватит, — услышал он в непроглядном пару довольный бас Никифорова.
Косых нещадно лупил того по спине вениками с обеих рук.
— Ох-х-х хорош-ш-шо, — прошипел Степан, приземляясь задом на горячий полог.
— Смотри причиндалы не прижарь, — хохотал Косых. — А то бабы деревенские меня потом порвут — такого кобеля извел!
С того времени плотно приступили к делу Косых с Матаниным. Кружили по кабакам и заезжим избам, то тут, то там узнавали они о старательских артелях, заходящих в тайгу на золотой промысел. Людей поставили своих, шептунов. Матанин со товарищи проследил одну ватагу. Выходили за припасом из тайги ближе к весне, проболтались по-пьяни, что всегда в фарте бывают. Человек у них, рудознатец, золото нутром чует. Точно по жилам моют, потому фартовые. Обсудили с хозяином и решили по осени эту ватагу взять. Особо рудознатец этот заинтересовал Никифорова. «Этого человека живым захватить, пригодится!» — приказал он Косых. Да не тут-то было. По своим затесям вел в тайге Иван банду да влетел в зверовую яму. На колья коня посадил и сам налетел, прямо глазом напоролся на дрючину острую, хорошо, жив остался. На засаду вроде не похоже было, тропа звериная — не людская, но легче от этого не стало. Через неделю вернулись, уже осторожно шли, собак с собой взяли, и только тогда понял Матанин, что ждали их. Чудом увернулся он от самострельной смерти, просвистевшей мимо его груди. Самострел насторожен был на всадника, это Степану ясно с первого взгляда стало. Перекрестился он, возблагодарил Бога за спасение и тронул было поводья, чтоб дальше двигаться, да свистнула тетива и брызнула фонтаном кровь из шеи его жеребца, пронзенной стрелой. Упал конь на передние колени и завалился на бок. Степан, с него скатившись, руку вывернул о корень сосновый, да так, что плетью повисла. Собаки кинулись с лаем в чащу, охотники следом было, да остановились на окрик Матанина:
— Стой, мужики, собаки его возьмут, помогите, коня добить надо! Жалко, животина страдает!
Конь хрипел кровавой пеной, его глаза уже задергивались поволокой, но еще смотрели с непониманием и тоской на хозяина.
— Стрели кто-нибудь! — заорал Степан. — Нету мочи смотреть! Ну, гады, вы мне заплатите, за все заплатите! — заорал он страшно в тайгу.
Эхо выстрела гулко прокатилось по сопкам и увалам. Пока вправляли руку, пока свежевали мясо, наступил вечер. Собак не было. Не вернулись они и наутро.
— Что ж, негоже назад впустую, идем этих гадов зорить! — принял решение Матанин утром. — Токо я первым иду, всем спешиться, если жизнь дорога. Смотри в оба, самострелы опытной рукой ставлены. Оружие чтоб наготове было! Пошли!
Весь день подбирались к старательскому стану, больше десятка самострелов нашел и разрядил Степан, яму зверовую углядел, а пришли к пустому, брошенному месту. Как ни пытался Матанин определить, куда ушли золотничники, не смог. Ушли, видно, давно, тайга стерла следы. Со злости разворотили землянку и подожгли. Покружили вокруг, нет следов и намека на них. Пришлось возвращаться назад. «Кто ж так их провел? Найти, найти да головы посносить!» — одна мысль билась в Степановой голове всю обратную дорогу. Невеселы и охотники его были. Объегорили их, обманули, их, всю жизнь охотившихся в этих местах! Их, знавших каждый переход звериный, места глухариные и медвежьи углы, стрелявших так, что с пятидесяти шагов пуля, выпущенная из фузеи в лезвие ножа засапожного, надвое резалась. А эти пришлые надсмеялись над ними. Двух коней потеряли, об Иване Косых вообще думать боялись. Глаз потерял, прям точно в фамилию свою вписался. В бешенстве три дня не подпускал к себе никого Иван Косых, лекаря требовал, да откель ему взяться, так и отсекла ему бабка то, что от глаза осталось, ножом и, перекрестясь, закопала на задворках. Закрыл пустую глазницу Иван кожаной повязкой, как будто перечеркнул лицо свое черной чертой. С той поры забросил Никифоров свою идею данью старателей обложить, не вышло, но найти именно тех, кто устроил им западню и глаза Ивана лишил, поклялись они тогда. Око за око, зуб за зуб — память на этот счет у них хорошая была.
Летели годы, жизнь шла своим чередом, золотопромышленники все больше и больше вгрызались в таежную глубь. Приспосабливались, сжимая зубы, и ангарцы к их присутствию, тихая война не прекращалась. Пропадали старатели, не возвращаясь из тайги, да и не только в тайге пропадали, не один десяток тел старательских приняла Ангара-матушка в свои воды, омывая резаные да пулевые раны. Сметанино, Кандаки, Кула-ково, через которые шел старательский путь, постоялыми дворами обзавелись, мужики на ямщине хорошие деньги имели, потому широкими дворами зажили деревни. У каждого две-три заимки в тайге, где и покос, и скот все лето, только успевай поворачиваться, а зима подошла — мясо в ледник, по весне старателям все уйдет, соли да копти. Земли пахотные, которых вдоволь раньше было, под парами по три года стояли, востребованы стали — не только уж себя кормила деревня, хлеб северная тайга требовала. Огромные, глубокие погреба с рубленными из лиственницы стенами и подземными переходами стали обычным сооружением для ангарцев, там, в этих погребах, хранили и овощи, и соленья, и зерно, оберегая от гнили и глаз чужих. Там же укрывалось и все самое ценное, на черный день приготовленное. Оседали и пришлые в деревнях, семьями обзаводились, корни пускали, привороженные красотой и обилием вольной земли. Царскими указами высылались на жительство в волость ссыльные. Зазвучала на берегах Ангары и шведская, и польская речь, пришли с северов и прочно обосновались на Тесеевой реке раскольники-староверы. Разрасталось и село Рыбное, полтора десятка кабаков, при заезжих избах, день и ночь гудели, прозвище Разбойное оправдывая, уж и местный народ так называть стал село, несмотря на официальное название. Темные дела быстро богатевших рыбинских мужиков были покрыты тайной. Странные события происходили в селе, вольно раскинувшемся под сенью храма, стоявшего на высоком Рыбинском быке. Бывало, въезжал в село обоз с людьми работными невесть откуда, в раскрытые настежь ворота одного из дворов на полном скаку втягивался и исчезал навсегда за этим забором. Ни лошадей, ни людей никто уж не видел больше. Как сквозь землю проваливались, а может, и так?
Степан Матанин то подворье строил, да только работников его никто не видел, за глухим забором поднимали они из кондового леса строения. От зари до зари тюкали топоры да вжикали там пилы. За лето и управились, и затихло все. Никто из рыбинских плотников в том строительстве не участвовал, да и не было бездельных. Многие строились в то лето, рабочих рук не хватало. По глубокой осени въехал он в то подворье с семьей, перебрался из деревни. А по снегам уж пригласил Косых да Никифорова новоселье отпраздновать. Тут-то и узнали они, что старые их обидчики объявились. А весть о том бабка Ваганиха принесла, при смерти у нее лежал один из старателей. В бреду горячечном он ей открылся, что попортили они крови никифоровским дружкам, тем, что его ватагу загубить хотели. Тропу они самострелами перекрыли да ямами. Но не это главное, что он рассказал. Главное было то, что обладал он какой-то ладанкой, ящеркой золотой, которая его на золотые жилы выводила. Что ему ведомы были тайны через ту ящерку, от глаз людей сокрытые, и мог он в любом месте золото отыскать, как бы оно ни упрятано было. Звал он перед смертью товарища своего — Семена, шибко звал, видно, без него помереть боялся.
— И что? — спросил бабку Косых.
— Сейчас они там, у него, а я к вам подалась.
Кинулись Никифоров с людьми к дому Ваганихи, да опоздали. Помер тот старатель, и товарищи его как в землю канули. Ушли, мешки свои в заезжке оставив, видно, торопились очень. Как-то сообразили, что ищут их. Десять ден пасли их по всем дорогам — ускользнули. Но важное самое Никифоров вызнал. За день до смерти исповедался Лексей тот попу, в грехах каялся. Поп у Никифорова в приятелях был, на кормлении постоянном, потому без нажима рассказал все, что узнал от умиравшего. Подтвердил он рассказ Ваганихи о том, что покойного рук и товарищей его те козни были. Еще рассказал, что все золото, им намытое за долгие годы, схоронил он в месте священном, где две реки великие сливаются, и место то богами древними защищено и златой ящеркой ему указано было. Но рассказ этот попу истинным не показался, потому как сознание терял то и дело старатель. Говорил бессвязно, многого он вообще не понял и не расслышал. Одержим был умиравший бесами, потому мучился очень, а гнать из его души бесов этот поп не посвящен был. Не каждый священник тем умением обладает.
Потерял покой Никифоров. Не оставляли его думы о ящерке золотой да о золоте, сокрытом где-то рядом. Ясное дело, на слиянии Енисея-реки с Ангарой. Но где? Не слыхал он и ни о каком месте священном. Может, это выдумка, сказка старательская? Только на смертном одре сказок не сказывают. Что на душе у человека, о том и говорит он, прощаясь с белым светом. Искать надо того Семена, что в дружках у покойника был, по всему ясно — ящерка у него, значит, здесь, в тайге золотоносной, быть он должен! Но как искать, коль в лицо его никто не видел, так, по описаниям, здоровенный мужик с черной бородищей да башкой кудрявой. Поди эти кудри угляди, когда вона их прет, разномастных, и клейменых, и с ноздрями рваными, и ушами резаными, всяк свою рожу прячет! Однако столкнулся с ним он лицо в лицо, да не распознал, а когда спохватился, поздно было. Косых с расквашенными губами в себя пришел не сразу. Он, выплевывая выбитые зубы, и прошепелявил про то, что знакомца искомого на двор вывел, да не совладал. Погоня, посланная с Матаниным во главе, вернулась ни с чем.
«Ушли, сволочи, в тайгу», — доложил Степан Никифорову. Утаил, что упустил из рук пойманного Семена, чтоб гнев на себя не накликать. Из опаски, что мстить будут, порешил дружков его в тайге, а что у тех ценного было — то своим людям роздал, чтоб помалкивали. По всем местам артельным, что знали, проехали Косых с Матаниным, целое лето из тайги не вылазили, да разве ее, родную, всю просмотришь? Ни дорог, ни троп — глухая и дремучая, тысячелетиями не тронутая, могла она скрыть целые народы так, что не сыскать, а тут одного найти надо было, считай, как иголку в стоге сена. К концу лета отступились, решили на выходе по осени все пути перекрыть, но выловить этого человека. Но по-другому все закрутилось…
Уже вечерело, когда дощаник ткнулся носом в косу кулаковской пристани. Малиновый звон церковного колокола еще издали оповещал: здесь люди живут! На пристани было людно, пришла баржа с Енисея с товарами, этакий плавучий магазин. Бойко шел торг, прямо на берегу меняли меха, ягоду, грузди соленые в бочонках, орех кедровый на топоры и гвозди, посуду и ткани. По сходням носили пиленые доски, материал для лодок и мешками «яблоки» — так на Ангаре картофель называли. По-праздничному разряженные женщины прогуливались по деревянному, ладно сшитому из толстых листвяных плах тротуару, спускавшемуся от церковной площади прямо к реке. Он был усеян скарлупой от кедровых орешков, весело хрустевшей под каблучками сапожек. Где-то в глубине деревни зазывно зазвучала гармонь.
Анюта, сойдя на берег, словно проснулась, звуки гармони будто вернули ее к жизни. «Куда я еду?! Зачем?» Не дожидаясь тетки Агапы, приставленной к ней отцом в дорогу, она быстро пошла вверх по тротуару к церкви. Там только закончилась вечерняя молитва, и народ степенно выходил из церковной ограды. Анюта почти бежала, не понимая, зачем она это делает, не видя перед собой ничего, кроме устремленных в небо куполов. Радостный и знакомый голос остановил ее:
— Анютка, здравствуй! Ты ли это? Ох, краса девица, разневестилась!
Еще не сообразив, кто ее окликнул, она утонула в жарких объятиях полной жизнерадостной женщины.
— Тетка Полина, здравствуй! — проговорила девушка и разрыдалась.
— Что с тобой, доча моя, что случилось? — прижимая к себе, прошептала тетка. — Нукось, идем ко мне, идем, идем, успокойся. Не плачь, лапонька моя, — увлекая за собой по боковому тротуару, тихо шептала, успокаивая Анюту, тетка Полина.
Ее дом был недалеко, совсем скоро в чистой и просторной горнице, застеленной самоткаными половиками, с белыми занавесочками на окнах, оттого теплой и уютной, Анюта, рыдая на груди тетки, рассказала ей свое горе.
— На-ка, попей, милая, кваску. — Тетка Полина, легко нося свои телеса, усадила за стол проплакавшуюся и оттого немного успокоившуюся Анюту, стала собирать на стол.
Из кутьи, что располагалась слева от печи за занавесью, на стол потекли непрерывным потоком пироги и булочки, вареная картошка и огурчики соленые, жареные стерлядка и хариус.
— Кушай, гостья дорогая!
Анюта мотнула головой и отвернулась к окну.
— Ешь, говорю, тебе силы понадобятся! Али не хочешь со своим любым быть?
Анюта встрепенулась как птица, в ее глазах засияла надежда. Единственный человек на земле выслушал ее не коря и принял к душе ее горе! Лукавый, веселый взгляд тетки Полины вселил надежду в ее девичье сердце. Просохли от слез глаза, появились ямочки на щеках, Анюта, еще не веря в то, что обрела поддержку и помощь, спросила:
— Тетя Поля, что мне делать?
— Кушай, говорю! Что-нибудь придумаем. Неправое дело удумал отец твой. Не принято по Ангаре-реке силком дочерей замуж выдавать. Испокон веку здесь девчата сами себе парней в мужья выбирали, и родители тот выбор признавали. Ты с кем приехала-то? Поди, хватились тебя, ищут?
— С Агапьей, отец приставил за мной смотреть, а на дощанике энтот приказчик прилизанный, Акинфий. Его в селе Павлином прозвали — павлин и есть.
— А что такое павлин?
— Да птица такая, в индиях живет, грудь колесом, хвост веером, — смеясь ответила Анюта.
— Посмотрим, посмотрим на этого павлина, ты сиди, кушай, а я схожу, Агапью приглашу, а то уже темнеет. Они ж там не знают, где ты делась. — Увидев, как враз осунулась Анюта, как погасли ее очи и задрожали руки, Полина покачала головой: — Не бойся, я тебя в обиду не дам, сиди и слушай, что говорить при них буду, да головой кивай, поняла?
— Поняла, — ответила чуть слышно девушка.
— Ну все, пошла я, лампадку зажги и вот на, мою юбку переодень, а свое исподнее вот сюда в кадку замочи да быстренько в постелю! — Тетя Полина, накинув на плечи огромный Шерстяной платок, вышла на улицу.
Уже смеркалось, когда подошла она к причалу, где у дощаника суетилась, рыская по берегу, Агапья.
— Чё потеряла, Агапья Ивановна?
— Дак Анютка Никифорова куда-то запропастилась, токо причалили, она на берег, мужики говорят, в церковь подалась. Я за ней, а ее тама нету. Вы не встретили ее, Полина Прокопьевна?
— У меня она, отлеживается.
— Как отлеживается?
— А так, что ж ты, дорогая, за девкой-то не усмотрела? С нее хлещет как из ведра, а ты ее в дорогу? На дощанике столько времени! Мужичье кругом, срам-то какой! Ты чё, баба, совсем нюх потеряла?
Агапья всплеснула руками и прижала их к высохшей уже груди.
— Так все хорошо было, как отправлялись, ревела она — то правда, так на то воля родителя ее, я ни при чем тута.
— Пошли, Агапья, али здеся ночевать хошь?
С дощаника сошел на берег и вальяжной походкой подошел к женщинам Акинфий. Склонив голову и пристукнув каблуками щегольских сапог, он вежливо произнес:
— Имею честь представиться, Акинфий Сумароков. — Не дождавшись ответа, продолжил: — Так что, нашлась Анюта, как я понимаю? Вот девка шустрая, мы тут в расстройстве, куда подевалась. Пора на ночь определяться, а ее нет.
— А вы, барин, определяйтесь, Анюта у меня, и Агапу я к себе беру.
— Хорошо, — после некоторого раздумья ответил Акинфий, — поутру рано жду на борту, не опаздывайте.
Не ответив, Полина с Агапьей раскланялись с приказчиком и ушли.
— А ничего этот Акинфий, красавец, а, Агап? — спросила Полина по дороге к дому.
— Красавец, да еще с деньгой немалой, его отец большой купец на Енисее, повезло Анюте, ой повезло голубке нашей.
— Слюбились, что ли?
— Ну, слюбились не слюбились, а везу родителям его на смотрины. Так Никифоров приказал.
— Это хорошо. Добрый жених Анюте будет, коль слюбятся, — серьезно ответила Полина Прокопьевна, а про себя подумала: «Не дам девке сгинуть, с нелюбым жить — от корня гнить!»
В доме Агапья увидела Анюту спящей в постели.
— Притомилась девка, вымоталась, ты-то что, не видела, что ли? — с укором шептала Полина Агапье.
— Дак меня укачиват на реке, заснула сразу, проглядела, ой, да ты не сказывай Никифорову-то, он же строго спросит, а то и прогонит со двора, Полинушка, Богом прошу!
— Ладно, молчать буду, но Анютку, пока не оклемается, от себя не отпущу.
— Да как же? Как быть-то, поутру ехать надоть?
— Езжай, Анютку у себя оставлю, пока здорова не будет! Весь мой сказ. Или ты хошь ее такую везти? Ты чё, баба?
— Что ж я Акинфию скажу, как перед Никифоровым ответ держать буду, что волю его не сполнила? — Агапья села на лавку, вопросительно и умоляюще глядя на Полину Прокопьевну.
— Ну что такого страшного случилось-то, бабье дело обычное, вертайся назад, скажешь матери, так вот не ко времени приключилось. Анютка у меня погостит, а через неделю готова будет к смотринам, веселая да румяная.
— Что ж делать, будь по-твоему, — ответила Агапья.
— Угощайся, давай-ка, подруга старая, по чарочке медовой за встречу!
Утром Агапья сама объяснила Акинфию, что Анюта никак не может дальше ехать, приболела с непривычки. Через неделю-другую отец ее отправит, так что пусть не волнуется и дурных мыслей не имеет.
— Баба с воза — кобыле легче, — с облегчением вздохнул Акинфий и начальственно крикнул мужикам: — Отдать концы!
Мужики осклабились:
— Во бля, прям в море-окиян выходим!
Иван Васильевич Сазонтьев выглядел молодцом. Чем ближе они подъезжали к Красноярску, тем он, в отличие от Якова, чувствовал себя все лучше и лучше. Яков от утомительной и однообразной езды, — шутка ли сказать, полтора месяца по ямским избам, — впал в меланхолию. Его уж и развлекали, преферанс ему надоел, водка, что по вечерам под соленые огурцы да капустку, уже в глотку не лезла, женщины, ехавшие в отдельной повозке, и то уже не вызывали у него былого прилива красноречия и сил. Как же огромна Россия, думал он, вглядываясь в проплывающие мимо леса и горы, города и деревни, на переправах с удивлением видел широкие полноводные реки с лазоревой прозрачной водой.
— Да, это не Фонтанка, да и не Нева! — восклицал он возвышенно и высокопарно к великому удовольствию своего тестя.
В конце пути он уже и по сторонам не смотрел. Одним словом, загрустил. Петербург остался где-то там, в дали, скрытой в пыли дорог. Где-то там осталось общество, тесный кружок дам и приятелей Якова, с недоумением воспринявших его отъезд.
— Что ты будешь делать в Сибири, Яша? — спросил его питерский прощелыга и сердцееед Василий Комков. — Там же ссылка, там же нет приличного общества, тебе негде будет развернуться. Там нет нас. Ты умрешь с голода, Яша!
Они сидели в трактире на Фонтанке, где Яков заказал прощальный ужин. Да, это было похоже на правду, почти так и Яков это понимал, и он никогда не уехал бы из столицы, если бы не одно обстоятельство, доподлинно известное ему и сокрытое от других. Он держал в руках золотой самородок, самый настоящий кусок золота, за который можно было купить и этот трактир, и всех его приятелей, собравшихся сегодня за столом. Этот самородок был последним и самым весомым аргументом Сазонтьева в его разговорах со Спиринским. Яков вынашивал идею: как облапошить купца, получить у него кредиты на поставку товара и спокойно жить на проценты да разнице в цене. Все его россказни про золото сибирское слушал, кивал согласно, дочку купеческую обольщал — все было для того. Однако Сазонтьев настойчиво склонял его к иному. Ехать надо в Сибирь, дело поднимать сообща. Подержал в руке Яков этот кусок металла, побросал из ладони в ладонь — и вдруг переворот у него в мозгах случился. Потускнели вдруг все его затеи и питерские замыслы, он понял, что сама судьба дает ему шанс изменить свою жизнь! Изменить так, что никто уже не посмеет схватить его за шиворот и бросить в кутузку. Разбогатеть, и вот тогда — извольте пожаловать в столицу, уважаемый Яков Васильевич. Дела коммерческие, которые он умудрялся проворачивать за чужие деньги, теперь уж на свои-то он развернет! Казенные заказы на себя примет, уж он-то знал, где и кому нужно дать! Вот тогда, тогда все эти существа, что сидят сейчас рядом и сочувственно похлопывают его по плечу, подавятся дешевой селедкой от зависти. Никто из них не позволит себе назвать его Яшкой Спиркой, никто! Потому как за один стол с ним они уже не попадут! Ехать, ехать в Сибирь и непременно жениться на дочке этого золотого кошеля! Судьба!
И вот наконец Красноярск. Долгая, бесконечно долгая дорога закончилась. В предвкушении хорошего стола и отдельной спальни Спиринский, откинувшись на спинке сиденья, уже привычно не обращая внимания на тряску, сладко дремал. Сазонтьев и его женская половина не спали, они тоже, приближаясь к родному дому, с волнением строили планы и мечтали об отдыхе и покое. Какой же ужас охватил их всех, когда они увидели огромное зарево там, где должен был начинаться город. Дыма почти не было видно, сильный ветер относил его на северо-восток по течению Енисея. Их спускавшиеся по широкому Дрокинскому логу повозки остановили конные казаки.
— Стой! Куды ломитесь! Горит город!
— Что, что случилось, братцы? — спрашивал, выскочив из повозки, Сазонтьев.
— Горим, сами не видите? Занялось ночью в еврейской слободке и пошло-понесло — сухота месяц как давила, а тут ветер как на грех!
— О боже! А Воскресенская улица?
— Да цела Воскресенская, отсекли от центра огонь-то, но обождать надо, по Благовещенской не проехать — пекло!
— Слава богу! Слава богу! — причитая, вернулся в повозку Сазонтьев. — Цела, цела Воскресенская. Что ж за напасть такая! Третий раз уж на моей памяти пожары в Красноярске! Горит деревянный город, каменный строить надоть! Каменный, вот уж и наметки плана городского сам видел, улицы прямые да ровные, как в столице! Теперь точно только в камне дома в строительство пускать разрешат!
— Ну, вы хватили, батенька, как в столице! — возразил проснувшийся окончательно Спиринский. — Что случилось-то? Я придремал малость.
— Беда, Яков, пожар в Красноярске, горит город, горит!
— Вот так приехали, — не на шутку озабоченно произнес Спиринский, пытаясь что-либо разглядеть в оконце повозки.
Но рядом встала другая повозка, загородив обзор. Пришлось выйти на волю. Из стоявшей повозки, распахнув дверцу, вывалился уланский поручик с орденами на расстегнутом мундире, высокий и статный.
— Что за холера, почему остановили?! — зычно крикнул он казакам.
— Пожар, вашбродь, водовозные команды воду подают на тушение пожаров, потому дорогу перекрыли, обождать надо! — ответил спокойно казак.
Поручик, махнув рукой, вытащил трубку и стал набивать ее табаком. Столь колоритная личность привлекла внимание вышедших из экипажей и столпившихся путников. Яков, вглядевшись в попутчика, всплеснул руками и радостно закричал:
— Белоцветов! Андрей Александрович! Какими судьбами!
— Спиринский?! — несколько удивленно воскликнул поручик. — Вот так встреча! Не менее удивлен увидеть вас здесь, в Сибири. Что привело вас сюда?
Прекрасно понимая, что женщины Сазонтьева в повозке внимательно слушают их разговор, Спиринский высокопарно ответил:
— Зов сердца, дорогой, зов сердца!
— Что? Женщина? Не может того быть!
— Может, дорогой Андрей Александрович, еще как может, влюблен и женюсь немедля по прибытии в город! Кстати, прошу ко мне на свадьбу, непременно-с! Надеюсь, у вас не найдется повода пропустить это историческое событие!
— Премного благодарен за приглашение, принимаю его, если позволит время, мне отпущенное.
— Ушам не верю своим, господин поручик, чтоб вы не вольны во времени своем были!
— Увы, при исполнении важного поручения прибыл в эти края. От самого его императорского величества пакет имею.
— Так вы в отставке были?
— По военной службе вышел, верно. Тут государственной важности дело, впрочем, для вас, Яков, то уж не секрет. Высокие персоны делами заняты важнейшими, однако не прочь вложения свои сделать в золотоносные места, кои по Ангаре-реке разведаны. Моя задача проверить, так ли хороши те места, да, если правда все, тем деньгам ход дать.
Аж помутнело в голове у Спиринского: «Боже, какая удача!»
— Непременно успех ждет вас, Андрей Александрович. Если не возражаете у нас остановиться, прошу. А после свадьбы с большой охотой компанию вам составлю в путешествиях таежных.
— Не думаю, что смею отказаться от столь компании приятной! — смеясь, воскликнул довольный встречей поручик.
Подошедший Сазонтьев немедленно был представлен поручику и поддержал приглашение будущего зятя своего жить и столоваться непременно у него, что великой честью для дома его будет. На том и решено было и скреплено тут же разлитой в бокалы бутылкой мадеры. Однако ждать пришлось недолго, и скоро их экипажи въехали в город.
А через три недели, отгуляв веселую, по-сибирски щедрую свадьбу и оставив молодую жену родителям, Яков вместе с поручиком Белоцветовым в сопровождении десятка казаков и чиновника из губернии Сычева ехал Енисейским трактом.
Солнце припекало так, что даже в сыром ельнике было душно. Ополаскивая себя то и дело холодной водой, Федор наотмашь бил кайлом в песчано-глинистый берег ручья. Рядом, удобно устроившись у самой воды, Семен черпал понемногу лотком из отвала и тщательно промывал. До полудня время пролетело незаметно. Федор специально ни разу не спросил у Семена: как там, что? Просто кайлил и кайлил, отворачивая куски, все глубже врезаясь в берег.
— Хорош, Федор, хватит, пустышку бьем, — услышал он голос Семена.
Опустив кайло, Федор обернулся. Семен стоял виновато улыбаясь.
— Нет здесь золота, может, и было раньше, да только крохи остались. Смотри, за полдня сколько… — Он показал подошедшему Федору несколько крупинок на тряпице.
— Жила нужна, а где она? Может, тут, а может, тут, как определить? Эх, был бы Лексей, он в этом деле толк знал. Нет, Федор, если мыть, то надо на старые места подаваться, те, что Лексей показывал, вот так вот. — Семен устало опустился на валежину.
Федор выбрался к Семену и устроился рядом.
— А как он эти места отыскивал?
— У него от Бога дар был, ходит, ходит, потом ткнет рукой и говорит: здесь копайте. Начнем мыть — и впрямь есть. А как у него это получалось, он не пояснял. Да мы и не спрашивали, а если спрашивали, то молчал он, лукаво улыбнется так и рассмеется по-доброму. Дескать, все равно не объяснить. Мы ж понимали, что у него талант, потому не обижались, да и на что обижаться было? Искатель он был, а мы кайлили да шурудили[4]. На его странности внимания не обращали. Бывало, выйдет он утром, сядет у избушки и целый день сидит молча, не ест, не пьет. Мы уже наработаемся, мимо ходим, а он как будто нас и не видит. Спать ляжем, наутро его нет, пропал. Через день-два вернется и говорит: «Собирайте струмент — жилку нашел. Недалече». И пошел, мы за ним, за два-три дня столько мыли, что до этого за месяц не могли. Вот такой искатель он был фартовый — царствие ему небесное. Сказания любил рассказывать. Когда зимовали, делать нече, вот он и рассказывал, а мы слушали и мечтали.
— О чем мечтали?
— Ну, он часто про Хозяйку Медной горы рассказывал. На Урал-камне в горе живет красавица колдунья, всем подземным сокровищам владелица, самоцветами да рудами распорядительница. Когда-то давным-давно, еще только первые русаки на Урал-камень пришли, копать железную да медную руду стали, она и объявилась одному молодцу искателю. Полюбились они. Да так, что не могли и дня друг без друга прожить. А и вместе не могли быть, она с горы сойти не могла, а он в горе жить без людей тоже не мог, как ни пытался. Год они так мучились, как ни заманивала она его в гору, бесценные сокровища перед ним открыла, а оставить у себя не могла. Он славным рудознатцем стал, через нее, понятное дело, помогала она ему. Все верила, что он к ней придет навсегда, а он так и не согласился леса зеленые да поля ковыльные на темные пещеры поменять. Пришла пора ему жениться, родители невесту сосватали, они ж не знали про зазнобу его горную. Тогда законы-то были строгие, по старой вере еще жили, сын отцу перечить никак не мог. Пришел он в гору, упал в ноги красавице, что поджидала его, рассказал о том, что отец невесту сосватал и назад ходу нету. Заплакала красавица, слезы чистым изумрудом на землю покатились. Сбросила с себя одежды драгоценные и упала на мхи зеленые, что в перину мягкую под ней обратилися. Обомлел молодец, увидев нагую красавицу, воспылала в нем сила мужская и бросился он на нее, позабыв все. Три дня и три ночи не выпускала она его из своих объятий. А на третий день проснулся он в ее роскошной постели, а она сидит напротив, в золоченых одеждах, и смотрит на него. Потянул он к ней руку, а она отстранилась и сказала:
— Коль не судьба нам вместе быть, отпускаю я тебя. Мне теперь на всю вечность твоей любви хватит, ступай к своей невесте и живи с легким сердцем, а меня забудь.
— Не смогу я забыть красы твоей и нежности, нет мне жизни без тебя, — молвил он.
— Забудешь, так я хочу. Дорогу сюда тоже забудешь, но за любовь твою, за ласки, мне подаренные, весь твой род отблагодарю. Всех детей, и внуков, и правнуков, что от твоего корня пойдут, одарю. Мои слуги верные всегда при тебе будут. — Шелкнула она пальцами, перстнями драгоценными украшенными, и зашевелились стены каменные, засверкали золотом да серебром на них ящерки крохотные. — Вот ваш хозяин на веки вечные, и дети его, и внуки, и те, кто по воле его назван будет. А теперь спи, любый мой, спи!
И уснул молодец, а проснулся уж в своей избе на лавке, будто и не ходил никуда. Сел, лоб трет, ничего не поймет, верно, сон ему такой красивый приснился? А толком не помнит ничего. Через месяц увидел невесту на смотринах и влюбился в нее, так она на ту, что во сне к нему являлась, похожа была, как две капли воды…
— Дядя Семен! Вот оно откель идет-то. Ящерки! Ящерка золотая, что у тебя в кармане лежит, то ж и есть слуга Хозяйки горы той! — горячо зашептал Федор, прервав Семена. — Как же ты не догадался?
— Так я бы и сейчас не догадался и не вспомнил, коли ты не спросил бы про Лексеевы сказки. Федька, то ж сказки, понимаешь? Придумки людские. Сказания, он нам их столько рассказывал, мы так думали, что он их сам сочинял. От скуки.
— Дядя Семен, ящерка на ладанке есть, она тебе покойным передана была, а покойный Лексей, ты сам сказывал, места золотоносные искал без ошибки, а? А как про ящерку Никифоров прознал, твоих товарищей побил нещадно! Отчего? Тебя ищет зачем? Знает он про ящерку эту-то, что мы не знаем. Мне теперь только понятно стало, что ящерка эта помогала Лек-сею золото искать. Вот только как?
— Шептал мне что-то перед кончиной Лексей, да только несвязно все, скороговоркой как бы, да и я не о том думал, сердце кровью обливалось от жалости и горя. Не помню совсем ничего.
— А ты повспоминай, дядь Семен.
— Да ну тебя, говорю же, не до того было, может, что и запомнил бы, только все из головы вылетело, когда от людей никифоровских ноги уносили.
— Ты рассказывал, что бабка Ваганиха тогда пропала и вы ее ждали, а вместо нее подручные никифоровские нагрянули, так?
— Так.
— Надо бабку Ваганиху поспрошать, видно, она от Лексея тайну вызнала, то-то они кинулись в поиск.
— Сам понимаешь, мне в село нельзя. А ты попробуй, может, что и узнать сможешь. — Семен вытащил ладанку и, уложив на ладони, стал внимательно разглядывать ее ребристую поверхность. — Неужто правда такое может быть, что вещица эта колдовской силой обладает? Вот где тут ящерка, не вижу!
— Дай гляну.
— Гляди!
Как ни всматривался Федор в пластину, так и эдак поворачивая ее, — не было ящерки!
— Может, показалось нам в зимовье?
— Была ящерка, была! Я же видел и ты видел, что ж, нам обоим мерещилось?
— Вроде как была, — с сомнением в голосе подтвердил Семен и, завернув ладанку в тряпицу вместе с крупицами золота, сунул за пазуху. — Что делать будем? Золота здесь нема, а уходить на Удерей-реку вдвоем смысла нет, не готовы мы, да и поздно уже, а еще больше опасно это. Там никифоровские по старательским местам рыскают. Если меня найдут — головы не сносить. Ты тоже из-за меня голову потеряешь.
— Значит, надо в село идти, — подвел итог разговору Федор. — В обрат снасти прихвачу, рыбалить будешь, тут до Ангары с полверсты. А я постараюсь узнать про ящерку.
— Будь осторожен, Федор, — сказал ему на прощание Семен.
— Буду, да ты уж дождись меня тута, — улыбнувшись, ответил Федор.
— Дождусь, не сумлевайся, — с хохотом ответил бородач.
Федор шагнул за кинувшимся по тропе Разбоем и скрылся в густом ельнике, подступавшем прямо к зимовью. Он шел легко и быстро, теперь у него бьша цель, достичь которую означало для него многое. Теперь у него был товарищ, с которым можно было пойти в огонь и воду, который не подведет. У него появилось ранее неведомое ему чувство опоры, надежной, как скала, и крепкой, как узловатые корни сосны, каким-то чудом вцепившиеся в эту скалу и удерживающие многотонный ствол на самом обрыве, над кипящей водоворотами бездной реки. Разбой, изредка оглядываясь на хозяина, весело мотался впереди, явно охота его уже не интересовала, но он делал вид, что выполняет свои собачьи обязанности, это смешило Федора.
Преодолев крутой подъем, Федор уселся на валежину передохнуть. Ладанка, золотая ящерка не выходили у него из головы. Как она указывала на золото? Как выводила рудознатца на фартовые места? Мог ли он, умирая, тот секрет бабке Ваганихе открыть или попу так, чтобы поняли они? Он же и Семену что-то говорил, так не понял ведь даже Семен, столько лет вместе с ним золото промышлявший. Теперь, когда эта ящерка в их руках, они непременно должны открыть ее тайны, не зря ведь Лексей отдал ее Семену. И не просто отдал, а передал, умирая… Но как, как она помогает?
Разбой, сидевший у его ног, вдруг подхватился и с лаем бросился вниз по склону сопки. «Нешто медведь?!» — мгновенно вскочив, подумал Федор. Его руки уже вскидывали заряженную пулей шомполку, глаза искали и не находили цель, только лай собаки, скрытой зарослями, говорил об опасности. Разбой лаял остервенело, Федор чувствовал, что он держит зверя и ждет, когда хозяин придет на помощь. «Держись, я сейчас», — принял решение Федор и стал осторожно спускаться. Он знал, любой его неосторожный шаг, хруст ветки под ногой или сорвавшийся камень будут услышаны хозяином этих мест, и тогда уже Разбой Федору не поможет. Один выстрел может сделать охотник в медведя, наверняка и точно, второго выстрела при промахе сделать уже не удастся. Потому, пока собака отвлекает зверя, нужно подойти скрытно на расстояние верного выстрела. Федор быстро, от ствола к стволу, перебегал, приближаясь к месту схватки.
«Где-то совсем рядом». Федор остановился и, прижавшись спиной к сосне, снял с ремня пороховницу, сыпанул порох на полку, взвел курок и осторожно двинулся к еловому околку, вползавшему в сопку из распадка. Именно оттуда раздавался лай Разбоя. Там он заметил шевеление макушек молодого подроста, уже слышал недовольное фырканье медведя, уже чуял его тяжелый запах, там был зверь. Почти стелясь к земле, Федор подбирался все ближе. В просвете елей наконец увидел мечущегося Разбоя. Медведь, разворотивший большой муравейник, поедал насекомых и лениво, как от надоевшей мухи, с глухим рыком отмахивался от заливавшегося лаем пса. Бить или не бить зверя? Этот вопрос у Федора даже не возник. Мясо всегда кстати, а в нынешней ситуации тем более… Однако холодок страха пробежал по телу — не смазать бы! Рогатины с собой не было. Федор вынул нож и тихо вдавил его в кору дерева, у которого стоял. Осторожно приложив ружье к стволу упавшего от старости сучковатого кедра, прицелился. Медведь в двадцати шагах — и промаха не могло быть. Федор ждал, когда он очередной раз развернется к бросавшемуся на него Разбою и подставит под выстрел бок. Чтобы наверняка, под лопатку… Разбой, как будто понимая свою работу, бросился и вцепился в зад зверя. Тот, рявкнув, разворачиваясь на месте, привстал, и в этот момент Федор выстрелил. Сильная отдача и пороховой дым на секунды все скрыли от него. Оставив шомполку, отступил за дерево и, прижавшись к нему спиной, сжал в руке нож. Сердце колотилось в груди, ноги, как ватные, еле держали. Страх опасности не давал даже дышать. Федор выглянул и ничего не увидел. Только выскочивший к нему Разбой, радостно вилявший не только хвостом, но, казалось, всем телом, улыбавшийся своей собачьей улыбкой, позволил Федору поверить — все закончилось удачно. Он добыл зверя.
Только теперь он выдохнул. Сползая спиной по шершавой коре сосны, присел, уже весело отбиваясь от своей собаки, пытавшейся непременно лизнуть его в мокрое от пота лицо.
Тетка Полина, с утра подоив коров, уже хлопотала в кутье, напевая что-то вполголоса, когда Анюта, разбуженная ярким солнечным лучиком, пробившемся сквозь слюдяное окно, сладко потягивалась всем телом в постели и все не хотела окончательно проснуться. Так ей было хорошо и спокойно в этом добротном и просторном доме. Так уютно спалось на пуховых перинах, так не хотелось, открыв глаза, вспомнить, что не все в ее жизни складывается, как она желает. Как рушатся и тают ее мечты. А вот закрыв глаза и уткнувшись в подушку, она с ним, с Федором, дорогим и желанным ее сердцу и таким теперь далеким. Сам собой к горлу подкатывал ком и на глаза наворачивались слезы…
— Ну что, девонька моя, выспалась?
Жизнерадостный голос тетки развеял остатки горестных и печальных мыслей Анюты.
«Тетя Поля! Она поможет. Она спасет!» Анюта открыла глаза и, одним движением сбросив с себя невесомое одеяло, стремительно выкатилась из постели, представ во всей своей растрепанной красе перед опешившей от неожиданности теткой Полиной.
— Ой, юла! Напугала! Думала, ты спишь еще! — Уперши руки в бока, тетка рассматривала свою племяшку. — Хороша, хороша, наша порода, — одобрительно сказала она, глядя на сбросившую с себя ночную рубаху Анюту.
Девушка действительно была хороша: полногрудая, с тонкой талией, длинными стройными ногами, крутыми крепкими бедрами — завидная невеста, самое время замуж.
— Быстро умываться, иди, красавица, полью! — скомандовала тетка и, довольно улыбаясь, пошла к кадке с водой. Зардевшись от похвалы и внезапно нахлынувшего стыда за свое случайное обнажение перед теткой, Анюта, опустив глаза, пошла за ней.
— Ой, вода-то холодна, ой! — кричала она, смеясь и подставляя руки под щедрую струю из теткиного ковша. — Ой, хорошо-то как! Ой, славно! Спасибо, теть Поль!
— Вот на рушник, чистый, утирайся. Молоко, ты как, парное любишь? Аль вчерашнее?
— Парное.
— Вот и ладно, кушай да меня слушай. — Тетка Полина уселась за стол и, подвинув ближе к Анюте чугун с парившей ароматом укропа картошкой, налила ей большую кружку теплого молока.
О чем хотела говорить тетка Полина, Анюта не узнала. Постучал кто-то в оконце, позвал тетку и, махнув рукой — дескать, посля поговорим, накинув платок, ушла она по каким-то своим деревенским делам. Вернулась тетка только к вечеру, веселая и озорная, слегка вином разгоряченная.
Уселась за накрытый Анютой стол, глаза искорками светятся. Одного, второго попробовала и, довольно откинувшись к бревенчатой стене, тихо, каким-то грудным, глубинным голосом запела. Анюта не слышала раньше такой песни, даже слова, чудные, вроде как наши, а не понимала она их, но мотив, сам напев был столь выразительный, столь родной, что присела она ближе к тетке, обняла, прижалась своим телом к ее полной и сильной руке и, затаив дыхание, слушала. Эта старинная песня, негромкая, но обладающая какой-то неведомой мощью, поглотила девушку и унесла ее мысли в дали былинные, седым ковылем поросшие.
— Что это за песня была? — спросила Анюта после того, как тетка замолчала и сердце Анюты медленно отошло от странной истомы, навеянной напевом.
— О, то, девонька, спевали еще в старину, мне от моей бабки перешло, а ей — от ее, и так неведомо с каких давних пор она пришла. Понравилась?
— Очень!
— Вот, запоминай, коль понравилась.
— Грустная она, сердце так и замирает.
— Это не песня грустная, а мысли у тебя грустные, потому и песня грустной кажется, на самом деле она о любви, о жизни, о счастии.
— Да разве есть на свете счастие, тетя Поля?
— Есть, девонька моя, есть, только его найти и сберегать надо.
— Так где ж его искать?
— Дуреха, в любви и есть твое счастие.
Слезы навернулись на глаза Анюты, и вот-вот она бы расплакалась, но тетка, развернувшись к ней, взяла ее за плечи и, пытливо всмотревшись в ее глаза, слегка встряхнула.
— Ты чё, нукось, слезы долой! Федьку любишь своего?
Анюта кивнула, слезинка невольно скатилась на щеку.
— Так люби! Никто любить мешать не может, никто! Бог любовью одарил, он ее тебе в сердце послал, а уж распорядиться этим даром ты сама должна, и тут не слезы нужны, а ум и терпение.
Анюта только глубоко вздохнула, и такое отчаяние выступило на ее лице, такая просьба о помощи, что тетка крепко прижала ее к себе.
— Ничего, не кручинься, все хорошо будет. Дай мне подумать, как это дело разрешить. Не бойсь. Твоя тетка и не такие узелки развязывала, уж годков двадцать лучшая сваха по нижней Ангаре. Вот седни, к примеру, думаешь, почему песни пою? Да потому что дело доброе сделала. Глашу, слыхала поди, мужика ее в прошлом годе льдами затерло, ребятишек пятеро с ней, — сосватала! Да такого мужика ей хорошего нашла, сколь годов холостяком ходил, хозяйство справное, сам ладный, да только слова из него не вытянешь. Как Глашка-то одна осталась, все кругами ходил, виду, что люба она ему, не показывал, а я видела. Помогать таким людям надо, ходят по одной улице, души друг к дружке тянутся, а решиться сказать об этом не могут. Бабе-то стыдно в том признаться, что мужик ей люб. А Тихон, ну, про кого речь, прям в имя свое и уродился. Вот и пришлось чуть не силком его к своему счастию тащить, вот ведь как бывает. А сошлись вместе, глаза-то у обоих светятся, слов уж много и не надоть. «Согласная я», — только промолвила, так он ее подхватил на руки и в пляс пошел. Вот оно как бывает. Глядишь, теперь две души милуются да радость имеют.
— Какая ты у меня хорошая, теть Поль! — Анюта еще сильнее прижалась, утонув в объятиях тетки. — Как же мне быть, отец при одном только упоминании имени Федора в ярость приходит. Теперь прознает, что осталась я, не поехала с Акинфием, против воли его пошла, совсем жизни не даст.
— Как же он прознает?
— Баба-яга доложит!
— Это ты про Агапью, что ль? Пошто ее так назвала?
— Баба-яга и есть, все лето за мной следит, хвостом ходит, обо всем про меня отцу рассказывает!
— Значит, так ей велено было, она и сполняет наказ родителя твоего, и в том ее винить нельзя, тем паче бабой-ягой звать.
— Это почему?
— Что — почему?
— Почему бабой-ягой нельзя обзывать?
— Потому что баба-яга великая страдалица за бабье счастье была, только не понимала она, в чем оно есть, оттого и приняла на себя страдания великие.
— Вот те на, так про нее сказ-то совсем другой сказывают, что сидела она в лесу, в избушке на курьих ножках, и козни разные людям строила!
— То не сказ, то враки.
— Как враки, а что ж тогда правда?
— Ой, девонька, не все правда, что люди сказывают. Даже в сказках. Я про нее другое знаю, только не сказку, а былину.
— Расскажи, теть Поль!
— Хорошо, слушай. Давно это было, в давние времена, когда на Руси еще родами жили и древним богам молились. Не было тогда еще христианской веры, а жили люди по традициям, испокон веков передаваемым. Жили по прави и кону, по совести и правде жили, и один у всех великий Бог был — Род. От него и Боги дети его Сварог и Лада, от них и люди все русичи. Так вот. Всегда, во все времена правили в родах мужчины и свою природой данную роль исправно сполняли — охотились, строили, землю обрабатывали, роды свои от ворогов охраняли и бились за них, не жалея жизни. А бабы детей рожали. Жито жали, кормили мужиков своих, одежды шили, обувь, жилище содержали в чистоте и уюте, любовью их одаривали и во всем им подчинялись. В том природная суть женская и доля бабья. Только среди мужиков тоже не всегда лад бывает, вот и случилось так, что не сладили в роду одном мужики, распря началась, оттого не приступали к работам весенним, все решить не могли, что сперва, а что сначала… И была в том роду баба одна, здоровенная, сильная, Агуньей ее звали. Смотрела она, смотрела на разлад мужицкий, на старцев, разрешить этот разлад неспособных, и сговорила баб опоить мужиков да забрать власть в роду под себя. Приготовили медов хмельных да трав дурманных в те меда добавили. Поднесли мужьям своим, и уснули те сном долгим да непробудным, а проснулись невольниками. Бабы оружие в руки взяли, особо сильных мужиков повязали и кажный день медами их поили, пока те смирными, как животина, не стали. Старцев-волхвов насмерть забили, чтобы править не мешали, остальных битьем да силком свою работу сполнять принудили, а сами мужицкой занялись. Баба Агунья править родом стала. Шли годы, умирали мужики, помнившие устои старые, а молодежь, подраставшая, так и думала, что мужики под бабами ходить должны. Так и жили много лет. Только противилась женская натура такому положению, не ладилось как-то: днем госпожой над мужиком быть, а по ночам ласки от него желать не холопской, а мужской, сильной и властной. Не клеилось это, как ни старались. Зрело недовольство и среди мужиков молодых, да только не обучены они были с оружием обращаться, и всякое неповиновение Агунья жестоко карала. Сама одна осталась, без мужика, помер тот от медов хмельных рано, не выдержал пут. Высох и помер. Оттого еще злобливей Агунья стала, привередливей, сама сохнуть стала, ногу волочить.
А тут беда пришла. Налетели из степей вороги. Напали и побили бабью рать Агуньи, пожгли деревню, а тех, что молоды да живы остались, в полон увели. Только баба Агунья да с десяток людей, в лесу попрятавшись, уцелели. Построили избу, потому как место болотистое было, на сваях, и горевали там без прокорму, пока не пришли за ними те, кто из полону сбежать смог. Однако, пока они домой возвращались, многое повидали — нигде в других родах, приют им дававших, бабьего правления не видывали. Рассказы их о собственном житье только смех вызывали да сердца мужские обидой наполняли. Забрали оставшихся в живых родичей из лесу, а бабу Агунью в лесу оставили, она уж совсем ослабла, и нога одна у нее высохла до кости. В полон попавшие, горе мыкая, проклинать стали бабу Агунью за то, что род сгубила правленьем своим. По всей Руси вопли те просочились. Постепенно из Агуньи в зловещую Ягу та баба превратилась. До смерти своей в той избушке и прожила, из рода изгнанная. Детишек ею пугали, за шалости грозились к ней отправить. Оттого небылиц столько о Бабе-яге. На самом деле молилась она в уединении Роду, дабы простил ей поступки ее.
Нельзя женщине главной в роду быть, мужиком управлять, не ее это дело. То давно было, а и теперь, как только жена над мужем в доме своем верх берет, так постепенно в бабу-ягу превращается. Только не сразу понимает это, а уж когда поймет — поздно, беда в дом ломится… — Тетка Полина замолчала.
Где-то в сенях скрипнула половица, запоздало залился лаем дворовый пес.
— Встречай гостя, Полина Прокопьевна! — отворяя дверь, скорее прохрипел, чем проговорил, высокий бородатый мужик, снимая шапку и низко кланяясь хозяйке.
— Ты чёй-то на ночь глядя, Матвеич? Все летось глаз не казал, а тут — вот он. Что за нужда привела? Проходи, проходи, садись вон на лавку.
Полина Прокопьевна легко вышла навстречу и помогла гостю снять тяжелый заплечный мешок.
— Гостинец тебе принес, принимай.
— От кого гостинец? — с удивлением спросила тетка.
— Не велено говорить от кого, от доброго человека.
— Вот те на, это почему ж не велено?
— Не велено, и все, попросили передать тебе от сердца, а кто, какая в том разница, — раскрывая мешок, хрипел Матвеич. Он вынул из мешка один за другим три берестяных туеса и несколько туго набитых холстяных мешочков. — То мед свежий, таежный, да травы, да корешки целебные, разберешься.
— Вот спасибо, нукось, мед давай, сейчас мы его и отведаем. Анютка, приглашай гостя к столу, я сейчас. — Тетка Полина, накинув платок, вышла.
— А ты кто будешь, я со света-то и не приметил девицу, — шурясь, разглядывая вышедшую из-за стола Анюту, прохрипел мужик.
— Анюта, племянница тети Поли, из Рыбного.
— Это ты чья ж будешь?
— Никифорова.
— Никифорова… — раздумчиво прохрипел Матвеич и еще раз окинул взглядом замершую отчего-то Анюту. — Ну что, племяшка, наливай молока, под-чивай родственника.
— А вы кто тете Поле будете?
— Дальний родственник, так что ты и мне родней приходишься.
— Никогда не слышала о вас от родителей своих.
— Немудрено-то, разные мы люди, дороги разные топчем, потому не знаемся, и ты обо мне им не сказывай, ни к чему это, — ответил Матвеич, оглаживая косматую бороду.
— Где же вы живете? — наливая в большую кружку молока, спросила Анюта.
— В тайге живу, на Тесеевой реке.
— Как в тайге, промышляете, что ль?
— И живу, и промышляю, жизнь-то она и есть промысел, токо у всех разный. У твово отца, вишь, какой промысел видный, по всей Ангаре его имя известно. Да и не только по Ангаре. Однако промысел промыслу рознь. У твоего отца, ты уж не серчай, не благостный промысел.
— Почему, дяденька?
— Не богоугодный он… потому и не благостный.
— Как же не богоугодный? Считай, дяденька, все понизовье через него кормится. И работу дает, и платит исправно — все так говорят. Лавки опять же, и в долг отоваривают, и промышленникам сколь отец помогает.
Допив из кринки молоко, утерев платком рот и бороду, Матвеич, строго глянув на Анюту, ответил:
— Вот через те лавки-то и есть не богоугодный его промысел…
В это время в дом вошла тетка Полина, и Матвеич, не договорив, встал из-за стола.
— Спасибо, хозяйка, пора мне.
— Да куда ж ты, поговорить-то не успели!
— Не серчай, тороплюсь я, другим разом поговорим.
— Прими от души мои подарки, Матвеич, да с добрыми людьми ими поделись. — Тетка Полина выложила из мешка десяток пар вязаных чулок, ушла в кутью и вынесла голову сахара.
— То с собачьей шерсти? — понюхав чулок, спросил Матвеич.
— С нее, на крапивной нитке, сносу им нету. Никакой мороз не страшен, надевай, хоть без бахол по снегу гуляй, — улыбнувшись, ответила тетка.
— Спасибо, здоровья тебе… — хрипел Матвеич, убирая подарки в свой мешок.
Уже на пороге, обернувшись, посмотрел на Анюту и прохрипел:
— Прощевай, девонька, не кручинься, не просто, однако, все сложится…
— Это он про что? — озадаченно спросила тетку Анюта, когда дверь за мужиком закрылась.
— Дак не знаю, про чё вы тут говорили.
— Да ни про что и не говорили, так. Он про отца моего сказал, что не богоугодным промыслом, дескать, он занимается, а боле ни про что и разговора не было.
— Не бери в думку слова его, не надо и понимать, про что он. Таежный человек, один живет уж годов двадцать, много странного в нем. Иной раз сидит, слушает мои бабьи россказни про дела деревенские да и вставит словечко-другое. Я только в удивленьи и замру — как будто про все это знает давно, и как было, знает, и как будет, знает, во как! А пройдет время, и сама вижу, что он сказал, так и вышло.
— Почему он на отца моего так?
— Да, верно, из-за табака да спирта, что через ваши лавки в народ идут. Старой веры он, сильно не любит, зельем сатанинским считает табак да спирт. Говорил мне, что до сатанинского сына, так он царя нашего, Петра Великого, обзывает, — с опаской глянув на иконы и перейдя на шепот, продолжала тетка, — за курение табака головы на Руси секли, а Петр тот запрет отменил, сам табак курить стал и всю Россию в это вверг.
— Царя Петра?..
— Он сто лет назад правил.
— Выходит, уже целый век прошел. А отец-то мой при чем, коль сам царь разрешил?
— Так это зелье само по себе в наши края не придет, твой отец его и привозит — значит, при чем. И спирт тоже. В ранешные года такого не было, ну, погуляли мужики на свадьбе иль какой другой праздник — и на том конец. В промысел, в работу шли, а теперь вон их сколько в кабаках не просыхают, в долги входят, да все, что в тайге добыто, туда и уходит. Беда от этих кабаков, ой беда, так что прав Матвеич, не богоугодное это дело, не богоугодное…
— Федя мой не пьет, вот только дымит с парнями, как все.
— Вот, вот — как все, и в кабак пойдет.
— Не пойдет.
— Отчего не пойдет?
— Отец звал его к себе, в кабаке работать — наотрез отказался. Оттого и не люб он отцу.
— Ишь ты, вот так вот и отказался от теплого места? Молодец, однако, твой Федька.
— Правда?
— Правда, правда, молодец.
Анюта с благодарностью посмотрела на тетку и опустила глаза.
— Так, хватит тоску нагонять, вон соседские ребятишки по бруснику наладились, спрашивали, пойдешь ли с ними.
— Конечно, — встрепенулась Анюта. — Сижу как клуша который день.
— Там, в сундуке, одежку возьми. Да штаны под юбку надень, мошки полно, зажрут.
Ранним утром, еще по росе, Анюта в окружении подростков уже шла по еле заметной тропе, углубляясь в тайгу. Ребята — двое мальчишек семи-восьми лет и три девчонки чуть постарше — с любопытством расспрашивали Анюту. Откуда да чья она, чем в ее краях люди живут. В их глазах она была приезжая, издалека, а потому окружена тайной. Анюта шутила. То и дело вековая тайга, принявшая их, отвечала эхом на звонкий смех ребят. Две лайки, сопровождавшие компанию, с сожалением и укором оглядывались на детей — непутевые, всю дичь распугают! Окончательно убедившись в том, что охоты не будет, собаки прибавили ходу и скрылись впереди по тропе. Тропа вилась меж выступавших скалистых обломков вдоль берега небольшой речушки, то поднимаясь по склону сопки, то спускаясь к самой воде, в которой, хорошо видимые, косяки крупных хариусов лениво отходили с мелководья в тень глубины. Эх, вздыхали ребята, лучше бы уды взяли! Да куда там, время ягодное, надо ягоду брать — без брусники как без хлеба в сибирском селе. Она всю зиму мерзлой свежестью своей стол украшать будет, в капустку пойдет, с мясом, а кисель из нее какой!
Скоро подошли к ягодникам, обвязав платками по самые глаза лица от мошки (руки-то заняты будут), разбрелись по солнечному склону. Редколесье, видно, когда-то давно пожар прошел по этому месту, погубив молодняк, ожег, но не осилил вековые стволы могучих сосен и листвяков. Анюта брала ягоду совком, аккуратно поднимая тяжелые от ягод тонкие стебли, снизу вверх пропускала их через искусно выпиленный гребень совка. Радовалась душа, когда ягода за ягодой рясная брусника, скатываясь внутрь, тяжелила руку. Из совка в корзину, ловко, свысока, чтоб ветерок отсеял случайный листочек или хвоинку. Ягода, домой принесенная, должна быть чистой, по чистоте этой отец-мать выводы свои сделают, только малые совсем про то не знают. А еще при сборе ягоды никто не ест ее, пока корзина не полна. Тут уж соревнование идет, кто шустрей да ловчей. Нет-нет, да поглядывают на ближних соседей по сбору, как у того прибава в корзине. Тут углядеть нужно, как ягодник идет, ягода — она от места: то рясная да спелая, то мелочь белобокая. Одну берешь, на другую поглядываешь, к третьей прицеливаешься. Простое дело, да только старания требует, плана особого, как встать, чтобы не топтать ягоду, как чесать, чтоб не выдрать с корнями и лист в совок не попал, а ягода вся в нем не оказалась. Место богатое попалось, собаки показали. Умные псы, наскочили на ягодник, вывалялись в нем да выскочили на тропу перед ребятами, как кровью, соком ягодным белые груди у обоих залиты. Дескать, глядите, да за нами идите, непутевые. Ни слуха у вас, ни нюха! Анюта с ребятами свернула с тропы за ними — и вот она, ягода царская! Часа не прошло, как полная корзина была обвязана чистым платком, и Анюта огляделась. Дети старательно собирали ягоду в пределах видимости, собаки, устроившись в тени выворотня, уютно лежали калачами, уткнув носы в шерсть.
— Я к речке, омоюсь! — крикнула Анюта ребятам и стала спускаться.
Собаки увязались за ней, видно надоело лежать. У самого берега, свесив огромные ветви к реке, стоял кедр. Мощный ствол в два обхвата и сучья от низа. Анюта остановилась. Поставив корзину, она отошла и, задрав голову — высок был кедр, оглядела, как смогла, что там, в кроне. Богато, все ветви усыпаны крупной шишкой! Две-три паданки под ногами углядела в траве, шишка крупная, спелая, не тронутая зверьем. Сам бог велел, подумала Анюта и решилась. Давно по кедрам не лазила, а тут захотелось показать свою ловкость. Решительно заправив юбку в штаны, разулась и полезла. Первые несколько метров, пока крупные ветви были редки да не ухватисты, пришлось тяжело, но скоро, гибко извиваясь телом меж ветвей, прижимаясь к стволу, как по винтовой лестнице легко поднималась выше и выше. Вот и крона, ветви, гнущиеся под тяжестью крупных шишек, и трепет в теле от высоты. Нет, она не испытывала страха, просто вдруг задрожали колени, и она, вцепившись в ствол, замерла. Ствол, абсолютно неподвижный на вид снизу, здесь, наверху, раскачивался. Анюта почувствовала, как мертвеют пальцы рук, как они теряют чувствительность, как прихлынула кровь к голове и обдало жаром все тело. Пот, крупными каплями скатываясь со лба, защипал глаза. Анюта не могла оторвать руки, чтобы смахнуть его.
— Анюта-а-а-а! Ты где? — услышала она крик снизу.
«Ребята! — всплыло в голове. — Да что это со мной?!»
Она открыла глаза и, взглянув вниз, не увидела никого. Мешали ветки.
— Анюта?! Ау! — кричали снизу уже несколько голосов.
Как пелена спала с глаз, Анюта расслабила руки и, чуть отстранившись от ствола, как ей казалось, весело крикнула:
— Здесь, на кедрушке-боровушке, берегись, щас шишка пойдет!
Бешено колотившееся сердце стало успокаиваться. Анюта осмотрелась. Прямо на ветке, на которой она стояла, были шишки. Она, ухватившись за ветви выше, подпрыгнула, ударив ногами. Пошла, отваливаясь от гнезд шишка, тяжело проходя через хвою и нижние ветки, с шумом и стуком обрушивалась на землю.
— Ура! Ой!
Ребячья возня и крики окончательно успокоили Анюту, и она, уже забыв о чувствах, минуту назад сковавших ее, стала колотить ногами по ветвям, сотрясая их, обрушивая вниз сотни и сотни смолистых, наполненных орехом плодов.
— Анютка, хватит, много! Не унести! — кричали снизу.
Но она не слышала, она, как бы доказывая что-то самой себе, неистово колотила по ветвям, поднимаясь выше, выше, трясла макушки. Шишки сыпались лавиной, и Анюта увлеклась. Очередная ветвь очень оказалась толстой и густо усыпанной шишками, чтобы ее сотрясти, нужно было ударить подальше от ствола. Анюта ударила раз, другой. Толку мало. Она шагнула, удерживаясь одной рукой, ударила еще раз, и случилось то, что трудно было предугадать: толстая ветвь, хрустнув, обломилась под ногой девушки. Испугаться она не успела. Ее тело, скользнув вниз, падало, натыкаясь на ветки и сучья, ломая их и оставляя на них куски одежды. Ее отбросило от ствола в сторону уже внизу, тайга пощадила ее жизнь, подставив под падающее тело крупную ветвь, которая, не сломавшись, погасила часть силы удара. Упала она на береговые камни. Ее широко открытые глаза неподвижно смотрели в небо, несколько капель алой крови окрасили белое как полотно лицо. Ребятня, видевшая падение, окружила неподвижное тело.
— Ой, боженьки, не дышит! — прошептала одна из девчонок.
Все были испуганы произошедшим, никто не знал, что делать. Никто не смел даже коснуться Анюты. Кровь тонкой струйкой сочилась из уголка рта…
— Бежим скорей до села, тетке Полине скажем! — крикнул кто-то из ребят, и все бросились бежать.
Только собаки, чуть проводившие по тропе детей, вернулись — негоже бросать беспомощного человека в тайге. Они легли рядом с телом девушки и грустными глазами следили, как легкие волны перекатывают на отмели упавшие в воду тяжелые шишки.
«Зачем людям на деревья лазить? Деревья для птиц. Вода для рыб», — думали псы. Как в подтверждение их мыслей крупный таймень у самого берега вылетел из воды и с громким плеском обрушил свое блестящее и сильное тело в прозрачный поток… Через два-три часа на этом месте тетка Полина, Захарий Петрович Кусков, гостивший у своего брата врач из Енисейска, и еще трое мужиков с удивлением осматривали берег.
— Вот здеся она лежала, — со слезами на глазах твердила старшая из девочек, что были с Анютой.
— Ну и где ж она?
— Не знаю, мы к вам побегли, а она осталась. Вот тута она и лежала.
— Похоже, правда здесь, вон на кровь похоже. — Захарий Петрович белым платком снял с камней уже загустевшие капли.
— Куда ж она делась?
— Не дышала она, изо рта кровь, глазами не смотрела… — шептала со страхом девочка. — Мы спугались и к вам…
— Это как она упала, откель?
— Вот с этой кедры.
— Да, вона кусок юбки ее на ветках.
— Куда ж она делась, голубушка моя? — который раз причитала, пряча мокрые глаза, тетка Полина.
Мужики, осмотрев берег, разводили руками. Нет следов на берегу. Не хранит камень следов. И на выходе следа нет ни звериного, ни человека взрослого, только ребячьи.
— Медведь, конечно, мог прибрать, по ручью прошел, и все, — рассуждали мужики. — Кому тута еще быть, некому, токмо хозяину.
— Ой, горе-то какое!.. — заголосила, не выдержав, тетка Полина. — Ой, не уберегла!
Женский крик покатился над водами таежной речки. По изгибам и перекатам и уже на излете достиг ушей верных собак, бежавших берегом, провожая долбленую лодку, в которой лежала Анюта. Ее бледное лицо, омытое от крови, было заботливо прикрыто от комара и мошки, только свесившаяся безвольно рука иногда кистью касалась воды, чертя полоску при каждом сильном толчке шеста, которым вел против течения лодку крепкий бородатый мужчина. Остановившись, собаки подняли морды, как бы спрашивая мужика: «Ну что, мы еще нужны?»
Мужик в лодке понимающе кивнул и махнул им рукой:
— Свободны, без вас управлюсь.
Через некоторое время они уже тыкались мордами в ноги мужиков, собирающих шишки, набитые с кедра Анютой, — не пропадать же добру!
— Кого стрелил? — крикнул еще издали Семен, шумно, с треском выламываясь из кустарника.
— Хозяина… — не без гордости в голосе ответил Федор.
— Неужто медведя?!
— Его самого!
— Я-то думаю, токо ушел — и вдруг выстрел, чё случилось? А ты медведя завалил! Вот это хорошо, вот это ладно! — Семен уже пробрался через валежник и присел у распластанной на мху туши зверя.
Медведь лежал на боку, привалив собой к земле несколько молодых елок. Разбой устроился рядом, передними лапами он как бы упирался в мощную, но уже неподвижную и безвольно откинутую лапу хозяина тайги. Если несколько минут назад он как шалопай винтом крутился вокруг поверженного зверя, то сейчас его морда была серьезной и важной. Федор сказал и о нем: «Разбой держал, я стрелил, обычное, мол, дело». Чуть шевельнув хвостом, пес показал хозяину, что доволен похвалой, но этот знак был заметен только Федору.
— Что ж, надо свежевать и мясо выносить, хорошо, что рядом.
— Постой-ка, Федь, что-то мне знакома эта морда, вернее, лапа. Смотри, видишь, ободрана, в рубцах вся. — Семен, вытянув медвежью лапу, развернул ее, раскрыв ступни-подушки. Они были изорваны и еще не зажили до конца. Рваные раны, покрытые коростой, буквально бороздами покрывали лапу зверя до локтевого сгиба. — Точно, он! — воскликнул Семен.
— Дядь Семен, да ты про что?
— А про то, что этот медведь знакомец мой старый!
— Что-то у тебя в тайге слишком много знакомцев, дядя Семен! — улыбнувшись, грустно пошутил Федор. — И мне сдается, они тебя не очень любят. Чем же ты хозяину-то насолил, а, дядя Семен?
— Вот тут ты не прав, Федор, этот медведь тут ни при чем, я, можно сказать, ему жизнь спас, а он просто не понял и подумал, что это я для него капкан соорудил.
— Капкан! Кто ж на медведя капканы ставит? Отродясь не слыхал… — прикидывая, как приспособить на подвес тушу, спросил Федор.
— То особый капкан, Федь, с Урал-камня привезенный: из железа труба, а в ней зубья кованые, заточенные, вовнутрь загнутые так, что сунь в эту трубу руку аль лапу, назад уже не вынешь. А сама труба с цепью кандальной, да к стволу аль к валежине матерой и вяжется.
— Ну и что? Зачем в нее лапы-то совать?
— Так она с одного конца заглушена, туда и кладется для медведя замануха медовая.
— Вона как! Это ж, выходит, он лапу за медом сунул, а назад-то и напоролся, и сидит, привязанный.
— Не сидит, а стоит, а то и висит, «влапу»-то, так этот капкан называют, обычно в подвес крепят, зверь влез лапой и повис, беспомощен день-два повисит, хоть шкуру с него снимай с живого, а то и издохнет, пока промышленник до него дойдет.
— Не, у нас так не принято, какой прок медведя летом бить. Тем паче мучительной казнью животину мучить. Понятно, соболек иль другой какой зверек в капкане аль петле сомлеет, так тож быстро, без мук, а тут медведь… не, у нас так не делают. Медведь, он же как человек, умный.
— Во-во, умный, я тоже думал, что он умный. Шел я напрямки, тайгой, сам знаешь, опасался людишек, а он в капкане у валежины, меня увидел, заорал так, что ноги подкосило, а потом рванулся что было сил, видно, вырвал лапу из трубы. Я ничё не пойму. Кровища хлещет, а он на меня — я-то при чем? Ага, умный он! А куды деваться, даже не помню, за нож не успел схватиться, подмял он меня махом. Я и сделать-то ничё не мог. Видел, как он меня перекрестил когтями. Лежу, даже не ору. Потому, наверное, сильно рвать не стал, ушел, паскуда, мхом да валежником завалил, я еле выполз тогда. В твое зимовье уж и не помню как добирался. Думал, все, Богу душу отдам. Ан нет, ты, получается, Федор, второй раз меня спас. Этот зверюга, ясно, за мной по следу пришел, я ведь его эвон где встретил, дня три ходу отсель.
— Может, и так, дядя Семен, только теперь нам из него надо и жир нутряной выгнать, и кровь высушить, и мясо засолить да закоптить, не судьба мне в село, видно. Хорошо, хоть соль есть.
— Обождем с селом, чего теперь.
Больше разговоров не говорили, не до того было. Медведь был крупный, только когда снятая шкура тяжело свалилась к их ногам, Семен сказал:
— Да, Федька, я как-то не смотрел ране, сейчас вижу, без шкуры он совсем как человек — аж мурашки по коже.
— Да я ж про другое говорил…
— Про другое, не знаю, а без шкуры, ну просто мужик мужиком, и только, жуть.
Тяжело загруженный мясом Федор вернулся в село через три дня. Село гудело новостями, еще на околице его встретил Архипка Клюшин.
— Слыхал, Федь, дощаник с приказчиком Акинфием, что у Никифорова был, ушел на Енисейск на той неделе и пропал. Говорят, в нем и Анюта, Никифорова дочка, была.
— Как пропал? Откель знаешь?
— Вчера с Енисейска купец пришел, он весть и принес. Не пришел дощаник в Енисейск, нету нигде, никто не видел по реке. После Кулакова села, говорят, видели их на шиверах, а посля уж никто и не видел.
Похолодело на душе у Федора, ног не чуя, долетел он до дому, мать в огороде увидел и уже по лицу ее понял — беда. Мать, заметив Федора, неспешно вышла из грядок, вытерла руки о подол, подошла к нему и, остановившись у забора, не дожидаясь вопроса Федора — у него все на лице написано было, — сказала:
— Люди говорят, сынок, пропала Анюта. Только не понять: одни твердят — утопла, другие — медведь задрал, третьи — что руки на себя наложила из-за приказчика, а еще говорят, ты ее в тайгу тайно увел! Будто в Кулаковой деревне ты ее с дощаника свел. А тебя нет неделю, вторая пошла, вот народишко-то сходит с ума! — Мать замолчала, прижав к груди руки. Вдруг шепотом, вглядываясь в сыновьи глаза, спросила: — Федь, ты ж не трогал Анюты? А?
— Мам, ты чего, я ж на охоте был. Вон, гляди, медвежатины мешок.
Она, взглянув на большой, плотно набитый заплечный мешок сына, перекрестившись, глубоко вздохнув, как будто тяжкую ношу опустив, прижалась к нему.
— Слава богу, я уж ненароком то ж подумала, слова-то твои помянув, что ты Анютку увел. Бог спас. А то ведь люди еще говорят, что ты, чтоб Анюту не искали, и дощаник потопил, и приказчика того в воду… Ой, господи! Чего только не наплетут, злыдни! Пойдем в избу, голодный поди, каша в печи с утра томится, как знала, что ты будешь…
Мать не успела договорить, как из проулка на полном скаку вылетел всадник. Федор не сразу сообразил, что это по его душу. А когда Иван Косых, резко согнувшись в седле, уже рванул его за ворот, Федор изловчился и, перехватив его за руку, сильно бросил все свое тело вниз в сторону. Не ожидавший такого, Косых, чуть не вываливаясь из седла, разжал руку, но захваченный Федором, все-таки не удержался и со всего маха, всем своим крупным телом сваливаясь с коня, врезался в плетень, проломив его. Дикая брань Косых и хохот стоявших поодаль мужиков привели в чувство Федора, который, совершив то, что совершил, еще не успел понять, что же случилось. Схватив шом-полку, Федор вскинул ее и взвел курок, направив прямо в лицо поднимавшемуся Косых.
— Э, ты чё, парень, не балуй, опусти ружжо, — запричитал Косых, бешено вращая своим единственным глазом.
— Ты чё на меня кинулся, дядя? Ответствуй!
— Дак это… Никифоров тебя срочно ищет, велел привесть.
— Я ему не холоп. Надо, сам ко мне придет. А пока топай поздорову отсель, а то без второго глаза останешься! — Федор не шутил. Это было видно и по его голосу, и по решительности действий.
Косых понял и молча, прихрамывая, пошел к топтавшемуся поодаль коню.
— Чё, утер тебе Федька нос, рожа холуйская! — крикнул кто-то.
Косых, зыркнув в сторону мужиков, промолчал.
— Ой, Федь, зря ты так, — причитала мать, уводя его в избу.
Уже усадив сына за стол, глядя, как, успокоившись, Федор принялся за кашу, продолжила:
— Старосте жалобу отпишет, у тебя шомполку отымут, знаешь же, грех на человека ружье поднимать.
— Не отпишет. А отпишет, сам на каторгу пойдет!
— Федь, ты чего это, он же тебе ничего не сделал, ну схватил, кто ж его за это осудит?
— Не за то его осудят. За другое, и он это знает. Ему в полицейскую управу никак нельзя. Я про него такое знаю…
— Чего это ты такое знаешь? На уважаемого человека с ружьем налетел, а теперь еще и угрожаешь! — На пороге избы стоял, подбоченясь, помощник старосты Панкрат Соболев. Его зализанные на пробор волосы и коротко стриженная бородка более подошли бы служке трактирному, чем помощнику старосты. — Так, шомполку давай сюды по-хорошему. Закон знаешь. До разбору у меня побудет. А сам топай к старосте. У него к тебе вопросы есть.
— Не отдам ружье, оно отцовское. Косых сам на меня налетел, я только пугнуть его хотел. Все видели.
— Вот там и разберемся, а ружье отдай, не доводи, Федор, до греха!
— Не отдам! В чужие руки не велел отец свое оружие давать, никогда!
— Ну ты. Тя кто научил власти перечить!
— А ты мне не власть, староста скажет, отдам!
— Отец-то твой поумнее был! Пошли к старосте, там тебе мозги вправят!
— Вот поем, и пойду, коль зовет, а ты мне не указ!
— Ну, это мы еще поглядим! — Вконец озлобленный Панкрат развернулся и вышел.
— Да что с тобой, Федь! — запричитала мать, когда, хлопнув дверью, Панкрат ушел. — Что ж ты, дурья твоя голова, врагов-то себе наживашь, часу не прошло, а уж и Косых, и Панкрат, они ведь не простят тебе! Феденька, что с тобой? Теперь точно ружье заберут! Как бы тебе на правеж не угодить за дерзость свою! Вот горе-то, а!
— Что еще за правеж?
— Казаки в селе с волостным начальством уж вторую неделю, вчера за недоимки Ваську Кулыма за домом старосты на конюшне пороли. Люди говорят, боле за дерзость придрались. Так и к тебе теперь придерутся, ты б язык-то свой придержал!
— Ладно, мам, спасибо, пойду я, коль зовут.
— Иди, сынок, иди, только повинись там.
— Хорошо, мама, но я же не виноват.
— Все одно повинись, они старше тебя.
— Хорошо, повинюсь.
Федор встал, вытащил из-за печи шомполку.
— А зачем ружье-то берешь?
— Дак отдать же велели…
— Правильно, Федор, отнеси и старосте отдай. Он рассудит, вона, мужики ж видели, как Косых на тебя набросился.
— Хорошо.
— Вот и ладно, сынок, вот и ладно… Постой-ка, Федь, слышала я, что староста-то наш слег больной. Али уже поднялся, коль тебя требует? Давай-ка я сперва схожу, прознаю про все…
— Ладно, чё я, не мужик, что ли, пойду, на месте видать все будет.
По счастью, не успел Федор выйти. На пороге появился младший из Потаповых, чумазый и вихрастый.
— Привет, Сила, что, опять колесо с телеги убежало? — улыбнувшись хлопцу, спросил Федор.
— Не! — Сплюнув через зубы, паренек, оглянувшись, прошептал: — Здорово! Бежать тебе надоть!
— Чего так? — тоже шепотом спросил Федор.
— Брат токо от Косых, лошадей с работ возвертал, разговор про тебя слышал. Косых с Никифоровым хотят тебя под плети. Думают, ты Анюту увел. Передал тебе. Уходить тебе надо. Засекут, как Ваську Кулыма, до полусмерти, потом доказывай, что ты ни при чем.
— Спасибо, Сила, понял сам, что надо уходить. Только дело у меня есть одно срочное, поможешь?
— Токо скажи, чё делать!
— Пробеги до бабки Ваганихи, посмотри, дома ли она. Я задами пройду. На задах и жди меня, а пока я с ней говорить буду, за улицей посмотришь. Хорошо?
— Понял! — и исчез Сила Потапов. Как не было парня в избе.
Мать, слышавшая весь этот разговор, замерла у печи. Федор повернулся к ней и посмотрел прямо в глаза:
— Вот так, куды мне виниться? Спину подставлять под плети ни за што ни про што мне не пристало. А за травлю эту, придет время, они ответят.
Аж захлестнул ее во взгляде сына мужнин взгляд. Испугалась она, почуяла опасность из этого взгляда, поняла, что не уступит он и головы не склонит, весь в отца.
— Уходи, Федор, в тайге схоронись на время, глядишь, все и прояснится. Мясо-то, солонину бери.
— Нет, я налегке пойду, мясо есть, муки, соли, сколь есть, собери и Силе завтра отдашь, он мне принесет, когда скажу, ежели сейчас нагрянут, скажи: сказался — к старосте пошел, сами же звали.
Пока Федор пробирался огородами к бабке Ваганихе, Сила все выведал и ждал его:
— В избе она, иди, я посмотрю тут.
— Здравствуйте, бабушка! — приветствовал с порога бабку Ваганиху Федор. В чистой светелке, перекрестившись на образа, поклонился: — Как здоровье ваше?
— Что-то, милок, не припомню я такого внучка, — проворчала Ваганиха, слепо разглядывая вошедшего. — Чей будешь, никак, кулаковский Федька? Чего приперся с ружьем, разбойник?
— Отчего «разбойник»? С охоты пришел, к вам с приветом от добрых людей. Вот, межвежатина вяленая от них, в гостинец, примите за доброту вашу и помощь товарищу их усопшему той зимой в избе вашей.
— Оттого и разбойник, что дела твои разбойные.
— Какие такие дела?
— Ой, не твоих ли рук дело — Анютка Никифорова?
— Я в тайге был, бабушка, про дела эти впервой сам слышу.
— А кто грозился венчаться тайно? Все село про ваш уговор знает! Шило в мешке не утаишь. Так что, пока не поздно, верни девку, али поздно уже?
— Поздно уже, — зачем-то сказал Федор, понимая, что ответил не то, но почему-то ему показалось, что так и надо было ответить. Слегка злясь из-за этого промаха, продолжил: — Не о том я пришел говорить. Сказывай по делу, что перед кончиной старатель про ящерку золотую сказывал?
— Вот то-то и оно. Разбойный ты и есть, с кем повязался-то, мать пожалей.
— Бабушка, мы по-доброму к тебе, вот с гостинцем, а дело скажешь, отблагодарим так, что и внукам хватит.
Ваганиха долго молчала, поглядывая на Федора. Ее сморщенные временем губы что-то как будто нашептывали, пальцы неторопливо перебирали четки. Федор уже подумал, не колдует ли бабка, и мысленно перекрестился. Наконец Ваганиха ответила:
— За гостинец спасибо, приму, а покойный-то много чего говорил. Все кликал одного, Семена. Чего говорил, ему и скажу, пусть придет.
— Не может он прийти, медведь его порвал. Лежит он и не скоро встанет на ноги. Мне скажите, я передам Семену, про что говорил друг его.
— Не хотела говорить, ну да ладно, только, наверное, не поймешь ты…
— Пойму, говори…
— Для того ладанка нужна особая…
— Ящерка…
— Да, говорил он про ящерку золотую, которая водит его. Жилки золотые кажет, а как кажет, ящерка нужна, без нее не покажешь.
— Так он показывал тебе…
— Вот здесь и показывал…
— Ящерку?
— Сослепу-то я сильно не рассмотрела, но крутил в руках он фигуркой блестящей, видела, и приговаривал. Приговор тот плохо помню, фигурка, ящерка нужна, тогда, может, и вспомнится. Принеси, Федя, фигурку ту, я приговор-то вспомню да тебе его передам. Тогда и Анюта твоя будет по воле и благословению родителей, и заживешь богато, приноси.
— Понял я тебя, бабушка, только не выйдет у вас ничего, не увидите вы ящерку, прощевай. — С этими словами Федор вышел из избы старухи и крепко подпер дверь поленом.
— Отвори! — заверещала Ваганиха за дверью. — В окно вылезу.
— Не, бабушка, в окошко ты не пролезешь, больно толста, — не удержался от издевки Федор. — Посиди, бабуля, взаперти пока.
— Ну и дурак. Куда вы с Анькой денетесь? Найдет вас Никифоров, с тебя шкуру-то и спустит.
«Не про то ты, бабушка, печешься», — подумал Федор и тихо сказал Силе:
— Отопрешь, как солнце садиться будет, смотри, чтоб не заметила она тебя. Помнишь место, где телегу твою чинили?
— Хорошо помню.
— Послезавтра, к вечеру, принеси туда мешок, мать моя соберет. Ладно, прощевай, Сила.
— Прощевай, Федор, не бойсь, мы тута все за тебя! Анюте привет передай!
— Ты чё, Сила, взаправду думаешь, что она со мной в бегах?
— А рази нет?
— Нет, Сила, не видел я ее, в тайге я был, медведя завалил, ты ж мясо видел.
— Тогда где ж она делась, неужто утопла?
— Не знаю где, но жива она, я знаю, чую, жива… да вот еще, порученье тебе важное есть, сполнишь?
— Сполню, Федь, чё делать-то?
На улице послышался какой-то шум, кто-то шел, тихо насвистывая.
— Пошли отсель, по дороге расскажу…
— Я же не мог его силком тащить прилюдно, — оправдывался Косых, стоя перед сидевшим на лавке в конюшне Никифоровым. Тот был недоволен, то и дело бил по лавке ребром ладони и чертыхался, слушая то Ивана, то Панкрата. — Ловок, подлец, ружье наставил и курок взвел, не до шуток было, и Панкрата, опять же, не послушал.
Панкрат гнусаво дополнил:
— Только пообещался придти, а сразу не пошел, за начальство не признает никого, не только уважения не выказывает, а гордыню свою супротив власти выставлят и шомполку не отдал, опять же.
— Садись, Иван, пиши жалобу на гаденыша, преподнесем волостному старшине как надо, плетей Федьке не миновать. Сам на коленках приползет, когда казаки вестового за ним пошлют. Вот тогда и спрошу с него за Анюту, его это рук дело, его, больше некому! Совсем сдурел народ, нет страха ни перед Богом, ни перед людьми. Если позор такой на мою голову, так и ему спуску не будет, не вернется Анька, покалечу! — с пеной у рта хрипел Никифоров. — Пиши, говорю, жалобу…
— Там мужики стояли, видели, как я на него наскочил сперва, могут выдать, тогда за напраслину меня в плети…
— Спужался, чё ли, Иван, ушам не верю! Что за мужики были?
— Не углядел, они в сторонке стояли.
— Нехай. Ты что думаешь, против моего слова кто-то из мужиков наших пойдет?!
— Так то против твоего, а против моего могут и встрять.
— Отчего?
— Завидуют, гады, оттого зубоскалят.
— Нет, прав Иван Авдеич, надоть порядок в селе навесть, что ж это получается, никакой управы на них нету, — загнусавил Панкрат, заглядывая в глаза Никифорову. — Староста-то Иван Иванович неделю вторую глаз не кажет на люди, говорят, лежмя лежит, за лекарем в Енисейск послали, дела все мирские на мне висят.
— Ты на что, морда постная, намекаешь? — Никифоров, крепко схватив Панкрата за кафтан, притянул его к себе, заставив наклониться в пояс. — Это не твоего ума дело, утрись, чё вспотел-то, без тебя управимся, — и отпустил, слегка оттолкнув.
Панкрат от неожиданности попятился и, потеряв равновесие, сел на задницу, угодив в навозную кучу, выскобленную из лошадиного стойла.
— Экой ты неловкий, а мирские дела решать удумал, — с ухмылкой проговорил Никифоров. — Иди к Федьке, скажи, Никифоров зовет, хочет поговорить, пусть придет. Хотя нет, тебя он не послушает, дойди до Ваганихи, позови сюда. Ей поручу.
— Хорошо, Иван Авдеич, все сполню, токо домой забегу, переоденусь. — Как бы и не заметив всех издевок Никифорова, Соболев, как мог, отряхнулся и ушел.
— Зря ты так, Авдеич.
— Чего зря?
— Панкрата обидел зря.
— Еще ты меня учить вздумал? — рявкнул на Косых Никифоров. — Кто его на теплое место посадил, знаешь?
— Знаю, ты.
— Так пусть свое место знает. Ишь ты, персона! Дела он там решает, все дела я здесь решаю да Иван Коренной!
— А он бумаги в волость отписывает, уж, считай, третий год, а теперь не дай бог с Коренным что случится, кого волость старостой поставит, не тебя, Авдеич, а его! Правильно я думаю аль нет? А главное, по чьей-то бумаге начальство нагрянуло? На Ивана в крик: и то не так и это не эдак! Сколь раз начальство было? За двадцать-то лет, а? И чтоб такое, чтоб до болезни такой человека довесть?! В кладовую звал, не пошли. — Не было такого ране, чтоб начальство от пушнины морду воротило. Значит, за другим приехали!
— Ясно, за золотом!
— Да это понятно. А для чего тогда Коренного гробить? Свой им человечек тут нужен, свой, чтоб в зависимости от них был. Коренного аль тебя им не нагнуть. А вот этого прыща и гнуть не надо, задницу и так вылижет тем, кто ему даст власть взять. Потому он такое рвение и проявляет по службе своей, что на глазах начальства, аж губернского, ни свет ни заря в правлении, гнида. Бумажки на столе перебират! Ничё не делат, а на службе!
— Мне Иван сказывал, что кто-то в волость на него кляузу отписал, теперь понятно кто.
— А сейчас он и про наши дела кое-что пронюхал.
— С чего ты взял?
— Вынюхивает он все, высматривает, у людишек выспрашивает, а те мне доносят.
— И что пронюхал?
— Не знаю, но у извозчиков спрашивал, кого это мы по прошлой осени искали, это к чему, как думаешь, Авдеич?
После недолгой паузы Никифоров, глядя исподлобья, выдохнул:
— А к тому это, что получается, Панкрата — пора!..
— И я к тому, но как? Он ведь на виду, в тайгу не ходит?..
— Думать надо, время-то не нас работает.
— Есть у меня мысль одна, Иван Авдеич.
— Сказывай.
— Но сначала ты скажи. Впрямь думаешь, Федька Анюту увел? Уверен в том?
— Чего тут — уверен не уверен, а кто ж еще, коль они на это сговаривались.
— Кто ж тот сговор слышал?
— Сестрам она своим сказывала, те — матери. Молчали, пока весть не пришла, что дощаник сгинул в Ангаре.
— Так а Федька здесь при чем?
— Так не было Анютки в дощанике, в Кулаковой деревне она сошла. Приболела вроде как — причину удумала. У Полины остановилась, а вот дальше темный лес, вернее, тайга дремучая. Якобы за ягодой сповадилась с местной ребятней, да с кедра упала, да вообще пропала, ерунда полная, от деревни три версты — исчезла, и все тут. Не помню я, чтоб мои девки последние лет пять по ягоды ходили, а чтоб на кедру лазали, вообще такого не помню, враки все! Федька опять же именно в то время на охоту наладился, а какая сейчас охота? Где он столько времени пропадал? Где? Вот и хочу его спросить!
— Вот оно как, выходит, все на нем сходится.
— Вот так и выходит.
— Ну а объявятся, как поступить решил?
— Не бывать им вместе! Мне зять нужен дело поднимать, а какой с Федьки хозяин? Если силой спор-тил девку — на каторге сгною!
— А Анюта?
— В монастырь отдам, пускай там грехи свои замаливает, а зятя такого мне не надо!
— Ого, однако быстро, вон Панкрат с Ваганихой идут.
— Добрый день, старая, чего невесела? — приветствовал Ваганиху Никифоров. — Иван, принеси-ка наливочки да закусить чего. Садись, Панкрат, рядом. Не серчай на меня за то, что давече обидел. Не со зла то. Не в себе я, видишь, что творится! Дочка невесть где, жива ли…
Никифоров даже слезу пустил.
— Жива, жива… — чуть не хором ответили старуха и Соболев.
— Жива? Где? Откуда знаете?! — заорал Никифоров, поднимаясь с лавки.
— Федька Кулаков признался, — ответила Вага-ниха.
— Как это, когда?
— Заявился ко мне с ружьем да расспросами. Я его тоже поспрошала про Анюту. Говорю, не порть девку, верни в дом, а он говорит — поздно. Ну, так ясно — жива она, скрутились оне да и живут где-то в тайге, Федька-то межвежатины мне принес. Только Федька от меня, а тут и Панкрат подоспел, выручил меня из темницы — подпер же разбойник меня в избе…
К этому моменту Косых уже налил наливочки, и Ваганиха приложилась к стопке, медленно, смакуя, потянула в себя настоянный на семи таежных травах напиток.
Панкрат, молчавший и кивавший, пока Ваганиха говорила, продолжил:
— Не хотел, видно, чтобы об интересе его вы дознались, пока он в тайгу не уйдет.
— Это про какой такой интерес речь? — тихо спросил Никифоров, выразительно взглянув на бабку.
Ваганиха, закусывавшая наливку квашеной капустой, замерла и, подняв глаза на Никифорова, медленно перевела их на помощника старосты Соболева, потом на Косых, заерзала на лавке и, закашлявшись, чуть не подавилась.
Соболев, пропустив чарку наливки внутрь, не закусывая, как ни в чем не бывало продолжил:
— Так это, про золотую ящерку речь, что золотые жилы указует тому, кто ею владеет.
Тишина, возникшая за столом после этих слов, нарушалась только похрустыванием капустки, которую все никак не мог осилить почти беззубый рот старухи.
Первым тишину прервал Никифоров, который медленно, разделяя каждое слово, спросил:
— Откуда он узнал про ту зверушку? Про нее, кроме нас, никто не знал. Откуда?!
Наконец, прожевав и проглотив, Ваганиха заговорила:
— Так я же про ящерку золотую ничего никому ни словом не обмолвилась, истинный бог! Вот, пока шли, Панкрату только и рассказала, так он же от тебя пришел, Авдеич?
— При чем здесь Панкрат, он свой, сама видишь, откуда Федька про это знает?
— Так он привет и гостинец от тех старателей, дружков покойного, принес. Говорит, Семен, медведем порванный, в тайге отлеживается. Ящерка у них. Только, как она золото ищет, не знают они, про то и выведывал. Дескать, что покойный перед смертью про ящерку сказывал? А я ему — не сказывал, а показывал. Он — покажи да расскажи. Без ящерки показать не могу, неси сюда фигурку энту. Тут он осерчал чегой-то. Накричал на меня и ушел восвояси, разбойник, меня в избе запер. Кабы не Панкрат, так и сидела бы взаперти.
— Давно это было?
— Да нет, только он ушел, Панкрат и отпер меня.
— Так чего мы сидим-то, Авдеич, брать его надо, он же пехом, успеем перехватить на конях, дорога-то одна, он же думает — тихо ушел.
— Панкрат, Иван, на коней и в догон, не надо его трогать, проследить его надо. Ты, Иван, это и сделаешь, нагнать надо по-тихому и проследить. А ты, Панкрат, с конями вернешься. Я те потом поясню, что к чему.
На том и порешили. Только на секунду обменялись взглядами Никифоров и Косых, и этого было достаточно.
— Лешка, Васька! — крикнул Косых своих конюхов. — Седлайте мне Каурого да Панкрату — Белку.
— Васька домой ушел, обождите чутка, я быстро управлюсь, — ответил Лешка.
— Чего это Васька ушел не сказамшись?
— Живот прихватило.
— Ладно, давай быстро!
Федор шагал лесной дорогой, пробитой в последние годы старателями да приисковиками на север. Шел быстро, налегке. До зимовья, где его ждал Семен, было недалеко. Об этом заброшенном зимовье, на которое наткнулись Федор с Семеном, помнили только старики, которые уже в тайгу и не ходят, поэтому Федор был спокоен. Тут их искать не станут, он уже понял, какую оплошность совершил, сказав бабке про Семена. Хорошо, хоть подпер ее, до вечера не выберется. Федор уже свернул с дороги на тропу, как услышал лошадиный топот, кто-то скакал верхом. Федор залег в высокой траве. Мимо промчались Панкрат Соболев и Иван Косых.
«Вот ведьма, выбралась-таки! Уже донесла! Быстро они снарядились, быстро…» — с тревогой думал он, отползая дальше от дороги.
«Ищите ветра в поле», — хотелось крикнуть Федору, но радости оттого, что они его не заметили, он не испытывал никакой. Его искали, и это было плохо. Он уже углубился в тайгу, как услышал донесшийся эхом звук выстрела.
«Интересно! Кого это они стрелили? Может, лось на дорогу вышел. Повезло мужикам», — без зависти, спокойно, по-охотницки, подумалось Федору.
— Вот те на, девка! Ты где ее взял, Фролушка? Да что с ней? Дышит ли? Чего молчишь-то, коль тебя спрошают! — Седой как лунь старик, присев у выволоченной на песчаный берег лодки, спрашивал у высокого с черной бородой мужика.
— Дак это, шел по реке, гляжу, лежит на берегу, вроде неживая. Глазами в небо смотрит, а не видит ничего. Потрогал — вроде теплая. Послушал — еле дышит…
— Это как же ты ее слушал? — вмешался пришедший на берег со стариком парень.
— Ухом, как еще?
— А ну, умолкни! Не с тобой разговор.
Парень молча поклонился старику, отошел и присел на валун.
— Ну, Фролушка, что дальше-то было?
— Посмотрел кругом, никого. Пождал немного, крикнул, собаки деревенские пришли, а боле никого. А она лежит, кровь капает, ну и взял, не пропадать же божьей душе.
— Хорошо, что взял, не бросил, добрая твоя душа, Фрол, только вот как теперь отдавать будем?
— Зачем отдавать. Поднимется, я ее в жены возьму, — кося глазом на дверь избы, громко ответил Фрол.
— Девка-то уж невеста, поди, жениха имеет, как же ты ее возьмешь?
— А где тот жених?
— Не прав ты, Фрол, против кона так поступать.
— Да ведаю я, что нельзя так, только не известно никому теперь, есть у нее жених аль нет. Чья она вообще, как на том берегу оказалась? Поднять ее на ноги надо, хороша девка, рано ей помирать. Потому к тебе, отец, привез. Боле ей никто не поможет, с кедра она на камни упала.
— Хорошо, несите ее в избу. Посмотрю, зачем ее душеньке это надобно было.
— Так рази это может быть кому надобно, отец?
— Так, а для чего ей надо было с кедра падать?
— Так ясно, нечаянно это случилось, ветка хрустнула, и все…
— Эх, Фрол, ничего в белом свете просто так не случается, а все по чаянию, то есть желанию душ наших.
— И как ты это посмотришь?
— Вот с душой ее побеседую и посмотрю, в чем причина такого ее желания, а на ноги ее поставить гораздо проще, для того только и надо, чтобы она жить захотела.
— Так рази есть на земле человек, что жить не хочет?
— Таких, Фролушка, очень много на земле, только они об этом не знают. Думают, жить хотят, а на самом деле нет — не хотят.
— Это как?
— Просто. Ты рази не встречал людей, которые говорят одно, а делают другое?
— Встречал, много, но это не то, все они жить хотят и ради этого иногда врут друг другу, обман учиняют. Жить-то они хотят, отец, еще как хотят.
— Это им кажется. На самом деле любым обманом человек в себе частичку Бога теряет, божественный огонь, бессмертной душе дарованный, гасит.
Бывает и такое. Человек хороший и живет по пра-ви, а не может свою дорогу найти, свое предназначенье… не слушает сердца своего, умом одним путь себе прокладывает. Колотится всю жизнь, как через чашу буреломную прорубается, а рядом его дорога, его пращурами для него протоптанная, — шагай к счастью своему легко и свободно, но он ее не видит и гробит здоровье свое в дебрях житейских. Рази он жить хочет? Или те, кто табачищем, спиртом себя травят. Рази они жить хотят? Посмотри на то, что с родами их — сами в сраме и дети в нищете. Они себе сами такую жизнь уготовили, потому не приемлем мы их путь, но как создания они такие же божьи, как и мы, то и осуждать их нельзя. Просто души их в темноте дурманной, дороги своей в этом мире уже не видят, потому стремятся в иной.
— Ну, отец Серафим, к тебе как приедешь, прям мальцом безусым себя чувствовать начинаешь. Где ты все эти мысли берешь? В одной тайге живем, один хлеб жуем.
Весь этот разговор не мешал им выстелить рядом с лодкой полотно и осторожно переложить на него тело Анюты. Оно было податливо, но ни стона не заметили, ни движения.
— Плохо дело, несите в избу скорей! — скомандовал старик и крикнул: — Меланья, воды подай ключевой, да скоренько! Давно ты ее нашел, Фрол?
— Еще пополудню.
— Ладно, езжай.
— Может, я здесь поживу пока?
— Нет. Езжай. От тебя вон табачищем несет, нече мне здесь дух портить.
— Ей-богу, воздержусь от табака!
— Сказал, езжай, нешто своим умом дойти не можешь? Ты где ее нашел, рядом с Кулаковой деревней? Вот туда и езжай, вызнай, чья она дочь, да осторожно вызнай. Вернешься, подумаем, что да как.
— Хорошо, отец, думаю, завтра вернусь к вечеру.
Фрол, поклонившись, пошел к берегу.
— Фролушка, ты куда? Покушал бы, я уж на стол собрала, — выйдя из избы, позвала дородная не по годам Меланья.
— Не могу, надоть засветло поспеть, вода упала, сплошные шиверы, спасибо, тетя Меланья.
— Фрол, тут уха стерляжья, — поддержал Меланью парень, что сопровождал старика, ты же реку хорошо знаешь.
— Никола, ты-то чё? Река — она кажный день разная, ежели дотемну не дойду до деревни, придется на берегу гнус кормить.
Вышедшая из избы молодка поклонилась Фролу:
— Здравствуй, Фрол, останься, посидим, ушицы похлебаем, расскажешь, как там люди на реке живут, давненько тебя не было, — и призывно посмотрела на мужика.
Фрол остановился.
— Ладно, ночуй. Утром пойдешь, — послышался голос старика из избы. — Токо кисет свой мне отдай, прям сейчас, чтоб соблазна не было.
Фрол картинно развел руками: дескать, ну что поделаешь, уговорили — и улыбнулся.
— Ну и ладно, остаюсь, давно ушицы хорошей не хлебал.
— Проходи, Фрол, сама варила, отведай, — пригласила мужика молодка и уже тихо, слегка зардевшись лицом, проронила только для него: — Как чувствовала, что ты явишься.
— Благодарствую, благодарствую, Ульяна, — по-мужски коротко окинув взглядом всю ладную фигурку девушки, заранее поблагодарил Фрол.
В дальнем закутке просторной избы, куда уложили Анюту, старик что-то делал, только звук переливающейся воды да его приглушенный голос иной раз слышался оттуда.
Енисейский тракт, проложенный большей своей протяженностью по непролазной тайге, извиваясь меж сопок, ныряя в низины, взлетая из них на высокий берег Енисея, открывал перед путешествующими по этим местам впервые буйную красоту и раздолье приенисейского края. Яков и поручик Андрей Бело-цветов ехали не спеша, с остановками и привалами в самых живописных местах. Казаки, сопровождавшие их, хорошо знали эту дорогу, поэтому все шло размеренно и неутомительно, как для начальствующих особ, так и для их сопровождения. За время совместного бытия в Красноярске Яков ни на минуту не оставлял поручика, блестяще выполняя все его пожелания. Теперь же Белоцветов целиком и полностью полагался на Якова. В этих краях, бесконечно далеких от балов и придворных приемов, от армейских уставов и гусарских забав, Яков оказался более приспособленным к жизни, чем поручик. Его гибкий, изощренный ум, ум мошенника, как нельзя лучше подходил к ситуации, в которой они оказались. Они ехали с одной-единственной целью — найти применение огромным деньгам, которые готовы были вложить персоны императорского двора в золотой промысел. Понятное дело, Белоцветов с этого имел немалый процент, которым готов был поделиться с Яковом. Оба понимали, что, находясь при таких деньгах, а главное — при золоте, не процент будет определять их благосостояние, а умение вести дела бумажные, отчеты-зачеты, да платежные ведомости. При всем благородстве своем, Белоцветов хорошо знал принятый в высших кругах общества тонкий предел дозволенного вознаграждения, выходить за рамки которого считалось недостойным. Но этот предел не удовлетворял его амбициозных запросов. Просто уворовывать было ниже его достоинства, и он об этом даже не помышлял, но получать дополнительно барыш иным путем был весьма согласен. Так вот такой, иной, путь и предлагал ему Яков. Вроде как все пристойно. Под разведку на участки золотоносные разрешения получены, под открытие акционерного общества бумаги подготовлены, и высочайшие пайщики о том уведомлены. Губернское начальство, письма сопроводительные получив, всевозможную помощь поспешило оказать. В Горном приказе ни на минуту задержек не было. Более того, как бы случайно выезд фискального чиновника в село Рыбное к их поездке приурочен был, а чиновника в сопровождении казаков отправлять положено. Чего еще желать можно в дальней дороге? Весело ехали, лошадей только меняли да местными деликатесами угощались в заезжих избах. Так и прибыли к стрелов-ской переправе. Чиновник Сычев из казенного возка давно к ним в фаэтон с мягкими пружинными сиденьями перебрался. Желание общаться со столичной знатью, что было просто пределом его мечтаний, сбылось, и он, млея от счастья, говорил и говорил обо всем, что интересовало столь великолепных господ. Так что к переправе на Енисее Яков уже многое знал о промыслах енисейских, «золотой дороге» старательской, как и что надо делать для процветания их будущего предприятия. Прежде всего, использовать Сычева так, чтобы местная власть ковром стелилась при их появлении. Для того все чаще в рассказах своих Яков как бы ненароком упоминал о друзьях высокопоставленных и как раз по ведомству Сычева в Петербурге. Поручик подыгрывал, распаляя фантазии Сычева о том, как удачный случай, сведший их, может изменить судьбу губернского чиновника.
Переправа через Енисей прошла без неприятностей, и дальнейший путь вдоль Ангары убедил Якова в том, что здесь существуют несколько иные товарно-денежные отношения. Во всех заезжих избах, а их в каждой деревне оказалось более чем достаточно, на что тоже было обращено особое внимание, за прилавком или на полке, отдельно стояли весы, как в ювелирных лавках. Явно не для леденцов. Извозчики в драных зипунах не ходят, справно одеты и обуты, лошади хорошие и сбруя — загляденье, один перед другим выставляются. Женщины в кабаках имеются завидные, нраву свободного, вольного. Так и хватают глазами приезжих, как обыскивают. Таких Яков и по столице знавал, здесь они не напрасно появились. Верный признак — «золотая» дорога под копытами их лошадей. Все примечал опытный глаз талантливого мошенника, все фиксировал его ухищренный ум. Даже стерляжья уха и отбивные из сохатого, приправленные мороженой брусникой и квашеной капустой, ни на секунду не могли отвлечь его внимание от мелочей и примет, из которых, как в мозаике, складывалась вся картина в целом. Единственное, чего не мог себе позволить в дороге Яков, — это даже глоток мадеры. Этим делом, приняв для храбрости перед переправой, вполне успешно продолжили заниматься Белоцветов с Сычевым. Якову нужен был трезвый ум. Все, о чем рассказывал ему Сазонтьев в столице, действительно подтверждалось, золото было, и его было много. Прямой обмен золотого песка на товары сулил огромные прибыли. Явно незаконно, но это было, и этим занимались те, кто пришел сюда раньше. Сие обстоятельство нисколько не смущало Якова, в нем загорелась страсть, он был уверен в себе. Теперь, когда судьба так благосклонно понесла его к удаче, — тем более.
Еще на свадьбе его, в Красноярске, нежданно удивлен он был, когда один из гостей новомодное по тем временам действо произвел — визит-карты предъявил, такое еще не совсем обычно было, но уже и не удивило бы никого, если бы не одно обстоятельство. Визит-карты те были отлиты из чистого золота и имели не менее пяти рублей цену! Такого гонору даже в императорских домах России не позволялось, а гость тот только бокал шампанского-то и выпил, в тройку и укатил восвояси. Тройка та в карету французской работы впряжена была, сбруя золотом да. серебром украшена. Во как! Естественно, визитки свои он лицам вручил сугубо определенным! Умно и нахально! Явно взятка, а не придерешься никак.
В деревнях и селах по тракту Яков обходил все лавки и магазины, цены смотрел, с трудом изумление свое скрывая. То, что не стоило и осьмушки в самой захудалой питерской лавке где-нибудь на Лиговке, здесь стоило в десять раз дороже, а то и в двадцать, зато то, что за рубль там не возьмешь, здесь почти даром, бери — не хочу. Все это было важно. Ведь теперь, кроме того, Яков был представителем торгового дома, причем полномочным. Тесть, Иван Васильевич Сазонтьев, слово свое держа, не скупился и отписал на дочь свою приличный капитал, который тут же и был внесен в качестве пая Якова в довольно крепкое, к великому удовольствию зятя, как оказалось, предприятие.
Рассыпавшийся в любезностях Сычев, лежа в подушках и угощаясь из фляжки вином, откровенно признался, что никакого конкретного задания от начальства своего не имеет, а «токмо и послан ради-с поддержки вашего предприятия-с, так что прошу располагать мною-с по вашему усмотрению-с». Что и требовалось Якову. Обсуждать с поручиком идею было некогда и несподручно, поэтому красноречивого взгляда было достаточно, чтобы тот согласно кивал на предложения Якова.
А суть этих предложений сводилась к тому, что, поскольку местная власть попустительствует воровству — «где ж это видано, чтоб золотым песком в затрапезном кабаке за водку платили!» — строжайшим образом спросить за это! Вызнать, кто в обход закона золото моет, казну государеву тем самым грабит нещадно! Почему кабатчики золото принимают вместо денег! И если господин Сычев рвение должное в этом вопросе проявит, о том непременно узнают в столице! А спрос его всецело ими поддержан будет, одобрен покровительством высоких персон, коих они представляют в этом мероприятии.
На самом деле Якова Спиринского дела казны государевой меньше всего заботили. Разладить, разломать руками Сычева налаженное здесь торговое дело, перекрыть золотоносные лазейки, а затем поставить на руинах старого свое и все прибрать к своим рукам — вот задача. И все пошло так, как они спланировали, — Сычев не ударил в грязь лицом. Яков даже удивился, насколько можно изменить поведение свое. Из добрейшей души человека в аспида превратился Сычев, рвал и метал, не внимая доводам и посулам. Несколько перегнул, а скорее всего, в точку угодил, воровство под контролем власти местной процветало, а где это не так в России? С испугу старосту удар-то и хватил. Теперь третью неделю сидели в селе Рыбном, Белоцветов пил мадеру и играл в карты с казацким сотником Романом Пахтиным, с которым сдружился по причине совместного участия в войне с турками. Сычев так разошелся, что затеял ревизию и теперь за недоимки мужиков на площадь таскает да дерет розгами. Яков, сохраняя в тайне свое предназначение, собирал информацию обо всем, что касалось золотодобычи и торговли.
Скоро он нашел себе преданного доносчика. В первый же день, при встрече, он заметил в бегающем взгляде помощника старосты села готовность услужить. Причем эта готовность была не готовностью выполнить распоряжение начальника подчиненным, что было бы нормально. Нет, это была готовность выслужиться любой ценой, готовность предать и продаться. Именно он, еще при встрече, незаметно сунул ему письмо кляузное на старосту, видимо приняв Якова в тот момент за главного. Оставшись с ним наедине, Яков без особого труда заставил его поверить в важность своей персоны и в особые полномочия, связанные с сыском по золотым делам. Соболев, проникшись ответственностью и перспективою своей карьеры, рассказал Якову все, что знал, а знал он многое. Земля-то слухами полнится, каким-то образом он проведал и про то, что есть в местах здешних рудознатец пришлый, имеющий амулет или ладанку, на золото приводящую. Это в основном и заинтересовало Якова, хотя получил он из уст Соболева много очень для себя полезной информации. Знал теперь Яков, кто в действительности заправляет на Ангаре. Чьи избы заезжие да кабаки по «золотой» дороге расставлены. Никифоров — вот кто хозяин здешних мест, вот к нему и поручил втереться в доверие Панкрату Спиринский. Соболев, не зная, сколь опасна эта игра, включился в нее ревностно. Этот мелкий человечишка, с грязными ногтями на коротких и толстых пальцах, был «аристократу» Спиринскому противен, но нужен, даже незаменим, поэтому, когда до него дошла весть о его внезапной гибели, он потребовал тщательно разобраться в этом происшествии.
Рыбное село который день гудело как встревоженный улей. Одна за другой сыпались дурные вести, а тут страшнее некуда: Федька Кулаков Панкрата Соболева пристрелил и в тайгу ушел. В розыск, по горячим следам, конных казаков отправили с Иваном Косых в проводниках. Соболевская жена, Марфа, совсем голову потеряла, волчицей воет на все село, прибегала к избе кулаковской, спалить грозилась, мужики еле оттащили, водой бабу отливали.
Окровавленное тело помощника старосты привезли на телеге. Уложили на скамье в арестантской избе, пригласили стариков и казаков на осмотр. Сняли одежку с покойного. Рана была огнестрельная, по всему видно. Пуля пробила грудь навылет, раздробив и вырвав ребра из спины. Казаки качали головой, никак, жакан охотничий, на медведя заряд. Старики согласно кивали. Сразу насмерть, не мучился, точный выстрел, сердце в клочья разнесло. Яков хоть и не любитель подобных процедур, а присутствовал. Присутствовали и Белоцветов с сотником Пахтиным, они стояли чуть поодаль; лишь на минуту Пахтин приблизился к покойному, поднял саблей сброшенный с него на пол кафтан и отошел. Тут же, в приемной, допрашивали свидетелей. Яков заходил в арестантскую, слушал допросы, но не все. Староста Коренной, прознав о случившемся, поднялся с постели, видано ли дело, убийство в селе! Он и вел допросы с утра, к вечеру всех, кто что-то знал или видел, кроме Ивана Косых, допросили, и показания их, тщательно записанные, легли на стол Сычева. Поздно вечером все собрались — Сычев, Спиринский, Белоцветов и Коренной — обсудить происшествие. Коренной, как староста, доклад держал. По порядку он пояснял, кто и что сказал на допросе. По всему выходило, Федор Кулаков при встрече с Иваном Косых угрожал ему оружием. Косых пожаловался на это Панкрату. Тот, как лицо должностное, по жалобе сообразно действуя, пришел к Кулакову и потребовал отдать оружие до разбора, на что отказ получил и дерзкое поведение в виде угроз. После чего Федор Кулаков, с оружием в руках, пришел к вдове Вагановой, напугал старуху, требовал выдать вещи умершего прошлой зимой старателя, затем, не добившись желаемого, запер Ваганову против воли ее в избе и подался в бега. Панкрат Соболев, расценив действия Федора Кулакова как опасные для общества, организовал преследование для задержания злодея. Однако при этом был убит выстрелом Федьки сына Кулакова из шомполки, ему принадлежавшей. Тому свидетель Иван Косых, который был вместе с Соболевым и видел, как Кулаков стрелял в Панкрата.
— Вроде все складно. Вгорячах натворил Федька дел, а отвечать? Спутался, ну и в бега! Эх, безотцовщина! Пальнул, может, и от страха, ну, то ясно будет, когда поймают, — подвел черту Коренной, как бы с укором поглядывая из-под густых бровей колючим взглядом на собравшееся начальство. Дескать, видите, что деется?! Стоит только мне чуть вожжи из рук выпустить!..
— Ну что ж, дело ясное, оформляй бумаги на беглого преступника и завтра в волость, сыск учинять по всей губернии придется, дело не шуточное — смертоубийство, — подытожил Сычев.
Объявили об этом решении матери Федора, она по распоряжению старосты во дворе дожидалась.
— Не делал он того! — сказала, как отрезала, выслушав Коренного, мать. То, что шомполку отдать отказался, признала, но и про то, как Косых на сына наскочил, тоже рассказала.
Коренной все выслушал, да не все записал его писарь Захарка Зайцев, ясно, мать за сына завсегда говорить будет, чего чернила переводить…
Однако не видел ни Коренной, ни кто другой, что сотник Пахтин о чем-то долго говорил с матерью Федора, до избы по Нижней улочке ее провожая.
«Что-то скоро?» — увидев Федора, быстро спускающегося по склону сопки к зимовью, подумал Семен.
— Дядя Семен! Костер туши!
— Что случилось? — сметая одним движением уголья в ручей, спросил Семен.
— Меня ищут, — отдышавшись и не глядя в глаза Семену, виновато сказал Федор.
— Чего случилось-то, говори.
— Ща, водицы попью…
— Ну, Федор, наломал ты дров, — только и сказал Семен, выслушав его подробный рассказ. — Теперь не только я по тайге прятаться буду, теперь и тебе в село ходу нету! Как же ты так, Федор, маху-то дал? Не надо было бабке про ладанку да еще и про меня говорить. Осторожно выведать надо было. Осторожно… Эх, Никифоров шибко искать станет, его людишки все здесь прочешут. Тем паче у них повод теперь есть открыто тебя искать! Ты зачем соврал, что Анюта с тобой?
— Да так получилось. С досады, что без вины хорониться от них придется. Так хоть пусть позлятся, что по-моему вышло.
— Дурень ты, Федька. Что с Анютой-то твоей на самом деле?
— Не знаю, дядя Семен, но верно то, что жива она, искать надо.
— Уходить надо, кого искать? Уходить не медля!
— Вот и пойдем, нам все равно куда отсюда уходить. Пойдем вниз по Ангаре, заодно в тех краях, где она пропала, и побываем. Может, что и вызнаем. Через староверов пойдем, они не сдадут.
— А примут?
— Ежели табаком дымить не будем, примут, они люди добрые.
— Молодой ты ишо, Федор, у тебя все люди добрые.
— Все и добрые.
— И те, кто по следу твоему на конях гнались, добрые?
— Так то нелюди!
— Во, глянь, умнеешь, паря! — рассмеялся Семен. — Только зимовье обжили, жалко бросать.
— Так а мы не бросаем, мы сюда вернемся. Это зимовье наше теперь. Мы его к жизни вернули. Вот увидишь, дядя Семен, вернемся. По всем законам таежным наше оно. Еще вот что. Мясо вынести надо к дороге, сколь с собой не унесем, и шкуру тоже, а то пропадет.
— Ты чё, Федь? Кто-то знает, где мы?
— Не, где мы, никто не знает. В место условленное нам муки да соли принесут.
— Сразу не спросил, а где шомполка-то?
— Не стал с собой брать, они ж отнять хотели. Побоялся, вдруг перехватят в селе. Оставил у друга, целее будет.
— Так, выходит, мы еще и безоружные? А если прижмут нас где?
— Дядь Семен… Я по людям все одно палить не буду.
— А по нелюдям?
Федор не знал, как ответить на этот вопрос. Он долго молчал.
— Может, и буду. Только сначала подумаю.
— Эх, Федор! Пока ты думать будешь, они тебе башку и снесут. В драке, коль на тебя идут, рассуждать нельзя, бить надо, и бить так, чтоб ворог уж не встал. А выживет иль нет, это уже его беда. Не лезь! А полез — отвечай!
— Так то в драке. Там же ясно все, кто смелей, тот и сильней.
— В жизни, Федор, тоже все ясно, кто умней, тот и целей. Ты говоришь, по старательской дороге они ускакали?
— Да, и стреляли в кого-то недалеко. Наверное, зверь на дорогу вышел. Выстрел только один был, значит, сразу завалили зверя.
— Раз так, то они теперь два-три часа, пока тушу не разделают, там. Надо бы поглядеть, послушать, о чем разговоры говорить будут. Может, что интересного узнаем, а, Федь?
— Дядь Семен, думаешь, стоит сходить?
— Стоит. Нам мысли врагов наших наперед знать надоть!
— Тогда поспешим, не меньше часа прошло, как выстрел-то я слышал, успеем ли?
— Налегке успеем…
Скорым легким шагом оба двинулись по еле заметной тропке к дороге. На подходе залегли. Тихо. Ничто, кроме стайки мелких пичуг, своим щебетом заглушающих остальные звуки, не нарушало вечерней тишины.
— Опоздали мы или ты что-то напутал, Федор, — разглядывая следы на дороге, задумчиво произнес Семен. — Да нет, вот следы туда, а вот те же в обрат. Туда смотри, рысью торопились, а в обрат-то шагом кони шли.
— Сам не пойму, что к чему. Чего они вернулись? Выстрел слыхал. Кто ж запросто так палить-то будет? Иль смазали?
— Ты посмотри, Федь, ведь это кровь. На дороге — капли крови, гляди. Ну-ка, пойдем дальше, посмотрим.
Пройдя с четверть версты, они остановились там, где кони, судя по следам, сначала притормозили, подъехав к обочине, а потом развернулись в обратный путь. В этом месте на дороге была кровь, много крови, она впиталась только в пыль и как бы застыла лужицей. Плотная, утоптанная босыми ногами, копытами лошадей да круто замешанная на их навозе, дорожная глина не принимала в себя столь густую жидкость.
— Это уже очень даже интересно! — макнув палец в еще не свернувшуюся, а лишь загустевшую кровь, поднеся его к глазам и разглядывая, сказал Семен. Он понюхал, размазал ее между пальцами. — А ведь это человечья кровушка, Федор. Совсем дело плохо. Кто-то в них стрелял, а судя вот по этой луже, попал хорошо, скорее всего, один из них покойник. Вот, видишь, назад-то он уже поперек седла ехал.
Действительно. Редкие капли крови тянулись сбоку от лошадиного следа.
— А тут теперь и мы наследили. Федька, ломай веники, надо наши следы, где есть, с дороги убрать. Эх, мать честная, во вляпались! Федька, следы, следы по дороге сбей, а я вокруг гляну, кто-то же их стрелял.
И уходи! Уходи в зимовье! Меня не жди, посмотрю неспешно, что да как, и приду.
Издали по дороге послышался лошадиный топот…
Оба замерли, прислушиваясь. Точно, кони…
— Поторопись, Федор, я пошел… — И Семен сошел с дороги, скрывшись в зарослях.
Федор, пройдясь наломанными ветками по видимым следам, тоже нырнул в густой ельник и побежал. Федор бежал, и сердце бухало в груди так, что казалось, его было слышно на всю тайгу. Страх. Это был страх гонимого человека, бегущего, причем бегущего от людей. Такого Федор никогда раньше не испытывал. Он и представить себе такого не мог.
Недалеко от дороги, меж корневищ огромного кедра, вжался в расщелину и закопался в мох Семен. Он уже слышал приближающийся перестук копыт коней группы всадников.
«Не дай бог с собаками», — подумал Семен и явственно услышал лай…
Третьи сутки тетка Полина глаз не смыкала. Она не плакала. Она молилась. Молилась со всей неистовостью и отчаянием. Она просила Бога сохранить жизнь Анюте, понимая, что то, что произошло с девушкой, произошло по Его воле и это для чего-то нужно было. Молилась она дома, положив под образа оставшееся платье племянницы. Со дня на день ждала приезда Никифорова, весть о том, что Анюта пропала, в тот же день отправлена была родичам по реке. А сегодня еще новость, хуже некуда: служилый человек Парфен Зубков сказывал на торге, что ищут дощаник с сынком купца енисейского Сумарокова — Акинфия, что от Никифорова из Рыбного той неделей ушел. По всей реке нет. Пропали. Кто-то, говорят, видел доски разбитые, похоже корабельные, течением несло…
— Вот ведь как бывает, а? — сокрушалась тетка Полина. — От одной беды уберегла, другая напасть настигла!
Не верила тетка Полина в гибель Анюты. Не верила, и все тут, хотя все говорило о том, что погибла она. Не нашли ее. Искали двое суток, всю округу обошли, всех охотников на ноги поставили, даже следов, ни ее, ни медвежьих, чего более всего опасались, не нашли. Как сквозь землю провалилась! Иль по воде ушла! Такое тож меж мужиками проскользнуло. Ну куда б ей деться. Труп, даже если так, собаки-то точно обнаружили бы. Не нашли! Сама уйти после такого, ребятишки врать не будут, не смогла бы никак. Значит, жива она и кто-то ей помог. Вот только кто ей мог помочь и где она? Этот вопрос не выходил из головы несчастной женщины, когда в дверь тихо постучали.
— Можно войти, хозяюшка?
— Отчего нельзя, коль с добром, входите.
В горницу, согнувшись, поскольку потолок не позволял в полный рост встать, вошел бородатый мужик. Шапку в кулаках скомкав, вежливо спросил:
— Полина, дочь Прокопьева, вдова Селиванова кузнеца, вы будете?
— Я буду, присаживайтесь, а то неловко вам стоять-то, — с улыбкой ответила тетка Полина, — давно уж меня так никто не величал.
— Фрол я, Игнатьев. С дырявых камней, что на Те-сеевой реке, — присаживаясь на лавку, представился мужик.
— Ну и что привело тебя, Фрол Игнатьев, к старой свахе? — лукаво улыбаясь, спросила тетка Полина.
— Нутак, то и привело, — оживился мужик. — Оно конечно, дело такое… — Мужик, потупив взор куда-то себе под ноги, замолчал, выкручивая шапку.
— Ты шапку-то положь да дело говори! Аль зазноба какая завелась, да подойти не смеешь, а? Угадала, милой?
Мужик только кивнул, шапку между колен упрятав.
— От мужики, а? Ты, наверное, на медведя с рогатиной без страха? А?
— И с рогатиной бывало, а что? — опять оживившись, заговорил мужик, уже весело улыбнувшись хозяйке. — О деле сперва. Я вот вам подарок принес. Глядикось, — вытащив из-за пазухи, положил перед теткой Полиной туго набитый мешочек.
— И что там? — спросила тетка Полина.
— Мумие каменное.
— Да что ты, милой?! Вот спасибо, кто ж это мне подарок такой дорогой передал?
— Отец Серафим кланяться велел.
— О-о-ё-ё-ёй! — всплеснула руками Полина Прокопьевна. — Божечки мои, давно я о нем не слыхала, ой давно! Как он? Жив? Здоров?
— Да что ему станется, жив-здоров, чего и вам желает. Просил проведать да спросить вас, уважаемая, про девку, что в тайге пропала…
— Дак Анютка, Никифорова дочь, из Рыбного села.
— Это ведомо ему, просил рассказать, что с нею приключилось перед тем.
— Где ж она?
— В тайге у старца.
— Слава те господи, — прошептала Полина Прокопьевна, — жива, значит.
— Жива-то жива, да не совсем.
— Это как?
— Спит. С тех пор как привез, в сознание не приходила. Отец Серафим за телесное здоровье опасений не имеет. Цела будет, беда в другом. К жизни девку вернуть надо, а не хочет она.
— Как не хочет? Как это?
— Вот так, не хочет. Потому и прислал меня отец Серафим тебя спросить, что с девкой было, коль она жить расхотела?
— Так обычное дело — с милым своим в разлуке, вот и маялась.
— Подробней сказывай, отец просил все до мелочей ему пересказать.
— Хорошо. В общем, отец ее за нелюбого просватать решил, отправил с ним в Енисейск на дощанике. Она с него и сбегла ко мне в деревне, хворой притворилась. Я ей в том, не буду греха таить, поспособствовала. Вот, а парень ее в Рыбном селе остался, Федька Кулаков. По нему она и сохла, бедняжка.
— Это все?
— Все, больше об чем девице печалиться, как не о милом своем?
— Хорошо, так и перескажу старцу. А к тебе, Полина Прокопьевна, еще просьба: отец просил об этом разговоре никому не сказывать.
— Так как же молчать-то? Отец, мать убиваются в горе, сколь искали уж! Никифоров со дня на день нагрянет, за Анюту весь спрос с меня. Да сказать-то забыла, дощаник тот, с которого она сбегла, сказывают, в шиверах затерло, потонули, поди, все.
— Вот пущай тебе Никифоров спасибо и скажет.
— Ой, лишенько, не смогу я утаить такое!
— Никифоров узнает, где она, пожелает забрать, так?
— Так.
— Ежели ее родителям выдать, помрет она, не выходит ее никто, окромя старца. Понимаешь это аль нет? Кроме всего прочего, старец в гонении, скрытно живет. Сама знаешь.
— Кабы не знала Серафима, не взяла бы грех на душу.
Тетка Полина отошла в угол к образам, перекрестилась:
— Прости, Господи!
И уже строго, обернувшись к Фролу, молвила:
— Хорошо, молчать буду. Все. Об том забыто, садись к столу-то ближе. Накось кваску испей.
— Благодарствую. — Фрол с удовольствием, чуть проливая в бороду, выпил целый ковш холодного кваса.
Полина Прокопьевна, накинув на плечи большой цветастый платок, как-то изменилась собой и, присев напротив, загадочно улыбаясь и заглядывая в его глаза, заговорила:
— А-а-а-а, Фрол? Кака-така зазноба тебе приглянулась, сказывай. За такого красавца — враз сосватаю!
Фрол смутился.
— Благодарствую, я уж сам как-нибудь.
— Вот-вот, и будет как-нибудь! Тебе сколько годов-то, Фрол?
— Двадцать и ишо семь.
— И ишо в женихах?! — передразнивая мужика, продолжила сваха.
— Да, холостой! — не без гордости ответил Фрол.
— Чему гордишься? Мужик холостой, что выстрел пустой. Дыма много — толку нет! Иди уже, герой, поклон старцу от меня передай. Слово сдержу, токмо, как только она подымется, известите.
Фрол вышел из дома свахи. Уже вечерело, и река, отражая закат, пламенела водами, качая легкие суденышки на широкой, уходящей вдаль глади. Там она, скрадывая береговые утесы и сопки, сливалась с небом, и получалось, что лодки как бы парили в дрожащем мерцающем воздухе. И все это марево переливалось цветами уходящего на покой светила. Фрол, очарованный этой красотой, медленно спускался к берегу. Тут, в укромной заводи, его лодка дожидалась своего хозяина. Длинная, долбленная из одного ствола, она была легка и прочна, стойка и послушна в умелых руках и против волны, и против камня подводного. Под себя сработал ее Фрол. С любовью и терпением, две зимы и лето ушло на ее изготовление. Мужики завидовали: «Ты как жену себе ее ладишь — холишь да гладишь». Зато сейчас сердце радовалось у Фрола, как он на ней на воду выходил. Прежде чем в лодку сесть, сапоги снимал. До чего люба была ему эта руками своими сделанная лодка. А тут видит, стоят двое мужиков у лодки, говорят о чем-то, один из них ногу на корму лодки поставил. Не по-ангарски это — на чужую вещь ногой! Задело это Фрола, прямо за живое зацепило. Мужики увидели приближавшегося, но тот, что оперся ногой о лодку, не только не убрал ее, а еще сильнее нажал, так, что лодка стала крениться. Они видели, что Фрол шел прямо на них, но при этом нисколько не изменили своего поведения. Фролу даже показалось, что, кивнув в его сторону, ухмыльнулись. Он ускорил шаг и хотел с ходу оттолкнуть стоявшего от лодки, но наткнулся на трость, до боли жестко упершуюся ему в грудь. Фрол отпрянул от неожиданности и буквально зарычал:
— Не замай…
— Куда прешь, орясина, не вишь, кто перед тобой стоит!
Фрол только теперь увидел, что это были чужаки. Но это лишь на мгновение остановило его. Откинув рукой трость, он сделал шаг и тут увидел направленный ему в лицо ствол.
— Стоять, аль жизнь не дорога?! — уже с тревогой в голосе, но твердо сказал тот, кто остановил его тростью.
— Ты Фрол Игнатьев будешь? — тут же спросил второй.
Фрол остановился. Но не страх остановил его. Любопытство. Он уже рассматривал у себя в руке пистоль, который мгновенно выхватил у чужака. Опешившие от столь мгновенного действия деревенского увальня, каким со стороны казался Фрол, и не зная, что он сейчас предпримет, они попятились прямо в воду. Оружие-то неописуемым для них образом оказалось уже в его руках. Хотя опасаться им было нечего. Фрол просто рассматривал оружие, как малое дитя красивую игрушку. Оторвав взгляд от пистоля, Фрол ответил несколько запоздало, с точки зрения сотника Пахтина:
— Я буду. А чего на мою лодку стали? Не твое, не заступь!
— Извиняй, Фрол, — нашелся стоявший рядом с сотником Яков Спиринский.
— Нам так и сказали, у лодки твоей тебя ожидать, дело к тебе имеем. Ты уж это, не серчай, пистоль-то верни.
— А вы кто будете? — поигрывая пистолем в руке, спросил Фрол.
Куда деваться. Пришлось Спиринскому и Пахтину назваться. Кивнув, Фрол спокойно продолжил:
— Чего в воду-то сиганули, выходьте. Красиво сделано, ствол только короток, убойной силы мало, да попасть, верно, не просто.
— То, Фрол, для короткого боя, — наконец придя в себя, пояснил, выходя из воды, Пахтин. — Ловок ты, однако, молодец, — принимая из рук Фрола пистоль, с искренним чувством проговорил сотник.
— Не след без причины оружием махать, — просто ответил Фрол.
Наступила тягостная тишина.
Яков посмотрел на сотника, тот на Якова. В глазах обоих был вопрос: долго ли они будут терпеть от этого мужика? Были они по колени мокры, в сапогах обоих хлюпала жижа — в таком виде, с подмоченной репутацией, как-то само собой унялось желание, выпятив грудь, доказывать на пустом берегу этому мужику свое превосходство, да и было ли оно в данный момент… Оба расхохотались, хлопая себя по мокрым коленям и приседая от смеха.
— Вот так-то оно лучше, — одобрительно поглядел на них Фрол и тоже затрясся всем своим большим телом от хохота. — Так что за дело у вас? — когда все успокоились и утерли слезы, спросил Фрол. — А то время позднее, мне еще дорога не близкая.
— Дело простое, Фрол. О тебе люди говорят, тайгу ты знаешь хорошо. Вот потому ты нам и нужен. Нанять тебя хотим в проводники.
— И зачем вам тайга? Ежели золото искать, не пойду. Сразу говорю.
— Да почему же? Платить хорошо будем! — вмешался Яков.
— Не благостное дело, не хочу способствовать.
— Это почему ж наше дело не благостное?
— Я в Бога верую!
— Так и мы православные, не басурмане какие.
— Нет, люди добрые, прощевайте. Не пойду я.
— Вот уперся, ты хоть выслушай, что от тебя требуется.
— И слушать не буду, золото искать не пойду!
— А ежели не золото?
— Так чего тогда?
— Человека нужного!
— Человека?!
— Есть такая нужда, человек в тайге хоронится, думает, в сыске он государевом. Слыхал, девка пропала в деревне этой?
Фрол молча кивнул.
— Так вот, человек этот — парень той девки, сбежали они, без благословения родительского окрутились, потому за ним погоня.
— А вам какая охота того парня найти?
— А вот к нему у нас интерес особенный, тайный интерес, — не дав сотнику ответить, вмешался Спиринский.
— Коль начали говорить, так договаривайте.
Спиринский хотел было продолжить, но сотник жестом остановил его, помолчал, покрутив ус, сказал:
— Отца этого парня я знавал, Кулакова Василия, отчаянный казак был, пропал в тайге при неясных причинах, а тут на сына его, Федора, как я полагаю, навет возвели. Разобраться хочу, помочь.
При этих словах у Якова в глазах мелькнуло удивление, но он справился и промолчал, кивком подтверждая слова сотника.
— Ну, ежели помочь парню, это другое дело, тем паче действительно ни при чем здесь он.
— Как ни при чем? — чуть не в один голос спросили Яков с сотником.
Фрол помолчал и ответил:
— Земля-то слухами полнится, не трогал девку никифоровскую Федор ваш. Ни при чем здесь он. А найти его помогу, только мне со своими делами управиться надоть.
— Хорошо. Только дело это такое, Федора найти надо, но прежде с ним у нас разговор будет тайный, сыск на него действительно объявлен, но не за девку, а за убийство.
— За убийство? Вот те раз!
— Да, Фрол. Но говорю тебе, полагаю я, не его это рук дело, подстроено. А чтоб доказать энто, надо мне с Федором поговорить, выяснить кое-что, понимаешь? Знать о том никто не должен. Иначе не миновать Федору каторги.
— Где найти вас, если что?
— В Рыбном, на Комарихе постоялый двор с петухом медным на крыше, там сотника Пахтина и спросишь, — ответил Спиринский.
— Значит, договорились.
— Договорились.
Уже темнело, совсем немного потребовалось времени, чтобы Фрол разжег небольшой костер. Он отошел версты на три от деревни и причалил к берегу. Спокойней ночевка подале от народа…
К обеду следующего дня Фрол был уже у отца Серафима.
— Богато ты вестей привез, богато, — похвалил его старец. — Искать надо парня этого, нужен он всем, получается, а нам более всего, потому как в нем душа той девицы жизнь свою ищет. Без него пропадет девка, не очнется. Потому приведешь его ко мне, а уж потом к казаку его выведешь.
— Хорошо, отец. Как скажешь. Сегодня и отправлюсь.
— Вот и ладно будет, скорее надо парня этого найти, поторопись, Фролушка.
— Отобедаю, и в путь.
— Зайдешь ко мне перед уходом, поговорим.
— Хорошо.
Обед был для Фрола особо приятен из рук Ульяны. Сытый и довольный свиданием, Фрол зашел в небольшую комнатку отца Серафима. Здесь они часто говорили о многом, тихо, спокойно. Фрол обычно задавал вопросы, совета просил по делу какому, а старец, обстоятельно рассуждая, отвечал. И непонятно, кому больше нужны были эти беседы. Молодому, здоровенному таежнику или старцу, неизвестно когда и откуда пришедшему в эти края.
— Хочу спросить, отчего так в жизни случается. Живет человек на земле по-своему, никому зла не чинит, вдруг приходят к нему люди и говорят: «Не так живешь, потому мешаешь. Живи, как мы, или уходи».
— Они думают, что жить все обязаны по законам, ими придуманным. Потому тех, кто иначе жить пытается, они и не приемлют. Уж сто лет по петровским законам, немцами писаным, живет народ, дух родной, русский, принизив. На самом деле и придуманы они от страха и для страха. Для того, чтобы в страхе люди жили. А там, где страх посеян, — там недоверие и ложь произрастает. А святая Русь во лжи николи не жила, сломать ее хотят, стравить народы в распре.
— Так как тогда жить-то? Как без закона-то, тоже нельзя. Закон, он же мое охраняет. Ежели кто мое возьмет, того к ответу, так? А ежели нет закона — вор без ответа останется. Всякий может у беззащитного последнее отнять! Не праведно это, ведь так?
— Эх, Фрол, скажи, а чье это небо?
— Божие.
— А солнце?
— Божие.
— А скажи, солнце или небо у тебя забрать кто-нибудь может?
— Нет, рази только с жизнью…
— Вот, хорошо, соображать начинаешь. Все это тебе Богом дано, и отнять у тебя ничего нельзя. И сама жизнь тебе Богом дана, значит, и отнять ее у тебя никто не вправе! Да и не только не вправе, а и не может. Они думают, голову в петлю аль на плаху — и нет человека. Ошибаются. Тело бренно, душа нетленна. Душа не убиенна и назад вернется в другом теле. И ежели по прави жил, в благости жизнь свою продолжит в поколениях потомков своих. А тот, кто раньше времени ее туда отправил, своей душой за сие ответит перед Богом.
— Это как же ответит?
— А так, в следующей жизни Бог его душу уже в человека не воплотит, а в животное токмо. В волка аль в гадюку какую. Что у того на душе было, то и получит. А за горе, людям причиненное, здоровьем детей да внуков своих ответит. И отнять то, что у тебя есть, тоже нельзя. И не от законов это зависит, а от тебя самого. Не захочешь, чтобы отняли, не отнимут. Только по твоему желанию и по поступкам твоим сегодняшним день завтрашний тебе ответствует поступками людей, тебя окружающих, дарами или потерями.
А всего, что есть на свете, человек по желанию своему и получает столько, сколько иметь намерен. Бог всем поровну определил и столько, чтоб никакой нужды никому не было.
— Вот тут я не соглашусь, ежели б так оно было, что все хотенья сбывались, это же рай на земле, стало быть. У всех жратвы вволю, сытые, и ничего боле не надо! Счастье!
— Фрол! Не ерничай, отлучу от учения, знаешь ведь.
— Тогда почему одним густо, другим пусто?
— Потому что одни только мечтам и предаются, хотеньям своим, а другие совершают поступки для свершения тех хотений. Вот и получается. Все сытыми быть хотят, да не все жито сеют. Брось зерно в землю удобренную, потом политую — оно взойдет и тебя, и детей твоих прокормит.
— А я, где ни гляну, все наоборот получается, те, кто жито сеют, по земле босыми ногами ходят.
— И где это ты углядел, Фрол ушка?
— Да везде.
— Так что в том плохого, что босыми ногами по земле? Я тоже, бывает, в охотку хожу.
— Да не об том я говорю.
— А о чем?
— О том, что богатых в поле не видел.
— Так в каком-то колене их деды-прадеды тож за сохой спину гнули, поверь, так это. Они для рода своего будущее создавали, бережно и упорно, чтоб потомки их могли трудами их воспользоваться и прирастить дары божии трудами своими и старанием. А те, кто сейчас за сохой стоит, такоже для потомков землю потом своим удобряет. Однако их предки в чем-то согрешили, коль потомкам тяжко. Про то и говорю, за все в жизни сполна платить приходится. Добром только за добро воздается Всевышним, за зло сторицей платит человек неразумный, и сам, и в поколениях потомков своих. Бывает, что за тяжкий грех пресекает Господь вообще род греховного человека. Детей не дает, как женка ни старается, а выносить не может. Думают, ущербна она али он, ан нет, ущерб тот в греховном прошлом рода того.
— И что же делать безвинным детям? Ведь за грехи отцов приходится счастьем платить своим.
— Жить праведно, дела добрые творить, прощения просить за обиды предками твоими причиненные, грехи рода своего замаливать.
— Да, отец, складно у тебя выходит. Откуда ты все знаешь?
— Фрол, знания мои лишь крупицы того, что древние наши знали.
— Куда ж они делись, те знания?
— Пожгли, что сжечь можно было. Учителей просвещенных, волхвов, повыбили, родных богов, в утеху инородным, осквернили и забытью предали.
— Так кто ж учинил-то это все?
— Фрол, не хочу смуту в душе твоей распалять, молодой ты еще, горячий, рази удержишь в сердце слова мои? Не пойдешь ли мстить за поруганную веру, коль укажу виновных в том? Не станешь ли бунтарем неуемным, кровушкой людской правду доказывать?
— Не, не стану, я жениться хочу.
— Вот и ладно. Потому в другой раз отвечу тебе на вопрос твой непростой. Если нужда у тебя в этом будет. А тебе в дорогу пора. Будь осторожен, думаю, охота за этим парнем нешуточная идет. Не знаю причины того, но чувствую.
— Ну вот, одним выстрелом двух зайцев и завалили! — громко, прямо в ухо Никифорову, шептал опьяневший Косых.
Они опять сидели в своем излюбленном месте, в баньке. Распаренные, похрустывали квашеной капустой, закусывая ею водку-очистку. Капусту брали руками прямо из большого, почти ведерного туеса. Рассол капустный с брусникой давленой был и на столе, и под столом, и в бородах двух выпивших мужиков. Ягоды брусники, как капельки крови, отражая пламя свечей, как-то зловеще мерцали. Никифоров, подхватив на большой палец крупную брусничину со стола, вдавил ее в лоб Косых.
— Скоко ж ты кровушки человечьей пролил, а, Ванька?!
— А ты чё людишек жалеешь? Чё их жалеть? Бабы ишо нарожают! А поперек дороги мне никто не перейдет! Никто!
— Ладно, будя, не буянь, как ты его стрелил-то, сказывай? — остановил Косых хозяин.
— Подале от села отъехали, он поотстал чуток. Я коня придержал да показал ему плетью в сторону, дескать, смотри, заметил там что-то. Тот остановился, шею-то вытянул, высматриват там старательно, ну я и стрелил. С коня его и снесло, как ветром сдуло, в стволе-то жакан на медведя был.
— А казаков куда водил?
— Чуть дальше дорогой пролетели, туда-сюда поша-рились да вернулись. Где в тайге искать? Казачки-то заезжие, им это и не надо, мошкару в тайге кормить. Съедут с начальством и забудут про это. Правда, один все спрашивал, где точное место. А я не показал, забыл, дескать, с испугу. Где-то здесь, а где, точно не помню… Покрутился тот казак, отстал даже от всех, однако догнал у села уж и ничего не сказал. Ясно, не нашел ничего.
— А чего он найти мог?
— Да ничего.
— Ладно, пошли кости погреем, парок-то нынче хорош!
Долго хлестались вениками, охая да ахая. Вышли без сил, но в истоме. Выпили.
— Все! Завтра спозаранку бери людей — и в поиск. Федьку и старателя того, Семена, найти надо быстро и тихо. Далеко они не должны быть, где-то рядом. Федька-то не знает, за что розыск ему, надеется отсидеться с дурой моей да объявиться. Думают, прощу их. Не бывать этому! Всю тайгу прочесать, как гребнем. Все зимовья, рыбацкие хутора, шалаши старательские, все пройти!
— Все сделаю, найдем, куды они от нас денутся. По берегу дозоры уже стоят.
— Какие дозоры? Ты чё!
— Да не, свои, ежели чего, нас упредят. Ну, еще по чарке! За удачу!
— За удачу!
Оба выпили, и захрустела капустка в крепких челюстях, посыпалась брусника кровавыми шарами сквозь грубые пальцы. Никифоров давил пальцами брусничины на столе, они лопались, разбрызгивая алый сок.
— Смотри, ох смотри, Иван, нельзя их упустить! И не только из-за ящерки. Теперь еще Панкрат с того света на нас смотреть будет, вернее, на тебя, Иван! На тебе его кровь, ты за него в ответе!
— Чего несешь-то, перебрал, что ли, Авдеич! Мы с тобой так повязаны, что ежели тонуть, то вместе будем, захочешь, не отцепишься!
— Знаю о том! Однако место свое знай! Сказано — делай!
— Сказал же, сделано будет! — недовольно, но твердо проговорил Косых, сверля единственным глазом затылок уронившего на стол голову Никифорова.
Поутру, до рассвета еще, Матанин привел в конюшню Косых с десяток добровольцев. Тут были и знакомые по старым делам, были и новички, но и те и другие знали: найдут убивца, Федьку Кулакова, по три рубля золотом Никифоров заплатит. Все при оружии были, но строгий наказ имели — Федьку и кто с ним будет только живыми брать! Вязать и в село к Никифорову доставить тайно. В этом случае и вознаграждение будет, и уважение от самого старосты.
Топот лошадей неумолимо приближался, и Семен, лихорадочно вжимая свое тело в расселину, готовился к худшему. Только бы собаки не учуяли! Вот они, все ближе, и ближе, и… мимо! Группа казаков проскакала мимо того места, где была кровь, дальше по дороге и скрылась за поворотом. «Вот те на! Почему мимо проехали?»
Семен с облегчением выдохнул воздух, казалось запертый в груди от напряжения, и встал. «Хорошо, потом обдумаю, а сейчас посмотреть надо, откуда стреляли».
Как он ни старался, обойдя все окрест того места дороги, ничего не нашел. Первозданная, не тронутая ни зверем, ни человеком тайга. Не примято и не сломлено нигде ни кустика, ни травинки.
— Не могло такого быть, коль отсель стреляли! — Семен еще и еще раз, медленно изучая все, проходил вокруг предполагаемого места засады. Его размышления прервал лай собаки.
«Про собак-то забыл!» — замер Семен. Но было поздно, прямо через кустарник к нему прыжками неслась собака. Выхватив нож, Семен встал за ствол дерева. «Придется бить, иначе…» — подумал он и в следующее мгновение увидел выскочившего прямо на него Разбоя. Тот, радостно тявкнув, прыгнул лапами ему на грудь, норовя лизнуть в лицо, но Семен, слегка отстраняясь, не позволил Разбою проявить свою собачью любовь.
— Дядя, а ты кто будешь? — услышал у себя за спиной мальчишеский голос старатель.
Обернувшись, Семен увидел крепкого мальчугана лет десяти. Разбой, отбежав от Семена к мальчишке, сел у его ног и тоже, как бы вопросительно, уставился на Семена.
Мальчишка видел зажатый в руке Семена нож и стоял так, что в любую секунду мог, как говорится, дать деру. Семен убрал нож, улыбнулся и спросил:
— А ты кто будешь?
— Силантий, Потапов сын, — сразу ответил мальчуган.
— А, ясно… Мне Федор про вашу семью говорил. Меня Семеном зовут. Ты зачем здесь?
— Я Федора ищу, дело у меня к нему.
— Что за дело?
— Так, дядя, дело-то у меня к Федору! — отступив на шаг назад, твердо, с расстановкой, проговорил Сила.
— Так и хорошо, вот и пойдем к Федору, коль дело у тебя к нему.
— Пойдем, — согласился мальчуган и вопросительно уставился на Семена. — Куда идти-то? Веди!
— Хорошо, идем, — усмехнувшись, ответил Семен и шагнул в сторону.
Разбой, мгновенно подхватившись, обогнал Семена и только его и видели, мелькнул его хвост кренделем и исчез впереди в густом еловом подросте.
— Какие новости в селе, Силантий?
— Плохие, потому и иду к Федьке седни, завтра-то поздно, поди, будет. Казаков видели? То по ваши души.
— Во как? Отчего это за наши души казачки взяться решили? — притворно удивляясь, спросил Семен.
— Щас придем, все и расскажу. Далеко еще?
— Уж скоро…
Они быстро спускались в распадок по каменным осыпям, сплошь покрытым белым ягелем[5], сухим и хрустким под ногами.
— Ты чего приперся, Сила? Договорились же, завтра. — Неожиданно появившись, как свалился откуда, Федор остановил идущих.
— Здорово, Федька, те чё, Разбой про нас сказал? — улыбаясь, спросил Сила, глядя, как, подскочив к Федору, прижался боком к его ноге пес.
— Ага, Разбой, кто ж еще. Уже коло зимовья меня нагнал. Ну я и понял, что с тобой он, с кем еще, вот и пошел навстречу, — потрепывая холку собаки, рассказывал Федор.
— Врешь ты, Федор, упредил тебя Разбой, то верно, а навстречу ты пошел, чтоб посмотреть, кого он за собой ведет. Так ведь?
— Ну, ты, малый, смышлен, я смотрю! — вмешался присевший на камень Семен.
— А у нас в селе все такие. В тайге, чай, живем, — гордо ответил парнишка и, оглядевшись по сторонам, тоже присел на валежину.
— Так чего ты? Сговаривались же на завтра, случилось чего?
— Случилось. Убили Панкрата, старосты помощника. Он за тобой с Косых в поиск ходил, ты его и стрелил как будто, так по селу слух от Косых и пошел. Мы-то знаем, что не ты это сделал. Вася велел тебе передать, чтоб уходили далее, слышал он, что большую облаву на тебя да на друга твоего Никифоров готовит. Немедля уходить надо, завтра уж поздно будет. Только, куда пойдете, я знать должен. Туда и припру вам пропитание, а то как вы жить-то будете, пока все это не кончится.
— Вот это да… — только и смог сказать Федор, выслушав Силантия. — Панкрата! Понятно, в Косых бы кто стрелял, недругов хватает, а этот-то? Кто ж его стрелил?
— Косых его и стрелил, больше некому. Я все там обошел, не было там засады. Ни единого следа в тайге нет, а там еще, я прикидывал, стрелять по дороге только с одного места можно. Да и то очень верный глаз нужен, чтоб попасть в седока.
— Зачем ему убивать было Панкрата?
— Зачем да почему… Какая вам от того разница! — встрял в разговор Сила. — Брат сказал, завтра по всей этой стороне казаки да и охотники-добровольцы имать вас будут.
Семен с Федором переглянулись. На север уходить без припаса, без оружия — верная погибель, этот вопрос уже обсуждался ими. Только на юг, за Ангару.
— Уходим немедля. Лодка нужна в ночь, пригонишь, Сила?
— Пригоню, только с вами пойду, чтоб назад вернуть, а то лодка пропадет, сразу все поймут, на той стороне искать кинутся. К белому камню, как стемнеет, выходите.
— Хорошо, Разбоя забирай с собой, оставь его в селе, лодку пригонишь, три раза филином крикни. Это ладно, теперь сюда гляди. По этой стороне ниже у ручья зимовье наше. Там мясо, медвежатина вяленая, назад придешь, лодкой встань ниже, где ручей впадает, да и перетаскай. Увезешь своим.
— Хорошо, Федь, пошел я. Разбой, пошли!
Разбой непонимающе повернул морду к хозяину.
— Иди домой! — получил он подтверждение от Федора.
Вильнув лениво хвостом, Разбой потрусил вслед быстро уходившему мальчишке.
До темноты оставалось два-три часа. Надо было еще многое успеть, и Федор с Семеном поспешили к зимовью.
«Ну и день сегодня, сколько всего…» — думал Федор, укладывая мешок.
— И зачем было Косых убивать Панкрата? А, дядя Семен? Как думаешь?
— Видно, есть на то причина! Просто так кровушку не стал бы Косых пускать, не дурак он. Ты ж знаешь, он рука правая Никифорова. Значит, все с ведома хозяина сделано и по приказу его. Придет время, правда откроется, а может, и нет. Смотря от того, нужна она кому будет али нет. В жизни так бывает, что все знают, как оно взаправду было. Да только никому этого не надобно, потому все вид делают, что все и было иначе. Много людей, Федор, в обмане всю жизнь живут, знают о том, но себе не признаются и живут, будто не знают.
— И как так живут?
— Думают, что счастливо.
— А ты, дядя Семен, счастливо живешь?
— Особенно когда тебя встретил, вот с этого, Федька, момента счастья мне и привалило!
— Я всерьез, а ты…
— А и я не шучу совсем. Главное богатство, Федор, — это не золотой песок в кисете, конечно, хорошо, когда он за пазухой лежит, а друг верный, на которого в любую минуту положиться можно, оттого уверенность в делах своих чувствуешь. А где уверенность есть, там всегда — и фарт, и радость. А когда радость в душе, тут и счастье человеческое. Никак счастье без радости быть не может. Выходит, на радость встретил я тебя, Федор, друга надежного в тебе нашел, аль не так?
— Так.
— А раз так, то и счастье не за горами. Главное-то уже есть.
Федор был доволен, услышав такие слова. Как-то просветлело на душе, легче задышалось и отлетела тревога, сидевшая в сердце как заноза. Он расправил плечи и уже хотел забросить на них мешок с припасом…
— Не торопись, Федор, успеем. Присядем на дорожку. — Семен покрутил по сторонам своей кудрявой, давно не стриженной головой, как будто в наступившей темноте можно было кого-то увидеть, смешно задрав еще более лохматую бороду, поскреб пятерней шею и продолжил: — От чего у человека душа радуется — от дел добрых и поступков. Позволь мне, Федор, дело совершить доброе.
— Ты чего это, дядя Семен?
В догорающем пламени костра, освещавшем их лица, попыхивали с треском и фонтанчиками искр смоляные еловые поленья. Семен вытащил из-за пазухи тряпицу и развернул ее. На ладони матово блеснула золотом ладанка.
— Хочу тебе ее отдать.
— Нет, дядя Семен, нельзя, тебе ее передал покойный товарищ твой.
— Отдать-то отдал он мне ее, да, видно, не передал. Я сколь ее ни крутил, не кажет она мне ящерки, а тебе кажет, так что тебе ее передаю. Держи, владей и береги. — И Семен протянул ладанку Федору.
— Нет, дядя Семен, не могу я такой дорогой подарок принять. Мы же вместе, нужда будет, дашь мне ладанку, будем вместе золото искать, — второй раз отказался Федор.
— Целее она у тебя будет, пойми. Это мы сейчас вместе, а схватят нас, меня в первую голову никифоровские подручные уволокут. У меня ладанку искать станут, никому и в голову не придет, что я такую вещь тебе отдал. А все закончится хорошо, так мы и будем вместе. Поверь, Федор, чувствую я, для твоих рук и души эта ладанка, потому прими, прошу как друга своего.
Семен внимательно и серьезно смотрел прямо в глаза Федора. Федор тоже, и в какой-то момент Федор прочитал в глазах старателя: «Я доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть, верю, не подведешь».
— Хорошо, — улыбнулся Федор. — Надень мне ее на шею, дядя Семен, клянусь, только ты ее с меня снимешь, боле никто.
— Ну вот и ладно. Вот и добре.
Семен аккуратно надел на шею Федора кожаный шнурок с ладанкой. То ли от блика огненного сверкнула ладанка, коснувшись тела Федора, или шевельнулась чешуей золотой ящерка на ней, или скорее показалось это Семену… Ночь была темна и беззвездна. Луна, на их радость иль беду, скрылась вообще в погрохатывающие вдали облака и не казала оттуда своего любопытного носа.
Молча, в темноте, они осторожно спускались к реке, где уже второй раз кричал филином Сила, подзывая их. Лодка была небольшой, но зато легкой. Федор сел на весла, Сила устроился на носу, Семен и основная поклажа заняли корму. Тяжела в переходе Ангара, да еще ночью, когда не видать берегов. Волна, хоть и небольшая, но встречная, теснит лодку и прижимает к берегу, от которого уйти надо. Федор знал реку сызмальства, потому греб, налегая на весла, без остановок и заминок. Греб, пока темной массой не надвинулся пологий противоположный берег и лодка с мягким шелестом не вошла носом в прибрежный камыш. Здесь высадившись, попрощались с Силой.
— Пойдем к староверам на Тесееву реку, они не выдадут, там, на дырявых скалах, в случае чего, Василию скажи, он найдет нас.
— Передам. Ну, до свидания, — по-взрослому попрощался за руку с мужиками Силантий.
— Может, лодку оттащить повыше, Сила?
— Не, спасибо, я выгребу, один же…
— Ну пока…
— Пока… — И мальчишка, сделав несколько сильных гребков, скрылся в шумящей водоворотами и переливами темноте реки.
Четвертый день прочесывали тайгу люди Никифорова, и никакого толку. Нет Федьки и следов никаких. Как сквозь землю провалился или… водой ушел! Но кто пособить ему мог? Кто мог помочь убийце бежать? Не бывало такого в здешних местах. Всех, кто лодки имел в селе, обошли, никто не признал такого, да и на месте все лодки были. На реке доглядчики никого не видели и просмотреть не могли, больно хороший куш обещан был за поимку Федора, глаз не смыкали. Значит, одна дорога, в северную тайгу ушел Кулаков, там искать надо. Никифоров рвал и метал, но ничего сделать не мог. Правильно, было отчего злиться, одурачил его мальчишка, откочевал в дальнюю тайгу, ищи теперь ветра в поле. После похорон Панкрата как будто все забыли про то, что Федор Кулаков в бегах. Составили бумаги на сыск, отправили в губернию и забыли, все, кроме Никифорова. Что-то необходимо было предпринимать! Косых и Матана глаз не поднимали, клялись, что окрест всю тайгу как через сито просеяли. Нету. Казенные казаки, принимавшие участие по распоряжению Сычева в поиске, также вернулись в село ни с чем и уже готовились к отъезду в Красноярск. Сычев, сменив гнев на милость, не без активного вмешательства в этот процесс Якова, принял от старосты заверения в личной благонадежности и ревизию закончил. Результаты ревизии устроили как власть местную, так и высшую, весьма увесистый мешок с мягкой рухлядью дополнил багаж чиновника. С этого момента Коренной приосанился и здоровье его резко на поправку пошло. Немало озадачен был, правда, староста тем, что чиновник Сычев назад в губернию один убывает, оставляя гостей столичных в селе, для решения их дел неотложных, по которым он обязан был всякую помощь им оказывать немедля по спросу. То Сычев приказал. Однако и сам Коренной видел, как умно в заступ за него Яков Спиринский выступил, потому признателен ему весьма остался и от души всякую услугу оказать готов был. Яков намеревался выехать в северную тайгу вместе с Белоцветовым, посмотреть на приисковые работы, что велись на Удерее. С людьми знающими договориться для экспедиции предстоящей. Однако после разговора с сотником Пахтиным отправились они вместе с ним и с уезжавшим Сычевым попутно до Кулаковой деревни. Поручик же, увлекшийся молодухой Уваровой Пелагеей, остался развлечься в Рыбном селе. А разговор тот состоялся после похорон убитого Соболева. Сотник Пахтин подсел к Якову за поминальным столом. Осушив за упокой чарку водки, Пахтин, склонившись, шепнул на ухо Якову, что имеет к нему важное дело, касаемое обстоятельств гибели покойного. Каково же удивление Якова было, когда в уединенном месте, куда они отошли, Пахтин прямо заявил, что у него есть веские основания полагать, что убийство было совершено не тем, на кого указано, и не по тем причинам соответственно.
«Даже если и так, то почему он обратился именно ко мне?» На этот вопрос, мелькнувший в голове Спи-ринского, он тут же получил ответ.
— В кафтане убиенного записка была найдена. Я ее незаметно забрал и прочел. Из содержания стало ясно, что она адресована вам. Поэтому, думаю, именно вы более всех заинтересованы в выяснении истинной причины убийства вашего, будем так говорить, порученца. Содержание записки таково, что оглашение оной при всех не посчитал возможным до выяснения некоторых обстоятельств. Теперь, убедившись в правильности своих догадок, хочу поделиться ими с вами. Вот, прочтите. — И Пахтин протянул Якову измятый листок бумаги.
«Уважаемый Яков Васильевич! — карандашом, корявым почерком написанная, начиналась небольшая записка, которую читал Яков. — Спешу уведомить с радостью о том, что точно изведано мной место нахождения таинственной ладанки, указующей на золото самородное. У Федьки Кулакова она, а он с до…» Дальше запись прерывалась пятном, письмо было залито кровью.
— И что это означает? Федька Кулаков Панкрата Соболева застрелил потому, как тот о какой-то ладанке вызнал?
— Нет, скорее, кто-то очень не хотел, чтобы про ладанку вы узнали, и этот кто-то и убил Панкрата.
— Про ладанку действительно только слухи мне известны были, можно сказать, легенда какая-то, а тут выходит, правда это.
— Выходит, правда, коль кровь за нее льется. Панкрата убили в упор выстрелом с очень близкого расстояния, поверьте, я ран насмотрелся в свое время. И стрелял не кто иной, как Иван Косых.
— Откуда такая уверенность?
— Казачки по просьбе моей внимательно посмотрели то место, где убийство совершено было. Место нашли, хотя Косых его не показал, что само по себе странно, не правда ли?
— Ну и?..
— Нашли пыж из ружья убийцы. Я сравнил с ружейным провиантом Федора Кулакова, он у него от отца в доме хранится, нет, таких пыжей в его ящике и быть не могло. Войлочный пыж не по карману парню, да и запас отцовский еще есть. Мать его клянется, что и мысли у него не было покупать для ружья какой припас, все было в достатке от отца его. Две девки на выданье, в семье кажная полушка на счету.
— Ну, так это только предположение, сотник, — глубокомысленно, входя в роль следователя, возразил Спиринский.
— Пожалуй так, но если все посмотреть, то нескладная картина получается. Парня этого не знаю, но знавал его отца, честный казак был. Вдове его верю, не мог этот парень в человека стрелять просто так. Не мог.
— А кто такой этот Иван Косых? Вернее, чей это человек?
— Это рука правая Никифорова.
— Кто об этом, кроме тебя, сотник, знает?
— Никто.
— Вот и хорошо, Никифоров здесь сила. Тут надо если бить, то наверняка. Надо опередить Никифорова, то-то он усердие какое проявил, призовые за голову парня назначил, а с чего бы это? Теперь ясно становится. Надо этого Федора Кулакова найти первыми, раньше, чем его найдет Никифоров.
— Вот и я так же подумал, рад, что мнения наши сошлись и желания. Не буду душой кривить, помочь хочу по старой дружбе вдове друга своего. Федор сын-то у него единственный, видеть, как честное имя и продолжение рода его губят, душа не терпит. Так вот, по моему разумению, Федор вины в убийстве не имеет и не знает о том навете, а скрывается потому, что дочь никифоровская, Анюта, с ним без дозволения родительского ушла.
— Ого, ну дает твой казачок, выходит, выкрал девку! — оживился Спиринский. — Так вот и ищет его Никифоров, всяк родитель искать будет.
— Выходит так, но повод это, для отвода глаз. То не великийврех, коль девка с любым с дома сбегла, однако срам для родителей, ежели с поклоном и с женихом за благословением к ним не вернется. Однако не принято родителям сыск учинять в таких случаях. Все по-тихому делается. А тут иное дело, это Никифоров Федора в подозрении держит. Слухи ходят, что в тайге она пропала, а Федора это дело иль нет — догадки одни. Но Федору это высказано было. Вот он и взбрыкнул да пугнул ружьем Косых, а потом и с Панкратом поскандалил.
— Так, ну накручено здесь. И что делать будем, сотник?
— В Кулакову деревню ехать надо, там его девка пропала, там и его искать следует, как мне кажется.
— Так это ж попутно? Завтра Сычев в Красноярск отбывает.
— Хорошо бы с ним, глядь, и староста деревенский при начальстве-то поможет усердно, а?
— Так и едем, о чем разговор?
На следующий день, к вечеру, в деревне Кулаковой, распростившись с Сычевым и сопровождавшими его казаками, Яков с сотником Пахтиным поджидали на берегу реки Фрола. Найти его посоветовал староста деревни, как лучшего таежного проводника по всей нижней Ангаре и ее многочисленным притокам. Тем паче видели его в этот день в деревне. На берегу самая ладная долбленка — его, вот там и посоветовали его подождать. Там и ждали. Его-то им и нужно было, видит бог. Когда на берегу появился и скорым шагом направился в их сторону высокий, больше похожий на медведя человек, сотник кивнул в его сторону и, восхищенно усмехнувшись, пошутил: «Да, не перевелись еще на Руси богатыри…» — и в этом он тут же лично и убедился…
Вода, небольшим водопадом бившая прямо из скалы, образовав, наверное, за тысячелетия в месте падения своего каменную чашу, переполняла ее, и тонким ручейком, как врезанным в каменную плиту, стекала, смешиваясь с потоком могучей реки. Несчитано по реке таких родников, питающих ее своей чистотой и прохладой, только потому и стремится сюда рыба красная с низового Енисея сотни верст поднимаясь. Преодолевая шиверы забористые, подо льдами, весенним солнцем пронизанными, идет она в островные протоки Ангары и Тесея, по большой воде, когда берега реки еще торосами многометровыми завалены. Идет, чтобы отметать икру в малых речках и скатиться по осени вниз, в раздолье глубинное, недоступное никому и никому не покорное. А все короткое, но жаркое лето нагуливать жир на кишащих кормом теплых мелководьях таежных речушек. Тут-то и ждут промысловые люди, добытчики рыбы. С времен давних, как отбили эти места у тунгусов, разобрали таежные реки добытчики меж собой, освоили, зимовья поставили, и с тех пор не принято было на чужую реку с промыслом заходить. Разве что проходом, рыбки на ушицу добыть, не возбранялось. За этим строго следили, и лов был отлажен так, чтоб речка не оскудела, а кормила рыбой не одно поколение рыбацкое.
К таким потомственным промышленникам и относился Фрол. Его прадеды ступили на эти берега вслед за первыми казацкими отрядами, влекомые неизведанными вольными просторами да богатствами тайги и рек неисчислимыми. Из поколения в поколение, передавая угодья охотничьи и реки в надежные руки сыновей своих, передавали старики и секреты да тайны здешних мест. А тайн было много, как и тропок в этой тайге. Фрол жил в этой тайге, жил в этой дикой природе, и она была его домом. Так же как хозяин в своем доме знает, где каждая вещь лежит, Фрол знал в этой тайге все, каждый уголок и тропинку. Хитросплетение русел рек таежных и переходы зверовые, кедровые урочища и распадки болотистые, сплошь поросшие клюквенным ковром. В своих угодьях Фрол и позволил не так давно обосноваться старцу. Тайно обосноваться и жить. Место было выбрано тихое на таежном отшибе, где ни троп проходных, ни мест глаз привлекающих. Речка была столь мелководна да порожиста, пройти ее только Фрол и мог. Берега болотистые на несколько верст непроходимостью своей известны были. Мошка лютая и комариный гул встречали смельчака, отважившегося летом пройти теми местами. Провалившись раз, другой по пояс в жирную болотную грязь, выбирались люди из тех мест. Зимой болота долго «дышали», не замерзая даже при лютых морозах. По праву потомственному места эти за Фролом были, потому и не ходил в те места никто. Ни нужды в том, ни смысла не было. Пытались на речках старатели песок золотой мыть, да оставили эту затею, видно, не нашли ничего — золото по ту сторону Ангары, в северной тайге Бог посеял.
Старец пришел к нему по осени в зимовье, переночевал две ночи, дальше собирался идти. Только этих двух ночей, разговоров полных, Фролу хватило, чтоб понять, какой необычный человек этот старец. Вызнав, что в гонении Серафим и в неизвестность путь держит, уговорил его остаться. Просторное зимовье в этой глухомани поставил, в иных деревнях избы меньше. А все потому, что люди к старцу, неведомо как прознав, где он, приходить стали. Для них и тропу Фрол проложил, по ней и водил людей ночами, тайну старца от глаз сторонних храня. Старец в одиночку недолго жил. Пришла на поклон к нему и осталась вдовая казачка Меланья, девица Ульяна пришла, отрок из староверческого села загостился совсем.
Фрол редко заглядывал к старцу, таежные дела много времени требуют, но в последний год, с тех пор как появилась девица, зачастил. Под взглядами Фрола расцветала Ульяна, каждый приход его заранее чуяла. Глаза как ни прятала, а не могли утаить лучистого блеска, когда на берегу появлялась громадная фигура охотника. А еще любила Ульяна глядеть, как аппетитно ест он ее руками приготовленную пищу. Тепло ей от этого делалось и сладко на душе, казалось, не пироги с брусникой жует, кваском хлебным запивая, не ушицу стерляжью хлебает, а нежную любовь ее, душу ее поющую вбирает в себя вместе с пищей этой Фрол. Оттого еще краше казались ей глаза его и губы, бородой да усами сокрытые, нос с горбинкой. Брови густущие, у переносья сросшиеся, так хотелось ей пальцами разгладить, губами к ним прикоснуться… аж сердце у Ульяны от этого желания замирало.
Старец видел, как зарождалась меж ними любовь, и это его радовало. Ульяна была для него как дочь, из старинного кержацкого рода осталась она одна. Сгорело село, погибли ее родичи. Несколько лет шла она к старцу, по предсмертному завету матушки своей. Шла от одной деревни к другой, от одного скита к другому, пока не нашла его. Нашла, упала в ноги, попросила оставить при себе, приютить сироту. Все по хозяйству взяла на плечи свои, одну просьбу к старцу имея: научить молитвам древним к родным богам. Расспросил Серафим Ульяну, отчего такое желание у нее возникло, рассказала она про наказ матери и думы свои. Вспомнил ее мать старец Серафим, по дням странствий своих доброй памятью вспомнил, потому и оставил у себя девицу, учить молитвам стал, видел, светлые мечты в себе носит. С Фролом же как-то само по себе сложилось, что старцу он как сын стал. Любил его за широту души и помыслы чистые. Вот и радовался старик, ладно все у них складывалось. Фрол осенью решил сватать Ульяну, по первому снегу сыграть свадьбу да первенца зачать. О том старцу сказал и одобрение получил.
Серафим ждал возвращения Фрола, девушка, что им в тайге найдена была, Анюта, поправлялась, но в себя не приходила. Дышала ровно, и раны, что на теле были, тонкой кожицей затянулись, но спала непробудно бредовым сном и во сне кричала часто. Отпаивал ее старец травами, молитвы читал, успокаивалась на время и снова будила всех криком и стонами. То душа ее в межнебесье бьется. То ли жить на земле, то ли нет — решить не может. А причина сердечная — любовь. Это только при здравом уме человек без любви жить может, а в бессознании — нет, там божественные законы правят. Без любви жизни нет. Потому и выбор в таком состоянии не от человеческого ума зависит, а от божественного провидения и веры. Что целесообразнее для мира — душе на земле без любви маяться или лучше покинуть ее, раз не нашлась любовь, не нашлась вторая половинка, судьбой предписанная? Если веры нет, надежды нет — уйдет душа. Вот так на тонкой ниточке и висит жизнь в этой девушке, и помочь ей можно, только веру укрепив да надежду подарив, и сделать это сумеет только тот, кого ее душа выбрала, только того она в бессознании своем почувствует и услышит, боле ей никто не поможет, никто. Понимал это старец Серафим и ждал Фрола, только Фрол мог найти и привести Федора. А уж от того зависело все остальное. Поверит ему душа ее, в отчаянии одиночества пребывающая, это уже от силы его любви зависит. Поверит душа — очнется Анюта, проснется в ней жизнь и встанет она. Не поверит — отлетит в миры иные, и тогда хоронить придется тело, молодое, красивое, но без жизни, никому не нужное. Как ни хотелось старому Серафиму закрывать глаза столь юной девушки, а видно, придется. Второй день как отказалась она от питья, таять стала, как снег весенний. Кабы знал об этом Федор, кабы знал!
А Федор в это время знал только одно — как бы уйти, следов не оставив. Как зверь затравленный обходит охотников, облавой идущих, всякую хитрость используя, так и Федор с Семеном, переправившись, сразу ушли в тайгу. Темноту ночную пересидев, по рассвету шагнули в чащу и уж боле на вид и не показались. Нет ходу по дорогам таежным беглецу, только тропой, а еще лучше — вовсе без тропы, звериным переходом идти. Однако эти переходы знать надо, иначе закружит тайга, обессилит и навсегда заберет в просторы свои неизмеримые.
Ночью в тайге тоже ходу нет, темнота такая, что свою руку перед лицом не видишь, а идти как? Ветви, корни, камни… Любая царапина или рана в тайге может жизни стоить. И огонь не зажжешь, тайга тысячи глаз имеет и ушей тысячи, не просто в ней найти человека, но и скрыться тоже нелегко. Особенно от опытного таежника, каким Фрол по всей Ангаре слыл. Узнав о том, что в розыске Федор, да еще и не один он, Фрол так рассудил. Северная тайга многолюдна нынче, старатели, приисковики, смотрители от власти государевой да подручные Никифорова — незамеченным трудно пройти, да и куда идти? В северной тайге потеряться можно, а затеряться нельзя. Людей много, да все приметные. Северная тайга опасна для пришлых, тем паче стала опасна для местных. Война тихая, но беспощадная продолжалась. Кто-то золото мыл, кто-то его отнимал. Там и поиск легче вести, трудно пройти незаметно, еще труднее жить незаметно в краях золотоносных. Фрол, конечно, по себе судил, но и предполагал, что Федор умный парень. Так что, кроме как на Тесей уходить, нет им другого пути. Значит, через реку должны были переправиться. Да в месте безлюдном пристать, а раз так, след Фрол найти сможет. Нетревоженная тайга след всегда кажет. Сутки, медленно и тщательно осматривая берег, шел Фрол лодкой вдоль Ангары и нашел-таки место, где Федор с Семеном высадились. Опытный глаз его заметил и камыш примятый, и куст ветлы береговой с ветвями надломленными, видно цеплялись, лодку подтаскивая. На берегу, того проще, явно следы двоих, не мешкая в тайгу ушедших. Даже не покурили. Остальное для него уже было легко. Посмотрел он тот переход, которым беглецы через тайгу междуреченскую пошли, и ушел спокойно водой в Тесей-реку, зная уже, где и когда встретить Федора на выходе. И все так бы и произошло, если бы не одна вещь, которая изменила и маршрут Федора, и жизнь его.
Весь следующий день после переправы Федор и Семен шли, останавливаясь только на небольшие привалы у ручьев. И снова в путь. К вечеру вошли в чистый сосновый бор. Черничные полосы и околки с таежным разнотравьем сменились мхами. Мхи же, сплошным ковром покрывавшие землю, были просто усыпаны грибами. Маслята, лисички, сыроежки, обабки, красноголовики росли беспорядочно и везде. Среди этого изобилия, небольшими группами и поодиночке, слегка прикрывая коричневыми бархатными шляпами упитанные толстые ноги, стояли белые грибы.
— Вот это да! Смотри, Федор, да тут рай грибной! — оборачиваясь во все стороны, восторженно прошептал Семен.
— Да, хоть косой коси, только собирать некому. Кто сюда пойдет, в даль такую…
— Красота… Вечереет, может, ночуем здесь?
— Можно, место хорошее, — оглядевшись, кивнул Федор и сбросил с плеч мешок. — Так что, сварганим жареху?
— Сварганим!
Скоро над небольшим костерком потянуло манящим запахом жареных грибов. Насаженные на очищенные от коры веточки рябины, молодые белые грибы, покрываясь нежной корочкой, шипели соком, выступающим и пузырящимся из-под нее и кипящим от палящего жара углей внутри. Щепотка соли — и прямо с веточки, чуть остудив, в рот. Вкус и аромат этого тающего во рту таежного угощения не сравним ни с чем. Жаль, впрок не заготовишь! Сытые и довольные, Семен и Федор, быстро соорудив шалаш, готовились к ночлегу. Дымовуха, которой приходилось обороняться от наседавших к вечеру комаров, в конце концов победила, и полчища летающих вампиров куда-то исчезли. Ветер окончательно стих, потерявшись где-то в сопках. Небо вызвездило и подмигивало Федору сквозь замершие кроны сосен Они сидели у чуть тлевшего костра и молчали. В темноте резко закричала какая-то птаха. Федор вздрогнул от неожиданности.
— Не боись, казак, — нарушил молчание Семен, приобняв Федора за плечи.
— А я и не боюсь. С чего, дядь Семен, ты взял?
— А чего вздрогнул?
— Задумался просто…
— О чем думы думаешь?
— Про Анюту думаю, — после некоторой паузы серьезно ответил Федор и внимательно посмотрел в глаза старателя. Не мелькнет ли там усмешка иль шутка какая? Нет, Семен внимательно слушал Федора. — Думаю, что на самом деле с ней приключилось? Почему они считают, что со мной она?
— Потому как пропала.
— Если пропала, почему она должна быть со мной? И вообще, как это она пропала? Заблудилась, что ль, в тайге? Не может того быть. Ерунда какая-то.
— Ты же сам говорил, в Кулаковой деревне была и пропала там в тайге.
— Да это не я так говорил, это так люди говорят, а мне мать о том сказала. А что на самом деле-то было? Как про то узнать?
— Не знаю, Федор, разве что в Кулаковой деревне у тех, с кем она жила-была, расспросить. Только, сам знаешь, в розыске ты, опасно это.
— Я в розыске, меня ищут, а искать-то Анюту надо! Выходит, она в беде, а все думают, что со мной она, а значит, в безопасности, потому и не ищут ее. Понимаешь, дядя Семен, получается так, что, пока я бегать буду, ее и искать-то не станут!
— Нет, то не так, пока к зимовью шли, Силантий мне говорил, что всей деревней кулаковцы ее искали, как сквозь землю провалилась, потому и решили, что это твоих рук дело.
— Вот то-то и оно, но она-то не со мной! Значит, в беде!
— Однако прав ты, парень, идти надо в ту деревню, вызнать все, а уж потом решим, куда дальше податься, там уже и до Енисея рукой подать.
— Значит, завтра, дядя Семен, пойдем туда, на заход солнца, до Тесея.
— То знакомая дорога, только у нас своя, с Лексеем покойным, тропа была, по ней и двинемся. Как только через Тесей переправляться будем? — нахмурился Семен и тут же ответил сам себе: — Плот придется строить…
— Топоры есть, построим… А Сила-то нас на дырявых скалах искать будет… Ладно, ничё. Нам главное про Анюту узнать, а там вернемся на скалы или к староверам уйдем до времени, — продолжал рассуждать вслух Федор.
— Хорошо, хорошо, утро вечера мудреней, спать давай, — укладываясь в шалаше, скомандовал Семен. — Эх, когда я в последний раз на перинах спал, что-то уж и не припомню, — подбивая в шалаше под себя мох, шутливо ворчал Семен.
— Вот закончатся наши скитания…
— Ох, не скоро они, Федор, закончатся…
— Все одно закончатся…
— Ладно, спи уже, конечно закончатся, все когда-то кончается… и жизнь тоже.
— Кто про то знает, дядя Семен.
— Про что?
— А про то, что жизнь кончается.
— Дак все знают, вот Лексей помер, и жизнь его на том закончилась.
— У меня тоже отец в тайге погиб, а приходит во сне. Улыбается, по голове гладит. Слова добрые мне говорит, а мне сказать не дает: не перебивай, говорит, отца. Я его руки хорошо помню и чувствую прямо. Проснусь, страшновато, но все одно хорошо. Матери про это не говорил, a тебе говорю, потому как думаю, что смертью не все кончается.
— Может, и не все, память о добром человеке долго живет. Но человека-то нет, не вернешь его, не поговоришь, вот разве что во сне привидится.
— А мне кажется, помогает мне отец. Видит он все и помогает оттуда.
— Откуда?
— Из рая.
— Думаешь, он там?
— Конечно там! Знаешь, какой у меня отец был? — Федор аж сел, готовый рассказывать про своего отца Семену.
— Ладно, чего ты, конечно, он в раю. — Семен взял Федора за руку. — Все, Федор, завтра чуть свет идти надо, спим.
Федор послушно лег и долго молчал. Конечно, его отец в раю, он же самый лучший был, только вот не помнил его Федор почти. Только руки и помнил, добрые и горячие. И еще улыбку в русой бороде…
Ночь. Великое таинство для всего живого. Все погружается в сон. И люди, и деревья, и сама жизнь приостанавливает свое движение во времени. Она как бы замирает в нем, а время между тем летит себе в вечность, очищаясь от всей той скверны, которую произвели мыслями своими и делами те, кто в нем живет, и возвращается обратно чистым и бесконечно емким для всего и каждого. Закрыл человек глаза и, кажется, тут же открыл, а времени пролетело сколько… кабы не сон, его же прожить как-то надо было бы. А так — милое дело, и время прошло, и голова свежа для мыслей новых. А усталости как и не было.
«Хорошо жить на белом свете» — с такой мыслью проснулся Федор, сквозь приоткрытые веки глаз наблюдая, как Семен нанизывает на ветки свежие грибы. Костер уже шипел и похрустывал поглощаемым пламенем сушняком. Прозрачный дымок стелился над землей, смешиваясь с медвяным запахом трав, и растворялся в туманной утренней испарине, что исходила от влажного от росы мха и могучих стволов сосен.
— Ага, проснулся, давай к костру, — позвал Семен.
— Не, я еще сплю! — улыбаясь, отозвался Федор.
К полудню они подошли к реке, Тесей шумел, рябил барашками волн, не обещая ничего хорошего тому, кто осмелится в него войти. Не такой широкий, как Ангара, этот таежный поток был не менее коварен.
«Придется ждать погоды, при таком встречном ветре не угребешь», — думал Федор, глядя на близкий, но недосягаемый противоположный берег.
— Пока плот построим, может, утихнет, — как будто услышав его мысли, сказал Семен, устало опускаясь на камень.
— Может, пока по берегу пройдем дальше? Присмотрим, с чего плот сподручнее сделать.
— Мы здесь с Лексеем всегда привал делали, отдыхали. Отдохнем малость и пойдем, что-то устал я.
— Хорошо, посиди, дядя Семен, я сейчас посмотрю вдоль берега, может, что и тут есть.
Три хороших сушины, годные для плота, были совсем недалеко, видно, притащило льдами весной и выбросило под самую кромку обрыва за кусты. С воды не видать, иначе их давно бы прибрали. Обрадованный находкой, Федор повернул было назад, но что-то потянуло его пройти еще немного берегом. Едва заметная тропка уходила с узкого в этом месте припая вверх, в тайгу, и Федор решил посмотреть, что там. Еще две-три сушины не помешали бы, да еловые шесты для плота были нужны. Поднимаясь по небольшому, но крутому подъему, приходилось руками помогать себе, хватаясь за кустики и крепкие, как веревка, сплетения таежного хмеля. Ладанка, висевшая на шее Федора, выскользнула из-под рубахи наружу. Он машинально взял ее, чтобы отправить на место, и вдруг ему показалось, что-то шевельнулось под его пальцами. От неожиданности он остановился и, развернувшись, сел прямо на тропе. Он поднес к своим глазам кулак с зажатой в нем ладанкой и осторожно разжал его. Ладанка, лежавшая в его ладони, светилась… нет, она играла своими гранями и как бы лучилась. Федор завороженно смотрел на это переливающееся золотыми узорами волшебство. Вот она, ящерка! Она сверкала и шевелилась на пластинке, Федор не верил своим глазам! Он стал медленно съезжать по тропе вниз, чтобы скорее добежать до Семена и показать ему ладанку. Но, как только он спустился вниз, ладанка погасла и превратилась в простую пластинку ребристого металла. Он остановился и вновь стал подниматься вверх по тропе, уже не сводя глаз с ладанки. Вот она блеснула, вот появилось сияние, вот она снова заиграла гранями, вот появилось в ней движение. Да, ящерка шевелилась. Она, извиваясь на пластине, крутила длинным хвостом и поворачивала маленькую голову. Она сверкала чешуйками своего зеленовато-золотистого тела! Она шевелилась, пока Федор шел, и замирала, когда он останавливался. Поднявшаяся на берег тропка никуда не вела, а сразу терялась в таежной чащобе. Федор остановился в нерешительности.
Посмотрел по сторонам: высокая, выше пояса, трава скрывала все и переходила в береговой подлесок.
«Эх, по этой кромке бы с косой, славное сено пропадает», — мелькнула мысль.
Куда же эта тропка проложена была? Федор посмотрел на ладанку. Ящерка, все так же сияя чешуйками, замерла. Она как бы ждала чего-то от Федора, и Федор понял. Он, глядя на нее, шагнул прямо, и ящерка, воссияв лучиками, стала плавно извиваться. Он остановился, замерла и она. Он шагнул в сторону, и она осталась неподвижной. Сделал еще несколько шагов — она не двигалась. Пошел в другую сторону, убедился, что ящерка не шевелится. Федор вернулся назад и снова шагнул, как в первый раз, в сторону покореженной молнией старой сосны. Ящерка ожила.
«Понял! Я все понял, она так кажет путь, куда идти! — ликовала душа Федора. — Только куда она ведет?! Ясно куда — к золоту! Нужно идти и найти это золото, пока ящерка кажет дорогу. Нет, надо вернуться, дядя Семен ждет, неизвестно куда она заведет, вдвоем надо идти».
Федор бегом побежал обратно. Он буквально скатился по тропке и, желая быстрее поделиться со своим другом радостью, припустил по берегу. Только когда уже выскочил из кустов, увидел, что Семен на берегу не один. Длинная долбленка, разрезав прибрежный камыш, воткнулась в берег и была надежно приторочена к коряге. У камня, рядом с Семеном, оперевшись на длинноствольную шомполку, стоял высокого роста мужик. Он был спиной к Федору и не видел его. Федор замедлил бег и остановился, медленно наклоняясь к береговым камням и выискивая глазами что-нибудь поувесистей. Но в это время мужик, обернувшись, добродушно сказал:
— Вот, чего говорить, и впрямь он разбойник, уже норовит мне голову камнем снести, — и усмехнувшись, продолжил вопросом: — Федор Кулаков ты будешь?
Федор непонимающе поглядел на Семена. Семен спокойно сидел на камне и тоже улыбался как ни в чем не бывало. Увидев вопрос на озабоченном лице Федора, он махнул призывно рукой:
— Айда сюда, Федор, этот человек с добром пришел.
Федор подошел.
Фрол, отставив в сторону птомполку, протянул руку:
— Ну, здорово, казак, меня Фролом зовут. А ты у нас личность теперь по всей реке известная.
— Федор, Кулаков сын. — Федор пожал огромную ладонь охотника.
— Ага, я так и понял, ты и есть убивец и похититель девок из семейств добропорядочных. А я вас завтра ждал и не здесь, а выше. Хорошо, заметил, а то бы промашка вышла, где бы я вас тогда искал…
— А чего ты нас искал, дядя?
— А тебя, парень, все ищут. И никифоровские подручные, и государевы люди, но нужен ты, по-настоящему, только в одном месте и человеку одному, вот от него я и пришел за тобой.
— Это кому я нужен и что значит «по-настоящему»?
— По-настоящему нужен — это значит, что только ты можешь помочь этому человеку, и никто другой.
— Нам бы кто помог. Кому же это моя помощь понадобилась?
— А ты сам не догадываешься?
Федор, не веря своей догадке: «Анюта!» — медленно произнес:
— Неужто Анюта?
— Она, Федор, молодец, догадался.
— Где она, что с ней?
— В скиту тайном, у старца. Отсель день ходу. Плоха она совсем, разбилась сильно, с кедра сорвалась, вот так. Старец велел тебе, если хочешь, чтоб жива она осталась, не медля быть. Я за тобой и послан был с этим.
Федор не верил своим ушам. Надо же, Анюта нашлась, пусть больна, пусть, но жива и ждет его! Это было самое главное. Еле сдерживаясь, чтобы не кинуться обнимать этого здоровенного, благодушно улыбавшегося ему мужика, Федор смотрел то на Семена, то на Фрола, как бы спрашивая: «И чего мы здесь стоим? Она же ждет! Идти надо!»
— Правильно, — согласился с ним Семен и, встав с камня, сказал: — Веди уже, Фрол, а то он из портов сейчас выпрыгнет.
— Что ж, тогда прошу в лодку, так оно быстрее будет. Токо ноги отряхните! Поклажи-то много? В корму давайте, и ты, Семен, тоже, а ты, Федор, полегче, садись в нос. Пока вниз, а потом против течения пойдем. Ну, с Богом! — И Фрол оттолкнулся от берега.
Лодка, несмотря на то что в ней трое мужиков, почти не просела в воде. Фрол, казалось, играючи загребал, и она шла, ровно и резво разрезая речную волну. Несмотря на ветер, только легкие брызги иногда долетали до Федора, но ему было все равно. Его душа уже неслась, опережая его самого, куда-то вдаль, к такой дорогой ему Анютке.
— Федор, смотри вперед, ежели кто встречь, надо раньше усмотреть, укроемся. Догнать меня по реке никто не сможет, но то, что вы со мной, знать тоже никому не надо.
— Хорошо, смотрю.
Только сейчас, когда они уже ходко спускались по реке, Федор вспомнил про ладанку, про то, как вела она его. Он просто не успел поделиться этим с Семеном, и теперь тоже не мог, между ними сидел, управляясь с лодкой, Фрол. Федор сунул руку за пазуху и нащупал ладанку. Он погладил ее пальцами, и ему показалось, что шевельнулось что-то на ее поверхности.
Она живая, волшебная! Она ответила на его ласку! Он улыбнулся, надо же так, столько разных бед навалилось, а тут душа поет от счастья. Чего ей, душе, для счастья-то надо? Кто ответит? Мужик, прошлый год по весне по талому уж льду провалился, да успел выскочить чудом, на весь берег орал, что он самый счастливый на свете. И в чем то его счастье было? В том, что на корм рыбам не пошел? Или в том, что, последнее потеряв — поклажа с добром утопла, — жив остался? Может, уже в том, что живет человек, и есть счастье для него? Вот же, калика под храмом который год сидит, милостыню просит и всегда улыбка на чумазом лице, весь в грязи, а глаза веселые — ему милостыньку бросают, а он говорит: «Счастья вам!» Выходит, он своим счастьем со всеми делится. Может, потому и нищ, что всем свое счастье отдает, а может, и не в том счастье, что от злата карманы рвутся? А тот нищий, получается, богаче счастием своим того богатея, что монетку ему бросил. Федор до боли в глазах вглядывался в рябящую волнами даль по реке. Не нужна им встреча с людьми, нельзя человека подводить, никак нельзя. Миновав стрелку, там, где Тесей с Ангарой сходятся, Фрол прижался ближе к берегу. Вдали на реке стали видны лодки — Кулакова деревня была не так далеко. Оставив острова правее, вскоре они вошли в бурное русло одного из притоков. Фрол, на минуту причалив, вытащил из кустов длинные и отшлифованные до гладкости шесты.
— Держи, — протянул он шест Федору, — пойдем о двух шестах, здесь течение сильное.
Через час мокрая рубаха Федора прилипала к телу, комары не давали дышать, то и дело попадая в рот или в глаза отчаянно толкающих лодку Федора и Фрола.
— Давай к берегу, вон туда, там ветерок, — скомандовал Фрол, и они дружно направили лодку в небольшую лагуну.
Семен, намотавший на голову тряпья от комаров, высунулся, поглядел вокруг и спросил:
— Что, братцы, приехали?
— Нет, Семен, только ехать собрались, — отшутился Фрол.
Федор уже выпрыгнул на берег:
— Пересидеть полуденный жар надо. Ох, эх! Да тут съедят кровососы…
— Федор, давай дымовуху варгань.
— Хорошо. Вот здесь, на солнышке, на ветродуе. Интересно, почему комары больше в тени нападают?
— А они бесовы дети, потому солнышка и не любят.
— Нешто столько у беса детей — тьма!
— Вот именно тьма, только жизнь у них мгновение, по сравненью с любой тварью божией, — прихлопнув несколько насекомых разом на своем лбу, ответил Семен.
— Пали, дядя Семен, сейчас они у нас дымку нюхнут!
— Заодно и перекусим, — развязывая свой мешок, сказал Фрол, — по такой воде тяжело подниматься будет. Подкрепиться надо. Угощайтесь, чем Бог послал.
Фрол вытащил полкаравая хлеба, пироги с капустой и крынку с молоком.
— Ты тоже не побрезгуй. — Семен выложил из мешка вяленую медвежатину и несколько луковиц.
— Благословите, боги родные, пищу сию, воздайте всем труд свой и любовь в нее вложившим любовью и благостью своей, — перекрестив пищу, произнес Фрол.
— Какая-то странная молитва у тебя, Фрол?
— Не странная, а старинная.
— По-староверчески, что ль? — откусывая от пирога с капустой, спросил Федор.
— Нет, то по нашей, древней вере, по родной.
— Это по какой такой родной? Разве христианская вера нам не родная? — проговорил с опаской Семен.
— Так как она может родная быть, когда введена была на Руси токо при князе Владимире, а до того что, в безверии народ жил?
— Интересно, как же он тогда жил, наш народ, без Христа-то?
— То старца спросите, он знает, а мне просто она, родная вера, по душе пришлась.
— Так это как же, Фрол, ты что ж, не крещеный, что ли, на басурманина вроде не похож и не старовер, говоришь? — серьезно спросил Семен.
— Да крещеный я, во, на, смотри, крест на теле, только ближе мне вера древняя, а то, что меня в младенческом возрасте в христианскую православную веру обратили, то не беда, — спокойно пояснил Фрол.
— Выходит, ты, Фрол, язычник, — сделал заключение старатель.
— Может, и язычник, а что в этом плохого? Мне ведь по храмам да церквям ходит некогда, на коленях не привык ползать, попам руку целовать шея не гнется. А тут боги всегда со мной, вот они, на этой поляне с нами сидят, слушают наши споры и хмурятся.
Федор при этих словах прямо с куском пирога во рту огляделся кругом, проглотив, спросил:
— Чё это они хмурятся?
— А то и хмурятся, что забыли мы историю рода своего.
— А ты что, Фрол, про это знаешь? — не унимался Семен.
— Не, я пока еще не знаю, но знаю того, кто знает.
— Я тоже узнать хочу.
— Вот придем к старцу Серафиму, Федор, его и попросишь рассказать.
— Слышал я еще на Урал-камне про такого старца. Так это у него Федысина Анюта?
— У него.
— Федор, помнишь, мы про счастье человечье говорили?
— Помню.
— Так вот, покойный Лексей мечтал с этим старцем свидеться, да не смог. Он прямо так и говорил: эх, великое счастие для него было бы Серафима-отшельника повидать, сказки его послушать. А нам оно само пришло, во как бывает!
— Сказки — ведь это же то, что придумано, ну там про Кощея Бессмертного, не вправду же это?
— Ага, Федь, не вправду, особо про царицу горы… точно враки, — многозначительно сказал Семен.
Федор чуть не подавился, быстро взглянул на ухмылявшегося Семена. Да уж враки, а как же ладанка? Семен еще не знает, что на берегу было!
— Вкуснотища! Спасибо! Соскучился по домашней стряпне, — поблагодарил Федор охотника, красноречиво посмотрев на Семена.
Фрол, закончив с едой, сполоснул руки в реке и, поднявшись к костру, спросил:
— Чем это ты, Федор, таких врагов себе нажил?
— Это ты про что, дядя Фрол?
— Да про то, что тебя как убийцу ищут.
— Не убивал я никого.
— И про то я знаю, только это мало кому известно, а перед всем миром ты убивцем теперь значишься.
— А откуда тебе знать, что я не убивал?
— Люди добрые о том сказали, тоже тебя ищут.
— Для чего?
— Нужен ты им, чтобы кривду, на тебя возведенную, низвергнуть, чтобы правда наружу вышла и виновники истинные перед миром предстали. В этом их интерес к тебе. Так ты не ответил. Отчего на тебе напасти эти?
— Если честно — не знаю, но догадываюсь. — Федор серьезно поглядел в глаза охотнику и замолчал, дав понять, что больше об этом ничего не скажет.
Фрол повернулся к Семену, тот тоже отвел взгляд. Тишина повисла у костра как-то неловко, неказисто прервав дружеский разговор. Фрол прошелся вокруг костра. Почесал пятерней бороду и, мотнув головой, заключил:
— Вот-вот, и я думаю, не из-за девки это. Что ж, ладно, вижу, нс мос это дело, отдохнули малость, пора и в путь.
— Фрол, ты что, обиделся?
— Зачем, нужда будет, расскажете, поехали, путь еще долгий.
К позднему вечеру, после изнурительного прохода по длинной, петлястой, порожистой и мелкой речке, больше похожей на протоку в болоте, они наконец причалили. На поданный Фролом сигнал к берегу вышла молодая девушка с масляной лампадой. Подняв ее к лицу, она осветила себя.
— Здравствуйте. Я и не спала, знала, что ты придешь, — приветливо сказала она Фролу.
— Принимай гостей, Ульяна, Федора со товарищем его привез, как отец Серафим просил.
— Вот и хорошо, старец весь вечер выходил на берег, тоже тебя поджидал, только недавно лег отдыхать.
— Как Анютка-то? — не удержался, спросил Федор, забыв даже поздороваться.
— Ты, что ли, Федор будешь?
— Здравствуйте, я Федор и есть.
— А я Ульяна. Спит твоя красавица. Вчера вечером впервой глаза твоя Анютка открыла. Считай, две седмицы[6] спала непробудно. Старец опасался, что уже не очнется, а вчера вечером вдруг встрепенулась, как птица, и глаза открыла.
— Вчера вечером?
— Да.
— Мы вчерась вечером как раз о ней и говорили, — подал голос Семен.
— Да, вчера и решили искать ее, — подтвердил Федор.
— Вот, сынок, оказывается, как мало надо. Услышала ее душа еще одно только желание твое и пробудилась девка ото сна. Надежда, тобой питанная. открыла глаза ей. Надеждой жива она, ничем иным, — раздался из темноты голос, это подошел старец Серафим. Выйдя к свету, поклонился старец гостям: — Здравствуйте, добрые люди.
— И тебе желаем здравия, — ответил за всех Семен, низко склонив голову.
— Кто Федор-то будет?
Федор вышел вперед и поклонился старцу.
— Ага, молодец. Хорошо. Ты нужен. Поговорить мне с тобой надо, присядем.
Ульяна тем временем повела всех в зимовье, светившееся открытой дверью, оставив лампаду старцу.
Они присели на камень, и в мягком, чуть колеблющемся свете Федор увидел лицо старика. Строгое, с высоким, изрезанным морщинами лбом, длинным, чуть с горбинкой носом и тонкими губами. Белые волосы, убранные тесьмой ото лба, ниспадали ему на плечи и смешивались с седой бородой. Цепкий, пытливый, с прищуром взгляд серых глаз изучал Федора и, казалось, проникал в его душу.
— Вот что, Федор. Слышал я о тебе много разных разностей, но думаю только один тебе вопрос задать, прежде чем в обитель свою пущу.
— Задавайте, дедушка, все скажу как есть, правду.
— Сколь приданым хочешь взять за Анюту с отца ее? Золотом иль в долю к нему пойдешь?
Федор не ожидал такого вопроса и долго молчал. Ему и в голову не приходили такие мысли. Конечно, любая невеста с приданым замуж идет, только от семейного достатка размер того приданого зависел. Но и подарки жениха родителям невесты тоже были весомые, вон Николай Ипатьев на свадьбе тестю коня подарил да сколь мехов теще, и что с того, что семья невесты не из богатеев. Рази в том дело?
— Что задумался, Федор? Отвечай, коль обещал по правде.
— Дак не думал я ране о том…
— Жениться на Анюте не думал?
— Не, о том мы сговорились, только отец ее против, како там приданое? Об том и не думали.
— А о чем думали?
Федор опустил голову, помолчал, потом посмотрел прямо в глаза старцу и сказал:
— Любо нам вместе, семьей своей жить хотим, детишек хотим. О другом не помышляли, руки, ноги есть и без добра никифоровского проживем, только бы Анюта здорова была.
Серафим довольно улыбнулся и взъерошил вихры на голове Федора.
— Ну, ежели мысли у вас такие светлые, то дело на поправку пойдет скоро.
— Что с ней?
— Теперь уже хорошо, страшное для тебя позади осталось. Пошли в избу, там, поди, Ульянка гостей потчует, а мы тут с тобой. Пошли, сынок.
Действительно, в широкой горнице Ульяна накрывала стол. Соленые рыжики и грузди, в берестяных туесах постным маслом да укропом сдобренные, к отварной картошке — праздничный ужин. Туески с брусникой, черникой, клюквой, жимолостью, еще с какой-то неведомой даже Федору ягодой теснились, притягивая тонким запахом тайги и свежестью. Да самовар уже пыхтел, накапливая свою силу в воде родниковой, что бурлила в нем и рвалась наружу в чашки с ароматной мятой и зверобоем. В большой берестяной чаше выставлен был мед, темный, диких пчел редкий дар.
Семен вытащил из мешка вяленое мясо и предложил, но Ульяна не взяла, улыбнувшись, просто сказала:
— Спасибо, не принято у нас.
Федор, усаженный рядом с Семеном по один край стола, с нетерпением ждал, когда старец, омыв руки, присоединился и сел за стол. Семен успел толкнуть Федора в бок и показал глазами на красный угол — там не было никаких икон! Федор понимающе кивнул и посмотрел на Фрола.
Фрол, все это время молча наблюдавший за каждым движением Ульяны, огладил бороду и повернулся к отцу Серафиму.
— Ну что, друзья мои, возблагодарим богов своих родных за пищу нам дарованную, трудами праведными добытую, пусть наполнит она наше тело светлыми силами добра и любви ко всему на этой земле.
Как-то действительно светлее стало в горнице после этих простых слов старца или это только показалось Федору, но легкое и доброе настроение поселилось за столом и весь ужин не покидало их.
— Какой уж тут аппетит, ничё в горло не лезет! — сокрушался поручик Белоцветов, лежа в постели, лениво отталкивая рукой блюдо с осетриной.
Роскошных форм женщина, небрежно прикрытые прелести которой так и высвечивались при каждом ее движении, сидя на подушке у изголовья, настойчиво пыталась прямо из рук кормить поручика. Жирные куски она аккуратно брала двумя пальчиками и подносила к устам поручика, причем совершала при этом такие движения своим ртом, обнажая белоснежные и ровнешенькие, как зернышки из кедровых орешков, зубки, что хочешь не хочешь, а открывай рот. Другая рука при этом держала кружевную салфетку — не дай бог капля жира упадет на благородную щеку иль грудь мужчины. А уж какие слова при этом произносил ее ротик и как выразительно закатывались от умиления глаза… Поручик был просто пленен. Он уже не мог оказывать сопротивления и в который раз заказал шампанское.
— Во гуляет начальство, с утра третья бутыль французского, — перешептывались служки в заезжей избе, где жил Белоцветов.
— Чё ты хошь, сама Уварова с ним, от стервь баба, свое николь не упустит!
— Ну и что ты ее стервишь, хорошая баба, нам завсегда на чарку-другую подает, не то что другие!
— Да я, это, ничё, токо сука, говорю!
— Ну, то понятно, сука, но породистая, не шала-шовка какая, а и все одно хороша баба…
Пелагея действительно была очень красивой женщиной и статью своей и лицом взяла все от природы да родителей своих. Чернобровая красавица с длинной толстой косой и большими серыми глазами не одного парня свела с ума в свое время, а замуж вышла за хромого Парфена Уварова, солдата суворовского, с войны турецкой по ранению вернувшегося. Год прожили в новом доме, что Парфену всей деревней рубили перед свадьбой, но детей не нажили. А на следующий год он возьми да помри. Не знает никто, что за лихоманка на него напала, а вся деревня решила, что не управлялся с ней по мужескому делу Парфен, вот она его и свела со свету. Невзлюбили ее бабы-то деревенские с первого же дня, как привез ее Парфен, не было такой красы на деревне, а теперь и подавно взвыла деревня. Вдовая баба всем мужикам лакома, да тут еще такая краля! Взъелись, проходу не давали, вместо того чтоб в беде помочь. А она действительно любила того Парфена первой девичьей любовью и горе свое от людей спрятала, перестала вообще на люди выходить, а через год продала дом, скотину и уехала, никому не сказав куда. В свою деревню, думали, ан нет, в Красноярск она уехала, к родне своей дальней. Десять лет минуло с тех пор, и вот появилась вновь на Ангаре реке Пелагея Уварова, но уже городская барышня. В селе Рыбном ее и не признали сразу, а родня в селе Мотыгинском, прознав про занятия ее, и признавать отказалась. Захлопнула тетка родная дверь перед Пелагеей и не пустила в дом, ни здрасте, ни до свидания, хотя только по слухам и знала о ней. Плюнула на порог Пелагея, не было родни и не надо и вернулась в Рыбное, да загуляла со старательской артели вожаком, теперь его императором тайги кличут. С ним и умчалась в розвальнях, и еще пару лет никто ее не видел и не слышал о ней. Объявилась недавно, как раз по приезде начальства в село. В храм пришла.
Там и зацепилась глазом за бравого поручика. Форма военная, грудь его с крестом и усы боевые, вверх закрученные, видно, шевельнули в душе ее память прежней любви, и потеряла она голову. Сама подошла к поручику и представилась, чем смутила и одновременно покорила его. Белоцветов был не робкого десятка и в отношениях с женщинами всегда выбирал атаку, а тут был атакован сам, да такой красотой и коварством, что сдался в первый же вечер. Когда же выяснилось, что поручик еще и холост, Пелагея преобразилась и вела себя так, что Белоцветов вдруг ощутил, что ее присутствие рядом с ним ему просто необходимо, и не только для «антуражу» — красивая женщина рядом всегда возвышает ее избранника, но и для души. Он не мог объяснить этого, но эта простая по происхождению женщина подчиняла его себе! Он, боевой офицер знатного дворянского рода, выполнял прихоти этой солдатской вдовы, причем делал это с высочайшим удовольствием для себя! Ответ был прост, и наверняка поручик его знал, но не хотел признаваться в этом даже себе. Впервые он чувствовал себя безо всякой лжи и преувеличения желанным мужчиной! Он видел это в каждом ее движении, в каждом вздохе, в каждом взгляде. И это оказалось самым важным. И все другие обстоятельства этой жизни отступили на ыорой план, как никому, ему — уж точно, не нужные условности. Он еще этого, может, и не понимал, но уже был влюблен в эту женщину. Он впустил ее в свою жизнь, даже не предполагая, что отпустить назад не сможет, и когда такой момент должен был произойти и Пелагея засобиралась в Красноярск, он попросил ее остаться. Он и не подозревал, что некуда было ей ехать. Но, наверное, некое подсознательное чутье говорило ему: отпустишь — не вернешь. Так бы оно и случилось, потому как страсть захватила всецело и Пелагею, она не знала, как ей быть дальше, положение любовницы больше ее не устраивало, оно губило ее мечты, и не удержи ее поручик, она исчезла бы из его жизни, а затем где-нибудь заживляла раны несчастной любви. Но он остановил ее, и это решило все окончательно и бесповоротно.
Пелагея, сделав глоток шампанского, долго, неотрывно смотрела на спящего Белоцветова. После нежных ласк он всегда засыпал как ребенок, раскинувшись в постели. Он был беззащитен и красив в своей наготе. Она осторожно поправила упавший ему на глаза завиток волос, поручик чуть шевельнул рукой, но не проснулся. Впервые вот так спокойно она могла рассмотреть его тело. Шрамы покрывали грудь поручика вдоль и поперек. «Божечки! За что же тебя так?» — прошептали губы Пелагеи, и она стала осторожно, едва касаясь, целовать эти рубцы. Белоцветов крепко спал, шампанское и бурная ночь напрочь лишили его ощущений, даже если бы стреляли из пистоля над его кроватью, он бы не проснулся. Но главное, там, в глубине его ума, его сознания, в сердце, уже жил образ женщины, которая берегла его сон. Ее касания не могли его разбудить, поскольку воспринимались им как подтверждения полной безопасности и покоя. Ею стала та, которая провела рядом с ним всего несколько дней, но эти дни были заполнены жизнью до предела. Той жизнью, о которой он втайне мечтал, мечтал с тех пор, как стал мужчиной.
А мужчиной он стал рано. Причиной тому событию было неуемное его любопытство и смелость. В отроческие годы, в имении своих родителей, среди всех сверстников он выделялся ростом и какой-то ранней взрослостью. Еще только пробиваться стали усики на его лице, а уже замечал он внимание к себе девушек. Причем заглядывались на него девицы уже спелые, не праздное любопытство было в их взглядах, чутье женское угадывало, видно, в этом пареньке будущего сильного мужчину. Волновало его их внимание, тревожило, неясной тягой и особым трепетом охватывая, когда осязал он на себе эти взгляды. Сам, тайком, ощупывал пытливым взором все выпуклости их, одеяниями тщательно подчеркнутые. Когда же он впервые увидел нагое тело, взыграла в нем мужская натура, остервенело и абсолютно безумно. Как завеса опустилась на разум, подчинив его одному только желанию познать что-то неведомое, но притягивающее, дурманящее и сладостное уже заранее. Случилось это на день Купалы, в дальней деревне на Смоленщине, куда он увязался с отцом, объезжавшим свои земли. Праздник в деревне был в самом разгаре, когда они приехали в дом старосты. Отец с Капитонычем, так звали приказчика, занялись делами, а он, предоставленный самому себе, смешался с деревенской молодежью, водившей хороводы на берегу Угры. Одет он был по-простому, в дорогу, и не сильно отличался от деревенских парней, щеголявших в белых косоворотках и лихо сдвинутых на затылок фуражках. Кроме того, в деревню сошлись на праздник парни и девки с многих других деревень, в общем, никто не понял, кто он, и не признал в нем отпрыска дворянина Белоцветова. Потому все и случилось так. Уже вечерело, парни и девки, собравшись на окраине деревни у берега реки, под балалаечный перезвон пели и плясали, себя показать спешили и других поглядеть перед главным весельем. Андрей сам по себе гулял среди толпы.
— Глянь, Фенька! Откель такой, милай?
— Поди за невестой приехал, не нашенский! — услышал он за своей спиной звонкий девичий голос и взрыв хохота.
Повернувшись, увидел группу девчат, среди которых, раскрасневшись от смеха, смуглая глазастая девка с наигранным сожалением произнесла:
— Тю, да ен еще совсем малой, поди еще и женилка-то не выросла!
— А ты проверь, — нашелся Андрей и шагнул к девке.
— Ух ты, какой смелый! Ну-ну, на речке встретимся и проверю…
И стайка девок, закатившись озорным смехом, вспорхнув, растворилась в разноцветной толпе.
Один за другим на берегу загорались костры. Небо темнело на глазах, зажигая миллиарды звезд, как будто и там, в небесах, кто-то праздновал этот великий праздник предков. Костры все ярче освещали берег, па котором все больше и больше собиралось народу, бесконечно длинные, замысловатые хороводы вовлекали всех приближавшихся и уже не отпускали, заражая весельем и смехом и какой-то колдовской силой свободы и праздника. Когда можно было все, когда братья отходили от своих сестер, оставляя их одних, когда молодые пары, взявшись за руки, прямо в круге целовались, открыто, на глазах у всех выказывая свои симпатии. Когда в танце или пляске можно было прижать к себе молодку и пошалить руками, не рискуя за это битым быть. Натянув покрепче на голову картуз, Андрей тоже влился в толпу. Крепкие руки подхватили его и понесли в хороводе меж костров, и то ли показалось Андрею, то ли впрямь она, но та же девка прижалась к нему на миг в «ручейке» и отскочила, только звонкий шепот остался в голове: «Приходь к оврагу, в ольшаник! Как купальня начнется!» И он, забыв обо всем, о том, что он сын дворянский и негоже ему с холопками вязаться, о том, что его наверняка уже ждет отец, о том, что… все это отлетело из головы и только одно стучало и в сердце, и в висках — она его позвала. Зачем — он знал! Кто она, какова? — не имело для него абсолютно никакого значения. Его, как мужчину, в первый раз позвала женщина! Правда, он, кружась в стремительном вихре разноцветных платьев и сарафанов, возбужденных весельем и хмельным квасом парней и девок, вспоминал и, с ужасом для себя, не мог вспомнить ее лица. Как же он узнает ее там, у оврага, да еще в темноте? Не передумает ли она? Может, просто пошутила? Эти мысли не выходили у него из головы, и он торопил время. Скорее бы прогорали эти костры.
Вскоре костры, будто по его просьбе, стали проседать, выбрасывая в небо миллионы искр, которые устремлялись, как всем казалось, к самим звездам, соединяя этот земной и грешный мир с тем, огромным и зовущим. Река, полноводная, тихо несущая темные ночные воды, заждалась. Она то полыхала маревом, отражая пламя костров, то вспыхивала искрами, то словно живое зеркало мерцала звездным небом. Вот над просевшими, но еще ярко горящими кострами первые смельчаки взмыли в прыжках и, пролетев над ними, под общий восторг и похвалы, сбивали с себя искры и пепел, а вместе с ними беды, очищаясь огнем. Теперь можно омыть и тело. Хороводы, распавшись на цепочки, потекли через костры, прыгали через огонь все, парни и девушки. Андрей, разбежавшись, сильно оттолкнулся ногами и прыгнул. Он пролетел над костром и, приземлившись, пробежал по инерции еще несколько метров, покинув, таким образом, освещенное костром пространство Отсюда все уходили к реке Спускались по отлогому берегу парами, взявшись за руки, обнявшись, шли и поодиночке под нескончаемую пес-шо, плывущую над берегами. Андрей направился к овражку, который приметил еще посветлу, там в Угру впадал небольшой ручей, там в темном и густом ольшанике и ждала его та девица. Она тихо окликнула его сразу, как только он подошел к обрыву.
— Чё, пришел? Не забоялся?
— А чего мне бояться?
— Смелай, тя как звать-то?
— Андрей.
— А меня Марфа, пошли.
— Темно, не видать ничего.
— Давай руку. Глаза обвыкнут. Иди за мной, тут недалече.
Андрей подал руку и сжал в ладони ладонь Марфы.
— Тише ты, раздавишь, рано ишо, — с улыбкой шепнула Марфа, чуть прижавшись к Андрею.
Андрей почувствовал сквозь полотно рубахи твердые соски девушки, и волна жара окатила его. Он обнял и прижал ее всю к себе, чувствуя, как наливается силой его плоть.
— Пошли уж, вояка, — тихо прошептала она ему в ухо.
Касания ее губ потрясли юношу. Он с трудом разжал объятия и шагнул за Марфой в темную неизвестность.
Вскоре по узкой тропке среди кустов они пришли к землянке. Малюсенькое слюдяное оконце замаячило им огоньком, и дверь со скрипом впустила в старую рыбацкую обитель. Андрей понял это сразу: ветхие рыболовные сети и замысловатые снасти, развешанные по стенам, говорили сами за себя. Широкая лежанка занимала половину всей землянки. Она была застелена лоскутным одеялом, несколько подушек в цветастых наволочках брошены были на нее в беспорядке. Марфа, шагнув к лежанке, наклонилась, видно, решила первым делом уложить, как должно, подушки. Андрей, не выдержав искушения, прижался к ней сзади, обхватив руками тело, и осторожно, как что-то хрупкое, сжал ее груди.
Марфа замерла в его руках, дыхание затаила и шепотом, как будто их кто-то мог услышать, сказала:
— Не спеши, погодь, все будет, дайкось прибраться.
Но Андрей уже не слышал ее шепота, он мял ее груди и прижимал к себе упругое податливое тело. Рука, скользнув вниз, под юбку, нашла голую кожу ноги, бедра и пошла выше к совсем тайному и манящему. Марфа, мягко извернувшись, упала на спину, увлекая Андрея за собой.
— Ой ты, какой торопыга! — горячо зашептала она, обнимая Андрея и целуя его в щеки и губы.
Андрей не совсем понимал, что с ним происходит. Он прижимался к ней, неистово гладил и мял ее, сердце билось так, что казалось, весь он превратился в пульсирующий комок мышц. Внезапно волна горячей истомы, прокатившись по всему телу, рванулась к низу живота и выплеснулась стыдно и мокро. Андрей отпрянул от Марфы, красный от смущения и беспомощности, надо было что-то делать, но он не знал что. Дыхание перехватило. Он боялся, сейчас она засмеется, и тогда… он просто умрет от позора. Этого не случилось.
— Что ты? — улыбаясь, мягко спросила она и пуговка за пуговкой стала расстегивать кофту.
Девичья грудь, вырвавшаяся из тесного заточения, светилась бархатной кожей. Она легко провела рукой по голове, волна льняных волос упруго скатилась на плечи и грудь. Все эти завораживающие минуты растянулись в вечность. Андрей не мог оторвать взгляда, п то, что с ним только что произошло, как-то незаметно растаяло в уютном сумраке и блеске глаз лежавшей перед ним женщины…
— Иди ко мне, — протянув руку, прошептала она.
Андрей не мог даже шевельнуться.
— Иди же. — Она, чуть привстав, стащила с себя юбку.
Андрей замер — голая, совсем. Он отвел взгляд, но она взяла его за руку.
— Иди же, милай, иди ко мне, я вот она, вся твоя, что хошь делай, — шептала она, мягко прижимаясь к его руке.
Она смотрела в его глаза. Смотрела прямо, без малейшего намека на укор или насмешку, охватывая взглядом своим всего его, как может глядеть только мать на любимое свое дитя. Взгляд этот успокаивал и в то же время манил, дразня своей откровенностью и отчаянной решимостью. Она словно говорила своим взглядом «И мне тоже можно! Все! Все, что захочу!». Андрей не заметил, как руки ее, как бы обволакивая его тело, осторожно сняли рубаху, те же руки освободили его ноги от сапог и они же обнажили все то, что обнажать на людях не принято. И Андрею почему-то не было стыдно или неловко от своей наготы, и он покорно отдался этим нежным рукам. Все случилось. Она вела его по этой неизведанной им еще тропе жизни осторожно и уверенно. Помогая и подсказывая гак, что он был уверен, что это все он сделал сам. Он одержал первую в жизни победу, победу над женщиной, в которой победителями были два счастливых человека, он и она. Это было счастье обладания друг другом. Каждое соприкосновение, каждое движение возносило и возносило Андрея куда-то в неведомый мир, где все просто, легко и понятно. Ты отдаешь частицу себя и получаешь частицу счастья. И ты ясно понимаешь, что иначе просто невозможно… Никогда больше в отношениях с женщинами, а их у поручика было более чем достаточно, этого не случалось. Никогда, до встречи с Пелагеей.
Притворство, жеманство светских дам, готовых на все ради интриги, ради того, чтоб развлечься да наставить рога своим мужьям, занимающимся от скуки тем же самым, в свое время быстро оттолкнули поручика от желания обзавестись собственной семьей. Посвятив себя службе воинской, на примере великого Суворова, он долго вел аскетический образ жизни. Принимал участие во всех баталиях того времени, избегая двора, куда за заслуги и по праву рода своего не раз приглашен бывал. Потому и в продвижении по службе оказался забыт. А когда тяжелое ранение получил, то и вовсе вышел в отставку. Но, как человек приученный к походам, долго в Петербурге не засиделся и с радостью принял предложение от своих высокопоставленных и влиятельных друзей и родственников возглавить компанию по приисканию золота на Удерей-реке, о которой просто легенды слагались на берегах Невы. Здесь-то и настигла его любовь, о которой он уже и не мечтал.
В дверь тихо постучали. Пелагея на цыпочках подошла к двери.
— Кто? Чего надобно? — шепотом спросила она, слегка приоткрыв.
— Господина поручика сотник Пахтин по неотложному делу, — прогудел в ответ служка.
— Тихо ты! — зашипела на него Пелагея.
— Слышу, слышу, сейчас спущусь, пусть ждет. — Андрей, смахнув с лица дрему, сел в постели и потянулся за одеждой.
— Позволь, я сама тебя одену? — метнулась к нему Пелагея.
— Этак ты совсем меня разбалуешь, — притянул к себе и поцеловал Пелагею поручик. — Подай рубаху.
Внизу в трактире поручика ждал Пахтин. Они вернулись в село. Спиринский ушел в номер привести себя в порядок и отчего-то задержался. Пахтин жил тоже здесь и управился быстрее, потому и ждал Белоцветова в одиночестве.
— Что прикажете, господин сотник? — услужливо спросил трактирщик.
— Рюмку водки и закусить.
— Чем закусить изволите, у нас свежий таймень, только-только с реки, поджарить?
— Давай все в тройном размере.
— Будет исполнено.
— Здравия желаю, сотник. Сидите, сидите. Как съездили? Какие успехи? Где Яков? Что про Федьку-душегубца проведали? — засыпал Пахтина вопросами поручик, садясь к столу.
— А вот и Яков, присаживайся, сказывайте.
— Так прознали кое-что. — Пахтин подробно рассказал все, что они вызнали об убийстве Панкрата Соболева…
Через час содержание их разговора стало известно Никифорову.
— Ну, и что делать будем?
Тяжелым взглядом смотрел хозяин на Косых, тяжелым. Потому так смотрел, что помнил тот разговор в баньке, хоть пьян был, но помнил, что Косых сказал: «Да иичё он не нашел, казачок тот», а он нашел. Пыж из ружья стреляный. Только и всего, а цена этому пыжику — жизнь человечья. Причем жизнь не Панкрашки Соболева, не Федьки Кулакова! А его жизнь, Ивана Косых, потому как оплошал, оплошал и хозяина подставил. В пыточную возьмут, молчать не будет, все выложит! Как камни тяжелые ворочались мысли в голове Никифорова. Как ни крути, вместе выворачиваться надо.
— Чего молчишь? Делать что будем?
— А чё делать, начальство далеко, оне близко, почикать их — и в Ангару. Кто искать будет?
— Ты чё, совсем с ума сошел, белены, что ль, объелся?
— Оне вон в северную тайгу навострились, рабочих нанимают, проводника ищут, найти не могут.
— Ну и что, тебя, что ль, они возьмут? Ты у них на мушке уже, осталось только курок спустить.
— Так Матану им подсунем, он их и приведет куда надо, а там разберемся с ними, и концы в воду.
— Ага, а вернется Матана, его спросят…
— Так он, может, и не вернется…
— Ну ты и сволочь…
— Не сволочи, Авдеич! Не нарывайся! Забыл рази того купчика, что на Енисее зарезал? Забыл? А я помню! Через тебя тогда грех на душу брал, а ты меня таперь сволочишь! Чё смотришь, по твоей указке я убил Панкрата, вот теперь надо следы замести, коль оплошность вышла! Вместе шкодили, вместе и отвечать надо! Понял, Авдеич! Я при всем уважении к тебе это говорю! Не рви узду! Некуды от этого деться!
— Ладно, охолонь! Знаешь: кто старое помянет — тому… — и осекся.
Косых аж побагровел.
— Авдеич, я ж добром…
— Тьфу ты, да невпопад я ляпнул! Не нарошно, ей-богу! — грохнул кулаком по столу, злясь на самого себя, Никифоров.
Тишина, наступившая за столом, была подобна тишине, которая опускается перед бурей. Они сидели напротив. Смотрели друг в друга. В три глаза на двоих. Два человека, два зверя.
Никифоров первым отвел взгляд, огладил бороду, пошарив рукой под лавкой, вытащил литровый штоф водки и поставил его на стол.
— Хорошо. Надо удумать, как им Матану сосватать, чтоб подвоха не учуяли, а как там дальше, посмотрим.
«Ну-ну, посмотрим», — подумал Косых и сказал:
— Так я пойду к Матане. Потолкую с ним.
— Тебе нельзя, я сам с ним поговорю, пошли за ним Ваську Потапова, пусть скажет, чтоб пришел к полуночи. Ты покудова глаза не мозоль, проверь дальние покосы и через три-четыре дня жди в зимовье на Шааргане. Мы их туда и приведем. Наливай.
Водка забулькала в стаканах, проливаясь на стол. Не замечал раньше Никифоров, не было такого, чтоб у Косых рука дрогнула!
«Сдает Иван, сдает», — подумал он и, досадно крякнув, поднял стакан.
— Ладно, не серчай! Прав ты, повязаны мы с тобой и ничто нас не разорвет. Потому как мы сами кого хошь порвем! Так, Иван?
Косых сверкнул своим глазом:
— Так, Авдеич!
— Ну, тогда давай, за нашу дружбу!
Никогда Косых не слышал от Никифорова такого слова, не по пьянке, от трезвого!
— Давай, Авдеич! — с чувством поддержал Косых, всматриваясь своим единственным оком в глаза Никифорову.
Выпить выпил, а не поверил! Какое-то подозрение вкралось в его сердце и свербило. Выпили еще, и еще, и простились.
«Что-то не так! — стучало в его голове, пока он шел до своего дома. — Что-то не так!»
Но водка, растекшись по крови, ударила в голову, затуманила и заглушила эту мысль.
— Васька, ты где? — крикнул Косых, войдя в свой двор.
— Здеся, — ответил высокий парень, выйдя из сенника.
— Добеги до Матаны, его Никифоров седни, как стемнеет, видеть хочет, понял?
— Отчего не понять, понял.
— Тогда сполняй и смотри, чтоб до чужих ушей то не дошло, да ишо коня мне подготовь, рано уеду.
В это же время в комнате Спиринского Пахтин и Белоцветов, удобно расположившись за столом, играли в покер. Играли по-малому, для виду, главным был разговор.
— Как думаете, Яков, клюнут они?
— Думаю, уже чешут затылки. Служка из трактира метнулся, мы только из-за стола встали!
— Думается мне, проще надо было. Брать этого Косых, в кандалы и в пытошную. Там бы язык-то его развязали, куда бы делся.
— Нет, сотник, один только пыж, казачком твоим на дороге подобранный, дело не решит. Да и нам от того какая польза? Ну, вздернут этого убивца, и что с того?
— Дак это, пацана от каторги убережем.
— И все?
— А чего еще-то надо?
— Эх, сотник, ты ж знаешь, кто за Косых стоит!
— Ну и что?
— Дак он-то останется и не простит, мстить будет.
— Думаете, не выдаст Косых хозяина? — размышлял вслух Пахтин.
— Нет, господа, этот не выдаст, на дыбу пойдет, а пс выдаст. Я таких видывал, такие своих не сдают, — чаметил Белоцветов.
Яков Спиринский, раскурив трубку и пустив в по-юлок облако ароматного дыма, взял в руки карты и многозначительно произнес:
— Косых шестерка, а нам туза надо к рукам прибрать, именно он здесь правит всеми делами, именно ему стекается выносимый золотой песок с северной тайги. Мешать он нам будет в делах, потому сам Бог велел его на чистую воду вывести, тем паче повод есть — руки у него в крови.
— Правильно говоришь, Яков, потому действовать будем по плану моему.
Белоцветов встал, прошелся по скрипящим половицам.
— Заманим противника под перекрестный огонь, выждем и ударим.
— Ты, господин поручик, прямо как в сражении! — хохотнул Пахтин.
— А оно и есть сражение. Не мы их, так они нас! Гы думаешь, они с нами теперь в бирюльки играть будут? Они теперь страшиться нас будут, а потому ненавидеть и смерти нашей желать. Мы правду про них шаем, а это никому не нравится. А уж все остальное сантименты. Война есть война.
— Хорошо, господа, так в чем наши действия теперь?
— Ждать будем, что Никифоров сделает. Ему сейчас пс до сна, поверьте, он-то в отношении Косых не так уверен, рисковать своей шкурой не станет. Завтра же надо Косых к нам пригласить, побеседовать с ним и отпустить восвояси, тогда Никифоров за голову схватится!
— О чем?
— Как о чем? Почему его отпустили!
— Да это ясно, побеседовать с Косых о чем?
— О чем, не важно… — Белоцветов потер лоб и задумался. — Да хоть о том, чтоб людишек нам подыскивал для партии разведочной.
— Хорошо, на том и порешим. — Пахтин встал, раскланялся и вышел.
Еще не пропели первые петухи, как наладился Косых в тайгу. Конь в седле, мешок с харчами собран и к седлу приторочен. В поводу, по-тихому, вел коня до околицы, озираясь по сторонам, как будто чуя опасность. Дошел, открыл проезд. Не успел в седло вспрыгнуть, из темноты окликнули:
— Далеко собрался, Иван?
Косых резко обернулся на знакомый голос, но ответить не успел.
С ним что-то случилось, он вдруг понял, что он хочет, но не может ничего сказать. Он, всегда знавший, как и что делать, сильный и смелый, державший свою и, часто, чужую жизнь, как ему нравилось говорить, за глотку, вдруг обмяк. Безвольно и беспомощно повис на немеющих, но мертвой хваткой сжимавших еще узду руках. Конь непонимающе дернулся. Острая боль сковала горло и захлестнула. Мрак, вдруг закрывший все, даже в ночной темноте оказался страшным, и Косых закричал, истошно и жутко.
— Феденька, родненький, как же мне тяжко без тебя было… — только и прошептала Анюта, увидев перед собой склонившегося к ней Федора. Сказала еле слышно, как выдохнула, и глаза закрыла.
Федор испуганно отпрянул и посмотрел на старца.
— Не бойсь, слаба она очень, теперь на поправку пойдет, видишь, по щеке румянец пошел, то жива к ней вернулась.
— Что? Жива, что это?
— Это то, что Богом дано человеку — сила жизни. Есть в нем эта сила — и живет человек — белу свету радуется. Потерял ее — и угасает человек, ничто ему не мило, ничто счастья не приносит.
— Как это можно потерять, если живет человек, ее же, получается, всем Бог дает?
— Дает всем и каждому поровну, а дальше от каждого и зависит, как ты ею распорядишься. Растратишь на пустое, не благостное дело и останешься без нее Иль делами добрыми приумножишь. Тако и будет, так оно и есть. Аль не замечал, что все люди по-разному живут? И не оттого, что одни в богатой семье уродились, а другие в бедной. Здоровье, оно ни от чего, кроме живы, не зависит. Есть она — и силы у человека есть, нету — и хоть купайся в злате, а силы нету. А где нету силы, счастия не сыщешь. Особливо это к мужикам относится, скоро поймешь. — Старец улыбнулся и легко похлопал Федора по плечу. — Идем уже, думать будем, как тебя из беды выручать. Ты ведь ей живой нужен, а не в петле, тебе уготованной. Вот так.
— Не убивал я никого.
— За что же на тебя такая охота объявлена?
— Не сердитесь на меня, не могу я ту причину объявить, тайна эта не моя.
— Тайна не твоя, а шкуру-то с тебя спустить обещают.
— Сперва поймают пусть.
— Ну да, конечно. И долго ты по тайге бегать собираешься? А Анюта как, с тобой в бега? Не пущу. Больно девка хороша, ей ребятишек рожать надо, а не по тайге с тобой мошку кормить. Так что подумай, чтобы тебе помочь, в первую голову причину всего этого знать надо.
— Хорошо, я подумаю, до завтра.
— Вот-вот, подумай, сынок, подумай, завтра и решать будем.
Этой ночью ворочался Федор, не спалось ему. По соседству на палатях, на перине перовой, похрапывал Семен. Федор улыбнулся, только-только об этом мечтал его друг у костра, и на тебе — мягкая постеля. Рад был Федор, что Анюта рядом, что поправится, но что делать дальше — не знал. Как вывернуться из того капкана, что на него выставлен? Только теперь он смог рассказать Семену о том, что случилось на берегу Тесея, как игрягтя ящерка на ладанке, как звала его, как путь указывала. Семен, выслушав все, рассказал о том, что всегда в том месте ночевали они, плот делали. Лексей уходил ненадолго, говорил, что молится. «Мы посмеивались, что он к лешему на свиданку ходит, кому в глухомани этой можно молиться. Он не сердился, обалдуями нечесаными нас называл, и все. Да еще вот что: всегда один ходил, не то чтоб специально, а так получалось, все уже с дороги еле ноги волокут, наконец, дошли до привала, а он нам объявлял: „Вот и отдохните, братцы, а я за вас да за удачу нашу помолиться схожу“. Никому и в голову не приходило за ним увязаться. Вот так было, теперь проверить надо, куда ладанка звала. Никак, Лексеева хитрость какая там заложена, через ладанку эту». А по поводу того, что дальше делать, Семен рассудил так. Анюта нашлась, это хорошо, но им от этого не легче, коль в сыске Федор. Если то, что Фрол рассказал про сотника казачьего, правда, а сомнений в том не было, поскольку Федор знал Пахтина, то надо действовать, а действовать самим — опасно, схватят их молодчики никифоровские и прикончат. До Пахтина-то еще добраться надо.
— А и доберемся, что скажем? Не трогал ты того убиенного и пальцем, а как докажешь, что поклеп это на тебя? Тот, кто совершил это злодейство, все хорошо, видно, обдумал, потому и им крепко подумать надо, прежде чем туда соваться. Тут без помощи не обойтись, а отцу Серафиму и Фролу можно довериться, добрые люди.
Федор, выслушав Семена, вздохнул с облегчением. Он был рад, что услышал то, что и надеялся услышать от друга.
Утро, солнечное и яркое, разбудило Федора криками горластого петуха. Семен уже встал, и было слышно, как охает он и ахает под струями воды, что лил ему на спину Фрол. Федор потянулся на крыльце, улыбнулся солнышку и, скинув рубаху, подошел к мужикам. Не успел он рта раскрыть, с просьбой полить ему тоже, как услышал:
— Чё стоишь? Кланяйся земле, а то в штаны налью! — крикнул Фрол и занес над ним почти ведерный черпак воды.
— Во-во, чем ниже земле поклонишься, тем в штанах суше будет! — смеялся растиравшийся полотенцем Семен.
— Ох-х-х!! — только и успел выдохнуть Федор, приняв на себя жгучий удар ледяной струи.
— И где вы ее такую берете? — продолжая смеяться, спросил Семен.
— Вон родничок бьет, с него водица, с самого сердца земли-матушки течет.
— Ага, так и есть, во как в жар кинуло, — согласился Семен, весь красный телом и парящий. — Прям как после парилки.
Федор меж тем уже голосил от второй или третьей порции, Фрол не скупился и черпал из большой бадьи, вкопанной в землю.
— Ну что, еще? — Фрол довольно улыбался.
Федор молчал, улыбаясь и весело глядя сквозь смешавшиеся мокрые волосы. Он не слышал Фрола. На крыльце, облокотясь на перила, стояла Анюта. Рядом придерживавшая ее Ульяна грозно крикнула Фролу:
— Хватит ужо, совсем парня застудил! Держи, Федор! — и бросила ему полотенце.
Фрол сделал вид полного повиновения, чем рассмешил всех, и опорожнил последний черпак на себя.
«Вот медведь, шкура дубленая!» — улыбаясь, подумала Ульяна.
— Анютка, пойдем, лежать тебе нужно, слаба еще. — Приобняв, Ульяна увела девушку.
Анюта, уходя, не сводила глаз с Федора.
Федор так и стоял мокрый и только проводив ее взглядом, только когда она скрылась в дверях, стал обтирать налитое силой родниковой воды тело.
В полдень к ним вышел старец. На поляне у большого камня горел костер, Фрол жарил нанизанную на ветки рыбу. Несколько хариусов да крупных ельцов истекали жиром, источая особый аромат прохваченного дымком нежного мяса. Камень, закопченный со стороны костра, был черен как уголь, со всех других сверкал белыми, как свежий снег, с желтыми прожилками гранями. Федор только что пришел к костру, — Анюта, с которой он провел все время, уснула. Семен помогал Фролу насаживать рыбу и с удовольствием возился у огня. Федор присел у костра, поправляя веточкой уголья, наблюдал, как, разговаривая, шутя перебраниваются между собой Семен с Фролом. Было видно, что им по душе их знакомство и приятно само общение. Когда подошел старец, вся компания принялась снимать первую пробу.
— Угощайтесь, отец. — Фрол протянул старцу ветку с хариусом.
— Благодарю, Фролушка, когда успел выловить-то? — Старец с поклоном принял угощение и присел на бревно рядом с Федором.
— Дак кто рано встает, тому Бог дает, — ответил довольный похвалой старца Фрол.
— Ну что, надумал, сынок? — тихо спросил отец Серафим.
Федор посмотрел на Семена. Семен все понял и кивнул.
Рассказ был долгий, Семен иногда дополнял речь Федора подробностями. Старец и Фрол внимательно слушали.
— Так вот, значит, в чем причина. Золотая ящерка… ладанка рудознатская. Редкая по нынешним временам вещь, редкая. Слыхивал я о ней, правда, очень давно. Думал, сказка, ан нет, не выдумка. Золото — большое испытание для человека, оно многих людей разума лишает… — сказал, выслушав их, отец Серафим. — Так кто, говоришь, об убийстве Панкрата Соболева объявил? — спросил у Фрола старец.
— Сотник сказал, что Косых Иван всем сказал, что видел, как Федор в Соболева стрелял, он якобы рядом в это время был, он и тело его привез.
— Вот видите, нам доподлинно известно, что это ложь. Значит, именно Косых знает правду! Он или сам и есть убийца, или тот, кто точно укажет на настоящего убийцу. Он вам нужен. Он должен правду рассказать.
— Этот никогда правды не скажет, убийца он и не одну душу уже загубил, — мрачно заключил Семен. — У нас с ним давняя «дружба», по локти руки в крови. Подручный он у Никифорова, это всякий знает, хозяина своего не сдаст.
— И Никифоров за него горой стоять будет, это ясно, — подал голос Федор.
— Это ежели он молчать будет.
— Дак он и будет.
— А может, и не будет! Они вместе в злодействе замешаны, но в подозрении Косых, в случае чего только его шкура трещать будет, а Никифоров в стороне окажется.
— Думаете, почему они Федора ищут? — спросил Серафим.
— Из-за ладанки, из-за Анюты, зачем еще?
— Не только. Коль сотник тебя ищет, не все гладко у Никифорова с Косых. Где-то ошибка есть в их действиях, и они об этом знают. Потому ты, Федор, для них помеха и угроза смертельная. Найдут тебя — избавятся от этой угрозы.
— Верно, боятся, а то вдруг объявлюсь я и скажу, что не убивал Панкрата!
Все только улыбнулись наивности Федора, и он замолчал, несколько смутившись.
Старец задумался, помолчал и продолжил:
— Да, ладанкой ты их с ума свел, за Анюту в бешенстве на тебя Никифоров, однако для чего было им Панкрата убивать и на тебя валить?
— Непонятно пока, вот это и надо выяснить. Мы тут с Семеном покумекали, Федору лучше здеся побыть, с Анютой, а мы дня на два-три отлучимся. Повидать кое-кого в Рыбном селе надо, может, что и прояснится.
— Доброго пути. Будьте осторожны, — благословил их старец.
Федор не стал спрашивать. Решили без него, значит, так надо. Перед уходом Семен подошел к нему, встряхнул за плечи:
— Не обижайся, ты здесь нужнее.
— Да ладно, удачи вам. Васька Потапов в селе все знает, он у Косых конюхом. Найдите его.
— То дело, найдем, ну, пока.
Степан Матанин не удивился ночному приглашению, такое не раз бывало. Значит, дело серьезное. Он пришел к Никифорову после полуночи, когда уж и звезды высыпали. Никифоров не спал. Ждал в темноте на лавке у крыльца своего дома. Заслышав идущего, окликнул:
— Ты, Степан?
— Я, Авдеич.
Никифоров прислушался — вроде тихо, даже собаки угомонились на селе.
— Пошли. Разговор есть.
— Об чем разговор, Авдеич? — спросил Степан, как только за ними закрылась дверь.
— О тебе, Степан.
— Обо мне? — удивился Степан.
— О тебе, дорогой, о тебе. О жизни твоей разговор говорить будем.
Матанин, нахмурясь, внимательно посмотрел в глаза Никифорову.
— Ты мою жизнь не трожь, Авдеич. Дело говори.
— Вот думаю, чем ты Косому дорогу перешел.
— Да вроде не было ничё такого меж нами. Не припомню, наоборот, в дружбе мы. Денег недавно ему одолжил.
— Ух ты, и сколь?
— Две сотни золотом, на соболях выручил, а ему за коней срочно надо было…
— Точно, я-то думаю, где Ванька денег взял? А он, оказывается, у тебя в долг взял, вот подлец!
— Почему подлец? Весной отдаст, все по-чест-ному!
— Потому подлец, что не собирается он тебе деньги возвращать, потому как, по его расчету, тебя через три дня на свете не будет.
— Что? Это как это? — Матанин аж вскочил.
— Сиди, сиди, зря, что ли, тебя позвал? Вот посоветоваться решил, что с этой бедой делать. С одной стороны, с Косых уж четверть века бок о бок, николи он меня не подводил, ты же сам то знаешь. Правая рука моя на Ангаре. Так?
— Так, Авдеич, — глухо, потеряв голос, промолвил Матанин.
— Положиться, кроме как на него, мне не на кого.
— Отчего же…
— Погодь, еще не все сказано. Так вот, с другой стороны, тебя тоже хорошо знаю, на деле не раз проверен. Могу я тебе довериться? Аль нет?
— Конечно можешь, Авдеич!
— Верю. Тогда другой разговор. Так вот. Про то, что Косых Панкрата завалил, начальство приезжее проведало…
— Так это он?
— А ты думал, Федька? Теперь в подозрении Иван, проболтались в кабаке начальнички, про то я ему вечером и сказал.
— За что он его?
— Не знаю, не сказал он, видно, нашла коса на камень, ты ж его знаешь. Женку Панкратову видел?
— Нешто схлестнулись?.. Да, видно, не поделили, все село про шашни его болтает. Совсем озверел. Ни одну бабу не пропускат.
— Не знаю, может, и так, только на Федьку свалить ему не удалось. Дознался Пахтин, чьих это рук дело, как не знаю, только петля эта для Ивана верная. Сели думать, как из беды его вызволять. Откупиться не получится, Пахтин дружил с отцом Федьки…
— Погодь, Авдеич, а я то при чем?
— При том, решили в Ангару Пахтина и начальство приезжее спустить. Нету другого хода. Жизнь на жизнь. Для того ты должен в проводники им по тайге северной напроситься и вывести их к зимовью на Шааргане. Там их и порешить и… тебя заодно.
— Зачем?
— Так с тебя спрос потом будет. Где они делись. А так спрашивать не с кого.
— Во так вы со мной порешили?
— Да не мы, зачем бы я тебя звал, а друг твой, кому ты денег дал, предложил так.
— Вот сука! Убью! Я ж ему как себе…
— Потому и позвал тебя, чтоб ты знал, к кому доверие иметь.
— Спасибо, Авдеич, не забуду. Делать-то что?
— Как что? В проводники наниматься, деньги хорошие запросить. Возьмут. Им позарез проводник ну-жон. Как договорились, в зимовье их и приведешь, а гам видно будет. Сам убедишься в том, что услышал.
— А мне это и не надо. Так тебе верю. Я ж его на куски порву!
— Это мне надо! Как кость у меня в горле эти гости. Через Ивана на меня смотрят косо. Порвешь его, поделом, за подлость, только тебе голову за него в петлю положить придется! И что с того? Умнее надо! Умнее! Пущай он их резать начнет, а нам его на том захватить надо и прикончить! И не токмо голова твоя цела будет, а еще и награда! Я тоже в долгу не останусь — покосы, что на той стороне у Косых, через Коренного тебе отойдут, в том слово даю! Веришь?
— Верю!
— Сделаешь?
— Получается, жизнь на жизнь.
— Получается.
— Сделаю.
Утром Яков, хорошо позавтракав, в который раз расспрашивал вышедших из тайги приисковых рабочих. Время уходило, а они никак не могли набрать людей для разведывательской партии. Народ выходил из тайги денежный, веселый, мало кому хотелось, отказавшись от соблазнов жизни, возвращаться в таежные дебри. Еще шуршали за пазухой невиданные раньше многими десятирублевые ассигнации, еще оттягивали пояса подвязанные к ним кисеты с золотым песком. Мир раскрывал перед ними свои жадные объятия, готовый отдаться в обмен на эти хрустящие бумажки и желтый тяжелый песок. Редкий из них пытался понять, чего от него хочет этот ухоженный господин в белой кружевной рубахе и жилете с выпущенной напоказ золотой цепочкой карманных часов. Остальные просто тупо думали, как скорее отделаться от разговора. Вошедший Степан Матанин сразу увидел Спиринского и, махнув служке рукой, сел поодаль. Тот с готовностью кинулся к Матанину и принял заказ. Спиринский заметил вошедшего и то внимание, которое ему оказывал трактирный служка.
— Кто таков? — спросил он, придержав проходившего мимо слугу.
— Таежник именитый — Матана кличут, — шепнул тот.
Яков дождался, пока Матана не торопясь выпил три чарки водки, закусывая мясом и солеными грибами, а затем подошел и, учтиво представившись, сел напротив. Матана поднял глаза и молча разглядывал Спиринского.
Выдержав вопросительный и изучающий взгляд таежника, Яков спросил:
— Позвольте поговорить с вами, сударь.
— Отчего не поговорить, говорите, — ответил Матанин, сурово глядя на Якова.
— Дело у нас, имеем разрешение на изыскания золотоносных участков по северной тайге, а проводника нет. Вы, я вижу, человек бывалый, таежный, может, сговоримся о найме?
— Может, и сговоримся, — после некоторой паузы ответил Степан. — Когда собираетесь в тайгу?
— Да хоть завтра, коль согласие дадите…
— Смотря о каких деньгах речь идет…
— Не обидим, задаток хоть сейчас, двести рублей…
— Золотом?
— Ассигнациями.
Матанин усмехнулся, огладил бороду и медленно, с расстановкой, внимательно глядя в глаза Якова, заговорил:
— Что ж, могу вас проводить, токмо надолго ли? Как скоро управимся? Куда хотите попасть?
— Вот, сразу видно делового человека! Прошу вас к нам в номера пройти, там все и обсудим.
Оглянувшись, добавил громко:
— Эй, человек, водочки да закуски в номера, да поживей!
Поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице, Степан услышал разговор. Сотник Пахтин, как он потом увидел, говорил кому-то:
— Нет Косых в селе, ушел, гад!
«Ну вот, значит, правда», — облегченно вздохнул Степан. Через час он вышел на улицу, в кармане лежали двести рублей ассигнациями и договор найма, согласно которому, при успешном завершении работы, он получит еще четыре сотни рублей. На углу в пролетке поджидал Никифоров. Они встретились взглядами. Степан кивнул, проходя мимо, дескать, все в порядке.
У него действительно все было уже в порядке.
— Да угомонись ты! — Мощный кулак Фрола обрушился на голову Косых.
Тот, разжав поводья, как подкошенный рухнул к ногам Семена.
— Фрол, полегче надо было, зашиб, поди, насмерть!
— Не, приголубил токо слегка, чтоб не орал, давай его на коня, не скоро в себя придет.
Вдвоем они не без труда подняли грузное тело на коня.
— Вроде ростом не велик, а тяжел до чего, — ворчал Семен, связывая свесившиеся руки.
— Дерьма в нем много, потому и тяжел, — ответил Фрол.
— Пошли, вроде тихо.
Конь, пофыркивая, пошел в поводу, кося глазом на чужаков, осторожно неся на себе хозяина. К полудню они уже были на месте. Зимовье было не тронутым, таким, каким они его оставили с Федором. Косых тихо стонал, не приходя в сознание, его сняли с коня и, крепко связав по рукам и ногам, уложили в зимовье. Семен принес из ручья воды и плеснул ковшом в лицо Косых. Студеная вода, видно, не пришлась тому по вкусу, и он, мотнув головой, очнулся.
— Во, очухался, крепкая у тебя башка! Дак куды собрался, Иван? — спросил Семен ошалело вращавшего своим единственным глазом Косых.
— Где я? — прохрипел Косых, пытаясь освободить руки.
— А у меня в гостях, али не признаешь?
Косых наконец уставился на Семена.
— А, это ты? Ненавижу! — прохрипел Косых.
— За что ж ты меня так?
— Всех вас, пришлых, ненавижу! Чё смотришь, думаешь, меня повязал, я у тебя прощенья просить буду! Кукиш тебе! Всю жизнь нам испоганили! Я вас, гадов, давил и давить буду!
— Не пужай, пуганый! Это помнишь? — Семен сунул под нос Косых кулак.
Косых оскалился и плюнул. Семен успел отклониться и усмехнулся.
— Я твое гостеприимство тоже хорошо помню!
— Погодь. Не то еще будет.
— Может, и будет, только тебе, гад, этого уже не увидать.
Косых рванулся к Семену и заскрежетал зубами.
— Ну зверь и зверь! — только и сказал, просунув голову в дверной проем, Фрол. — Дать ему по башке, чтоб не кобенился, что ли?
Косых затих, он лежал и смотрел то на Семена, то на Фрола.
— Чего вам от меня надо?
— А ничего нам не надо, это тебе, гад, надо перед смертью покаяться. Приговор тебе давно вынесен, ты знаешь, вот теперь этот приговор мы и свершим. — Сказав это Семен вышел из зимовья, плотно закрыв дверь.
Косых остался один. Там, за стенами зимовья, шумела тайга, слышно было тихое журчание воды. Косых попытался справиться с путами, но понял, что связан надежно. Он пошарил взглядом, в зимовье не было ничего, что могло бы ему сгодиться. Он бы сунул руки в огонь, чтобы освободить их, но и огня не было. Бессильная злоба захлестнула его, и он завыл. Завыл, как затравленный зверь, от безысходности и отчаяния. Он скрежетал зубами и бился головой о земляной пол, сыпал руганью и проклятиями, пока не иссякли силы. Фрол и Семен все это слышали. Семен несколько раз хотел войти к нему, но Фрол останавливал:
— Рази не видишь, бесы из него выходят, пусть перебесится, тогда с ним и говорить можно будет.
Прошло немало времени, прежде чем Семен открыл дверь. На полу, с неловко вывернутыми руками, па спине лежал Косых. Лицо было в крови, повязка, скрывавшая глазницу без глаза, была сорвана. Он был в сознаний, но на Семена не реагировал, он смотрел и никуда своим единственным глазом и черным провалом, наполненным кровью из рассеченной брови… Семен отступил назад:
— Фрол, иди глянь.
— Да я уж иду, сейчас черпану водицы поболе, его ж отливать теперь надо. С водой вся дурь с человека сходит.
После двух ведер воды Косых пришел в себя.
— Руки развяжите, не чую их, затекли, — спокойно попросил он.
— Вот, то другой разговор, — согласился Фрол и разрезал веревку.
Косых долго негнущимися пальцами растирал багровые запястья. Нашел и приладил на место повязку. Фрол подал ему полотенце, и Косых, сняв с себя мокрую рубаху, выжал ее и обтерся. Семен и Фрол смотрели на этого человека, на его сильные, как кор ни дерева, руки, мощный торс, покатые, как у медведя, плечи. Косых отводил взгляд, только натянув на себя рубаху и огладив бороду и волосы, он посмотрел на них.
— Благодарствую, что дали омыть себя перед смертью. Таперь кончайте. — Глянув на топорик в руке Фрола, хриплым шепотом, видно, горло перехватило, попросил: — Может, мужики, лучше стрелите?
— Думаешь, от пули умирать легче?
— Таперь все одно… — опустил голову Косых.
— Покаяться тебе надо, чтобы смерть легко принять, душу облегчить надо…
— А ты что, поп?.. — поднял голову Косых, глядя на Фрола.
— А при чем здесь поп? Перед Богом покаяться да у людей прощения попросить.
— Мне прощение просить надо будет на том свете, те, кто на меня в обиде, все там, там и просить буду.
— Не совсем это так. Подумай, Федька Кулаков по твоей милости на каторгу пойдет, а то и голову сложит. Он-то чем виноват?
— Не пойдет.
— За Панкрата Соболева, тобой убиенного, он в сыск объявлен, — напрямую сказал Семен.
Косых, нахмурив брови, спросил:
— Откель знаешь, что я кончил Соболя?
— Все село про то говорит, что за бабу ты его грохнул.
— За бабу? — искренне удивился Косых. — Это кто ж такое выдумать мог?
— Кто выдумал, не ведаем, мы про то от Агафона в лавке слышали, знаешь такого?
— Агафона?! Значит, вот оно как получается?! А меня вы схомутали не по его наводке?
Фрол с Семеном переглянулись и замешкались с ответом, потому как этого не было, но Косых опередил их ответ и понял их молчание по-своему.
— Суки, сговорились! Меня решили кончить, а сами чистенькие! Чуяло мое сердце, не так что-то!!! Чуяло! Продал меня Авдеич, использовал, как хотел, и продал! Развязывай ноги мне! Не побегу, слово даю, заслужил я кару небесную, ваша правда, дайте грех с души сбросить!
— Поясни сначала, чего удумал! — жестко сказал Семен.
— Вы чё, думаете, я из-за бабы мужика убил?! — Косых откинулся в диком хохоте.
Прохохотавшись, он утер выступившие слезы.
— Хорошо, слушайте, коль правду знать желаете! Панкрат поперек Никифорова пошел да про ладанку нашу вызнал, тем себя и приговорил! А тут Федька подвернулся вовремя, ну и сложилось все в масть. Убил я Панкрашку, убил потому, как Никифоров то приказал!
— Вот так просто?
— Не верите?
— Никифоров знатный на реке человек, а ты разбоем старателей грабил, как тебе на слово верить! — размышляя, подлил масла в огонь Семен.
— Не верите, а зря… Да, злодействовал я, да, души губил, но не предавал николи… и не прощал предательства. — Косых сжал кулаки и с силой ударил ими о землю. — Ладно. Одно прошу, дайте поквитаться с Никифоровым, через него я душу свою кровью запачкал. Я вам — Федьку от каторги, вы мне — Никифорова?
— И как это будет, отпустить тебя? Извиняй, нету тебе веры!
— А не отпускайте. Руки вяжите, а ноги ослобоните.
— Это зачем?
— А затем, встреча у меня с Никифоровым через три дня на Шааргане. Вместе и пойдем. Там сами поймете, что к чему.
— Нет уж, ты договаривай!
— Матана по приказу Никифорова должон приезжих начальников туда вывести, они с сотником Пахтиным на меня подозренье по Соболю держат, а через меня и на Никифорова зуб…
— Кто тебе про то сказал?
— Никифоров.
— Что ж тебя не схватили?..
— Дак ушел…
— Ага. Дали бы тебе уйти казачки Пахтина…
Косых задумался.
— Зачем встреча та?
— Пахтина и начальников приезжих решено побить…
— И что, сам Никифоров при том будет?
— Сказал, будет.
— Что ж, подумать надо.
— Думайте, только туда день конного ходу. Встреча через два дня, идти надо прям щас, если живых застать Пахтина с заезжими хотите, мужики.
— Где на Шааргане? — спросил Фрол.
— На половинке зимовье, за кедрачом.
— Знаю. Побудь пока. — Фрол, повернувшись к Семену, продолжил: — Пойдем, Семен, выйдем, поговорить надо.
Семен согласно кивнул, и они вышли из зимовья, оставив Косых одного.
— Если он правду сказал, надо идти, — сказал Фрол.
— Какой ему резон врать с топором у горла?
Фрол при этих словах изменился в лице. Семен не понял, что случилось, и хотел было спросить, но Фрол показал ему: молчи! Ясно стало, когда Фрол показал ему свои руки, в них не было топорика. Фрол жестом пояснил, что он оставил его там, в зимовье. Они оба шагнули к двери. Фрол отстранил Семена и распахнул дверь.
Косых сидел на полу и растирал уже ноги, с которых снял веревку.
— Не боись, вон твой топор. Говорю же, дайте мне Никифорова, а я вам Федьку от вины освобожу, крест целовать готов. — Косых смотрел то на Фрола, то на Семена.
Фрол прошел, взял топор в руки.
— Нешто и теперь не верите, топорик-то и я мог в руки взять? Да не взял!
— Хорошо, что не взял, значит, поживешь еще, — ответил Фрол.
— Выходим немедля, если все как ты сказал, казнить тебя не будем, пусть тобой Пахтин занимается, авось зачтется тебе дело доброе, — медленно произнес Семен.
— Ну, тогда поспешать надоть, мужики, — подхватился Косых. Он как-то изменился за эти несколько минут. В нем появилась решимость, а может, забрезжившая в словах Семена надежда зажгла в нем желание к действиям. Он, с трудом встав на ноги, чертыхаясь и охая, вышел из зимовья и, оглядевшись, спросил: — Вроде все в округе знаю, а это место не припомню, где это мы?
— Тебе зачем?
— Дак это, идти-то в каку сторону?
— Не боись, выведем.
— Фрол, руки-то ему вязать будем?
— С вязаными руками далеко ли в тайге уйдешь? Его и так шатает.
— А мы его на коня посадим, а глаза завяжем, — громко сказал Семен.
Косых опустил голову, почесал пятерней затылок.
— Вот что, мужики, негоже мне вязаным по тайге ехать. Едем в Мотыгину деревню, там у меня кони на выпасе, возьмем — и айда на Шаарган. Дело сделаем, тогда уж и вяжите! А-а-а, чего там, коней тех вам жалую за услугу вашу!
— Вот чё с человеком хорошая оплеуха делат! А? Ты ж, Иван, порвать нас хотел, а теперь смотри, Фрол, конями жалует!
— Какой тут дар, баш на баш, вы ж мне даете возможность Никифорова за кадык ухватить!
— Лады, уговорил, едем, но не вздумай с нами шутить, второго раза у тебя не будет!
Косых хмуро глянул на них. Что было у него в мыслях, ни Семену, ни Фролу в голову прийти и не могло, они были совсем другие люди. Семен взял коня в повод и вывел на тропу, следом пошел Косых, за ним Фрол. Косых приметил, что, кроме топорика и волосяного аркана, другого оружия у них не было, если не считать ножей. Его ружье так и оставалось к седлу притороченным.
Да, лихо его Фрол арканом-то, учесть это надоть… — думал, потирая шею, Косых. Когда вышли к дороге, Косых удивился:
— Откель это зимовье взялось?
— Федора Кулакова это зимовье, — ответил Семен.
— Не знал я про это зимовье, не знал, а то б накрыли мы вас здеся, как курей. Теперь, может, и к лучшему, что не знали, может, и хорошо то.
— Ты чё там бормочешь?
— Да так, об своем.
— Топай давай, ране надо было об своем думать.
— Думать — оно николи не поздно, — ответил Семену Косых.
— Тут твоя правда, только лучше думать вовремя, а не когда жареный петух в задницу клюнет.
— Сопли утри, меня учить! — зло зашипел Косых.
— Ну ты! Опять зубы кажешь! — остановился Семен.
— Да угомонитесь вы, хватит лаяться! — не выдержал Фрол.
До самой деревни Мотыгиной шли молча, только изредка Семен, оглядываясь, всматривался в Косых. Тот на его взгляд не отвечал.
Спустившись к речке Рыбной, перед бродом остановились. Ниже, слышно было, тюкали топорами, видно, строили новый мост. Там, за рекой, начиналась деревня Мотыгина. С одного зимовья охотником Иваном Мотыгой зачатая, раскинулась она по всему высокому берегу Ангары широко и привольно. Косых вопросительно посмотрел на Фрола. Фрол кивнул Семену — дескать, жди — и пошел с Косых в деревню. Семен, привязав коня, устроился на камне и закурил. Свежий ветер с Ангары отгонял мошку. Весело журча, ручеек, огибая валун, вливался в воды реки, притягивая свежей струей стаи малька. Мелкой рябью подергивало гладкую поверхность воды от любого движения этих живых масс, снующих в поисках корма. Семен сыпанул оставшиеся в кармане крошки, вскипела вода от малька, взбурлила на мгновение и очистилась, успокоившись. Вот так и в жизни людской: появился лакомый кусок и кидаются все на него, топча и ломая все на своем пути. Эх, люди, люди, а как дальше-то жить будете?! Семен отвернулся от воды. Однажды он уже был у этого камня, только тогда он замерзал на лютом ветру, а рядом были люди, дома с топящимися печами, но ходу ему туда не было, потому как по пятам преследовали его люди Косых. Теперь он опять здесь, но только обидчик его, тот, из-за которого он потерял друзей-товарищей, тот, с которым схватка у него не на жизнь, а на смерть, — рядом с ним. И он, Семен, вынужден терпеть его одноглазую рожу! Если бы не Федор, не пощадил бы он этого гада! Не дрогнула бы рука! Семен затянулся, выпустил клуб дыма и вздохнул. Ничего, теперь ему уже не вывернуться.
Шло время, Семену казалось, что его прошло достаточно много, он стал прислушиваться, вглядываться. Нету Фрола с Косых. Медленно и тягостно, в тревожном ожидании, тянулись минута за минутой, складываясь в вечность…
Степан Матанин от отца и деда своих унаследовал одно качество, вероятно сохранявшее его род в невероятно трудные времена освоения этих земель: он никогда не спешил принимать решения. Но если решение принято, уже ничто не могло его остановить. Крепко сбитый, коренастый, еще в юношеские годы не знал он равных в кулачных драках, и не столько из-за силы, сколько благодаря упорству и смелости. Не знал он и чувства жалости или пощады, потому, испытав его однажды, мало кто отваживался снова наступать на грабли. Жил он особняком, и мало кто совал нос в его дела. Обо всех судачили деревенские бабы, всем косточки мыли, всем, да только не ему. Глухим забором отгородил он свой дом, как и всю жизнь свою от людей. Уважали его, слову его верили, но не любили, а он в этой любви и не нуждался. Никогда не рассчитывал он на чью-то помощь, все, чего он достиг, сделал сам. Ни с кем не дружил, уважал только сильных, ненавидел люто пришлых, всех тех, кто заявился на эту землю урвать, потому и свела его судьба с Косых. Потому и согласился в свое время в подручные к Никифорову пойти. Обида взяла за то, что с земли, их дедами кровью оплаченной, всякая голота лапотная золото тащит. Да еще швыряется им, кичась и насмехаясь над теми, кто в тайге, охотой да рыбой промышляя, семьи свои кормил. Дескать, лопухи таежные, по речкам за «живым серебром» гонялись, а по золоту топтались. Да, видно, плетью обуха не перешибешь, огрызались черные старатели, а когда золотые прииски пооткрывались в тайге северной, понял он, что глупо против ветра плевать. Надо было как-то приспосабливаться, но мешал характер, сопротивление его ангарской натуры было столь мощным, что он и слышать не хотел о промыслах золотых. И вот теперь тот же человек, который когда-то вверг его в войну против старателей, предложил ему пойти к ним в работу. Правда, не просто так. Он слишком хорошо знал Косых, чтобы не поверить Никифорову. Тому убить, что высморкаться. Ко всему прочему одолжил он ему деньги без всяких бумаг, на слово веря, а ведь Косых ничего ему про Панкрата не сказал. Промолчал про себя, когда об том разговор был. Значит, не то чтоб не доверился ему, а просто не допустил до тайных дел. Раньше так не было. А денег попросил — как друга. Врал ему, значит. А там, где малая ложь прошла, предательству дорога проложена. Рассудив, взвесив все, Степан принял решение — выполнить просьбу Никифорова. Наняться в проводники, привести искателей в зимовье на Шаарган, а дальше — как бог на душу положит. Убивать он никого не будет, хочет посмотреть в глаза Косых, вернее, в глаз! Приняв такое решение, направился в заезжую избу, где, все знали, приезжее начальство людей на работу сватает. Без всякого труда получил желаемое, более того, еще и денег вперед. Как раз двести рублей.
Вот и вернулись денежки, чуть не рассмеялся он, услышав о сумме, которую ему посулил Спиринский в кабаке. Уже там, в номерах, встретившись с Белоцветовым, понял, что предприятие ими разворачивается основательно и надолго. Спиринский умел рисовать прожекты, а тут он расстарался, да так умело, что убедил даже Белоцветова, не то что таежника Матанина. Степан принялся за дело. Уже к вечеру были наняты четверо крепких работящих парней, подготовлены лошади и снаряжение. Наутро был назначен выезд. Поднялись рано. Пахтин и Матанин верхом, Спиринский с Белоцветовым на двуколке, работники и снаряжение на двух телегах. Еще один воз с фуражом для лошадей. В деревне Мотыгиной, куда должны были заехать, ждал уже давно нанятый Спиринским горных дел мастер Глотов. Упредить его был, в ночь еще, послан один из сыновей Матанина, да не вернулся поутру, решили не ждать, все одно по пути. К обеду уже въезжали в деревню. Эка невидаль, мост через реку — настоящий, в три наката бревен возвели за лето приисковые работники. Причалы для барж хлебных соорудили, кипела работа, трудилась Ангара, золотодобычей подхлестнутая. Избы новые уже и на самый берег реки выползли, как грибы, расползались по бугру, что на той стороне реки у Карнаевского ручья. В заезжей избе, что наискосок от часовенки, увидели коня матанинского сына Василька, туда и направились. Он встретил на пороге заезжки.
— Бать, тут это… — обратился он к отцу.
— Говори ясно, где Глотов?
— Здеся, токо пьяный он, всю ночь гулял. Я приехал, насилу нашел, а он пьяный, ничё не соображат…
— Пьяный — проспится, распрягай лошадей, — скомандовал Матанин.
— Что случилось? — спросил подъехавший Пахтин.
— Мастер ваш спит пьяной, куды его, надо обождать, когда в себя придет…
— Мать его, где он, пойду гляну. — Спрыгнув с коня, Пахтин зашел в заезжку.
Смрадный перегар спиртного и запах табака ударили ему в лицо. Где-то там, в глубине, спали вповалку на полу и лавках люди. Вышедший служка, высокий парень с одутловатым заспанным лицом, зевая, спросил:
— Чего изволите, барин?
— Изволю выпороть тебя!
Тот оторопело отшатнулся, мазанув ладонью по лицу, выпучил глаза и, пятясь вглубь, заорал:
— Тереха! Наших бьют!
На его вопль из проема кутьи вывалился точно такой же обликом парнина с железной кочергой в руке.
— Нажрались, суки! Кости перелома… — свирепо заорал он, пока не увидел Пахтина. Увидев же, остановился и, повернувшись к брату-близнецу, рявкнул на него: — Чё, совсем ополоумел, не вишь, кто вошел! — Швырнув загремевшую в кутье кочергу, поклонился Пахтину. — Не обижайтесь на него, умом слаб от этого угару становится, всю-то ночь на ногах, а народишко-то пьяный, все норовит зуботычину дать, вот он и попутал, видно…
— Ладно, который тут Глотов? Вытаскивайте его на воздух, в вашем бардаке он долго не оклемается!
— Дак он нам и сам нужон. Должок за ним, вчера угощал народишко, а не заплатил.
— Сколь он должен?
— Тринадцать рублев сорок копеек, вот здеся записано…
— Проспится — отдаст, вытаскивай, говорю…
— Верим вам, верим. Архипка, пособи…
Пахтин вышел на воздух. Выдохнув смрад из своей груди, сплюнул и выругался.
Пока Пахтин был в заезжке, Матанин спросил сына:
— Ты-то где всю ночь был?
— Так здеся, при коне, караулил, вдруг бы энтот куда пошел…
— Молодец. — Стапан взлохматил вихры сына. — Поди в телегу, поспи.
— Хорошо, батя… — благодарно сверкнули глаза сына. Нечасто он слышал похвалу отца. Нечасто.
Глотов, которого вынесли братья Тереха и Архип, оказался тщедушным мужичком, безвольно болтавшаяся голова которого, с редкой бородкой и лысым затылком, свидетельствовала о том, что оклемается он не скоро.
«Вот паршивцы, сколь же пойла их надо было ему выжрать, чтоб на тринадцать рублей задолжать?! Ворюги, мать их растуды!» — подумал Пахтин и скомандовал:
— Кладите его в телегу!
Эту процедуру уже увидели Белоцветов и Спиринский.
— Да, Яков, хорошего ты мастера рудного нанял. Главное, молчаливый, а ты говорил, что с норовом мужик!
— Погодь, Андрей Александрович, проспится, сам увидишь, — не приняв иронии, ответил Спиринский.
— Пьяный проспится — дурак никогда! Не по нраву мне мастер, который лысой башкой в кабаке ступени считает.
— Ну нету другого, сколь уже ищем. Отоспится, дело-то он свое знает, я ж справки наводил, документ у него есть…
— Ладно, Яков, на вас ответственность за него, имейте это в виду! — сухо ответил Белоцветов.
Спиринский кивнул в знак согласия и подумал: «Жаль, нельзя было зазнобу поручика с собой взять! Совсем бы другой коленкор был!»
Белоцветов и правда был не в себе. Дело надо было делать, в том нет сомнений, но оставил в Рыбном селе Пелагею — и тоска точить стала. Оттого и настроение паршивое, дорога тряская да пыльная, а тут еще этот плюгавый пьяница…
— Придется задержаться, позвольте вам предложить: тут довольно приличное заведение есть…
— Ладно, Яков, не серчай, давай по-дружески, поехали перекусим, коль есть где..
— Здесь рядом… — воспрянул духом Спиринский. — Степан, ты уж займись энтим, а мы пока отобедаем.
— Хорошо, можете не спешить, тут надолго, кабы ночевать не пришлось. Совсем без памяти мужик. Видать, с травкой дурманной поили, суки, знамо дело.
— Хорошо, посмотри за ним, нам без него не обойтись, сам понимаешь.
Пахтин уехал с ними. Степан с работниками спустились к реке ставить шатер да костер разводить, не с руки ангарцам в чужих домах по лавкам спать. Глотов спал в телеге на сене, заботливо укрытый лошадиной попоной. Василек, подремав в телеге, умылся в реке и подошел к отцу:
— Бать, можно я в деревню сгоняю, дружка своего Серегу навещу, он за конями присматриват здесь дяди Вани Косых.
— Погодь, сгоняешь, только сначала брюхо набей, сейчас мужики приготовят.
Вскоре от медного котла уже потянуло мясным духом. Плотно поев, устроились кто где поспать. Кто знает, когда еще придется вот так спокойно, без надоедливой мошки уснуть. В тайге гнус ветра не боится, а здесь на берегу его нет вовсе, не долетает из болотных марей, не может преодолеть свежак речной. Степан тоже прилег на место сына в телегу, да не спалось, думы одолевали. Как оно все будет, как он с Косых встретится, как в глаза Иван ему смотреть будет, что скажет. Все от того зависит, все. Но одного не будет точно. Люди, что с ним идут, те, кого вести он по тайге будет, не пострадают ни один. В том он сам себе и Богу ручательство дал. А с Косых он разберется. По-ангарски разберется…
— Бать, а бать, проснись! — тормошил отца Василий.
— Ух ты, нетто уснул, — открыл глаза Степан.
Уже смеркалось, работники встали давно и не шумно хозяйничали, кто варил, кто шатер ставил, каждый свое дело знал.
— Чего не будили? — спросил он парней.
— А чё тебя будить-то, вон, энтот храпит беспробудно, все одно сидеть здесь сотник приказал, вот и решили тебя не трогать.
— Бать, я тебя чё поднял-то. Дядя Ваня Косых здесь, за лошадьми приехал, узнал у меня про тебя, придти просит, говорит, разговор важный.
Сон как рукой сняло.
— Где он?
— Там, на выгонах.
— Дай коня.
— Я с тобой, бать…
— Нет, здеся будь.
Василь привел коня. Степан, умывшись тем временем, вскочил на него:
— Будь здесь, ежели меня начальство спросит, скажи, скоро буду, родственников навестить поехал.
Степан пустил коня шагом, нужно было подумать. Чего ждать от этой встречи? Как поведет себя Косых? «Если все так, как Никифоров сказал, будут дружеские объятия и сговор, как и куда вывести он должен экспедицию. Как свершить задуманное и глаза лишние отвести, кончить пришлых и вне подозрения остаться. Как следы такого злодейства замести. Косых же не знает о том, что Никифоров все рассказал. Значит, он должен убедить меня, что все, все до мелочей продумано. Коль так, опасаться сейчас вроде как нечего», — размышлял Матанин. Одного боялся, хватит ли у него выдержки вот так, спокойно провести эту встречу, зная, что человек этот уже решил для себя его участь. Решил жестко и беспощадно. Степан вспомнил, как легко когда-то Косых застрелил артельщика, просто взял и выстрелил. Тогда для всех это была первая кровь, это уж потом пошло-поехало… Так же легко он выстрелит и в него, когда посчитает нужным. Надо настороже быть. Проще было бы Степану прямо сейчас в лоб ему жаканом закатать! Но нет, прав Авдеич, тут прямая дорога на каторгу, а то и в петлю. Придется выждать, придется дураком прикинуться и ждать!..
Так, в раздумьях, он проехал всю деревню, изредка кивая в знак приветствия знакомцам. Вот и пойма, здесь, в ельнике, паслись сменные кони, что в обозах на северную тайгу ходили. Здесь и должен был ждать его Косых, в шалаше под тремя огромными елями. Здесь он его и ждал. У небольшого костра, на котором исходил паром закопченный дочерна чайник, сидели двое. Не узнать Косых было нельзя, его черная повязка перечеркивала лицо. Второй, крупный мужик с окладистой бородой, был Матанину незнаком. Степану показалось, что они о чем-то спорят. Когда он приблизился, Косых встал и, широко улыбаясь, пошел навстречу. Он принял коня, взяв его за узду, придерживая.
— Ну, здорово, Степан!
— И тебе здоровья. Чего звал? — сдержанно поздоровался и спросил Матанин, сойдя с коня.
— Ты чего такой хмурой?
— А чему радоваться? Ого, кто это тебя так? — близко увидев Косых, не без участия спросил Степан.
— А, это? — тронул пальцами рассеченную бровь Косых. — Так, на сук напоролся…
— Да, везет тебе на сук… — усмехнулся Степан.
— Ты чё?!
— Сам же сказал — на сук напоролся, — расхохотался Матанин.
Этот смех успокоил Косых.
— Во, теперь узнаю Матану. Проходи, присаживайся, потолкуем про дела наши..
Степан вопросительно глянул на незнакомца.
— Не боись, это свой человек, Фрол.
— Фрол, не с Тесссвсй реки?
— Оттуда, — ответил Фрол, с интересом взглянув на Степана.
— Слыхал я о тебе.
— Чего слыхал-то?
— Лодка, говорят, у тебя хорошая.
— Верно говорят.
— А еще говорят, ты медведя кулаком зашиб.
— Вот то брешут. Не кулаком, а колотом…
— Это как?
— А так, по кедрухе промахнулся, а ему в лоб угодил…
— И наповал?..
— И наповал…
— Да…
Матанин только покачал головой удивленно, но поверил. Люди зря говорить не будут.
Косых слушал их разговор молча. Он не знал о Фроле ничего.
— Дак чего звал, говори, Иван. Некогда мне, хватиться начальство может.
— Когда ты их на Шаарган приведешь?
— Думал, завтра там будем к вечеру, а не случилось. Теперь дня через два, пока доберемся.
— Авдеича упредить надо о задержке.
— Сына отправлю, упредит.
— Добро, тогда вот как дело делать будем. Когда в зимовье заедете, дымка пусти, мы-то рядом будем, ясно, раньше вас. Твое дело привесть их туда. Авдеича мы тоже встретим, за то не думай. Ближе к ночи аль под утро и нагрянем. Надо только, чтоб работники твои подале от зимовья свой шатер поставили, в распадке у речки там хорошее место. Придумай чё-ни-будь. Ну и сам, как солнце садиться станет, с работниками своими будь, чтоб все под твоим оком были. Чтоб, если скандал какой случится, тихо сидели. Ну а дело сделаем, я тебя кликну. Филином. Тихо придешь, один, пу и шум подымешь Потом, когда народ пытать начнут, все поклянутся, что ты с ними ночью был. Вот и все, Степан. А с ними мы с Авдеичем да Фролом легко управимся. Да, еще вот что, гостинец наш им на стол вечером тем поставишь. Сам не пей, с травкой дурманной водка. Выпьют, нам легче… Побрезгуют, больнее подыхать будут.
Фрол молча слушал разговор. Холодок прокатился по его телу от таких слов. Не врал Косых, не врал, действительно задумано злодейство смертное. И этот проводник не понравился Фролу. Слушает, а в глазах прищуренных темнота и холод, не поймешь, чё думает. Волчий взгляд, не человечий.
Матанин, выслушав Косых, поднялся и, кивнув Фролу, сел на коня.
— Бывайте, сделаю, как сказано, — сказал и припустил коня с места рысью. — Застоялся Бусый, а ну, давай, давай! — подгонял он коня, стремясь скорее уехать.
Гнал, пока не въехал в деревню. Здесь осадил и, спрыгнув, пошел пешком, ведя разгоряченного жеребца в поводу. Он шел и кусал губы.
— Сволочь! Какая сволочь! Все продумал, все, кажись, гладко! Не знал бы от Авдеича, за чистую монету принял бы уговор этот и… кормил бы рыбу в реке вместе с пришлыми. Теперь того не случится! Накось, выкуси! Надо же, упредил — отраву эту не пить. Меня, значит, не пожалел. Мне больно умирать бы пришлось! Вот гад! И этот бугай таежный с ним. Этого надо будет сразу кончать, с ним не совладаешь, если не завалить сразу. И чего он с ним?
Степан спустился к реке, где уже в сумерках весело горел костер.
— Бать, ты чё такой? — встретил его сын.
— Какой?
— Да это, лицом серый…
— Ничто, сынок, пройдет. Был кто из начальства?
— Сотник Пахтин.
— И что?
— Просил приехать к ним, как вернешься.
— Хорошо, съезжу. Ты вот что, езжай домой. Там сразу к Никифорову, передай, что жду его послезавтра, где договорились. Еще передай, виделся с Косых. Поклон ему мой передай.
— Чё?
— Ты чё, глухой, поклон ему мой передай, понял?!
— Понял, батя.
— Все, езжай не медля.
— Может, утром?
— Нет, сейчас езжай.
Василь вскочил на коня и, тронув поводья, попрощался:
— Ну, тогда я поехал, пока, бать.
— Эй, мужики, чем это от котла тянет, никак ушица? — Степан вытащил из сумы бутыль с водкой, что отдал ему Косых, и сунул в телегу с сеном, где спал Глотов.
— Она самая, Степан, присоединяйся.
— Вот и хорошо.
— Эй, мужики, дайте юшки, а то помру, ей-богу! — раздался слабый голос из телеги.
— Во, вроде ожил, налейте ему, а то и впрямь помрет.
— Ой, не надо-о-о-о!
— Чего не надо?
— Водки не надо!
Надрывный голос, едва ли чуть не плач, из телеги потонул в общем хохоте.
— Кто ж тебе ее даст! Ты свое выпил! Ухи-то налить?
— Вот-вот, юшки… жиденькой…
Похлебав наваристой ухи, Степан поехал к начальству. Хорошо, хоть было чего сказать — мастер очнулся и целую миску ухи съел, значит, жить будет!
— Ну что, Фрол, веришь теперь?
— Да, правда твоя. — Фрол встал. — Семен там тревожится, поди, куда мы делись. Как бы в поиск не кинулся, разминемся.
— Лошади готовы. Только придется задами деревню объехать, мне, сам понимашь, ни к чему здесь рожу казать.
— Поехали.
Фрол и Косых ельником, по берегу Рыбной, обошли деревню и переправились на тот берег. Пришлось вымочиться, глубоко переходили, угораздило Матани-на как раз напротив переправы свой лагерь поставить. Ни пройти, ни проехать незамеченным, хоть уже и стемнело.
Семен их встретил вопросом:
— Где провалились? Я уж не знал, чё и думать.
— Ага, подумал, поди, что кончил я твоего дружка? — ощерился Косых.
— Жила у тебя тонка, таких как Фрол кончать! — зло ответил Семен.
— Тихо ты, не шуми. Задержка вышла, сам видел, экспедиция сюда пожаловала. А ведет ее Степан Мазана, подручный Никифорова. Вот он и предложил с ним встретиться. Обговорить дело. Все, Семен, подтвердилось, сам разговор слышал. Потому и задержались.
— Да видел я, как они на берег спускались. Схорониться пришлось. И Матану видел. На нем крови старательской не меньше, чем на этом, — кивнул Семен на Косых.
Тот удивленно на него посмотрел. Семен заметил этот взгляд и спросил:
— А то ты не знаешь, вместе же разбойничали?
— Что знаю, то мое, за то отвечу.
— Моих товарищей Матана вырезал, после нашей с тобой встречи в Кулаковой деревне.
— Врешь ты, не догнал он тогда вас.
— Догнал и повязал со своими людьми. Токо я ушел ночью, а потом туда вернулся. Всем моим горло перерезали люди его. Вот так было.
— Не знал того… не знал…
— Выходит, промеж вас не все чисто было, поди, золотишком он с вами не поделился тот раз.
— А у вас тогда было? Вы ж только заходили.
— А ты у него спроси при случае, куда он его дел.
«От сука!» — подумал Косых и ответил:
— Мне теперь незачем спрос учинять, а тогда нам про то он не сказал. Теперь, когда схватимся, он вас зубами рвать будет, коль то, что ты сказал, правда…
— Да, весело… — подытожил разговор Фрол. — Мне он сразу не понравился. Закрытый, тяжелый мужик.
— Матана сам себе на уме завсегда был, но слово его кремень, чё пообещал, сполнит в точности..
— Ну, нам ночевать здесь не с руки, так что едем, пока луна светит. Семен, отдай ему коня, пускай на своем едет.
— Пусть едет, только ружьишко его я себе возьму.
Луна в ту ночь была яркой, небо безоблачным, ехали быстро и часа через три были уже на белых камнях.
Тут и остановились у одного из шалашей. Здесь время от времени кто-нибудь известь готовил. Прямо на поверхность выходили ее пласты. Расквашенная дождевой водой, белой пеной покрывала она скальные выступы. Издали, под светом луны, как будто снегом подернуты.
«Красиво-то как», — думалось Фролу. Разгоревшийся костер погрузил все окружающее в темноту. Много ли надо уставшему путнику: седло под голову, лапника охапку под себя да костер, чтоб душу согревал. Так и улеглись. Спать по очереди сговорились. Косых караулить все одно надо было, Семен настоял.
И был прав. Тот не спал, хотя делал вид, что спит. Он не был связан, но и не был свободен. Он не был свободен уже сутки и за это время многое понял. Он понял, что попал в капкан, самому же себе и расставленный. Понял, что стал не нужен тому, кому служил преданно, как собака, всю жизнь. По чьей воле убивал. Теперь же, когда вот он, рядом, тот, кто хочет спросить его за жизни им отнятые, ему не его, защищая свою жизнь, убить хочется. Нет. Ему хочется за горло взять Никифорова, и не просто взять, а заглянуть в его черную душу и вытряхнуть ее из него. Но он сделает это сам. Ему помощники ни к чему. Эти двое, дурни, поверили ему. Ну, почти поверили. Семен, собака, глаз не смыкат, а невдомек им, что живы они, пока еще ему нужны. Там, в зимовье, не смог он топор в руки взять, ноги связанные затекли и не слушались, а то еще там бы порешил он их. Потом прикинул, Никифоров не дурак, не один будет, тот же Матана с ним. Вот тут-то они и сгодятся до поры, а там посмотрим. Нужны они ему пока! Нужны! И Матана вовремя подвернулся, теперь Фрол для Матаны враг, потому как с ним, а Магана для Семена, как выяснилось, должник и кровник! Во как оно завернулось! Поглядим еще, кто в землю рылом раньше уткнется. Поглядим! Эх, дурни, могли бы спать спокойно, зарезать их он уж давно мог, нож со стойбища в рукаве. Какие с них сторожа!
Косых вздохнул, повернулся на бок, отвернувшись от огня. Семен встал, подкинул пару сучьев в огонь и отошел в темноту. Вернувшись, подсел к костру и закурил. Он поглядел на Косых: «Не спит, гад, притворствует. Ничё, я тебя не упущу, если б не Федор, давно уж землю бы нюхал…»
Косых заворочался и сел.
— Чего не спишь?
— Да не спится под твоим присмотром, ты ж мне в затылке взглядом, поди, дырку высверлил.
— Я б тебе уже давно ее сделал, кабы не Федька Кулаков.
— Не грозись, знаю и пощады от тебя не жду, но свое обещание сполню, выслобожу Федьку, уж говорил про то. Другое хочу спросить. Ладанка та, что к золоту водит, у тебя?
— Тебе она уже не пригодится…
— Взглянуть хотел, ради чего столько крови пролито… нешто впрямь указует на жилу, а?
— Указует, но только добрым людям.
— Покажи.
— Да нет ее у меня.
— А где ж она?
— Потерял, пока от тебя бегал.
— Врешь.
— Может, и вру, токо не видать тебе ее николи.
— Покажи, Семен, любопытно, что это за штуковина такая.
— Сказал же, нету ее у меня. Довольно об этом, спать ложись.
— А давай я посторожу, а ты поспи. Мне уже не хочется, вон, скоро заря…
— От кого ж ты нас сторожить будешь, от себя, что ли?..
— А ты чё, меня сторожил? Ну, Семен, слову моему не веришь, я ж мог в деревне уйти от Фрола, а не ушел.
— Куды б ты делся, Пахтину в руки?
— В тайгу бы ушел.
— Ладно, не ушел так не ушел, мы тоже слово держим — живешь же!
— И на том спасибо.
Фрол открыл глаза и повернулся к ним. Посмотрев на одного, потом на другого, прорычал:
— Мужики, уймитесь, а?! Нешто спать неохота?
— Вот, бери пример, — прошипел Косых, усмехаясь, и тоже улегся спать.
Солнце уже было высоко, когда они проснулись. Вернее, проснулся Семен, у еле тлевшего костра, кроме него, никого не было. Он вскочил на ноги и увидел Косых и Фрола. Они мылись, раздевшись по пояс, в ручье. Семен, облегченно вздохнув, пошел к ним.
— Утро доброе!
— Доброе, доброе, присоединяйся, — ответил Фрол. — Ох, хороша водица, всяка нечисть ее боится!
Вскоре они уже ехали каменистой тропой, все дальше уходя в золотую северную тайгу. К вечеру, обойдя приисковые участки, углубились в кедровые боры. Здесь было людно. Уродил кедр этим летом. Лохматые кроны усыпаны гроздьями. Ветви, не выдерживая, ломались от ветра. То и дело со свистом проносились с высоты и зарывались бесследно в мох тяжелые смолистые шишки. Две или три бригады трудились на добыче ореха. Еще издали слышны были гулкие удары колотов о кряжистые стволы да веселые девичьи голоса. Били шишку мужики, да еще и не всякий мужик способен с хорошим колотом управиться. Этакий деревянный молот с двухметровой рукоятью из сухого елового тонкомера — по крепости на излом ни с чем не сравнить — и чурка березовая, сырая, пуда три весом, на него через «ласточкин хвост» насаженная. Вот на плече от ствола к стволу и носит его боец по таежным буреломам да камню. И бьет, с ходу упирая конец в корневище, со всего маха в ствол, от чего сотрясает его, и сыплет испуганное дерево плоды свои на землю, сбрасывает, чтоб не били его больно. Смоляными ранами весь кедрач по осени плодородной страдает, потому и рожает, верно, редко, раз в два-три года, пока не залечит их да про них не забудет. А без ореха тяжко на Ангаре. Кедровое масло и на сковородках скворчит и в лампадках светит. Потому урожайный год — удача, а сама заготовка — праздник для деревни. Заранее проведывают кедровые урочища. От бурелома чистят, от пожаров лесных ограждают. Большим биваком стоят бригады. Девки да бабы шишку в широкие фартуки собирают, так и снуют возле бойцов. С фартуков в мешки «хохотунчики» сыплют, подымешь такой мешочек в рост человека — обхохочешься. С мешков лошадьми в срубы, по бору с умом расставленные, развозят и ссыпают. А тут уже старшее поколение трудится, старики ребристыми терками шишку мнут, размочаливают. Бабы на ситах орех от пятака[7] да ости отделяют, и летит тот орех по ветру, от души швыряемый совками в широкий завес, и скатывается чистым и полновесным, а вся шелуха да пустышка на землю падает. В ней и остается, место не занимая, не мешая здоровому зерну дышать да гнили в нем не заводиться. Все в этом нехитром промысле продумано. Вот бы людей так, перед тем как в мир выпустить, через сита…
— Здесь на бережку, у излучины и остановимся, с дороги нас не видать, а мы их сразу заметим, — сказал Косых, съезжая по косогору к речке.
— Вот кака ты у нас краса, залюбуешься, — приговаривала Ульяна, расчесывая волосы Анюты.
Анюта действительно быстро шла на поправку. Раны зажили и не беспокоили ее, она все больше набиралась сил, и уже не раз ее звонкий смех радовал старца. Федор не отходил от Анюты, они были вместе весь день, и только поздно вечером Ульяна уводила Анюту в свою половину, и он оставался один. Этим вечером Федор вышел к костру, у которого сидел старец.
— Добрый вечер, — поклонился он Серафиму.
— Садись, сынок, поправь огонь.
Федор подбросил несколько веток и подгреб уголья. Пламя взметнулось искрами и весело затрещало, облизывая сухие еловые ветки. Легкий дым, поднимаясь, таял в кронах могучих сосен, сквозь которые сияла полная луна, затмевая своим светом звезды.
— Что, скучаешь? — спросил отец Серафим, заглядывая в глаза Федора.
— Скучаю, — честно признался Федор.
— Вижу. Это хорошо. Коль люба тебе Анюта, завсегда скучать будешь. Даже вместе в одной постели спать будете, пока спишь, соскучишься, вот так вот.
— Да ну, как это, спать-то в обнимку будем, — несколько смутившись, возразил Федор.
— Вместе-то вместе, да врозь, когда тело спит, душа сама по себе живет.
— Как это, сама по себе?
— А так, она же свободная, к телу ремнем не привязана. Тело за день намается, ночью спать должно, а она, душа, пользуясь этим, и обитает там, где ей надобно, от тела отлетая. Она может и в прошлое твое вернуться, и в будущее заглянуть. Для нее нет ни времени, ни пространства, она вездесуща.
— Как Бог?
— Она и есть частица Бога, так же как ты — частица всего мира им созданного. Но она и ты есть одно целое, только, заботясь о тебе, душой Бог управляет, а своим телом ты.
— И что она там делает, ну, отлетая, пока я сплю?
— Путь твой указует. Ежели нагрешил, трудится нещадно, разгребая грязь тобой сотворенную. Совесть твою чистит. Слышал, наверное, тот, кто совестью не чист, спать спокойно не может, потому как душа отдыха не имеет. Хоть сутки валяйся, а встал — и тяжко. Вот если помыслы твои и дела праведные — отдыхает душа, летает в небесах, миры иные, родичей умерших навещает, плоды вкушает чудные в садах благоухающих. Проснулся человек, а на душе легко и радостно.
— А как это, путь указует?
— Вот смотри — топор. Он создан, чтоб дрова колоть, деревья валить. Так?
— Так.
— Вот лопата…
— Чтоб землю копать… — продолжил Федор.
— Вот видишь, все сотворенное свое предназначение имеет. И все живое на земле не просто так, а для чего-то. Ты, Федор, тоже Богом для чего-то создан. И каждый человек для чего-то создан, только не сразу и не все понимают, для чего. Оттого маются по жизни, потому как не тем путем идут. На одни и те же грабли наступают, а идут. Не получается дело, не ладится жизнь с человеком, а они упорно своего добиваются. Себя и других до изнеможения доводя. Не понимая того, что просто не то это, для чего они здесь, что успех рядом, только нужно изменить свой путь. Вот душа и подсказывает. Путь истинный, предназначенье, только ее слушать надо уметь. Иной раз даже показывает. Вот ты сны видишь?
— Вижу, иногда, только они не запоминаются. Или только самую малость помнятся.
— Это потому, что душа с телом во сне очень тонкой нитью связана, как лучиком солнечным, тонюсеньким, через него и видишь ты то, где она бывает и чем занята, но только тогда, когда она тебе желает подсказать что-то или прояснить. Коль сон приснился — это весть от души, ее понять надо.
— Дак как понять, если токо проснешься, а сон уже и забылся.
— А ты, проснувшись, глаза-то сразу не открывай, полежи с закрытыми, припомни, что тебе виделось, представь еще раз те образы, тогда, может, и поймешь, к чему тот сон.
— Один сон хорошо помню, — встрепенулся Федор. — Летал, прям над Ангарой летал, так здорово!
— Это душа твоя благодарила тебя за дело доброе аль помыслы светлые.
— Получается, жить надо с умом.
— Нет, Федор, жить надо по совести.
— А по совести разве это не с умом?
— Вон, обидчик твой, Никифоров, как думаешь, с умом живет?
— Ясно, с умом.
— С умом, да не по совести! Думаю, давненько он спокойно не спал… Он, видно, из тех, кому совесть шибко жить мешает. Есть, Федор, и такие люди. Им совесть что гиря на шее. Они ее снимают и в дальний угол, под хлам ненужный прячут. И живут без нее, без совести. Только не понимают они, что совесть-то — это же их душа. И спрятать ее нельзя, и жить без нее тоже нельзя, потому болит их душа брошенная, опустошается. Все у них есть, потому как без совести им проще и на обман, и на воровство идти, только радости в жизни у них нет и быть не может. Удовольствия для тела есть, а счастья нет. Недоступно счастье человеческое. Пусто в их душе, и на склоне лет своих умирают они на злате да серебре смертью мучительной.
Душа брошенная, совесть потерянная, преданная умом расчетливым, не выполнив своего предназначения в этом мире, кричит и бьется в умирающем теле. Она-то знает, что в следующей жизни влачить ей нищенское существование, а то и того хуже, придется все то зло, что людям в этой жизни сделано, на себя принять. И ничего уже нельзя поправить, ничего не изменить, жизнь зазря прожита.
— И что ж люди, про то зная, живут, про совесть забыв, и не страшатся будущего?
— Люди по-разному живут. Одни верят в Бога, другие только вид делают, что верят. Одни по совести живут, другие обманом. Те и другие в страхе ждут кончины своей и дороги в ад или рай, потому как только там, на Страшном суде, будет их участь решена. Кем-то. Судьей неведомым. Оттого страх. Без-грешных-то нет, у каждого сомнения. Вот и думает каждый, как бы грехи сокрыть аль оправдать. А попы тут как тут, говорят, что грехи замолить можно, что отпускает Бог грехи. Вот и бьют поклоны да дарами откупаются от грехов своих. Только и те и другие в заблуждении пребывают. Нет никакого рая и ада тоже нет. Все придумано. Есть вечно живая душа, в каждом из нас воплощенная. В телесах наших временно пребывающая, на земле, Богом созданной для испытаний ее зрелости. Пройдет эти испытания — дальше ее светлый путь в иные миры, не пройдет — снова сюда, на путь испытаний, только уже с грузом прошлой жизни. Потому жить надо разумно и по совести, не делать того, что ей противно, чего душа не приемлет. К чему сердце не лежит. Всему мерилом совесть, она и есть судья твоим поступкам и палач. — Отец Серафим замолчал. Его лицо в свете костра казалось выточенным из дерева.
Небо перечеркнула упавшая звезда, одна, за ней другая. Костер догорал, мягко светясь малиновыми угольями. Федор сидел и вспоминал. Он перебирал в памяти свою пока еще короткую жизнь, выискивая в ней то, что сделал не по совести.
— А что, если против совести поступил по глупости своей, прощения уже не будет?
— Уже одно то, что ты об этом подумал, — шаг к прощению. Попроси его у того, кого обидел вольно или невольно, и не поступай так боле никогда. Дело сделай доброе, чтобы душе приятно стало, чтобы возрадовалась она. Только поступками, а не мыслями о них душа-совесть очищается.
Старец встал:
— Что-то мы, Федор, засиделись, пора на покой.
— Отец Серафим, можно я еще один вопрос задам?
— Можно.
— Почему вы здесь живете? От людей в стороне.
Старец улыбнулся:
— Здесь мне думать никто не мешает. И я никому своими мыслями не мешаю. Все, пошли спать, сынок.
«Как там дела у Семена с Фролом?» — думал Федор, засыпая на скамье. Небольшая лампадка мягким светом освещала комнату. Этот огонек был живым, он светил то ярче, то замирал и казалось, вот-вот погаснет, оттого бревенчатые стены как будто дышали, то расширяясь, то смыкаясь. Федору казалось, что он и этот огонек — одно целое и этот свет уводит его все дальше и дальше, что этот свет он держит перед собой на ладони…
Ночь накрыла Ангару и ее притоки черным покрывалом. Затихла тайга, затаилась тысячами глаз, замерла под древними скалами и разлапистыми елями. Укрылась темнотой, как спасительным занавесом, но жила тихо и осторожно. Только летучие мыши, покинув сырые расщелины и дупла, рыскали в темноте, перечеркивая ночное пространство внезапно и пугающе. Им бояться нечего, сами страшные, хоть и безобидные твари.
— От напасть какая, откель их здеся столько? — ворчал Семен, скидывая с себя очередного летучего грызуна. Он сидел у костра в одной рубахе, помешивая в котелке варево. — Интересно, почему мыши на белое кидаются?
— Дак спят днем, потому по белу свету, видно, скучают… — пошутил Фрол.
— Не, вишь, какие они мерзкие? Красоты им Бог не дал и запрет на свет белый, видно, наложил, так они запрет-то и пытаются нарушить. Все, что запрещено, нарушить хочется. Сладок запретный плод, сладок…
— Это ты о чем, Семен?
— Да так, вообще о жизни.
Косых уже спал. Свалили усталость да бессонная прошлая ночь. Спал по-настоящему, без притворства.
— Стоянку охранять не надо. Ни одна зверюга не подойдет… — шутил Фрол.
Косых храпел мощно и протяжно.
— Слушай, Фрол, по-моему, сглупили мы, зря сюда его привели. Там надо было его додавить.
— Почему?
— Как думаешь, что завтра будет? Ну, приедет Никифоров со своими хлопцами, встретятся они, и что? Да, завалят они нас с тобой в этом лесу и дальше поедут Пахтина с приезжими кончать. Не верю я ему, задумал он что-то неладное.
— А как нам его заставить правду про Федора сказать, в убийстве признаться? Он же пообещал с Никифоровым поквитаться и тогда про Федора…
— Фрол, а что, если он Никифорова убить задумал? Завалит его, а мы, выходит, его подельники станем. О каком Федоре тогда забота будет? Самим кабы уцелеть!
— Мы ж рядом будем, как он его завалит… — с сомнением и неуверенно проговорил Фрол. — Однако прав ты, Семен. Вот что, ты оставайся здесь, стереги этого, а я поехал навстречу Пахтину, они, должно, уже недалеко на ночлег встали.
— Езжай, Фрол, постарайся скоро вернуться, чтоб этот не понял ничего.
— Добро.
Не прошло и двух часов, как Фрол вернулся. Семен подошел от костра, принимая коня.
— Ну чю, не нашел?
— Да рядом они, за сопкой, ниже по ручью, место такое неказистое, чё они там встали?
— Матане видней, где стоянку ставить, он же их ведет, ты на него не наскочил, случаем?
— Не, Пахтин с начальством выше стали, встретился я с ним, обсказал все про Федора, а он хохочет, это все, говорит, нам уже наперед известно. Не убивал Федор, потому как без шомполки своей в тайгу ушел. Сила Потапов с братом ему ее намедни, перед выходом экспедиции, принесли и рассказали все, что видели и слышали. Выходит, правильные их подозрения были, Косых повинен в убийстве. Так что пущай Федька по тайге не прячется, домой идет, снят с него сыск. — Фрол замолчал.
— Ну а дальше?
— А что дальше?
— Ну, про то, что мы Косых привели, и то, что на них нападение приготовлено?
— Не стал я про то сказывать. Нам что надо было, Федора спасти?
— Ну?
— Ну так все само собой разрешилось. Отдадим утром Пахтину Косых, и все. Пусть сам с ним разбирается, наше дело сторона. Не приучен я на людей доносить.
— Так рази это люди?
— Все одно, пусть сами разбираются. Да еще, я подумал, может, ты за дружков своих побитых сам ему бошку проломить захочешь?
Семен посмотрел Фролу прямо в глаза.
— Ты чё, Фрол, нетто ты так подумать мог?
— А чё, ты ж грозился!
— То ж в сердцах! Я…
— Шучу я… пошли спать, утром…
— Погоди, неладно это, душегуб Косых и смерти заслужил, но мы ему слово дали, что свидится он с Никифоровым перед тем. Нельзя слово-нарушить, нельзя.
— Да. Верно это. И что теперь?
— Отпустить его надо. Пускай идет сам по себе, раз мы в нем больше нужды не имеем. Пусть с подельником своим счеты сводит без нас, а мы к Пахтину завтра, присмотрим за Матаной. Ну и, ежели что, поможем ему.
— Отпустить?! Хорошая мысль, а кони?
— Дак коней же он нам подарил. Тут все по-честному, — улыбнулся Семен.
— Иди, уже светает, поднимай пленника, да пинка ему под зад, чтоб духу его здесь не было.
Семен пошел к костру, где в шалаше спал Косых. Через минуту его крик раздался:
— Фрол! Нету, ушел Косых, дыру в шалаше проделал и ушел.
— Когда?
— Ты приехал — он еще храпел. Видать, проснулся да разговор наш услышал.
— Не мог он услышать, мы тихо говорили.
— Что с того, ушел ведь гад.
— Ну, ушел так ушел, и мы поехали, собирайся, чё там у нас. Коня его отвяжи да оставь, может, найдет хозяина.
Только одну фразу расслышал Косых, когда проснулся:
— Отдадим утром Пахтину!
— От суки! И эти предали… — Косых вытащил нож, выбраться из шалаша было нетрудно…
Дорога, если это вообще можно было назвать дорогой, была ужасной. К концу первого дня пути Якова растрясло так, что он чувствовал себя окончательно разбитым. Это он настоял, чтобы как можно скорее остановились на ночевку. Вообще, все с самого начала пошло не так. Провозились с этим пьяницей, пришлось ночевать в какой-то вонючей конуре, уступив хорошую комнату Белоцветову. Потом в пути дважды отлетало колесо в пролетке, причем это сопровождалось длительным ремонтом под палящим солнцем и тучами комаров, не дававшими свободно дышать. Теперь, когда наконец, отдохнув от тряски, после плотного и довольно вкусного ужина он уже приготовился улечься на пуховик в своей палатке, его позвал Пахтин:
— Яков Васильевич, опять беда! Поручику не доложил пока, не знаю, что и делать.
— Что случилось?
— Мастер опять мертвецки пьян.
— Как это? Кто ему дал водки?
— Никто не давал. Ее и нет ни у кого. Только в нашем провианте, но там все цело. Выходит, он ее с собой припас, а мы проглядели. Думаю, может, до утра проспится. Вот угораздило нас с этим Глотовым!
— Где этот негодяй?! — взорвался Спиринский.
— В телеге дрыхнет, где еще.
— Приставить к нему караул надобно, не дай боже завтра опять опохмелится.
— Я его завтра сам лечить буду, пусть только в себя придет!
— Ну и ладно, не тревожь поручика, утром разберемся.
Неспокойно было на душе у Спиринского, долго он ворочался на своем пуховике, пока не уснул. Видано ли дело, он все просчитал, все продумал — и на тебе, из-за этого мерзавца вся компания под угрозой! И ведь не выгонишь, нет мастеров горных, хоть из самого Петербурга выписывай, так год ждать, пока прибудет. Беречь этого прошелыгу придётся! Некуда деваться!
Матанин спохватился поздно, он забыл про подарок Косых, а когда вспомнил, Глотов уже не раз приложился к найденной в телеге бутыли и просто отключился. Зелье было крепким и усыпляющим намертво. Матанин, конечно, не сказал Пахтину, откуда оно появилось, не враг же сам себе. После встречи с Косых был осторожен. Он знал план Косых, но не верил ему. К месту намеченной встречи он должен был быть завтра. Но уже сегодня, останавливаясь на ночевку, выбрал открытое место, в чем не ошибся. Ночью заметил всадника, скользнувшего вдоль ручья в их стан. Разговора не слышал, но признал того, с кем говорил Пахтин. Это был Фрол, тот мужик, что приезжал с Косых. О чем они могли говорить? Неужели Пахтин в сговоре с Косых, почему Фрол приезжал не к нему, а к Пахтину? Что-то здесь не так. Пахтин и Косых враги. Значит, Фрол человек Пахтина и вся эта затея — ловушка для Никифорова и Косых. Но кто он в этой игре? Получается, что он человек Никифорова и Косых. Получается, что он их подельник и, как слепой котенок, сам ведет себя в эту ловушку, откуда выхода не будет и для него. Фрол слышал их разговор с Косых, видел, как тот отдал ему эту бутыль с зельем, от которой сейчас корчится в отключке горный мастер. Матанина прошиб холодный пот. Он не знал, как поступить. Не знал, что делать. События развивались сами по себе, с неумолимой силой втягивая его в свои жернова. Еще час назад он четко и ясно понимал, как он, владея ситуацией, возьмет и раздавит Косых. И его действия оценят. Теперь он не знал, как ему быть. Нужно бы упредить Никифорова, но как? Эту ночь он не спал.
Не спал эту ночь и Никифоров. Вернее, он уснул, как всегда приняв на душу одну-другую рюмку очистки, но проснулся внезапно от страшного и жуткого по своей правдоподобности сна. А приснилось и, самое главное, врезалось в память вот что.
Будто у себя в доме собрался он обедать, и вдруг, резко распахнув двери его горницы, вошли сваты. Дело житейское, и дочерей у него было на выданье три, только побагровел и речь он потерял. Речь потерял, а разумом взорвался от негодования от столь возмутительной дерзости. В его горнице, в доме его, в белых шелковых косоворотках, широких бархатных шароварах, заправленных в высокие кожаные и до блеска начищенные бахолы, с перевязями сватовскими через грудь, стояли двое мужчин. Оба высокие, широкоплечие. Один молодой, русый, с голубыми глазами и черными бровями вразлет, курчавая борода только обрамила его крепкий подбородок, второй, уже в годах, с черной впроседь широкой бородой и огромной копной кудрявых, из кольца в кольцо, волос на голове. Что одного, что другого он знал, больше того, что одного, что другого он долго искал и просто мечтал увидеть, но только не здесь и не сейчас, а желательно на том свете. А они спокойно стояли перед ним. Они не просто стояли, они издевательски, как казалось, улыбались ему в лицо. Он еще не пришел в себя, еще только пытался сообразить, что происходит, а они, с достоинством поклонившись, прошли и сели на лавку под матицу[8]. Да перед тем как сесть, лавку от стены тяжелую легко вдоль матицы и выставили.
— Как прошли?! Кто впустил?! — побагровев лицом, прохрипел он. Его кулаки сжались, и весь он, как будто к прыжку изготовившись, подался из-за стола вперед.
— Не грози, хозяин, не по правилам разговор заводишь, мы с миром пришли, по делу. У тебя товар, у меня купец, надо дело ладить, — спокойно ответил ему тот, что был старше. Недобрые огни сверкнули в его глазах, в упор глядевших на Никифорова.
— Не бывать тому, морды варначьи! — взревел он, вскакивая.
Чуть не опрокинутый тяжелый, из сосновых плах, стол с грохотом опустился на полы. Покатились слетевшие чашки, и огромный медный самовар покатился, поливая кипятком добела выскобленные полы. Из-за шторки кутьи высунулась и спряталась испуганно кухарка. Гости, не шелохнувшись, сидели.
— Не гневи Бога, хозяин, добром прошу, — произнес чернобородый, продолжая сверлить взглядом надвигавшегося на них Никифорова.
— Не тебе Бога поминать! Вон из дома! Вон! — бешено заорал, тряся кулаками, и вдруг осекся.
В распахнувшейся двери появилась его дочь Анюта, ее глаза были наполнены слезами, губы дрожали. Прислонившись плечом к дверному косяку, она смотрела на отца. Тот в недоумении на нее.
— Ты пошто здесь? — прохрипел он. — Ты ж, энтово, пропала…
— Не пропала я. Живая. За Федором я, по своей и по божьей воле, выгонишь его, следом уйду.
Молодой встал и, поклонившись в пояс растерявшемуся Никифорову, сказал:
— Не серчай, что вышло так, но, обычаи соблюдая, пришли мы твоего благословения просить, отец. Можешь отказать, выгнать — все одно вместе уйдем.
Анюта, метнувшись от дверей, встала рядом с Федором. Встал громадой за их спинами и чернобородый.
— Глянь в окно, купец, сколь товару тебе в подарок от жениха.
Он машинально поглядел в распахнутое окно и увидел, как в раскрытые ворота его просторного двора въезжают, один за другим, возы. Наметанный глаз сразу определил, что в возах мешки с мукой и сахаром, тюки тканей, ящики с посудой и прочим товаром. Чернобородый, выйдя вперед, хитро подмигнул Федору и Анюте. Он тоже смотрел в окно, где закипела работа, — грузчики уже дружно разгружали первый воз, укладывая товары к дверям амбара. Заметив в окне чернобородого, один из них крикнул:
— Семен, куды складывать-то, не на землю ж?
Семен вопросительно посмотрел на Никифорова.
Тот, мотая головой, все еще сжимая и разжимая здоровенные кулаки, не отводя глаз от происходящего во дворе, вдруг рявкнул:
— Куды ты, растяпа! То ж мука, не трожь! Васька, раскрывай хлебный анбар!
Стоявший чуть в стороне, как бы ни при чем, кряжистый мужик в синей косоворотке, кивнув, быстро побежал к амбару, весело звеня связкой ключей в руке.
— Так что, Иван Авдеич, каков твой ответ молодым будет? — повернувшись от окна к купцу, спросил чернобородый.
А он и ответить ничего не может, потому как во дворе мешки с мукой рвутся в руках грузчиков, и сыплется белая крупчатка в грязь, и топчут ее ноги мужицкие… А из распахнутого амбара выползает весь в крови Иван Косых и, грозя ему в окно кулаком, кричит:
— Не замай меня, Авдеич, не замай, кровушкой своей умоешься!
— Пошли вон! — прошипел он чернобородому. Повернулся к нему, а его и нет, а вместо него стоит Матана, и в руках нож окровавленный.
— Сполнил я твою просьбу, Иван Авдеич, за это хочу твою душу забрать, моя-то бросила меня… — и ближе, и ближе идет.
А он, как прирос ногами, двинуться не может, и тогда закричал он… И проснулся. Весь мокрый, и зубы мелко стучат. Дотянулся до приглушенной лампадки, трясущимися пальцами добавил свет и. увидев в дверном проеме жену, со свечой в руках, чуть не рухнул без памяти.
— Что с тобой, Иван, ты так кричал…
— Ничё, иди спать, дура, напугала до смерти! — заорал он на жену.
Никогда раньше не слышала она от него такого. Строг был, но чтобы вот так грубо, никогда…
«Плохо дело», — подумала она и тихо ушла, не проронив ни слова.
Никифоров уже так и не уснул до утра. Думы, одна тяжелее другой, не давали ему покоя. Он почувствовал опасность. Страх, пришедший к нему, во сне не покидал его, как он ни старался. Только приличная доза спиртного заглушила, не опьянив, но вернув ему способность действовать. А действовать он решил без промедления. С утра, едва солнце взошло, прошелся по своему двору. Посмотрел амбары, конюшню, велел готовить лошадей и направился в заезжую избу на Комарихе. Там за завтраком и встретил Пелагею Уварову.
— Доброе утро, Иван Авдеич! — приветливо встретила она.
— Доброе, доброе, — ответил Никифоров.
— Чего так рано-то, не спится?
— Хозяйство большое, ему присмотр нужон.
— Так у вас приказчики есть, аль не справляются?
— Справляются, справляются, я нерадивых работников не держу. Сегодня по приискам собрался проехать, заодно провиант кое-какой твоему поручику завезти надобно на зимовье.
— Иван Авдеич, а не возьмете меня с собой?
— Отчего не взять, свидитесь, поди, соскучилась?
— Ой, спасибо!
— Тогда собирайся. Только учти — верхами едем. Сможешь?
— Отчего нет, я ж деревенская, — подхватилась Пелагея, оставив свой завтрак нетронутым.
— Да ты поешь, дорога-то дальняя, успеешь собраться.
— А он там ждать вас будет?
— Конечно, уговор об том был, — соврал Никифоров.
— Тогда я быстро. Я мигом. — И, сияя обворожительной улыбкой, Уварова поспешно ушла.
— Я заеду, — сказал вслед Никифоров, проводил взглядом ее ладную фигуру и оправил руками бороду.
«Хороша, чертовка! Вот тут-то ты мне и сгодишься, красотка. Вовремя про тебя вспомнил. Вовремя и к месту. Чем не причина для моего приезда! Уговорила баба, соскучилась, вот и пришлось, бросив дела, ехать к вам. Почему не сделать приятное хорошему человеку», — прокручивал в голове свои мысли Никифоров.
Через час они уже были в пути. Никифоров хорошо знал дорогу, но поехали напрямую, через Шанежную гору, старательской тропой. Он хотел приехать раньше, чем экспедиция доберется до зимовья, встретиться с Косых и уговорить его скрыться. Еще вчера Коренной рассказал ему, что перед самым отъездом Пахтин сказал о том, что Федька Кулаков к убийству Соболева непричастен. Слишком поздно он спохватился.
Остановить Косых уже было невозможно, как невозможно остановить надвигающуюся тучу или ледоход на реке. Но Никифоров об этом не знал, не мог он знать о том, что было с Косых в эти дни. Не мог он знать о том, что теперь лютая ненависть этого человека направлена на него и именно ему грозит смертельная опасность, а не Пахтину с его друзьями. Для Косых круг замкнулся. Он понял, что его предали. Его искали как убийцу одни и уже приговорили к смерти другие, а тот, ради которого он убивал, совсем не заинтересован, чтобы его схватили живым. Это он понял. И этого было ему достаточно. Он сидел у ручья и затачивал сухой и крепкий, как железо, листвяжный кол. Фрол с Семеном его не искали, он это понял, когда к нему пришел его конь. В седле и с его припасами нетронутыми. Он не удивился, что и ружье его было на месте. Значит, даже они поняли, что выхода у него нет и не они ему враги главные. Потому и вернули и коня и оружие. Он сидел и точил острие кола так старательно, как будто от остроты его зависело все в его жизни. Здесь, у этого места, сходились старательские тропы, здесь он ждал Никифорова и не ошибался. Именно сюда несли кони Ивана Авдеича, но не одного, а с Пелагеей Уваровой. И это было для Косых неожиданностью. Он услышал их задолго до появления, слух у него был от природы хорош, да потеря глаза его, видно, еще усилила. Когда он услышал смех женщины, это его несколько озадачило, но ненадолго. Не повезло бабе, да и только.
«Жаль, придется без разговору в расход пускать», — спокойно решил он. Удобно устроился меж корней, взвел курок ружья. Косых стрелял хорошо и промазать с двадцати шагов, что отделяли его от тропы, просто не мог. Вот и показались всадники. Они ехали медленно, о чем-то оживленно разговаривая. Рядом с Никифоровым ехала Уварова. Косых знал Пелагею.
«Вот зараза, зачем она здесь! Завалить ее, что ли, вместе с ним? Жаль, хороша баба, пусть живет, а этот уже не жилец…»
В стволе его ружья был разрезной жакан, который при ударе в цель разворачивался розеткой, вырывая мясо и ломая кости. Легкого ранения от такого не бывало и быть не могло. Широкая грудь Никифорова была уже на прицеле у Косых, он затаил дыхание, палец его уже выбрал слабину пружины спуска, когда случилось непредвиденное. Всхрапнул призывно его конь, почуяв кобылу, на которой ехала Уварова. Косых от неожиданности чуть вздрогнул и выстрелил. Сильная отдача, и пороховой дым на какое-то время закрыл от него цель, но он увидел, как уткнулся Никифоров в шею лошади, как безжизненно повисли его руки, выпустив узду. Испуганные лошади понесли, и только топот копыт да нечеловеческий крик Пелагеи поплыли над распадком, уходя отголосками в сопки.
«Ну, с этим покончено», — довольно подумал Косых, отряхивая свой кафтан от налипшей хвои и песка.
— Ну, ты, дурило, чуть мне все не спортил, кобелиная твоя порода! — пожурил он коня.
Тот, подрагивая крупом от возбуждения, все косился вслед ускакавшей кобыле.
— Да, не мешало бы тебе кобылу, а мне ту, что на ней задницу натирает, — приговорил задумчиво, похлопал коня по спине, вскочил в седло и быстро поехал в сопку по одному ему знакомой тропе.
Нужно было успеть к зимовью на Шаарган. Успеть первым, чтобы приготовиться к встрече, но Пахтин и пришлые его уже не интересовали. В тайге они его не возьмут, возвращаться ему было некуда, добровольно в кандалы он не хотел. Ему нужен был Семен, и даже не он, а ладанка. Столько лет он гонялся за ней для Никифорова, теперь она покойному уже ни к чему, а ему в самый раз. Имея эту вещицу, уйдет в тайгу, и она приведет его к золоту. На первое время у него и так хватает, припрятано золотишко в надежном месте, но ему нужно много. А с золотом он купит себе все: и свободу, и новую жизнь, уйдет подальше от этих мест и заживет, земля-то большая…
Утро не было добрым для Спиринского. Еще только солнце встало, а шум и крик в лагере уже разбудили его. Он выглянул из шатра и увидел, что весь народ собрался у телеги, в которой спал пьяный Глотов. Что-то было не так. У телеги были и Пахтин с Белоцветовым. Спиринский быстро оделся и направился туда. Произошло самое ужасное, Глотов был мертв. В причине смерти никто не сомневался, захлебнулся собственной рвотой. Никто и не слышал, когда это случилось. Очевидно, ночью. Остыл уже покойник. Белоцветов был крайне озабочен. Он даже не поглядел в сторону подошедшего Спиринского. Развернулся и пошел к своему шатру.
«Все, экспедиция срывается», — с досадой думал Яков.
Пахтин и Матанин стояли чуть в стороне. Спиринский подошел к ним.
— Что теперь делать будем? — спросил он.
— Что делать, хоронить будем, отдал Богу душу человек, похороним, чего еще делать?
— Да это ясно, возвращаться придется, вот беда…
— Не придется, дальше пойдем.
Матанин и Спиринский оба удивленно посмотрели на Пахтина.
— Да как же без мастера-то? — вырвалось у Мата-нина.
— Есть мастер, — кивнул в сторону Пахтин.
Оба посмотрели туда: на другом берегу ручья стояла палатка и две стреноженные лошади паслись рядом.
— Под утро приехали мужики, один из них опытный старатель, дело рудное знает, я с ним уже поговорил, согласился с нами идти.
— Слава тебе, Господи! — перекрестился Спиринский. — Я уже думал, все, конец предприятию.
— Вот и ладно, Степан, дай команду, пусть мужики могилу копают. Похороним, и в путь.
— Хорошо, — кивнул Матанин и ушел.
Пока он шел, думал, что за старателя им принесло. Мелькнула мысль: только бы не встретить из тех.
— Васька, Семка, берите кирки, лопаты, вон там на бугре копайте могилу. Я пока крест срублю, да шустрей, хлопцы.
Взяв топор, Матанин вошел в прибрежный лес. Выбрав молодой листвяк, несколькими ударами завалил его и принялся за работу. Нехитрое дело для таежного человека обтесать из кругляка плаху да, прорубив «ласточкин хвост», без всякого гвоздя намертво засадить в нее перекладину. Что и было сделано прямо на месте. Взвалив себе на спину готовый смолянистый тяжелый крест, Матанин пошел обратно. Не было его в лагере не более часа. За это время и могилу выкопали, и покойника обмыли в реке, да в холстяную рубаху чистую обрядили. Кто-то, видно, свою пожертвовал. Лежит себе бедолага на лапнике, у могилки своей, нос в небо уставил, ничего его уже не волнует на этом свете. Мужики цигарки курят да на него поглядывают. Странно как-то все, обычно похороны — это рев да причитания бабьи, у мужиков глаза мокрые, а тут тишина, только река шумит да ветер в кронах деревьев балует. Нет-нет, да шевельнет редкую бородку покойного. Ушел человек из жизни, а его и узнать-то никто не успел, потому и жалости никакой. Ни к нему, ни к себе. Рыдают-то на кладбище, себя жалея, потерю оплакивая. А тут жалеть себя никому не за что, никто ничего не потерял. Вышел Степан, мужики крест у него приняли.
— Дак чё, опускать, что ли?
— Погодите, пойду начальство позову. Где они?
— В своем шатре собрались, разговоры говорят.
— С кем?
— Дак с энтим, новым мастером, чё ли?
— Пойду погляжу, погодьте пока.
— Обождем, нам спешить некуда, ему тоже…
Шатер Белоцветова стоял чуть в стороне, и голосов оттуда слышно не было. Но если бы Матанин услышал, о чем там была речь, наверное, он бы крепко задумался, прежде чем в него войти. Даже если бы он услышал только голос Семена… но он спокойно шагнул, распахнув полог, и увидел его. Он увидел и Фрола, что уже было для него неожиданностью, еще большей неожиданностью для Степана был, конечно, Семен. Семен был готов к этой встрече и сделал вид, что не узнал Матанина. Степан же, с ходу застыв на пороге, подался назад, как будто невидимая сила остановила и откинула его.
— Ты чё, Степан, шарахнулся как черт от ладана? — окликнул его Пахтин. — Мы тут как раз о тебе говорим, заходи, заходи.
Матанин стоял во входе, и взгляд его метался по лицам.
— Да что с тобой, проходь, сказано, вот знакомься с горным мастером, теперь вы вдвоем водить экспедицию будете.
Семен встал и протянул Матанину руку:
— Семен.
Матанин наконец шагнул в шатер и пожал протянутую руку:
— Степан.
При этом он взглянул в глаза Семену и не заметил в них чего-либо для себя опасного. Семен смотрел на него спокойно и доброжелательно. Чего это ему стоило, знал только он сам. Но так они с Фролом решили. Он Матанина ране не знал и нигде не встречал, и точка на том. «Пусть думает, что не узнал ты его, давно ведь дело было, может, и он тебя не узнает», — говорил ему Фрол. «Как же не узнает, узнал, вмиг узнал, аж лицом посерел», — думал Семен, пожимая его руку.
— Ты чего такой смурной, Степан? — спросил Пах-тин, заметивший состояние Матанина.
— Дак это, покойник, однако, хоронить пора, — нашелся тот.
Фрол, также наблюдавший всю эту сцену, спрятал глаза. В его глазах Матанин прочитал бы все, не мог Фрол даже притворно врать, ни языком, ни глазами, не таков был человек, и все. Когда же они вышли из шатра проститься с покойным, Степан сам отозвал Фрола в сторону.
— Фрол, — начал он, когда чуть отошли. — Ты это… На чьей стороне будешь, не пойму.
— А ты, Степан?
— Я сам по себе. Дал слово людям. — Степан кивнул в сторону Белоцветова. — Его и держать буду.
— А как же Косых?
— Мне Косых не указ.
— А Никифоров?
— Мне никто не указ, сказал же. Да и Никифоров тута ни при чем.
— Это как ни при чем, али не вместе вы решили от приезжих избавиться? Правду говори, Степан, я твою подноготную уже знаю.
— От Косых?
— От него тоже.
— Это Косых затея, а Никифоров меня упросил к ним наняться, чтоб от него избавиться.
— Это как?
— А вот так, иначе нельзя, ежели Косых на них кинется, я его и угомоню.
— Ловко задумано, только правда ли это, Степан?
— А вот придем на Шаарган, сам и увидишь. Где Косыхтто теперь, там, поди, ждет?
— Не знаю, мы с ним случайно сошлись, а потом разошлись. Разные у нас дороги.
Видел я тебя с Пахтиным ночью. Поди, меня в одну компанию с Косых зачислили?
— Не говорил я Пахтину про тебя ничего и про Косых тоже не говорил, другое у меня к нему дело, вас не касаемое. А Косых и вправду опасен, он как зверь недобитый теперь. Однако пошли, бросим горсть земли.
Покойника опустили, обложили еловым лапником и, установив в ногах крест, засыпали. Тяжелая в северной тайге земля, сплошной скальник. На могилу камень уложили, на котором накернить успели «Глот», да керн сломался, так и оставили, не дал Пахтин инструмент изводить напрасно.
После полудня экспедиция тронулась в путь. К вечеру они должны были выйти на речку Шаарган, там стать лагерем и уже оттуда начинать изыскательские работы. Больше всех был доволен тем, что произошло, Яков Спиринский. Он просто ликовал. Когда утром в шатре у Белоцветова он узнал про Семена, именно того старателя, с которым дружил Федор Кулаков, цепочка замкнулась. Само провидение привело этого старателя к ним, ведь именно у него и была ладанка рудознатская!!! Он, Яков Спиринский, об этом знал! Не догадывался Спиринский только, что об этом знал еще и Матанин.
Матанин ехал в голове колонны, бок о бок с Семеном. Фрол с экспедицией не пошел, после разговора с Матаниным о чем-то поговорил с Пахтиным и Спи-ринским и, простившись с Семеном, уехал. Долго ехали молча. Матанину было явно не по себе. Он не верил, что Семен не узнал его, но тот вел себя так, как будто они незнакомы. А если узнал?! Матанину вспомнилась та зима. Застали они тогда Семена с его ватагой в старом, брошенном, почти развалившемся зимовье. Гнались вслепую, без особой надежды на то, что найдут их. Возчик, что вывез старателей из Кулаковой деревни, только и смог сказать, что высадил их на развилке дорог. А куда пошли, одному ветру известно, потому искали наугад. Вымотались сами и коней замучили. Степан хотел было уже повернуть назад, в Рыбное, да заметил дым в логу. Туда и кинулись с последней надеждой и угадали. Вот они, голубчики. Повязать безоружных да обессиленных труда не составило, да и не сопротивлялись они. Позже долго не мог понять Степан, откуда у него взялась та лютая жестокость, может, потому, что устали и замерзли как собаки, а грелись спиртом, может, потому уже не разум, а инстинкт какой-то звериный им управлял. Ладанку золотую искали. Били люто, когда не нашли. Злило то, что, как ни били, не признавал никто, что знает про эту самую ладанку хоть что-нибудь. Этого Семена тоже били, пока сознание не потерял. Под утро уснули, а проснулись — нету его. Ушел. И снег свежий все следы скрыл. Еще больше озверели. Ну и порешили оставшихся, куда их девать было! Только когда кровь пролилась, опомнился Степан, с тех пор отказался от спиртного, но тем душу уже не очистить. Носил в себе Матанин этот грех в надежде, что сгинул Семен в тайге, а вместе с ним и тайна эта. А он не сгинул, вот он, колено в колено едет с ним рядом на коне, одной дорогой, в одном деле с ним, и непонятен он ему, а потому опасен. А может, и вправду не признал он его.
— Чего поглядывать на меня так?
— Как?
— Как будто я тебе рупь должен?
— Показалось тебе…
— Ничё мне не показалось, думаешь, признал я тебя али нет?
Матанин аж коня остановил от неожиданного вопроса.
— Езжай, езжай. Считай, что не признал.
— Это как это? — еле выговорил Степан.
— А вот так, простил я тебя. Нет у меня к тебе ни злобы, ни желания отомстить. Так что будь покоен, нож тебе в спину нс вгоню.
Матанин долго ехал молча, обдумывая услышанное.
— И чем я то прощение заслужил?
— А ничем, просто не вправе я тебя судить, ты человек подневольный, чужую прихоть сполнял. Судить тебя Бог будет, а мне дело делать надо да за тобой приглядеть, чтоб ты дров не наломал, Фрол поручил. Он поверил тебе, потому ты цел, но, видно, не до конца поверил, ты же сам сказал, на Шааргане видно будет. Вот и поглядим…
— Вон оно как!
— Да, вот так.
— Хорошо, там и поглядим, — после некоторой паузы ответил Матанин. Он пришпорил коня и вырвался несколько вперед, тем самым закончив этот разговор.
Перед тем как явиться к руководству экспедиции, Фрол долго убеждал Семена в том, что он не должен сводить счеты с Матаниным. Семен спорил и не соглашался. Он не должен остаться безнаказанным. Матанин убийца и должен ответить за все. Он убил его товарищей, он убивал и грабил людей. Сейчас пришел его черед, сила на нашей стороне, убеждал он Фрола. Фрол слушал его, хмурился и вдруг сказал:
— Ты ничем не будешь отличаться от него, если будешь мстить. Если тебе дорога моя дружба, оставь эти мысли, прости его, тебе самому будет легче.
Семен, ломая себя, согласился с Фролом, ради дружбы с ним. И только теперь, после этого разговора, он понял, насколько прав был Фрол. Ему действительно стало легче, как будто камень упал с души. Оказывается, ненависть и злоба, что он испытывал, мешали жить ему самому. Мешали вот так, как сейчас, спокойно дышать. Семен потрепал по шее коня, тот благодарно мотнул головой и тоже прибавил ходу, догоняя Матанина.
«Об чем меж ними разговор может быть, ведь враги заклятые, — думал меж тем Косых, наблюдая эту картину со скалы, под которой шла дорога. — Это хорошо, что чернобородый один остался, хорошо…» Он отполз от края, спустился вниз и тихим свистом позвал коня. Тот тут же вышел из ельника к хозяину.
— Иди ко мне, мой хороший, иди, ехать надоть, мы с тобой энтих золотишников махом обойдем, куды им до нас с тобой с таким обозом.
Любил лошадей Косых, понимал их, больше чем людей любил. И они его никогда не подводили, вот только единственный раз, о котором он не знал.
Эта доля секунды спасла жизнь Никифорову. Выстрел был направленным, но не прицельным. Получилось, жизнью своей Никифоров обязан был лошади, однако жизнь его висела буквально на волоске. Вернее, на конском волосе. Правой, действующей рукой он намертво вцепился в гриву коня и потому удержался в седле. Левая плетью висела, он даже боли не чувствовал. Когда кони, успокоившись, остановились, он разжал руку и свалился на руки Уваровой. Она уже спешилась и подхватила падающего. Все случилось настолько неожиданно, что испугаться она просто не успела, закричала, когда кони понесли. Только теперь, видя окровавленного Никифорова, она испугалась. Он был без сознания, кровь, пропитав одежду, сочилась из рукава. Опасаясь погони, она с трудом оттащила Никифорова подальше от дороги. Уложила на траву под деревья, увела и привязала лошадей, только потом принялась за раненого. Никифоров хрипло дышал, обычно красное, теперь его лицо побледнело. Пелагея, расстегнув кафтан, пыталась его снять, но не смогла, тогда распорола его ножом. Левая рука ниже плеча Никифорова была перебита, она просто висела на куске кожи. Необходимо было остановить кровь, и Пелагея решилась. Она отсекла руку и своим бельем — пришлось рвать даренную Андреем шелковую сорочку — перетянула и забинтовала кровавую культю. Нужно было что-то делать. Женщина была в полной растерянности. Пелагея не знала дороги к зимовью, правда, она могла вернуться назад, но боялась встретить того, кто стрелял. Поэтому не спускала глаз с дороги. Шло время, никого не было, стало ясно, что их никто не преследовал и ждать больше нельзя. Никифоров очнулся, открыл глаза, увидев Пелагею, удивленно спросил:
— Что случилось?
— Стреляли в вас, Иван Авдеич.
Никифоров, приподняв голову, застонал.
— Что со мной? Руку больно очень…
— Не шевелитесь, нету у вас руки, отстрелена.
Никифоров уронил голову и закрыл глаза. Красная пелена окутала его сознание, только где-то в глубине вяло прошла мысль: «Сам себе я руку отрубил, сам себе…» Через минуту он снова открыл глаза и спросил:
— Кто стрелял, видела?
— Нет, кони понесли…
— Ну и хорошо… Подсоби мне, я сяду.
Пелагея помогла, и Никифоров сел, прислонившись к стволу.
— Лошади где?
— Здесь, укрыла их подале, боялась, вдруг искать нас будут разбойные…
— Давай лошадей, ехать надо, пока силы есть.
— Иван Авдеич, может, здесь останетесь, а я за людьми да…
— Нет, я смогу…
— Куда ехать-то, вам лежать надо…
— Домой… там помирать буду…
Эти слова он произнес тихо, но они как удар подстегнули Пелагею. Она кинулась к лошадям. Когда она вернулась, Никифоров, хватаясь одной рукой за ствол дерева, пытался встать, однако ноги не держали его, и он, рыча от боли, силился подняться с колен. Она подвела коня и хотела помочь, но в это время послышался шум. Кто-то ехал по дороге. Пелагея с замирающим сердцем посмотрела туда. Всадник, огромный бородатый мужик, ехал в сторону села. Это был Фрол.
— Стой! — кинулась из леса Пелагея. — Сам Бог тебя послал, добрый человек. Помоги, раненый здесь.
— Раненый? — удивился Фрол, спрыгивая с коня. — Что случилось?
— Мы ехали, вдруг выстрел…
— Кто ранен?
— Иван Авдеич ранен, Никифоров.
— А, ну тогда ясно…
— Что — ясно?..
— Все ясно, где он?
— Там…
— Пошли.
Никифоров, обессилев, сполз на землю, лежал, но был в сознании. Фрол посмотрел, как забинтована рана, и, одобрительно кивнув Пелагее, сказал:
— Думаю, довезем, на-ка, испей, — и протянул Никифорову берестяную фляжку.
Тот не смог ее взять, рука дрожала от слабости. Тогда Фрол поднес ее к губам Никифорова, и тот сделал несколько глотков.
— Что это? — спросила Пелагея.
— Настой каменного зверобоя, пользительная штука, силу дает, ему сейчас в самый раз это снадобье…
К вечеру они привезли Никифорова в село.
— Вот рука моя, Анюта. И сердце вот. — Федор прижал Анютину ладонь к своей груди. — Слышишь, как стучит?
— Слышу… — прошептала Анюта.
— И руку, и сердце свое тебе отдаю с сего дня и до смерти, прими…
— Что ты такое, Федя, говоришь…
— Выходи за меня замуж, будь мне женой любимой и верной. Согласна ли? — шептал Федор.
— Согласна, только как же без благословенья-то родительского?
— Будем просить благословения, вот ты немного окрепнешь — и вернемся в Рыбное. Буду просить у твоего отца благословения.
— Откажет он.
— Не откажет, — не совсем уверенно возразил Федор.
— Откажет. — Глаза Анюты наполнились слезами, и она еще крепче прижалась к Федору. — Как тогда будем жить?
— Хорошо будем жить, вместе, вот увидишь — все ладно будет. Фрол с Семеном вернутся, и все разрешится. Мне про то сам старец сказал. Он все видит наперед.
— Когда ж они вернутся?
— Скоро, скоро должны вернуться…
— Эй, на берегу! Примайте гостя! — раздалось с реки.
— Господи, то ж Фрол, вот легок на помине! — Федор, чмокнув Анюту в мокрую щеку, побежал на берег.
Выслушав рассказ Фрола, старец долго молчал.
— То, что вы отпустили Косых, плохо.
Фрол нахмурился и вопросительно посмотрел на старца.
— Отчего отпустили — хотели отпустить. да он сам убег.
— Потому и убег, что вы отпустить его решили. Зла он теперь наделает, вишь, отца Анютиного уже покалечил. Ясно, убить хотел, да промахнулся, видно. Прольет он еще кровушку людскую, потому, как раненый зверь, на любого кидается. Вот и он сейчас, как зверь раненый, метаться будет, ему своя-то жизнь не дорога, а уж чужая… Просто так он в бега не пойдет. Никифорову отомстил, теперь чей черед? А? Как думаете?
Фрол пожал плечами:
— Кто знает, что у него на уме…
— А ты подумай, с чего для него все началось, с чего порушилась его жизнь вольготная? Кого он, в заблуждении своем, винит в бедах своих?
— Дядю Семена! — почти крикнул Федор.
— Думаю, Федор не ошибается. Кроме того, он же уверен, что у Семена ладанка рудознатская. Тем более что Семен экспедицию повел. За ладанкой он охотиться будет, она для него дороже жизни. Семен в большой опасности. Косых разговоров говорить, как вы с ним, не будет.
Серафим помолчал, потом поднял глаза на Фрола.
— Остановить его надо, Фрол. Кроме тебя, его в тайге никто не найдет.
— Я с Фролом пойду! — твердо сказал Федор и, ища поддержки, посмотрел на Фрола. В его взгляде была не просьба, в его взгляде была решимость. — Ту сторону хорошо знаю, все тропы, речки… — продолжил было он.
— Хорошо, Федор, вместе пойдем, — не дожидаясь мнения старца, согласился Фрол. Он понимал, что отказать Федору сейчас, когда его друг в опасности, было все равно что не признать в нем настоящего мужика. А это было несправедливо.
Отец Серафим тоже понимал это и одобрительно кивнул:
— Только вот что, Анюта теперь на поправку пошла, ей дома лучше будет, заберете ее домой, родителям возвернете. Так оно и правильней будет.
Улыбнувшись, добавил:
— А на свадьбе, если пригласишь, обязательно буду.
Федор расцвел в улыбке.
— Дак, конечно, приглашаю!
— Ты еще невесту не сосватал, а уже и приглашаешь! Когда свадьба-то? — рассмеялся Фрол, хлопая Федора по спине. — А то явимся на свадьбу, а жених-то другой?!
Федор, оглянувшись на зимовье, не слышит ли его конфуз Анюта, лицом вдруг раскрасневшись, ответил:
— Не отдадут добром, сбежим по-настоящему.
— Не дрейфь, Федор, отдадут, я ж в сваты к тебе пойду, не откажет Никифоров, он мне теперь жизнью обязан.
— Правда пойдешь? — потеряв от волнения голос, прошептал Федор.
— Правда, правда…
— Тогда я это, сейчас Анюту упрежу, чтоб собиралась! — подхватился Федор.
— Куда ты, Федор, погодь, утром пойдем, не в ночь же…
— Фрол, нам торопиться надоть, Семен-то не знат, что у Косых на мушке оказаться может. Седня выходить надо, седня… — сказал Федор, уходя.
— И то верно, хорошо, собирайтесь, думаю, дотемна на Ангаре будем, вода вроде поднялась в речке. Быстро пройдем, — согласился Фрол.
Вскоре они втроем уже сидели в просторной долбленке Фрола и, ловко подгребая легкими веслами, удерживая ее в самом русле, быстро спускались к Ангаре. Анюта обрадовалась своему возвращению домой. Соскучилась по матери, сестрам, только иногда грусть мелькала в ее глазах при мыслях о расставании со старцем Серафимом да Ульяной, до того они стали ей родными за это время. О том, что предстоит встреча с отцом, она просто решила пока не думать. Она любовалась речными перекатами, рыбами, выпрыгивающими из воды при приближении их лодки, птицами, лениво поднимавшимися с воды и тут же плюхавшимися обратно, чуть ли не в их корму. Еще она смотрела на Федора, иногда, зачерпнув ладошкой, брызгала на него речную воду. Он то улыбался ей, то сердито хмурился, но ответить не мог, руки были заняты. Это забавляло Анюту, и она, иногда громко смеясь, продолжала.
«Дети малые, да и только», — думал Фрол, глядя на их баловство.
— Анюта, не отвлекай, а то на косу налетим, придется подол мочить, — иногда с улыбкой ворчал он.
На Ангаре стало уже не до шуток. Сильный низовик гнал валы, идти в такой ветер нельзя, захлестнет. Устроились на берегу, к ночи обычно ветер стихал. Небольшой костер, на большой воде в такой ветер зябко, быстро согрел Анюту. Она с любопытством наблюдала, как Фрол и Федор, чтоб время зря на реке не пропало, тут же, в небольшой заводи, где не было волны, удят рыбу. У Фрола в лодке всегда наготове снасть, а наживка на Ангаре в эту пору не нужна. Намотал на крючок несколько волосин, из бороды курчавой вырванных, и готова обманка. Хариус, с малых речек скатываясь к зиме, стоит стаями в устьях на ямах. Азартная, красивая рыба. Он хоть и нагулял за лето жир, но непременно схватит прыгающее по поверхности воды насекомое. Вылетев из воды, покажет всем свою силу и ловкость да розовые пятна на серебряных боках. Увидев в заводи эти всплески, Фрол и решил порыбачить. Быстро соорудив удилища, они, прижавшись лодкой под самый берег, почти стояли на месте. Федор первый заброс сделал не очень удачно. Ветром снесло легкую обманку, и она закрутилась в водовороте у самой лодки. Федор повел удилищем, пытаясь вывести ее на чистое течение, и в этот момент черная спина хариуса, прорезав воду, метнулась к обманке и рванула удилище, мгновенно в струну вытянув плетеную лесу.
— Ух ты… — только и успел выдохнуть Федор, опуская удилище, чтобы дать некоторую слабину.
В это мгновение хариус уже вылетел из воды, свечой сверкнул на солнце и, свободный от крючка, плюхнулся в воду.
— Эх ты. Подсечь надо было! — проворчал Фрол, забрасывая свою снасть.
Его обманка не прошла и метра по течению, как стала мишенью крупного хариуса, колотившего через мгновение хвостом уже в лодке.
— Во так вот надо, учись, — довольно шептал Фрол.
Федор, усмехнувшись, кивнул и через мгновение уже сам вытягивал рыбину. Так они, подшучивая друг над другом, соревновались до самой вечерней зари. Все дно лодки было устелено живым, сверкающим серебром. Ветер постепенно утих.
— Хватит уже вам, поехали, — несколько раз звала их Анюта, но они не слышали или делали вид, что не слышат.
Наконец Фрол сказал:
— Все, хватит, собирай рыбу, там в корме мешок.
Федор с сожалением снял с удилища лесу и принялся укладывать рыбу.
— Анюта, посмотри там, пока видать, крапиву, рыбу переложить.
— Я уже нарвала…
— Молодец какая, — одобрительно хмыкнул Фрол, подмигнув Федору. — Так и быть, точно пойду в сваты…
Уже в полной темноте они причалили к пирсу в Рыбном селе. Фрол, еще когда привез Никифорова в село, сказал матери Анюты, что та нашлась, поэтому ее появление в доме не было неожиданностью. Федор, вошедший вместе с Анютой и Фролом, был также принят радушно. Алена Давыдовна усадила их, собрала на стол, накормила и в дорогу припасов собрала, прознав, что они в тайгу уходят. Правда, самого Никифорова не было, он лежал вторые сутки, его организм боролся за жизнь, и у его кровати жене помогала дежурить Уварова. Как привезли они с Фролом хозяина, так и осталась в их доме Пелагея, по просьбе Алены Давыдовны и с одобрения раненого. Посмотрела она мельком на Федора и Анюту и все поняла, а потому сразу приняла Анюту, близки и понятны ей были Анютины чувства. Ночью они уже сидели вдвоем у постели ее отца и скоро никаких секретов меж ними не стало. Никифоров был плох. Бредил и кричал в бреду своем страшно. Только под утро затих, уснул. До утра проговорили Пелагея с Анютой, а утром Анюта, засыпая в своей кровати, с теплотой в душе думала о том, что у нее теперь есть настоящая подруга. Пелагея обещала поговорить с ее отцом о Федоре. Это была еще одна маленькая надежда для Анюты. Фрол ночевал в доме Федора, и с восходом солнца, конными (коней взяли с конюшни Никифорова), они ушли в тайгу. Никто вроде и не видел их, однако утром на базаре бабы вовсю рассказывали, что вернулся Федька Кулаков с Анютой в село и приняли их Никифоровы. Откуда вызнали? Видать, сорока на хвосте принесла, не иначе…
Северная тайга, так звали ее, на север от Ангары бескрайне уходила сопками и марями. Косых знал эти места как свои пять пальцев, знал тайгу и умел ее слушать. Вот его-то горластые сороки, беспокойно орущие при виде людей, задолго упредили о подходе экспедиции. Старое зимовье, рубленное еще лет сто назад, всякое видывало. Проходили через него и первые охотники, пушного зверя здесь в те времена тьма было. Бывали и те, кто от царской власти бежал, а уж когда золото пошло с удерейских ручьев да речек, сплошным потоком пошли люди золотом разжиться. Разные люди, в большинстве своем — с последней надеждой счастье свое обрести через золото. Мало кому оно улыбнулось удачей. Много могил безвестных, а то и просто косточек человечьих разбросано по таежным углам, присыпано хвоей листвяжной да мхами затянуто. У каждого старого зимовья свой погост имелся. Вот и здесь он был, с десяток могил с покосившимися крестами, а то и без, просто холмиков, заросших мхом да травами таежными, говорили о том. Здесь и обосновался Косых. Кто сюда от зимовья пойдет? Коня оставил за сопкой вольно пастись. Умный таежный конь от своего седла, хозяином положенного, далеко не уйдет. На день опередил Косых экспедицию и за время это успел об отходе позаботиться. Тропа, по которой он должен был уйти после дела своего, была им подготовлена.
Косых еще раз проверил взглядом все, что он сделал. Не раз он ставил такой капкан на зверя. Все должно было сработать, как всегда, надежно, без промаха. Зверь, сохатый, например, или медведь, проходя тропой, задевал тонкую бечеву. Та выдергивала сторожок, который освобождал напряженную веревкой согнутую березу. Дерево распрямлялось, и вся мощь этого маха приводила в движение рычаг с наконечником, который пробивал зверя насквозь. Теперь этот безжалостный механизм убийства был сделан Косых особо. Цель, хладнокровно поставленная им, требовала особой тщательности. Человек не зверь. Его наповал бить надобно. Все было готово, только бечеву на тропе натянуть да к сторожку подцепить. Это он сделает в последний момент, успеет, рассуждал Косых. Заранее нельзя, мало ли зверушка какая пробежит…
Экспедиция тем временем пришла к зимовью. Матанин, подъехав первым, тщательно осмотрел зимовье. Ничто не говорило, что кто-то навещал его в последние дни. Никаких свежих следов. Семен, подъехавший следом, взглядом спросил. Тот покачал головой — не было никого. Семен с сомнением огляделся вокруг. Большое из почерневших бревен зимовье стояло среди соснового бора на высоком берегу. Внизу шумел Шаарган, берег был пологий и только у самой воды обрывался отвесно, обнажая скалистое основание сопки. По узкой, протоптанной много лет назад тропе Семен спустился к воде напоить коня. Вода была студеной, но довольно мутной. Где-то выше по течению мыли золото. Здесь тоже поработали руки старателей, весь берег был перепахан и лежал в грядах, поросших бурьян-травой.
— Вишь, чё после вас остается! И так по всей реке, — с укором проговорил Матанин. — Потому и били мы вас.
— Да не потому, Степан! Чего врешь. Золото отымали? Отымали! Вот ради золота и били, а ты спробуй его добыть сам? Вот в этой ледяной водице постой часами да помой! Поковыряй кайлой эту землицу, камень сплошной…
— Вас на это никто не гнал, сами шли.
— Шли и знали, что вернемся с золотом. Знали, ради чего труды энти, а тут вы с ножом к горлу…
— Ладно, дело прошлое, правду говоря, жалею про то… — примирительно сказал Матанин.
— Жалеет он… — всколыхнуло Семена. — Тем, кто в землю по твоей милости лег, твоя жалость не надобна. Золото, что отнял тогда, вернешь, я его семье погубленного тобой мужика передам. Женат был, сироты остались… — Семен с трудом проглотил комок, вставший в горле.
— Вернемся, отдам, все отдам, слово даю, — глухо проговорил Степан.
— Вот и договорились, а пока надо дело делать да впросак с Косых не попасть, если вдруг объявится.
— Так что, располагать людей будем, как он сказал?
— А как он сказал?
— Ну, подале от начальства, на берегу.
— А ты как сам думаешь?
— Да так и думаю.
— Ну и делай, а я коло начальства стану.
На берегу около зимовья уже кипела работа. Ставили шатры и палатки, разгружали инструмент, вскоре задымили костры…
— Давайте, давайте, располагайтесь, — наблюдал издали Косых. — Ага, вот и ты, голуба… — увидев Семена, прошептал Косых. — Ты-то мне и нужон… чё оглядывашься, никак меня ждешь? Так я скоро, погодь…
Пахтин, Белоцветов и Спиринский сидели в шатре. Они только что выслушали Семена и думали, как поступить. Семен предложил им застолбить известные ему участки по ручьям, где они артельно, втемную, уже мыли золото, но взяли немного, так как отработали небольшие куски. Золото там было точно, для этого нужно было небольшой группой на лошадях пройти и, не производя шурфовых работ, просто выставить явочные столбы, а уже потом, когда будет на то время, пройти горными изысканиями, то есть подтвердить участки пробами. Это существенно меняло весь план и было выгодно, но Семен поставил одно условие. Он требовал за это одно, своего пая в компании, иначе он готов работать как мастер, но золото придется искать вслепую. Ja оставшиеся до морозов два месяца они смогут обследовать два-три участка, но будет ли там металл, неизвестно.
— Что ж, предложение дельное, но где гарантия, что золото есть на этих участках?
— На тех выработках, по бортам, я вам золото лотком намою для пробы, это времени много не займет.
— Хорошо, Семен, выйди покури пока, обдумать нам надо твое предложение.
Когда Семен вышел, Белоцветов еще раз повторил:
— Что, если золота там не будет? Все затраты нашей компании висят на мне, я перед кредиторами в Санкт-Петербурге отвечать буду. Потому повторяю свой вопрос! Я должен быть уверен.
После некоторого молчания Спиринский сказал:
— Помните, я рассказывал вам о ладанке рудознатской. Так вот, сам Бог нам послал этого старателя, потому как ладанка рудознатская у него и есть. Это я точно знаю. Федька Кулаков в том проболтался, а покойный Соболев про то прознал, за что и лишился жизни.
Пахтин, покрутив ус, кивнул:
— Так оно и есть, господин поручик, я тоже это знаю. Мы его искать хотели, а он сам пришел.
— Тогда зачем ему мы нужны, если он ладанкой владеет.
— А вот давайте его об этом и спросим.
— Хорошо. Зови его.
Пахтин выглянул из шатра и окликнул Семена.
Семен вошел и с улыбкой спросил:
— Ну, что надумали, люди добрые, примаете меня в товарищи аль нет?
— Один вопрос к тебе есть, Семен. В товарищах ведь доверие полное должно быть, так?
— Так.
— Так вот ответь нам. Слухи до нас дошли, что владеешь ты ладанкой рудознатской и через нее к золоту дорогу знаешь. Так ли это?
Семен нахмурился.
— Была у меня ладанка, правда ваша, но сейчас нет ее у меня.
— И где же она? — спросил Спиринский.
— Через ту ладанку столь крови пролито, что сказать, где она, не могу, не пытайте. Но те места, куда поведу вас, той ладанкой указаны были. Потому нет сейчас необходимости в ладанке той, вот такой мой ответ.
— Хорошо, Семен, но скажи по совести, если ладанка та в твоей власти, для чего тебе с нами по тайге бродить?
— Скажу, отчего не сказать. Не в золоте дело, не в нем. Много у меня его было, да и сейчас есть. Походил я в свое время и в парчовых портянках, и в штанах шелковых. Погулял в кабаках так, что до сих пор небось народец помнит. Не раз зарок давал, все, больше не пойду, а приходила весна — и вновь сюды. Жизнью своей рисковал, а шел. Может, потому и семьей обзавестись опасался. Друзей-товарищей в тайге этой схоронил многих. Понял я, прошли те времена, когда и один в поле воин был, и не будет к ним возврата. А вот без дела этого жить не могу. Прирос я к здешней тайге, к жизни старательской прикипел. Хочу все, что умею, на общую пользу положить, потому и прошусь к вам в пайщики. Чтобы на равных быть в беде и удаче.
— Поди обожди еще, трудный ты нам вопрос задал, — сказал Пахтин, увидев, как передернуло Спиринского от последних слов Семена.
— Как это я, дворянин, на равных с этим мужиком буду? Это уже слишком… — с возмущением заговорил Спиринский, как только Семен вышел из шатра.
— Здесь тайга, Яков, а не Невский прошпект! — оборвал его Белоцветов.
— Мне показалось, что вас это тоже задело, господин поручик, — парировал Спиринский.
— Вам показалось, — холодно ответил Белоцветов. — Не вы ли только что говорили нам о том, что его нам сам Бог послал? Отчего такая перемена?
Спиринский явно совершил промах, ему ничего не показалось, просто он был уверен, что ладанка у этого мужика, а оказалось, не совсем так. Причем вывернулся тот так ловко, что и придраться было не к чему. Это и взбесило Якова. Поднаторевший в аферах, он привык всегда управлять ситуацией, а тут не получилось. С тех пор как он о ней узнал, он рассчитывал, так или иначе, заполучить ладанку, а она осталась недоступна. Причем допытаться у него о том, где она, стало невозможно. Слишком веский, тяжелый аргумент привел Семен — кровь пролитую. Яков почувствовал, что Семен, этот простой мужик, вдруг приобретает вес и авторитет в глазах Белоцветова, и сорвался. Теперь нужно было как-то выйти из ситуации.
— Я пекусь о благополучии всей компании, можно ли с таким человеком все на кон поставить, только и всего. Одно — если он в найме, сделал свое дело, и свободен, а тут все другой оборот принимает. Не верю я, что ему золото не надобно.
— А он не говорил, что оно ему не надобно.
— Как же не говорил?
— Он сказал, что дело не в золоте, Яков, вы, вероятно, неправильно его поняли. Золото нужно каждому из нас. Но где оно сокрыто и как его взять, сейчас знает только он, вот так, господа. Здесь, по-моему, все просто, никакого для нас подвоха быть не может. Меня другое заботит. Косых мы упустили, думая через него Никифорова прижать, не вышло. Ушел Косых, значит, узнал, что его вычислили. Мы рассчитывали, что Никифоров что-то предпримет, чтобы избавиться от него, чем выдаст себя Ан не получилось. Почему? Никифоров умнее оказался? Сам упредил Косых и помог уйти. Но куда ему деваться? Некуда. Здесь он где-то. Схоронился до времени. Задумали они что-то. Не думаю, что все вот так и закончится. Так говорите, они знают, что ладанка эта у Семена?
— Конечно знают, весь сыр-бор из-за нее, — подтвердил Пахтин.
— Так ждать нам их в гости надо. Они же за ней охотятся.
— Так у Семена ж ее нет…
— Это мы знаем, что нет, им про то неведомо. Вот что, нам теперь этот мужик сам по себе и есть ладанка, случись с ним чего, всей компании конец, глаз с него не спускать. Беречь как зеницу ока! Сотник, не отходи от него, а сейчас зови.
— Так точно, — поднявшись, по-военному ответил Пахтин и направился к выходу из шатра.
В это время где-то совсем недалеко раздалось два выстрела.
— Едрёный корень, нешто опоздали! — прокричал Белоцветов, выскакивая за Пахтиным из шатра.
У костра были только работники, которые тоже повставали, услышав выстрелы.
— Где Матанин? Где старатель?
— Недавно в тайгу пошли, вон туда, к погосту, там же и стрелял кто-то.
— Зачем пошли?
— Матана его позвал, а зачем — не знаем…
Фрол с Федором приехали к Шааргану затемно, как ни спешили, — таежные дороги трудны для лошадей.
— Там они должны остановиться, видишь, вон на взлобке, под сопкой, зимовье.
— Где? Не вижу, темень ведь!
— Ну дак у той темени еще темней пятно. Видишь?
— Не, не вижу.
— Вот когда будешь в темноте видеть, таежником назову, а пока ты ученик еще.
— Чей ученик?
— Дак мой, однако… чей еще? — довольно рассмеялся Фрол.
— Я согласный.
— Вот то-то, небось я тайгу знаю…
— Боялся, что не возьмешь с собой, — честно сказал Федор.
— Тихо, Федор. Мы не одни, экспедиция хорошо, если завтра к полудню сюда придет, а Косых-то уже здесь.
— Где?
— Там, по ту сторону сопки, правее.
— Как ты знаешь про то?
— Сполох заметил на макушках сосен, что на той сопке, сопредельной. Неосторожен Косых, неосторожен. Хотя кого ему опасаться? Нас он точно не ждет. Заночуем здесь, у ручья, а как рассветет, обойдем сопку. Косых следить за дорогой будет, а мы его обойдем со спины. Посмотрим, что да как. Придется так спать, без огня, нам себя казать нельзя.
— Ничё, я привычный.
— Коней напои да привяжи и водицы принеси.
— Хорошо.
Ночь пролетела незаметно, утром сильный туман накрыл сопки, поднявшись от реки. Было зябко и сыро.
— Разжигай костер, согреемся — и в путь, — скомандовал Фрол.
Федор быстро собрал сушняк, и веселые языки огня заплясали, облизывая прокопченный котелок с ручейной водой.
— На-ка, завари. — Фрол вытащил из мешка жестяную цветастую коробку китайского чая. — Женка Никифорова дала, хорошая баба.
После горячего чая озноб прошел и на душе веселее стало.
— Ну что, пошли?
— Пошли.
Фрол повернул, уходя в сторону от видневшегося зимовья. К полудню они вышли с той стороны сопки, и в распадке из березового молодняка к ним вышел конь Косых. Почуял своих и вышел, радостно взбрыкивая и тряся гривой.
— Все, Федор, бери всех коней, и вниз, к ручью, дальше мое дело. И чтоб тихо сидел, пока не позову.
Федор хотел было возразить, но так и остался с открытым ртом, перехватив взгляд Фрола. Тот, передав узду своего коня и коня Косых Федору, бросил за плечо ружье и быстро скрылся из вида. Федор, тяжело вздохнув, повел коней вниз по распадку.
«Теперь я тебя не упущу, друг ситный», — думал Фрол, легко определив по следам, куда ушел Косых. Он прошел до места, где тот ночевал. Костер еще был теплый. Дальше Фрол шел еще более осторожно, он чувствовал каждый шорох, каждый звук. Он сразу понял, что экспедиция уже пришла к зимовью, и это было ему на руку. Косых наверняка следил на ними. Небольшая звериная тропка вывела на тропу, и тут Фрол заметил склонившую почти до земли свою крону молодую березу. Через мгновение Фрол все понял: страшный капкан, мастерски приготовленный Косых, был настроен на человека.
«Вона как, чего ты удумал! Кого ж ты заманить-то сюда хошь? Прав Серафим, зря мы тебя упустили, зря. Ты смотри, все готово, только насторожить осталось, видно, при отходе решил тропу перекрыть. А я тебе ее, гад, раньше перекрою. Посмотрим, что с того будет».
Бечева была длинной, и Фрол, протянув ее метров на пять ближе, перехлестнул тропу. Проверив, ладно ли закреплен сторожок, припорошив бечеву листьями, Фрол пошел дальше. Не успел он пройти и десяти шагов, как прозвучал выстрел, один, через секунды второй. Фрол отскочил за ствол дерева и прислушался. Было тихо. Стреляли где-то сбоку внизу. Он сошел с тропы и стал спускаться напрямую, как медведь, проламываясь через чащобу. Фрол не замечал хлещущих ветвей и боли от ударов, он бежал, верно полагая, что опоздал, но надеялся, что успеет что-то сделать.
Семен вышел из шатра несколько раздосадованный разговором. Не привык он душу свою вот так открывать. А тут как-то само по себе получилось. Он вытащил кисет и, подойдя к костру, присел почистить и набить табаком трубку.
«Нешто не возьмут в товарищи», — невесело думал он. Раскурив трубку, пустил клуб горького дыма и огляделся. Работники разгружали повозки, кто-то присел рядом, попросил угостить табачком. Семен щедро отсыпал, даже не обратил внимания кому, в мыслях он был далек. Нахлынули воспоминания. В колышущемся пламени костра всплывали лица друзей. Бесшабашно веселых от первой удачи… Как они тогда были счастливы! Какие были мечты! Они нашли золото, этот фартовый звонкий металл. Нашли, преодолев за два года лишений и страданий тысячи верст, потеряв в том тяжком пути друзей. Чуть не голыми руками буровили эту землю. Нашли-таки! Много пролетело лет с тех пор. Чего только не было за те лета. Правду говорят: «Золото кормит, золото поит, золото голым водит!» Теперь пн один остался из тех, кто были первыми в этих местах. Он не соврал, уже не само золото было главной причиной его стремления сюда. Нет. Как магнит притягивала его сама эта жизнь, не находил он места себе в другой. Как ни старался, не находил, не было в ней того духа и смысла, к которому привыкла его душа. Не было риска, не было ожидания удачи и чуда. Все это приходило только здесь, у этих костров, на этих ручьях и речках, в этой непролазной, кишащей мошкой и ноющей комариным гулом тайге.
— Семен, дело есть, — оторвал его от воспоминаний Матанин.
— Что за дело?
— Пойдем, показать хочу тебе кое-что.
— Дак меня позвать могут, — кивнул на шатер, где совещалось начальство.
— Тут рядом, идем, позовут, услышим.
— Пойдем, — согласился Семен, вставая от костра. — Чё там такое?
— Сам не пойму, может, ты знаешь, что за штуковина такая, может, в деле сгодится? Ясно, припрятал кто-то, а дерево-то упало, да и вывернуло тайник, — рассказывал Степан, пока они шли.
Недалеко от зимовья, у самого подножия уходящей вверх сопки, огромная сосна, упав, выворотнем своим действительно открыла чей-то тайник. Присыпанные песком, из ямы торчали какие-то металлические рычаги. Семен спрыгнул в яму, разгреб и, довольно улыбаясь Степану, пояснил:
— Хорошая находка, кто-то бутару припрятал, приспособление для промывки песков, дельная вещь. Вытащить надо, пригодится, коль плохо спрятали, а в этом году не забрали — пропадет механизм, жалко. — Семен вылез, отряхнулся и взобрался на ствол упавшего дерева. — Какая лесина умерла, вдвоем не обхватишь.
— Деревья, они же как грибы, вовремя не свалили — падают да и гниют без пользы.
— Не, друг, деревья как люди, в каждом дереве душа живая, и жизнью они своей живут, а приходит время — и умирают. С пользой для других. Все, что ими за жизнь накоплено от земли-матушки, ей же возвращают.
— Я смотрю, вы уже сдружились! — раздался голос Косых. Он стоял выше, прислонившись к стволу дерева, в руках — ружье, направленное в их сторону.
Наступила неловкая пауза.
— А где Авдеич, ты ж его должен был встретить? — спросил Матанин.
— А я его и встретил и проводил ужо, — как-то не по-человечьи улыбаясь дергающимся ртом, ответил Косых.
— Куда?
— А на тот свет, куда и ты сейчас пойдешь.
— Ты чё, Иван, плохо шутишь.
— Это вы со мной пошутковать надумали, да не по зубам вам Ванька Косых. — Он вскинул ружье и направил его на Матанина. — Клади, Матана, ружжо на землю! — Видя, что тот даже не шевельнулся, Косых прохрипел: — Клади, сказал! Боле повторять не буду!
Матанин, не отрывая глаз от Косых, медленно снял с плеча ружье и положил у своих ног.
— Отойди. Дальше, дальше отойди!
Косых быстро спустился и взял ружье.
— Чего тебе надо?
— От тебя ничего. А вот от дружка твоего новоиспеченного надо. Прямо сейчас, Семен, ты отдашь мне ладанку — и тогда идите с миром оба. Не отдашь добром, положу обоих и сам возьму.
Он с обеих рук направил на них ружья и взвел курки.
— Нет ее у меня, я тебе об том уже сказывал.
— Врешь, рожа варнацкая, нешто жизни не жалко за нее?
— Говорю тебе, нет ее у меня.
— И где ж она?
— Это не твое дело.
— Нет! Это мое дело! Вы, суки, меня предали! Теперь это только мое дело! Где она, говори, иначе класть вас буду!
— Ты чё, Иван. Мы ж свои… — начал говорить Матанин и, быстро выхватив из сапога нож, мгновенно метнул его в Косых.
Одновременно с этим прозвучал выстрел. Семен тоже кинулся в сторону Косых, но горячий удар откинул его навзничь. Звука выстрела он услышать не успел.
— От суки!!
Косых вырвал из плеча нож Матанина и бросился к лежавшему Семену. Он разодрал на нем рубаху, кроме медного креста на шее ничего не было. Он вывернул все карманы, тоже ничего.
— От суки… — прохрипел он, вытер руку, вымаранную кровью Семена, и быстро пошел в сопку. Через минуту он был уже на тропе.
«Зашевелились, — услышав шум со стороны зимовья, подумал он. — Ничё, я вам сейчас подарок оставлю…» Косых шагнул и вдруг почувствовал, как что-то, скользнув по сапогу, дернулось, увидел, как со свистом рассекая воздух ветвями, взметнулась крона березы. Он в изумлении остановился. Его мозг как будто в замедленном состоянии соображал: «Как это может быть?!»
Не веря происходящему, по инерции сделал еще один шаг — и страшной силы удар, проломив грудину, размозжил его сердце. На искаженном от боли лице так и застыл немой вопрос: «Как это?..»
Фрол сбежал вниз и увидел лежавших у выворотня Семена и Степана. Он кинулся к Семену, одного взгляда на Матанина хватило, чтобы понять, — он был мертв. Жакан из ствола Косых просто раздробил его голову. Семен был жив. Мелкая дробь, едва пробив кожу, не вошла глубоко, так и синела под ней кровоточащими бусинами во всю грудь. Ружье Матанина на рябчиков снаряжено было, он их по дороге десятка полтора набил. Это и спасло Семена от гибели. Семен очнулся, но еще не пришел в себя и долго не мог понять, что с ним произошло. Он с удивлением смотрел на Фрола, который с треском рвал полосами свою рубаху.
— Чё случилось-то? — Семен попытался встать.
— Лежи ужо, щас перевяжу кровищу.
Только тут Семен все вспомнил:
— Косых, сволочь, стрелял…
— Знаю, немного я не успел, ты прости…
— Что со Степаном?
— Наповал.
— Жаль…
— С чего тебе его жаль? Он же твоих товарищей порезал…
— Он за меня встал, а за прошлое я простил его, знаешь, Фрол, он другим стал…
— Это ты, Семен, стал другим, потому и он изменился. Дай-ка я эти лохмотья с тебя сниму.
Со стороны зимовья сквозь заросли продирались люди. Первым на них вышел Пахтин.
— Елы-палы! — только и сказал он, увидев распластанного на земле Матанина. — Кто их?
— Косых за ладанкой приходил, — слабо улыбнувшись, ответил Семен.
— Глянь, он еще шутит, значит, жив будет. Где эта сволочь? Куда ушел?
— Не видел я.
— Знаю я, куда он пошел, — ответил молчавший до того Фрол. Он уже забинтовал грудь Семена и травой вытирал свои руки от крови.
— Надо его словить, подлеца, веревка по его шее плачет!
— Думаю, уже не надо.
— Как — не надо?
— Он сам себя уже словил и на тот свет преставил…
— Говори толком!
— Когда сюда бежал, заметил, как западня сработала, ну, береза взметнулась…
— Ну?
— Так ту западню он для тебя, Пахтин, готовил, ты же всегда впереди всех, а сам-то, видно, и угодил.
— Это как?
— А так, я ее насторожить успел, а тут стрельба, я вниз наперерез, а он, значит, по тропе, коль мы разминулись, ну и, верно, попал.
— Где это?
— Чуть выше тропа через сопку, вот на ней и смотрите. Пошли кого на ту сторону, там Федька Кулаков коней стережет у ручья, позовите его. И еще, этому гаду, Косых, терять нечего, он в Никифорова стрелял, ранил тяжело.
— Хорошо, Фрол, спасибо тебе. Слава богу, Семен жив. Фрол, поможешь ему, мужики, несите Матанина. Я сам пойду погляжу, нешто он действительно попал.
— Господин сотник, поосторожней, я токо заметил, как береза взметнулась, а как там его зацепило, не знаю.
— Два ружья при нем, его да что у Степана угрозой отнял, — добавил Семен.
— Ничё, справлюсь! Не таким рога ломал! — Пах-тин вытащил из-за пояса пистоль, взвел курок и быстро пошел в сопку.
— С энтим пугачом супротив ружей? — ухмыльнулся Фрол. — Погодь, сотник, я с тобой.
— Дак Семен-то?
— Сам дойду, в порядке я. Вон видите, Степан нам посмертный подарок оставил.
— Это чего это? — увидев присыпанное землей железо, спросил сотник.
— Нужная вещь, бутара, надоть ее откопать и в лагерь притащить.
— Погодь, с Косых разберемся!.. — крикнул Пах-тин.
— Говори, дура старая, спортил Федька девку?! — хрипел Никифоров в ухо старухе.
— Иван Авдеич, бог с тобой, о том ли тебе думать-то надобно? Говорю же, девственна Анюта, крест целовать готова, правда то.
— Не знаю, верить ли тебе, через тебя одни беды, старая кочерга!
— Господи, да какие ж беды, Авдеич, я токо для тебя старалась…
— Молчи… Ты первая про ладанку эту вызнала, ты за все и в ответе будешь! За души загубленные, за кровушку пролитую…
— Окстись, Авдеич, я тута ни при чем, на мне нету перед людьми греха, нету, — пятясь и крестясь, запричитала Ваганиха.
— Куды поползла? Говори как на духу, точно Анютку Федька не спортил?
— Говорю же, не тронута она. Побита вся, в шрамах, а как девка цела… — чуть не плача шептала Ва-ганиха, продолжая креститься.
— Позови всех… — прохрипел Никифоров.
Старуха вышмыгнула из спальни Никифорова.
Он лежал в кровати, еще несколько дней назад сильный, не знающий преград мужик, умом и хитростью создавший свое дело, управлявший людьми и деньгами, теперь он не мог пошевелить даже рукой. Той, которая уцелела. Та же, которой уже не было, ныла страшной болью, от которой у него до скрипа в зубах сводило челюсти, от которой он терял сознание, проваливаясь в ватное небытие. Сразу после ранения, дома, ему стало легче, но через два дня силы стали покидать его тело. Он это чувствовал и понимал, что умирает. В доме тоже видели, что хозяину совсем плохо, он уже который день ничего не ел, только пил. В комнату вошли тихо и встали перед ним жена, дочери, Пелагея Уварова и Ваганиха.
Никифоров долго молча смотрел на них, переводя взгляд и вглядываясь в лица дочерей и жены. Глаза его маслено блестели из глубины век, провалившиеся щеки вздыбили густую бороду, она уже не лежала чинно, волос к волосу, а торчала лохмами, как ее ни причесывали. Наконец он заговорил. Тихо, с хрипом роняя слова, как шелестящие листья.
— Недавно мне приснился сон, вещий сон. В том сне сватали тебя, Анюта, за Федьку. Я тех сватов прогнал. Теперь жалею. Видно, не доживу до сватовства твоего, но волю свою сказать хочу. Коль люб тебе Федор, благословлю вас. Но ответь, не опозорила ты меня до свадьбы?
— Нет, тятенька! — упав на колени, простонала Анюта и подползла к кровати. Она прижалась щекой к неподвижно лежавшей руке отца.
Он молчал. Было видно, какой болью наполнены его глаза, но вдруг он чуть улыбнулся.
— Хорошо, благословляю тебя и даю согласие на брак с Федором. Теперь идите все, жена… — он, замолчав на секунду, продолжил: — Алена, останься.
Алена Давыдовна, еле сдерживая слезы, присела на кровать.
— Пусть за Федьку выходит, он чести моей не уронил, хотя все поперек делал.
— Ну что ты, Иван, еще сам свадьбу им играть будешь…
— Помолчи… я свое уж отыграл. Позови Ивана Коренного, проститься с ним хочу, и писаря, завещание написать. Поторопись, Алена, чую, уходит земля из-под ног. Иди. Пришли Пелагею пока.
Алена Давыдовна, утирая глаза, вышла.
— Ну что, Пелагея, спасибо хочу тебе сказать. Спасла ты мне жизнь, благодарен тебе.
— Вот встанешь на ноги, Авдеич, отблагодаришь…
— Уж не встану, видно, но за то, что не дала мне там окочуриться, время мне дала про жизнь подумать, отблагодарю…
— Иван Авдеич, не говори так, ты же сильный, не сдавайся…
— Погодь болтать, водицы подай, пересохло… — Он припал к ковшу. — Тут под подушкой письмо, отдашь в руки Фролу, никому боле не кажи и сама не смотри, поняла?
— Поняла.
— Достань и спрячь до времени.
Пелагея вытащила письмо и убрала в складки платья. В дверь тихо постучали.
— Впусти, а сама поди пока…
Через два часа из спальни тихо вышли староста Иван Коренной и новый писарь Зайцев.
— Иван Авдеич просил не тревожить, спать всем велел, вроде полегчало ему, — сказал Коренной уходя.
Под утро Никифоров приподнялся в кровати, сказать что-то хотел, но не смог. Откинулся, вздрогнул всем телом и умер. Крик овдовевшей Алены Давыдовны никто не услышал в селе. Село гуляло, из тайги вышли первые партии приисковых работников, и рекой лилось вино и водка в никифоровских кабаках. Пьянка захлестнула почти каждый двор, во всех избах рады были принять на постой таежную братию, щедро платившую за вес… Пьяненький дед Карась во все гор по орал песню про атамана Стеньку Разина, пока не свалился с высокого крыльца. Никто и не понял, что он сломал шею. Только утром и поняли, а так всю ночь и пролежал вместе с пьяными, которых выносили служки из кабака да и укладывали под стеной в ряд…
Первый ледок стал уже прихватывать забереги Ангары. Самое время «лучить» сонную и ленивую рыбу в хрустально-чистой, прозрачной воде. Только дождись безлунной ночи — и на реку с заходом солнца. Однако одному несподручно, а братьев не уговоришь, у них одни девки на уме. И почему у них к ним такой интерес, один визг да гомон, сокрушался Сила. Он сидел на берегу у костерка и правил острогу. Скорей бы Федька Кулаков из тайги вернулся, с ним бы точно пошли. Как они в прошлой осени порыбачили! Ночь, как на заказ, темнющая была, хоть глаз коли, и тихо. Ни ветерка, вода чистая, никакой ряби. Вышли они в протоки островные, запалили факела и пошли течением по мелководьям у бережка. Сила на веслах был. Федор через час уже острогу ему отдал, рука устала рыбу колоть, а может, просто нетерпенью его уступил. Тогда-то и увидел Сила впервой настоящую рыбу. Сначала растерялся было, замер, не веря глазам своим, думал, топляк причудливый изогнулся в донной впадине меж камней, однако шевельнул жабрами «топляк», замутив воду у головы своей, и Сила, что было в нем силы, вогнал острогу в спину хозяину Ангары. Не промахнулся, хотя почти на двухметровой глубине лежал осетр. Вогнать вогнал, а удержать не смог. Взметнулась рыбина — и вылетела острога из рук замерзших в мгновение, хорошо, что крепкой бечевой к лодке привязана была. Покатал тогда он их в лодке полночи и по течению и против, пока успокоился. Кое как вдвоем вытащили, чуть не перевернулись, когда он, видать из последних сил, решил в реке остаться, но удержали. Федор прямо в пасть ему рукой залез и за жабры держал. Весу в рыбине почти пять пудов было. Эх, скорей бы Федька вернулся!
А Федор в это время тоже коротал вечер у костра вместе с Семеном и Фролом. Завтра они вместе с экспедицией выходили из тайги. Почти месяц водил Семен людей по ручьям золотоносным. Брали пробы, столбили участки, строили зимовья. Золото было, где больше, где меньше, и впустую ни одного лотка Семен не промыл. Радовались все, довольный поручик Бело-цветов не раз сам в холодной воде с людьми работал. Спиринский наносил на карту их разведку и тоже был доволен делами. Только Пахтин был недоволен собой, не изловил убийцу, не вывел его на чисту воду. Сдох Косых в своей же западне. Прозевал нападение, не уберег Матану! Эх, все эти беды старый казак себе в вину ставил. Хоть никто его в том и не винил совсем. Сейчас, назначенный Белоцветовым, он отвечал за сохранность золота, хоть и немного его было, но каждая осьмушка золотника, каждая крупинка его была в надежных руках. Пахтин носил кошель с золотым песком за пазухой и никогда не расставался с ним.
— Сотник, а через реку ты уж не переплывешь, на дно утянет, — шутил Фрол.
— Не утянет, говорят, золото, как говно в человеке, само не тонет и его на плаву держит, — отшучивался тот.
После всей той истории с Косых Белоцветов принял решение, что Семен получит долю в деле, ежели места им указанные фартовыми будут. Так и случилось, и теперь Семен был в доле. Федор был его помощником во всем, он учился лотком мыть золотой песок, учился всем премудростям непростого дела. Теперь он знал, где надо копать по руслу ручья, определяя жилу. Знал, как и где поставить бутару, чтоб сподручнее и быстрее работалось. Его смекалка и выносливость, упорство, с каким он работал, скоро приметили, и все относились к нему с уважением. Он был другом мастера, коим по праву считали Семена и потому его преемником во всем. Но наступали холода, пора было выходить, хотя азарт, охвативший всех, уже удерживал людей в этой глухой тайге. Однажды Белоцветов сказал Спиринскому:
— Помнишь тот разговор, когда ты не поверил Семену, что не в золоте дело.
— Да не не поверил я ему, а из опаски просто…
— Ладно, чего ты, я не о том, я тоже не сразу его понял, а теперь вижу. Не золото в этом деле главное. Не золото.
— А что же?
— А то, что за ним стоит.
— А что же за ним стоит?
— А вот ты подумай сам.
Спиринский, как ни крутил в своем мозгу этот вопрос, а так и не смог на него ответить. Ничего, кроме предвкушения денег и роскоши, он в золоте не видел. Он подсчитывал уже все на следующий сезон, и, конечно, то золото, которое будет добыто, и то, что получит он лично. В этом было его главное увлечение и мечта, им взлелеянная. Он хотел вернуться в Петербург и прошвырнуться по лучшим ресторанам и чтоб видели все, что он может себе позволить лучшие вина и лучших женщин. А главное, дворянство себе купить, от родителей не унаследованное. О своей жене он как-то не особенно вспоминал. В его мечтаниях она отсутствовала. Она вспоминалась лишь тогда, когда он думал о создании своей торговли. Тут без тестя никак не обойтись… ну и без нее соответственно.
Белоцветов с сожалением о том, что можно было продолжить разведку, кабы не свирепая природа, обещавшая быстрые морозы, отдал приказ на выход. А когда принял это решение, сам и обрадовался. Знал он, что ждет его Пелагея в Рыбном. Стосковался он по ее ласке, по телу ее желанному, по глазам ее любящим. «Вот вернемся — женюсь! — принял он решение. — Хватит холостяковать, пора семью строить! Плевать, что простолюдинка, насмотрелся на барышень родовитых, они ей в подметки не годятся. А в постели ей вообще равных нет! Принцесса! Ведьма! Шлюха! Все, свадьба, и точка!»
Федор тоже скучал по Анюте. Как там сложится со сватовством? То, что Никифоров умер, в экспедиции не знали. «Не отдаст добром, уйдем без благословения и обвенчаемся в церкви», — думал Федор. Теперь он не боялся, Семен и Фрол в обиду не дадут. Коротки теперь руки у Никифорова, вернее, одна рука, вторую ему его же дружок верный и отстрелил. Федор не злорадствовал, просто посчитал, что справедливость есть на этом свете. Раз людским судом не достать злодея, его Бог накажет. Так и вышло. Он ждал встречи с Анютой.
— Федор, давай ладанкой попробуем, — предложил ему Семен на одном из ручьев.
— Никак то невозможно, Семен, — потупясь, ответил Федор.
— Это почему? — удивился Семен.
— Нету ее у меня.
— Как нету? Потерял? — с тревогой в голосе спросил Семен.
— Нет, перед уходом к вам я ее в селе оставил. Я же не знал, что так все сложится.
— Слава богу, не утерял, ну ты, Федька, напугал меня. И где ж она?
— Я ее Анюте на шею надел, сказал, чтоб берегла до моего возвращения.
— Никифоровой?! Ну ты, Федор, даешь!
Семен аж сел от такого неожиданного ответа.
— Сам в руки врага нашего заклятого ладанку отдал и стоит как ни в чем не бывало!
— Анюта не враг, она невеста моя.
— Она знает, что ты ей на шею нацепил?
— Нет.
— Слава богу, хоть так.
— Даже если бы и знала, она ее все одно для меня сохранила бы.
— Ой, беда с тобой, Федька, наивный ты человек. Ладно, я тебе ее отдал, ты вправе ею распорядиться. Жаль, проверить хотелось ее в деле. Плохо, если в чужие руки она попадет, не потому, что она к золоту водит, а потому, что память Лексея не сохраним.
— Да цела она, будь уверен, Семен, чего ты, рази я тебя подводил когда?
— Нет, не подводил, а Анюта девчонка, она потерять, просто обронить где-нибудь может, понимаешь?
— Ладно, вернемся, посмотрим.
— Вот и посмотрим.
Никто в экспедиции больше разговоров о ладанке не вел. Все знали о ее существовании, все думали, что она все-таки у Семена и именно она водит старателя, указуя золотоносные места, но никто об этом открыто не говорил. Это была как бы общая тайна. Этот ореол таинственности висел над Семеном, отношение к нему было особое, тем более что всем было известно о приказе Белоцветова оберегать старателя. Никто без дела к нему не подходил. Однако вечерами, намаявшись на работе, все собирались у его костра послушать старательские байки, которых Семен знал немерено. Особенно одна, про мужика крепостного, который на Урал-камне самый большой самородок нашел. Через то вольную получил, и денег ему от царской казны выпало немало. Так вот о том, как он с этими деньгами жизнь свою устраивал, Семен мог рассказывать бесконечно. Б конце концов пропил он вес деньги и назад в крепостные вернулся, не смог вольным жить. Но погулял на славу. Хохот у костра стоял до полуночи. Приходилось народ силком гнать на отдых.
Дорога домой всегда короче. Вышла экспедиция в Рыбное аккурат к воскресенью. Перед селом Белоцветов всех работников предупредил: кого в селе пьяным заметят, на другой сезон могут не приходить, не возьмет. Ему безголовые работники не нужны. На том и простились с начальством. Бело цветов, забрав с собой Пелагею Уварову, и Спиринский укатили в Красноярск. Необходимо было срочно оформлять участки в Горном приказе. Семен, по просьбе Белоцветова, оставался на зиму в селе готовиться к будущему сезону. Нанимать людей, строить склады — в общем, организацию сложного хозяйства будущего прииска возложил на плечи старателя Белоцветов, и не ошибся. Семен был рад этому поручению, а когда человек делу рад, толк будет. Он настолько рьяно взялся за работу, что Федор долго уговаривал его сходить на Тесееву реку, на то место, где ладанка его куда-то вела, да так и не уговорил.
— Отстань, Федор, хочешь, иди сам, нет интереса мне по тайге ходить за ладанкой, дело делать надоть.
— Дак как же? Там золото!
— Ну и что? Золото, Федор, там, наверное, есть, да интересу у меня к нему нету.
— Дядя Семен, мы же об том мечтали!
— Дак то когда было? Когда мы по тайге, как воры, прятались. Теперь другое время, Федор. Теперь мне хочется добыть его самому. Понимаешь, своими руками, вот этими, вот этой вот головой. — Семен для наглядности показал Федору свои руки и постучал пальцем себе по лбу. — И все теперь для того есть, только дело надо делать, мне людьми порученное, а ты меня на поиски клада заманиваешь. Не могу я, Федор, без обиды.
Незаметно, с хитринкой, глянув на насупившегося Федора, продолжил;
— Сходи сам, найдешь, первым богатеем на реке будешь, все тебя уважать станут, в шелковых штанах ходить будешь… — Семен не выдержал и расхохотался. — Я-то ужо в них свое отходил…
Федор, поняв подвох, сначала не на шутку обиделся, а потом, заразившись хохотом Семена, тоже рассмеялся.
— А если всерьез, правда, Федор, времени нету. Сходи сам, найдешь — твоя удача!
На том и кончили разговор.
Федор торопился. Со дня на день могла река пойти шугой, тогда уже не пробьешься на ту сторону до крепкого льда, да и смысла нет, по снегам какой уже поиск? Федор вынул из-за пазухи ладанку. Она лежала на ладошке, матово поблескивая золотым тиснением.
По возвращении Федор первым делом отправился к Анюте. Там и услышал и радостную весть, и печальную, но печалиться им было некогда. Уже на следующий день сваты от Федора, как и обещано было, Фрол и Семен, наведались в дом Никифоровых и получили согласие, свадьбу назначили на следующую осень. Вот в это самое время, когда Федор решал, как идти туда одному, и скрипнула дверь его избы.
— Федор, ты дома? — услышал он звонкий голос Силы.
— Заходи, дома.
— Наконец-то вернулся, здорово! — весело приветствовал Федора вошедший мальчишка.
— А ты что, соскучился?
— Ага, на рыбалку не с кем сходить!
— На рыбалку?
— Федор, давай седни получим[9], у меня все готово! Пойдем, а? — Мальчишка сделал просительное лицо.
— Слушай, Сила, у меня поинтересней дело есть…
— Да знаю я про женитьбу твою… — опустил голоду Сила.
— Да нет, Сила, я не про то…
— А про что?
— Пойдешь со мной клад искать?
— Клад??? — Глаза Силы стали круглыми от неожиданного предложения. — Чё за клад?
— Золото, старым рудознатцем спрятанное.
— И где его искать?
— На Тесеевой реке, на берегу, что у стрелки с Ангарой.
— Ух ты, далеко…
— Чё, забоялся?
— Нет, просто тогда спешить надо…
— Дак ты сказал, у тебя все наготове…
— Наготове…
— Тогда едем, а на обратном пути и рыбу получим, согласен?
— А то! Едем, счас, только домой за одежкой сгоняю, и к лодке. Ночевать-то уж холодно.
— Дуй, на берегу встретимся. Скажи своим, дня на три уходим, рыбалить, понял?
— Понял…
На реке действительно было тихо. Речная гладь, как огромное зеркало, отражала небо.
— Эх, может, поколем, а, Федор?
— Договорились же, Сила, сначала дело! — отрезал Федор. — Успеем еще, поколем…
Они гребли веслами, и легкая лодка быстро рассекала темную, как сама ночь,' воду. Они шли наискось по течению реки, а потом просто отдыхали, выйдя в стрежень, река сама несла лодку, мягко укачивая их, как в колыбели.
— Федь, а как мы клад искать будем? Ты что, знаешь, где он закопан? — почему-то шепотом спросил Сила.
— Почему закопан?
— Ну, клады же всегда копают, а мы даже лопату не взяли…
— Что лопату не взяли — это плохо, чё раньше не подсказал? Да, может, она и не нужна будет…
— Дак как искать-то будем?
— Нас к нему ладанка рудознатская приведет.
— Ладанка?! Та самая!!! Она что, у тебя??
— У меня.
Сила молча долго смотрел удивленным взглядом на улыбавшегося Федора. Потом, посерьезнев лицом, проговорил:
— Ежли ты ее спер, Федор, вертаемся назад, я тебе не помощник.
— Ты чё это, серьезно? — продолжая улыбаться, спросил Федор.
— Ты не ответил, — твердо сказал Сила, внимательно вглядываясь в глаза Федору.
— Ну ты, Сила, даешь! — удивился теперь уже Федор. — Как тебе такое в башку придти могло, чтоб я что-то украл, а? Мне ее Семен отдал.
— Ну дак я просто спросил, и все, ежели так, то забудь.
«Ну дает! — думал Федор, поглядывая на парня. — Совсем еще пацан, а сколько в нем силы». Федор улыбнулся.
— Ежли б ты, Силантий, постарше был, на прииск бы тебя взяли, хороший ты человек.
— Дак погодите ишо, вырасту, — улыбнулся Сила.
Поздней ночью, уже под утро причалили к берегу, боялись проскочить устье Тесея в темноте. На берегу под скалой зажгли костер и уснули под треск сухих еловых веток в его огне. Только к полудню поднялись по Тесею они к приметному Федору месту, лодку тащили на бечеве, ветер, разыгравшийся с утра, не давал идти против течения даже на шестах.
— Все, пришли, здесь остановимся, перекусим и пойдем, — вытягивая лодку на берег, сказал Федор.
— Ни разу не был, место, говорят, здесь плохое, — оглядевшись, сказал Сила.
— Кто говорил?
— Пашка Телеут, он с тунгусами водится.
— И что говорил?
— Говорил, это место они стороной обходят, запретное для них это место, боятся они здесь охотиться. Видишь, сухая сосна стоит раздвоенная, то примета их.
— Тунгусы боятся, а нам бояться нечего, я здесь уже был. Тайга как тайга. Вон, корягу тащи, костер зажжем.
Федор поглядел на огромную, разбитую молнией сосну, именно в ту сторону звала его ладанка в прошлый раз. Он вытащил из-за пазухи ладанку. Как будто легкая рябь прошла по ее поверхности, или ему это только показалось? Он покрутил ладанкой по сторонам, всматриваясь в узор.
— Чё это?
— Ладанка.
— А я слышал, что она вроде ящерки золотой.
— Так оно и есть. Ящерка в этой пластине живет. Ща, на берег взойдем, она должна показаться, сам увидишь.
— Дак пошли скорей.
— Не, сначала перекусим.
Федор, так стремившийся сюда, так мечтавший о том, что он найдет здесь золото, ладанка же вела его, вдруг испугался. Вдруг его мечта не сбудется? Вдруг ладанка не покажет ему путь, что тогда? Было очень страшно потерять надежду. Он ждал чуда. Но вдруг оно не случится? Хорошо, хоть только Сила с ним, смеяться не станет. Федор отгонял свою тревогу, но невольно оттягивал тот решающий момент, когда станет ясно — пан или пропал. Уже и перекусили, а он все не решался встать и идти.
— Федь, чё с тобой?
— А вдруг не найдем золото?!
— Тогда сразу назад, к вечеру успеем в острова, порыбачим! — легко и просто ответил Сила.
— Тогда идем.
Федор вздохнул, отер почему-то вспотевшее лицо ладонью, встал и легкой походкой направился к обрыву, ему действительно вдруг стало легко и просто.
«Чего это я так вдруг спугался? Как будто потерять боялся то, чего еще и нет. Вот дурень!» — корил он себя.
Они быстро вскарабкались по промоине на обрывистый берег. Федор вынул ладанку и, сжав в кулаке, долго держал перед собой.
— Ну, давай, Федь.
— А, была не была! — И Федор разжал кулак. На ладони, переливаясь и играя чешуей, шевелилась ящерка. — Вот она, смотри! — крикнул Федор.
Сила, открыв от изумления рот, молча смотрел на ладошку Федора, на округлую пластинку, на которой, блестя золотом, шевелилась маленькая ящерка; она извивалась и приподнимала миниатюрную головку, как бы говоря: «Ну что смотрите? Идите вперед!»
И они пошли, прямо на сухую сосну. Федор почти не смотрел под ноги, не отрывая глаз от ящерки. Она извивалась, излучая мягкий свет и будто согревая ладонь. Сила ломал перед Федором сухостойный кустарник и высоченную траву, продираясь сам и прокладывая путь товарищу.
— Федька, под ноги смотри, — только и успел крикнуть Сила, но Федор, уже скользнув по камню, на который слепо наступил, не удержал равновесия и упал.
— Сильно ушибся? — спросил Сила, помогая Федору встать.
— Да колено немного… — Федор встал, испытывая сильную боль в колене. Он разжал ладонь — ящерка все так же светилась. — Идем дальше. — Прихрамывая, Федор пошел, уже держа ладанку в кулаке.
Кустарник и дикую траву, возносившую свои зонты выше их голов, постепенно сменила молодая таежная поросль. Впереди стояла оголившая себя перед зимой тайга. Только ели, да кедры темно-зелеными полосами, да вековой ковер мха под ногами.
— Ого, вот это великан! — сказал Сила, когда они наконец подошли к сухой сосне.
— Вдвоем не обхватить, — примерившись к стволу руками, подтвердил Федор. — Чуток передохнем. — Федор сел на мощное корневище, выпирающее дугой из земли, и стал растирать ушибленную коленку.
— Чё там ящерка, давай поглядим.
Федор раскрыл ладонь. Ящерка светилась ярче и извивалась быстрее, чем раньше, она как будто показывала: «Вот сюда, влево идите».
— Гляди, Федор, похоже, тропа! — Сила показывал рукой за сосну.
Прямо от дерева каменистая, еле заметная, заросшая кустарником, перехваченная мхами, дорожка, выложенная из камня, изгибаясь меж обломками скал, уходила вверх, в сопку.
— Ого, смотри, какие каменья выложены! — изумленно шептал Сила, когда они стали подниматься.
Чем выше уводила их тропа, тем гуще становилась тайга, перекрывая лохматыми кронами небо. Ели вплотную стояли к тропе, местами вздыбливая, выжимая корнями из земли огромные валуны. Тропа поднималась все выше и выше. Становилось темно, как будто наступал вечер. Федор прихрамывал, поэтому Сила ушёл вперёд, но был у Фёдора перед глазами. Вдруг он остановился и попятился назад.
— Чего ты? — заметив, негромко спросил Федор.
— Страшно, там шкилет… — тихо ответил Сила, когда тот приблизился.
— Чего там?
— Шкилет, говорю, человечий!!!
Федор уже увидел сам. Небольшой выступ, на который их вывела тропа, открывал небо. Прямо перед ними, высоко над землей, на нескольких деревьях висели как будто большие коконы, а на тропе под ними валялись человеческие кости.
— Ты говорил, что был здесь?
— Нет, здесь не был, я же вообще говорил…
— Ага, понял… я дальше не пойду…
— Чё ты? Это же кладбище просто, тунгусы так своих стариков хоронили раньше… пошли… я такое в северной тайге видел… идем.
Сила посмотрел на Федора и покрутил головой. В его взгляде был неподдельный страх.
— Не бойся, смотри, как ящерка зовет.
Он показал Силе ладанку, ящерка действительно как будто металась по пластине.
Сила посмотрел на ладанку, потом на Федора и согласился:
— Ладно, только ты иди первый…
За выступом тропа исчезала, она превратилась в узкую, еле заметную тропинку. Федор медленно шел, поглядывая на ладанку. Она продолжала звать их вперед. Тропинка, извиваясь меж скальных выступов, совсем терялась в завалах. Наконец они поняли, что тропы нет. Небольшая полянка, на которой они оказались, со всех сторон была окружена буйными зарослями, непроходимыми и непролазными. Как будто специально кто-то навалил здесь обломков скал и деревьев, чтобы остановить самого упорного таежника. Заставить его благоразумно свернуть и найти другой путь, но Федор не знал, куда идти дальше. Ящерка на ладанке извивалась и сверкала чешуйками.
— Может, это здесь? Дальше такие буераки, не пролезешь…
— Не знаю. Надо отдохнуть да подумать.
— Ну, ты подумай, а я по нужде отойду. — И Сила полез в заросли.
Через минуту он как ошпаренный вылетел назад.
— Федь! Там глаза! — Он был так испуган, что готов был броситься бежать; если б не спущенные штаны, наверное, так бы и сделал.
Федор, присевший было, вскочил.
— Какие еще глаза!
— Т-т-там! — Сила, отступая за спину Федора, показывал трясущейся рукой туда, откуда он выскочил. — Я токо, это, присел, а тут, это, глаза на меня смотрят, огромные!
— Какие?
— Страшные!
— Ну-ко дай я погляжу.
— Не ходи, Федор, идем отсель…
— Стой здесь…
Федор вытащил из сапога нож и пошел. Осторожно раздвинув тонкие сосенки, он шагнул с поляны и замер. Прямо перед ним, укрьггые сверху упавшей листвой и подернутые мхом, стояли две огромных каменных головы. Выше человеческого роста, грубо вырубленные из каменных глыб, они как будто притягивали. Федору стало не по себе. Ему показалось, что глаза этих истуканов следят за каждым его движением. Он сделал шаг в сторону, и хрустнувшая под ногой ветка заставила его вздрогнуть. Вековые сосны, поскрипывая стволами, шумели над головой. В этом шуме Федор как будто услышал глухой какой-то, шершавый, как кошачий язык, голос:
— Ш-ш-што надо?
— Ничего… — прошептали губы Федора.
— Ух-х-ходи!!!
У Федора пересохло во рту, он взмок, по спине медленно потекла струйка пота. Глаза каменных идолов, казалось, безмолвно буравили его. Тихо отступая на вдруг ставших ватными ногах, он вернулся на поляну.
Сила сидел на корточках, сжавшись в комок, и смотрел на него.
— Ты чё-нибудь слышал?
— Ветка хрустнула где-то, а чё?
— Голос слышал?
— Нет, идем отсель, а?
— Идем, только тихо…
И они сначала медленно, а потом что есть прыти припустили по тропинке вниз. Как они промчались через выступ с мертвецами, даже не заметили. Опомнились только у сухой сосны.
Запыхавшиеся, мокрые, они прижались спиной к дереву. Поглядели друг на друга.
— Говорил же, место здесь дурное!
— Да… — только и сказал Федор.
Яркое пламя костра, выхватывая из темноты, освещало лица людей, собравшихся у огня. Вот счастливое лицо Ульяны, она сидела рядом с Фролом, прижавшись к его могучему плечу. Старца, довольно поглядывавшего на них.
— Что ж, дело хорошее, благословляю вас. Живите счастливо, детишек нянчить ваших буду, если доверите. Но в деревню не поеду, не уговаривайте, здесь мне хорошо и спокойно. А вы езжайте, пока река позволяет. Деньги, что тебе Никифоров отдал, прими, Фрол. Его душе от того легче будет.
Когда Пелагея отдала конверт Фролу, он сразу его вскрыл. Там были деньги и только одно слово, коряво нацарапанное на листе бумаги, без подписи. «Благодарствую».
Фрол не знал, вправе ли он принять столь большую сумму, — пять тысяч рублей лежало в конверте, сумма огромная…
— И все же просим тебя, года твои преклонные, зиму с нами поживи, не понравится, весною вернешься.
— Нет. Не смогу я жить спокойно средь того позора, что по Руси гуляет.
— О чем ты, отец?
— Да все о том, думал, здесь, в краях глухих, чистоту души народ русский сохранит, ан нет, и сюда нечисть пролезла. Как плесень по стенам сырого дома. А вся эта беда оттого, что подкосила Екатерина духовную основу народа, в самое сердце гвоздь вбила, бесова дочь. Сколь монастырей разогнала! Сотни! А в них очаги Божьей любви горели, тем огнем людей сердца согревали, не давали им очерстветь, жизни праведной учили, труду честному. Каждый монастырь примером своим веру в людей вселял. Не важно, в какого Бога народ верил, важно, что жить старался по Божьим законам, а они едины. Разогнали, обескровили, разодрали земли монастырские по уделам своим. В том тоже умысел вижу разора Руси. Корысть и нажива в сердцах людей растет, в этом погибель! Негде человеку праведному житию поучиться, негде. Говорил я о том, да некому слышать было. Глухи к речам моим люди были. Теперь уж вмешиваться в эту жизнь не хочу, времени для раздумий мало осталось, потому мне здесь лучше, не зовите…
— Ой, не любишь ты, отец, царей, они ж помазанники Божьи…
— Не в царях дело и не в Боге. Власть, она от царя и от Бога далеко, она к людям ближе, она и есть люди, ею облеченные волей своего царя. Вот о чем я. И власть, Фролушка, любить не надо, она что, красна девка? Ей доверять простой человек должон. Власть, она ж как поводырь, народ за собой ведет. А народ должон знать, куда та дорога, видеть должон, нутром чуять. Чтоб власть ту советом аль, если не поймет, и кулаком поправить. Для того душу иметь чистую, дурманом не оскверненную надобно народу. Об том власть и должна в первую очередь думать и заботу проявлять, ради блага всеобщего. А она об том или забыла… или вовсе не о том печется. Не до того ей, в богатстве погрязла да в роскоши. В душу людскую ложью плюет. Воровством да мздоимством шею ему стянула. Глаза песком золотым засыпала. Слепым народом, бездушным, управлять легче. Веди его, как стадо, хоть на убой, не противится. А одного-двух зрячих, что к противлению еще способны, быстро под нож. Чтоб другим неповадно было… Сдается мне, что власть нынешняя в пропасть ведет… Вместе с ней и сгинем.
— Может, не так все плохо, отец? А то прям жуть на нас нагнал словом своим.
— Не так плохо только потому, что такие, как ты, Фрол, еще и есть. Берегите душу свою от скверны, от соблазнов сатанинских, в чистоте ее блюдите. Верю в вас. На вас вся надежда у меня…
— Хорошо, отец, можно мы собираться будем, утром в дорогу?
— Собирайтесь.
Утром, уже на берегу, прощаясь, старец сказал:
— Федору, Семену от меня поклон передайте. Еще, Фрол, скажи им, пусть об утерянном не жалеют.
— Прямо так и сказать?
— Так и скажи, они поймут.
— Хорошо, скажу, — ответил Фрол, отталкиваясь от берега.
— Добрый вам путь…
— По первому льду жди в гости…
А утрата была обидной. Федор рассказал Семену о том, как они ходили с Силой за золотом. Ничего не утаил, хоть и стыдно было ему о том рассказывать.
— Ну а дальше-то что? — улыбаясь, спросил Семен, дослушав до того, как они удрали от каменных истуканов с глазами.
— А дальше самое плохое случилось, не знаю как и говорить про то. — Федор опустил глаза и замолчал, как бы набираясь смелости.
— Да говори, Федь, чё ты, тута я больше виноват, — толкнул его сидевший до того тихо Сила.
— Да говори, чего ты? — перестав улыбаться, спросил Семен.
— Ладанку я потерял, — как выдохнул Федор, чувствуя, как краска заливает его лицо. Сказав это, он несмело поднял на Семена глаза.
— Дядя Семен, мы, это, когда бежали, видно, Федор ее и обронил. Вернее, слетела ладанка с бечевки как-то. А когда у сосны увидели, что нет ее, сразу назад пошли, все просмотрели, кажный кустик, кажный камень на тропе, — нету. Видать, закатилась куда, а тут уже смеркаться стало. Там и так в ельнике темно было, а тут вовсе стемнело. Вот мы и не нашли. Ну, куды она оттуда денется, по весне поедем, обязательно найдем, ты токо не серчай…
Семен слушал мальчишку, переводя взгляд с него на ставшего пунцовым Федора. Когда Сила, выговорившись, замолчал, наступила тишина.
Федор виновато склонил голову, готовый выслушать самый суровый себе приговор. Сила сидел как-то сжавшись, исподлобья наблюдая за Семеном. Оба не ждали ничего хорошего.
Семен помолчал, продолжая сквозь лохматые брови поглядывать на них, и спросил:
— Ну а дальше-то что?
— Как — что? — не понял Федор. — Ладанку не нашли, решили переночевать и с утра опять искать. А утром снег пошел, ну мы и вертаться стали…
— Дак порыбалили хоть?
— Какая тут рыбалка, — горестно вздохнул Сила. — Шугой все занесло, да и из-за ладанки… расстройство одно…
— А помнишь, Сила, как ты нас ночью через Ангару вез? — улыбнувшись, спросил Семен.
— Помню…
— Спас ты нас тогда… да, а насчет ладанки чего горевать? Была ли в ней та чудодейственная сила, я и не знаю. Сам-то не видал. Может, и не было?
— Была, дядя Семен, была! — оживился наконец Федор.
— Мы видели, как энта ящерка крутилась на пластинке, блестела вся, как золотая, головкой крутила… — затараторил Сила.
— Ну, была аль не была, весной найдете, проверите. Вы ж знаете, где ее искать, куда она денется.
— Ты правда не сердишься, дядя Семен?
— Федор, у тебя свадьба-то когда? Следующей осенью? Надо для семьи новый дом ставить, так?
— Так-то так, да…
— Ну вот и я про то. Надо сейчас об том уже думать. Давай-ка ко мне в помощники, дел навалилось невпроворот. А за следующее лето дом тебе и поставим. По рукам?
— По рукам, — весело ответил Федор.
Морозы в ту зиму ударили дружно, в несколько дней сковав землю и сразу укутав ее белым покрывалом. Река, укрывшись панцирем еще тонкого, но крепкого льда, затаилась и тихо несла свои воды. Ветер гонял меж редких торосов снежные вихри в каком-то безудержном замысловатом танце. Еще никто не решался выйти на лед конным, но пешая тропа уже была проторена, и люди, по разным причинам, шли через Ангару, рискуя жизнью. Сила, забравшись на самый мыс Рыбинского быка, наблюдал с этой верхотуры, как маленькие фигурки людей медленно преодолевали ледяную ширь.
«И куда людей несет, лед еще черный, вдруг проломится, и все, уж и не найдут николи. Зачем так рискуют?» — думал он. За его спиной возвышался колокольней да золочеными куполами храм. Силе нравился колокольный звон; когда колокол бил, величаво, с расстановкой, лился его звон над застывшей рекой, на многие версты слышимый в морозном воздухе. Скоро начнутся рождественские праздники, вот веселья-то будет! Ангару к тому времени прочно затянет, и ринутся тройки наперегонки, с одного берега на другой, с колокольцами да бубенцами. Народ разряженный гулять будет, песни старые да озорные частушки петь. Любил Сила этот праздник, завсегда сладостей мальцу перепадало от добрых людей. Хоть и холодновато было Силе, но он решил, пока видать, досмотреть, все ли смельчаки доберутся до берега. Темнело быстро, но в светлых от снегов сумерках еще хорошо было видать идущих с того берега.
Вдруг Сила увидел, что один за другим люди стали останавливаться и показывать руками в его сторону. Огорошенный и удивленный этим, он встал на выступ и тоже замахал им. Они махали руками, он отвечал, подпрыгивая и приплясывая на скальном выступе. Но вдруг ему показалось, что не его видели, не ему махали те люди. Тогда кому? Сила обернулся и замер. Огромное зарево поднималось за скалой, вертикальный столб белого дыма терялся в вышине уже ночного неба. Только сейчас он услышал треск горящего дерева и гул. Подняться напрямую было нельзя, круто, и Сила побежал по «поповской тропе» наверх, огибая скалу.
То, что он увидел, выбежав, было ужасно. Горел храм, горел неистово, ярко вздымая языки пламени выше своих куполов. Горел со страшным треском и гулом. Горел весь сразу, со всех сторон. Пламя вырывалось из узких окон и настежь распахнутой двери. Лизало стены и карнизы. Сила огляделся, людей рядом не было совсем. Наверное, он оказался первым в селе, за исключением тех с реки, кто увидел пожар. Он бросился мимо храма к домам, но оттуда уже бежали бабы и мужики. Бежали с ведрами и баграми, кто с чем, но зря. Не то что тушить, подойти ближе шагов пятидесяти было нельзя. Черный круг вытаявшего снега подступал к пожарищу, и войти в него было невозможно. Только один человек, калека слепой, нищенствовавший у храма, ползал в этом кругу и выл. Выл нечеловечьим воем, рвал на себе волосы. Весь в грязи, он таращил свои бельма на испуганных людей, тянул к ним свои руки. Никто не пытался подойти к нему, было страшно. Толпа росла. Сняв шапки, люди становились прямо в снег на колени. Плакали все. Ничего сделать было нельзя, ничего. Строение горело долго, пока сруб не стал прозрачным, пока языки пламени не стали облизывать бревна вкруговую, а потом резко рухнул внутрь купол, как будто с последним стоном извергнув огромное облако искр. Ударило жаром по стоящим людям. Многим опалило лица, у кого-то вспыхнула одежда. Толпа шарахнулась от пожарища и встала, словно оцепенев. В небе, над догоравшим храмом, внезапно возник и мерцал малиновым светом большой шар. Он медленно уходил и уходил ввысь, пока, превратившись в точку, не исчез. Пожар затих, и наступившую тишину разорвал дикий крик нищего:
— Вы! Это вы сожгли храм Божий! Алчностью, похотью своей! Зачем пришли на этот свет, зачем? Забыли! Нечисть в вас, нечисть!!!
Как уж так получилось, что, когда все разошлись, он остался на пожарище один. Утром его нашли мертвым, вмерзшим в закаменевшую от мороза грязь. Тут же и зарыли беднягу, в церковной земле, выдолбив кирками неглубокую могилу. Долго не затихали на селе разговоры о том, как сгорел храм. Болтали, будто поджог был и кто-то на скале плясал и бесновался, когда храм горел.
На сходе решили всем миром собирать на новый храм, строить каменный — от пожару бережней! Никто не вспоминал крики слепого, не хотели вспоминать, мало ли что с ума сошедший голосил, но все его слова помнили, все…
Через десять лет на месте сгоревшего всем миром был возведен белокаменный храм, а через сто лет он был взорван и сметен с высокого Рыбинского быка в Ангару. До сего дня иными темными ночами из речных глубин лики святых светятся и вопрошают:
— Для чего живете, люди? Знаете?
Январь 2011 г.
Примечания
1
С 1782 года Енисейский уезд, куда входила Рыбенская волость, входил в Тобольскую губернию. (Здесь и далее примем, авт.)
(обратно)2
Бутара — приспособление для промывки песка ради извлечения золотого песка и самородков.
(обратно)3
Водкой-очисткой называли очищенный от сивушных масел самогон.
(обратно)4
Шурудить (шурундить) — перемещать что-то быстро, энергично, обычно с целью поиска.
(обратно)5
Ягель (олений мох) — вид лишайника.
(обратно)6
Седмица — неделя.
(обратно)7
У кедровой шишки пятак прикрывает орех, как чешуя, после размола шишек отсеивается на ситах.
(обратно)8
Матица или матка — центральная опорная балка перекрытия потолка в избе.
(обратно)9
Лучить рыбу — колоть ее острогой. Ночью в носу лодки устанавливался подвесной очаг, где жгли смолистую лучину, которая освещает воду до дна. Рыба осенью стоит в воде, рыбаки ее видят и бьют острогами.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


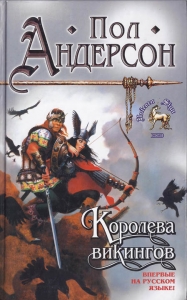
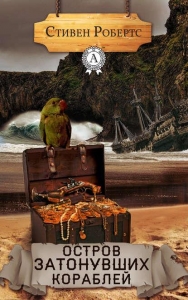
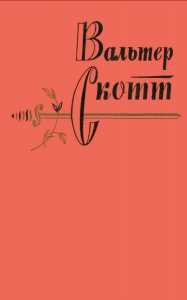

Комментарии к книге «Золото Удерея», Владимир Георгиевич Прасолов
Всего 0 комментариев