Перевод: группа «Исторический роман», 2016 год.
Домашняя страница группы В Контакте:
Над переводом работали: Oigene, victoria_vn, gojungle, AnhelShenks, KillKick, darklord_chukcha, при участии Александра Яковлева .
Поддержите нас: подписывайтесь на нашу группу В Контакте!
Географические названия
Здесь приведён глоссарий географических названий, так как изменения границ и политические перемены между 1914 и 1947 гг. изменили многие из используемых в этой истории названий до неузнаваемости. В данном списке отражены названия, официально использовавшиеся в 1914 году, что не подразумевает признания каких бы то ни было территориальных претензий прошлого и настоящего.
Китайские названия написаны согласно системе Палладия, общепринятой транскрипции китайского языка на русский.
Аббация - Опатия, город в Хорватии на северо-востоке полуострова Истрия, на берегу залива Кварнер Адриатического моря.
Лемберг - Львов (Украина).
Амбоина - г. Амбон, Индонезия.
Нойградитц - Нови-Град, город в северной части Боснии и Герцеговины, между реками Сана и Уна.
Антибари - Бар, город в Черногории на побережье Адриатического моря, напротив г. Бари, Италия.
Панчова - город Панчево в Сербии, автономном крае Воеводина.
Батавия - Джакарта, Индонезия.
Петвардайн - Петроварадин, бывший город, ныне район Нови-Сада, расположенный на правом берегу Дуная в болотистой местности. На протяжении нескольких веков через Петервардейн, прозванный венгерским Гибралтаром, проходила граница между христианским и исламским мирами.
Бенешау - город Бенешов в 37 км юго-восточнее Праги.
Кастельнуово - Герцег-Нови, город в Черногории. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря.
Каттаро - г. Котор в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря.
Пола - Пула, город в Хорватии, на западном побережье полуострова Истрия в Адриатическом море.
Порто-Ре - Кралевица, город в Хорватии.
Чифу - Яньтай, порт, городской округ в китайской провинции Шаньдун на Шаньдунском полуострове.
Озеро Скутари - Скадарское озеро, крупнейшее озеро Балканского полуострова, располагается на территории Черногории и Албании.
Фиуме - город Риека в Хорватии, в северной части Далмации, рядом с полуостровом Истрия.
Семандрия - город Смедерево в Сербии на стечении Моравы и Дуная, в пятидесяти километрах от Белграда.
Грудек - Городок, город в Польше, входит в Белостокский повят Подляского воеводства..
Спицца - Сутоморе, курортный город Черногории, расположенный между городами Петровац и Бар.
Темешвар - Тимишоара, город в Румынии, исторический центр области Банат.
Иглау - Йиглава, город на юго-востоке Чехии, на одноимённой реке, административный центр края Височина.
Теодо - Тиват, город в Черногории на берегу Бока-Которского залива Адриатического моря.
Юнгбунцлау - Млада-Болеслав, город в Чехии на левом берегу реки Йизеры, в пятидесяти километрах к северо-востоку от Праги.
Ужвидек - Нови-Сад, город на севере Сербии, на берегу Дуная, административный центр автономного края Воеводина.
Клаттау - Клатови, город на западе Чешской Республики, в Пльзенском крае в сорока километрах к югу от Пльзеня, у реки Углава, вблизи подножья Шумавы.
Землин - Земун, бывший город в Сербии, ныне район Белграда, расположенный на правом берегу Дуная и левом берегу Савы.
Лейтмеритц - Литомержице, старинный город в Чехии, расположенный в долине Эльбы и Огрже, примерно в семидесяти километрах от Праги.
Предисловие
В этой книге Отто Прохазка, будущий герой империи Габсбургов, испытывает весьма неожиданные и интересные приключения, и пытается, хотя это ему и не удается, предотвратить Первую мировую войну.
Образованная в 1867 году Австро-Венгерская империя представляла собой объединение двух почти независимых государств под скипетром одного монарха, императора Австрийского и короля Венгерского, из которых титул последнего имел только номинальный статус. В этой связи в течение пятидесяти одного года практически все учреждения и многие чиновники этого составного государства имели пред своим названием инициалы, обозначающие их принадлежность к той или иной части державы.
Совместные австро-венгерские институты обозначались как «императорские и королевские»: «kaiserlich und königlich», или «k.u.k.» для краткости.
Те, что относились к австрийской части монархии, (т.е. все, что не имело отношению к королевству Венгрия) именовались «императорско-королевскими»: «kaiserlich-königlich», или просто «k.k.», в дань уважения статусу государя как императора Австрии и короля Богемии. Тем временем чисто венгерские ведомства назывались «королевскими венгерскими»: «königlich ungarisch» («k.u.») или “kiraly magyar” (“k.m.”).
Австро-венгерский флот следовал принятой на европейском континенте практике измерять морские расстояния в милях (1 852 м), сухопутные в километрах, боевые дистанции в метрах, а калибр артиллерийских орудий в сантиметрах. Однако он придерживался бытовавшего в Англии до 1914 года обычая отмерять время двенадцатичасовыми интервалами. Надводные корабли обозначались как «Seiner Majestäts Schiff» - «S.M.S.».
Глава первая
Отголоски прошлого
Сестры Вечного Поклонения
Плас-Гейрлвид
Январь 1987г.
Боюсь, я никогда не был примерным больным: ни в раннем детстве, борясь с обыденными заболеваниями, которыми страдало большинство младенцев в конце 80-х годов девятнадцатого века; ни даже сейчас, когда я живу столь невыносимо долго, что смерть скоро станет для меня желанным гостем; и не в те многочисленные промежуточные периоды, когда меня на время одолевали болезни и раны.
Я слёг с бронхопневмонией за неделю до Рождества, пока сёстры были заняты приготовлением праздничного ужина для нас, несчастных пленников этого заведения для польских беженцев. Они уложили меня в кровать и позвали доктора Уоткинса из деревеньки Ллангвинид, чтобы тот меня осмотрел, но это была по большей части формальность: я не ожидал, что переживу следующий день, несмотря на антибиотики и кислородную маску.
Они даже не посчитали нужным вызвать скорую и перевезти меня в больницу Суонси.
Я подумал, что это вполне разумно: могу умереть и здесь, особенно в середине декабря, когда людям на скорой хватает дорожных происшествий. Так или иначе, я был не расположен к спору, лежал и боролся за каждый вдох, гадая, словно выживший после кораблекрушения в ледяном море, скольким волнам он сможет противиться, прежде чем неминуемо сдастся и в итоге уйдет под воду.
Это умирание нельзя было назвать неприятным чувством, по крайней мере так, как я его воспринимал; скорее как проснуться рано утром, а затем понять, что сегодня воскресенье, и лениво растянуться на чьём-то гамаке, зная, что будильник не прозвенит. Я видел лица вокруг, сознавал, что входят и выходят люди, но больше ничего.
Затем привезли отца Маккафрея, чтобы провести соборование. Я уже не имел ничего против преподобного отца, приятного молодого ирландца с вечной улыбкой и блестящим розовым лицом, прямо как у зарезанной свиньи, которую только что ошпарили и обрили.
Он также был весьма добросовестным, и поехал за тридцать километров в дождливую, холодную ночь, чтобы от имени святой церкви оказать последнее утешение высохшей, старой оболочке, агностику типа меня, крещёному по католическому обряду (как и все остальные подданные почтенного дома Австро-Венгрии), который, как многие чехи, разумом оставался скептиком, а в душе гуситом.
Дело было в самом соборовании - хотя, думаю, не совсем в том смысле, который подразумевался. Я участвовал в обеих мировых войнах и в нескольких конфликтах между ними, и всерьёз убеждён, что навязчивое стремление религии помочь больным и раненым, лежащим в госпиталях, это практика, которая должна быть объявлена вне закона Женевской конвенцией.
Во всяком случае, я помню напряжённый и доставивший мне самое большое удовольствие спор на эту тему около двадцати лет назад с матроной в Стэнморской ортопедической больнице, когда я лежал с переломом бедра, и шайка богатых самаритян раздавала больным рождественские песни и своё снисхождение.
Так или иначе, в каком бы безнадежно состоянии я не находился, я не намеревался терпеть, как преподобный Маккафрей растирает меня мазью и бормочет надо мной молитвы, это уж слишком. К ужасу собравшихся сестёр я оттолкнул его, затем сумел сесть, перевёл дыхание и велел ему оставить меня в покое и проявить своё усердие в отношении тех людей, которые нуждаются в его богослужениях.
Знаю, это было нечестно, но гнев подействовал на меня будто удивительная панацея. От напряжения я обильно потел, сердце билось всё быстрее. А чуть позже, той же ночью, дышать стало легче, и спустя несколько дней я пошёл на поправку, поэтому буквально перед Новым Годом вышел из группы риска и меня официально объявили выздоравливающим.
Я пока прикован к постели вплоть до дальнейшего распоряжения, а сестра Фелиция исполняет приказ, конфисковав мои вещи. По правде, я думаю, людям моего возраста (в прошлом апреле стукнула сотня) нужно разрешить одеться и бродить по снегу, чтобы погибнуть подобно старому и беззубому краснокожему индейцу.
Но в тут, как оказалось, мыслили в другом направлении - как тюремщики, которые отбирают шнурки у осуждённого вместе с подтяжками и ремнём из страха, что он повесится и возникнут проблемы.
А сейчас смерть от кардиореспираторной недостаточности как будто решили заменить на смерть от скуки: дело в том, что своё времяпрепровождение в кровати я нахожу в высшей степени утомительным.
Я не могу толком читать из-за катаракты, и полагаю, да и радио наверняка скоро надоест, когда пять или шесть дней подряд вечерами рассказывают о проблемах голубых китов и неполных семей. Хотя я должен признать, что если бы мне разрешили вставать, я бы по-прежнему не нашёл себе дела, поскольку в прошлый понедельник погода внезапно изменилась. Субботним вечером была обычная январская буря и мелкий дождь на всем протяжении атлантического побережья Уэльса.
Но потом в воскресенье ветер сменился на северо-восточный и стал серо-стальным и промозглым, беспрерывно подвывая у нашего здания на мысу, трепал, выгибая деревья и кусты, словно невидимой рукой гладил кота против шерсти.
К вечеру понедельника начал падать снег: не большими по обыкновению влажными, пахнущими морем хлопьями, а колючим непрекращающимся водопадом мелкой шероховатой крупы, почти такой же, что сыплется с неба на моей родине, в сердце Европы.
К утру вторника дороги стали непроходимыми, засыпанная тропа к деревне Ллангвинидд была погребена на два или три метра в глубину по всей своей длине. Местные, которые умудрились пробраться к Пласу за прошедшие пару дней, говорят, что они не видели худшей погоды за целые двадцать пять лет.
Это почти никак не повлияло на меня, лежащего в своей комнате наверху. Проснувшись тем утром, я увидел бледно-серый свет, отражавшийся на потолке, а потом и ветвистые ледяные узоры на оконных стёклах.
Стоило сестрам отвернуться, как я заставил себя подняться с постели, выглянул в окно и увидел сглаженные линии каменных террас сада, превратившиеся в волнистый белый ковер, а высокий хребет Гейрлвидда за домом стал похожим на спину белого кита, резко выделяющуюся на фоне тусклого свинцового неба.
Море, сдерживаемое ветром с суши, приглушённо затихало у берегов Пенгадогского залива. Волны отступали, оставляя бахрому из ледяных осколков. Повсюду воцарились тишина и покой.
Попасть в Плас или уехать из него в эти последние пару дней оказалось невозможно, поскольку мы находились на самом краешке полуострова, вдали даже от второстепенных автодорог, а между нами и Ллангвинидом располагалась лишь парочка ферм.
Сегодня над головой раздался грохот - это прилетал вертолет королевских военно-воздушных сил и сбросил корм для овец выше по склону, но помимо этого мы полностью отделены от остальной части мира, если не считать телефона и радио. Хотя это не имеет большого значения для дома, где живет десяток монахинь и около восьмидесяти престарелых и обедневших польских эмигрантов, большинство из которых вряд ли крепче и здоровее меня.
Думаю, у нас есть запасы еды на месяц или около того, а горючего для центрального отопления еще на больший срок, так что до каннибализма, как я полагаю, не дойдет еще примерно до конца февраля, а отсутствие свежего молока и почты не представляет для нас большой трудности, поскольку будучи уроженцами центральной Европы, мы добавляем в чай лимон.
А будучи представителями своего несчастного поколения, почты мы почти не получали, поскольку у нас осталось в живых прискорбно мало родственников или друзей, чтобы посылать хоть что-то. На самом же деле в эти дни здесь царила какая-то предотпускная фривольность. Вчера несколько сестер помоложе и полегкомысленнее даже устроили игру в снежки с майором Козёлкиевичем и парочкой его друзей, дамских угодников, а затем помогли ему слепить снеговика.
Чтобы превратить его в подобие священника, откуда-то откопали старый берет, в одну руку вставили пустую бутылку из-под водки, а в другую - молитвенник. Но когда выпрошенная на кухне в качестве носа морковка превратилась в нечто совсем другое, сестра Фелиция почувствовала, что забава зашла слишком далеко, вышла на улицу и отправила монахинь исполнять свои обязанности.
Как я предполагал, внезапная метель и наша последующая изоляция от мира принесла и нечто неожиданное, но приятное. Мой юный друг Кевин Скалли, безработный старший матрос, а ныне мастер на все руки на неполный рабочий день в Пласе и окрестностях, приехал из Лланелли в понедельник, во второй половине дня, чтобы починить текущий кран, и застрял здесь, когда переулки стало заносить снегом.
Он находился здесь уже шесть дней. Не так уж это и много: он не работал, и его отношения с девушкой из разряда «вместе - не вместе» уже должны были проходить вторую фазу. И, так или иначе, как бывший военнослужащий, он пришёл к пониманию, что есть у военной службы одно неоценимое достоинство – возможность абсолютной праздности.
Кевин расчистил несколько дорожек вокруг дома, пробил трубу-другую и добросовестно, два раза в день, проверял насосы котельной и бойлерной в отдельно стоящем сарайчике. Но в остальном, кажется, он был счастлив сидеть здесь, в моей комнате, подальше от сестры Фелиции, болтая со мной о том о сём, или просто читая.
Кевин являл собой просто идеальный образчик компаньона для больного: по природе своей тактичный и ненавязчивый, безо всяких дурацких идей о долге развлекать меня или как-то еще оправдывать свое присутствие. На самом деле, весьма странно, если только задуматься об этом, что в момент, когда я собираюсь уйти из этой жизни, пережив всё моё поколение, я получаю удовольствие просто от присутствия этого малообразованного и не очень хорошо воспитанного юноши-иностранца.
Возвращаясь в год 1918, когда я командовал подводной лодкой. Нам как-то поручили идти на выручку торпедированному австрийскому войсковому транспорту у берегов Албании. Мы прибыли слишком поздно, чтобы хоть чем-то помочь, разве что вытащить парочку мертвых тел, и я помню: когда мы подняли их на борт, то обнаружили, что некоторые сжимают в безжизненных руках какую-нибудь пустяковую безделушку - карандаш или зажигалку, будто бы отчаянно цеплялись за этот последний символ человеческого мира, постепенно ускользая из него.
Но как бы то ни было, в эти недели, когда я обессилел после болезни, Кевин стал для меня утешителем. Точно так же как и моя подруга и доверенное лицо сестра Элизабет, которая приходила посидеть со мной, как только освобождалась от обязанностей по кухне.
Именно Кевин Скалли и сестра Элизабет прошлой осенью приучили меня записывать на диктофон воспоминания о моей карьере в качестве линиеншиффслейтенанта императорского военно-морского флота Оттокара фон Прохазки, возведенного в дворянское достоинство аса-подводника Первой мировой войны и официально признанного героя Австро-Венгерской монархии.
Быть может, однажды вы услышите эти воспоминания, если проявляете интерес к такого рода вещам, и если кто-нибудь сочтёт, что их стоит отредактировать и привести в порядок. И если всё же вы когда-нибудь услышите эти байки, то встанет вопрос, как и у первого моего слушателя Кевина Скалли, почему они начинаются с весны 1915 года? Ведь к тому времени я отслужил кадровым офицером Габсбургского флота добрых пятнадцать лет, и уже девять месяцев продолжалась Мировая война, которая в конечном счёте привела к развалу моей страны.
Я пояснил Кевину, что когда в конце июля 1914 года разразилась война, я находился на Дальнем Востоке, в Циндао, на северокитайском побережье, на крейсере «Кайзерин Элизабет». Но не буду вдаваться в детали, потому что если бы я стал ему рассказывать о происходившем там и про свои последующие приключения за полгода пути обратно в Европу, то пришлось бы также и рассказать, как я вообще очутился в такой дали.
А это, боюсь, долгая и непростая история, и к тому же в то время по веской личной причине мне не хотелось никому ее рассказывать. Однако говорю об этом в прошедшем времени, потому что позавчера во второй половине дня, когда уже смеркалось, произошло одно любопытное событие, которое, по-моему, позволяет приоткрыть тайну. С условием, конечно, что какое бы божество ни наблюдало за деяниями бывших австрийских, чешских, польских потерявших родину агностиков, оно придаст мне сил и времени, чтобы поведать её.
Я сидел в своей постели, когда сестра Элизабет пришла задернуть шторы, а затем снова спустилась вниз на кухню. Кевин принес мне парочку последних газет, которые успели доставить в Плас в воскресенье еще до снегопада. Я просматривал их, а он сидел в кресле и листал цветное приложение.
Я только что отложил в сторону невероятно скучное лондонское издание «Польского дневника» и взял в руки пятничный выпуск «Таймс» - обычная послерождественская ерунда, которой хватило всего на пару страниц. Но в любом случае, если вы когда-нибудь доживете до моих лет, то происходящие в мире события будут не настолько уж вам интересны, поскольку все это вы уже видели, и неоднократно.
Я бегло просмотрел пару страниц, а затем мой взгляд вдруг остановился и снова потянулся обратно, прямо как рукав свитера, зацепившийся за гвоздь - к колонке некрологов. Обычно она меня абсолютно не беспокоила, поскольку все мои современники умерли уже лет тридцать или больше.
Этот находился среди мелких сообщений внизу колонки, под теми, кому посчастливилось воссиять поярче: среди некрологов, написанных о простаках, что оказались слишком заурядными, чтобы удостоиться внимания при жизни, но чья смерть рассматривается как достаточно важное событие, заслуживающие пары строк в самом низу страницы.Некролог гласил:
«Сообщаем, что профессор Алоиз Фибич умер 23 декабря в Лимбурге, штат Небраска. Алоиз Фибич, почетный профессор эконометрики в университете Омахи в 1947-1963 гг.
Профессор Фибич родился в городе Клагенфурт, Австрия, в 1897 году, и в чине лейтенанта служил в австро-венгерском флоте во время Первой мировой войны.
После распада империи Габсбургов в 1918 году он изучал экономику в Будапеште и эмигрировал в Соединенные Штаты в 1929, два года спустя став гражданином США, и работал в экономическом департаменте администрации президента Рузвельта во время его «Нового курса».
Его работа «О множественной регрессии. Анализ кривой дефицита спроса» (1948) в настоящее время широко рассматривается как одна из основополагающих, помещающая автора в ряды основателей науки эконометрики.
«Ала» Фибича будет очень не хватать коллегам и нескольким поколениям студентов не только из-за его блестящего вклада в современную экономическую науку, но и благодаря огромному личному обаянию и обходительности, которая даже в продуваемый всеми ветрами университетский городок на среднем западе привнесла отдаленное эхо уже давно исчезнувшего мира, в котором Фибич родился. После него осталась жена и три дочери».
Кевин оторвался от своего журнала, почувствовав, что что-то случилось. Он встал, подошел к моей кровати и увидел, в каком месте страницы находится мой палец. Казалось, он инстинктивно угадал, в чем дело.
— Ваш знакомый, да?
— Да, Кевин... да, думаю, так и есть. С такой фамилией людей наверняка немного. Я помню, но... воспоминания бурлят и плещутся у меня в голове, прямо как прилив в той маленькой бухте, что прячется среди скал неподалеку от Пласа.
— Похоже, забавное совпадение. Он был вашим приятелем? Значит, вы его хорошо знали?
— Нет, нет, вовсе не так хорошо. Если это тот человек, о котором я думаю, то я виделся с ним минут пять, не больше. Вот только...
Кевин подошел, придвинул кресло поближе к моей кровати и замер.
— Хотите рассказать мне об этом, а? Здесь все равно нечем заняться. В прогнозе погоды говорят, что этой ночью выпадет еще снега, а если я спущусь вниз, эта старая корова Асумпта оторвет мне яйца, что я пропустил долбаное причастие, — Кевин усмехнулся. — Так вот что я вам скажу, у меня в машине есть маленький кипятильник и немного настоящего кофе в банке, очень хорошего. Я сбегаю и принесу, потом мы заварим здесь в тишине, пока старая Фелиция распоряжается на кухне насчёт ужина. Вот ведь гнусность, запретить вам пить кофе и всё такое. Как долго, по их мнению, вы протя... Простите, я не хотел...
Я засмеялся.
— Ты думаешь, в моём возрасте это имеет хоть какое-то значение? — Весьма точно: счастливее всего сестры чувствовали себя, когда кому-нибудь в чем-то отказывали. Это потворствовало их желанию править. Они решили, что я буду самым здоровым покойником на кладбище. — Давай, иди, принеси все необходимое и начни делать кофе. Потом сядь, и, может быть, я расскажу тебе обо всем.
— Вы уверены? Они считают, что вам совсем плохо.
— А какая разница? Я и так уже умираю здесь от безделья. Так хоть время быстрее пройдет. В любом случае, быть может, рассказав тебе об этом, я сниму тяжкий груз с души, прежде чем я отойду в мир теней.
— Типа исповеди?
— Именно так, исповедь. Разве что я не ожидаю от отца Кевина, будто он сохранит её тайну. Кстати, я тут подумал, нам лучше для записи принести сюда диктофон сестры Элизабет на случай, если я вдруг отдам концы в середине рассказа.
Глава вторая
На борту «Эрцгерцога Альбрехта»
— За последние пятьдесят лет ничего не произошло, - плетеное кресло заскрипело, когда линиеншиффслейтенант Стефан Кажала-Пиотровский вытянул длинные, облаченные в шелковую пижаму ноги и зевнул. — И вот что следует понять, мой дорогой Прохазка, нет никаких, даже малейших оснований полагать, будто что-нибудь произойдет в следующие пятьдесят лет.
Полагаю, что именно после этих слов дождливым воскресным вечером весной 1912 года и начались мои любопытные приключения. Там, в маленькой и тесной кормовой каюте на нижней палубе линкора императорского и королевского военного-морского флота «Эрцгерцог Альбрехт», стоящего на якоре в гавани Полы.
В этот несчастный, промозглый день настроение было хуже некуда, так что я не мог с готовностью или признательностью воспринять красиво поданную мировую скорбь, которую поляк-лейтенант из Кракова в последние несколько месяцев превратил в этакую изюминку кают-компании.
— Чепуха, Кажала, опять ты распространяешь уныние и беспокойство, как малодушный польский аристократ. Да ты такой и есть. Все считают, что в 1915 разразится общеевропейская война: США, Германия и Италия против Англии, Франции и России. А если мы не собираемся воевать, то, пожалуйста, объясни мне, почему правительства всей Европы тратят столько денег на оружие, будто заливают пожар водой? Даже наши собственные прижимистые правители выкашляли из себя денег на флотилию современных линкоров - кораблей, если будет позволено мне заметить, на мостике одного из которых ты однажды сможешь красоваться в качестве старшего офицера. Так к чему тогда вся эта флотилия, если её не придётся испытать в действии? Последнее, что бытует в нашем ежедневном «Рейхспосте»: война начнется летом 1915 и продлится, возможно, аж два месяца, а то и три.
Кажала рассмеялся и снова затянулся сигаретой.
— Да что это с тобой, Прохазка, в твоем-то возрасте! Только двадцать шесть на прошлой неделе стукнуло, а ты уже рассуждаешь, как отставной полковник в кофейне Граца или одна из маразматических передовиц в «Рейхпост», раз уж на то пошло. Ну надо же, «малодушный польский аристократ»! Просто непостижимо, и это из уст чеха, и не важно, аристократ он или нет. Сомневаюсь, что во всей Дунайской монархии найдется еще одна столь же нелояльная нация. Даже итальянцы, которых, на мой взгляд, вообще нельзя принимать всерьез...
— Помнишь то дельце на праздновании Нового года в кают-компании, когда ты обратился с тостом к портрету императора словами «нудный старый пердун»? Оно вполне могло закончиться для тебя трибуналом. Если бы старший офицер понял твой польский, ты попал бы в ту еще передрягу: нам и так пришлось соврать под присягой, поклявшись, что «stary pierdoła» означает «мудрый и почитаемый монарх».
— Я всего лишь немного перепил, вот и все: безобидная шутка. И вообще, Прохазка, так не пойдет. Все эти твои верноподданнические выступления и черно-желтое исподнее... Ты слишком умен, чтобы не видеть правды.
— Какой правды?
— Правды, которая бросается прямо в глаза: эта война уже отошла в прошлое, если уж говорить про Европу. Да, можно сколько угодно с напыщенным видом расхаживать в остроконечных касках и драгунских кирасах, но всё дело в том, что сам век образования, здравоохранения, водопроводной воды и трамваев отменил возможность всеобщей войны. Да, мы еще можем выйти и пристрелить парочку чернокожих в джунглях Африки, но сейчас мы слишком высокоразвитая цивилизация, чтобы воевать у себя дома. Все рычат друг на друга, угрожают и без конца проводят военные парады, но это все большое заблуждение. Я недавно прочитал книгу, в которой убедительно доказывалось, что даже если в результате какой-то случайности война и начнется, то через неделю прекратится. — Почему?
Кажала понимающе улыбнулся: улыбкой человека, знающего секрет, в понимании которого простой черни отказано.
— Да потому что, помимо всего прочего, деньги просто исчезнут. Современным миром управляют евреи и фондовые биржи, а экономическая жизнь промышленно развитых стран - слишком тонкий механизм, чтобы война могла в нем ковыряться.
Если бы ты читал в газетах что-нибудь еще, помимо своих тупых передовиц, то заметил, что немецкая сталелитейная промышленность недавно образовала картель с французскими добывающими предприятиями, и это, таким образом, сразу исключает войну между Францией и Германией, какой бы вздор ни нес кайзер. Можешь на это рассчитывать: при первых же признаках серьезных проблем финансисты перекроют денежный поток любой стране, что потревожила спокойствие.
Даже если войска и вступят на поля сражений, то не смогут вынести всю смертоносность современного оружия. Битва прекратилась, когда наш любимый император и Луи Наполеон заболели при Сольферино.
— А как же всеобщее вооружение? Великие державы вооружаются невиданными ранее темпами. Даже наша имперская и королевская армия создает гаубицу калибром 30 сантиметров...
— Работы ради общественного блага в чистом виде - всего лишь способ вернуть собранные налоги обратно в экономику. Если бы не строили линкоры, пушки, форты, то строили бы мавзолеи, пирамиды или еще что-нибудь затратное. Но социалисты поднимут бучу, если в наши дни правительства станут строить дворцы наподобие Версальского, потому им и приходится тратить деньги на что-нибудь, что подбросит немного деньжат в кошелёк простых заводских работяг.
— Допустим. Но если твои слова правдивы, куда именно это нас приведёт?
— Нас? Я скажу тебе, Прохазка. Это приведёт нас к двум молодым - но уже на настолько молодым – показным и абсолютно бессмысленным манекенам на борту эдакой плавающей исправительной школы, качающейся на якоре где-то на краю Истрийского полуострова: бесполезные офицеры этого великолепного, самого бесполезного флота, какого только знавал мир во все времена – имперского и королевского военно-морского флота нерушимой, неувядающей и окружённой сушей Австро-Венгерской империи, иссушенной мумии, столь хрупкой, что само её существование - доказательство того, каким тихим местом стала Европа, если может терпеть такую смехотворную окаменелость.
Двум молодым людям, наблюдающим, как утекает славная молодость, пока мы растрачиваем свои дни по мелочам, заставляя хамоватых хорватов и вероломных итальянцев заправлять койки, надраивать медяшку и мыть повсюду; надрываемся на артиллерийских учениях, как будто действительно ожидаем, что когда-нибудь будем это всё делать по-настоящему; умираем от скуки и каждый месяц отскребаем несколько крон из нашего жалования, чтобы оплатить визит в «Чайные комнаты» фрау Митци и дозу кой-чего, за что придётся потом заплатить корабельному хирургу, чтобы излечиться.
Господи, какая трата времени, просто ужасно. Нам точно дана только одна жизнь? Почему я не подналёг на пианино в консерватории, а позволил своей тётке потащить меня на экзамены для будущих мичманов?
— Да ладно тебе, старик, приободрись ты, ради бога. Это погода, должно быть. Так или иначе, ты всегда можешь вернуться к музыке...
— Боюсь, нет: уже слишком стар, - он, ухмыльнувшись, затянулся сигаретой. - Во всяком случае, тебе не нужно особо обращать внимания на меня и мою депрессию. Ты наполовину поляк и понимаешь, какие мы мрачные типы - никогда не бываем счастливы, пока не станем несчастны. «Нация мучеников» и всё в этом духе. В общем, довольно уже пустых разговоров. У меня «диана»[1], так что пора бы мне на боковую.
Колокол над нами приглушенно отбил четыре склянки, печально и бесконечно далеко в лёгком, тихо моросящем дождике, подобно кафедральным колоколам в каком-нибудь давно утонувшем городе.
Кажала-Пиотровский затушил сигарету. Несмотря на претензии на изысканность и янтарный мундштук, ему приходилось курить ужасные, дерущие горло «Эгиптянерс» - как и всем прочим младшим офицерам. Потом он снял халат, повесил его на крючок за дверью каюты, свесил длинные ноги с верхней койки (которую занимал в силу годичного старшинства в качестве офицера), пожелал мне спокойной ночи и задернул занавески. Вскоре он мирно захрапел, с удовольствием напустив уныния перед тем, как завалиться спать.
Я остался сидеть у складного стола наедине со своими мыслями, под бронзовым светом настольной лампы. Окинул взглядом стальной куб - наш дом в последние шесть месяцев. И правда, не самый уютный уголок - неудачный компромисс между необходимостью обеспечить жизненное пространство для двух молодых людей и жестокими условиями военного корабля; гостиная, которая в определённый момент может стать отсеком в плавающей крепости, скользкой от крови и наполненной дымом и грохотом сражения.
Одна переборка была полностью выполнена из красного дерева - на вид достаточно прочная, но в действительности съёмная перегородка, которую можно снять во время подготовки корабля к бою и выбросить за борт, чтобы уменьшить риск пожара. Кажала-Пиотровский, будучи очень высокого роста, ходил слегка сутулясь, чтобы не биться головой о невысокий стальной потолок, по которому вились трубы, вентиляция и кабели.
Через единственный иллюминатор, прикрытый от ночной влаги, днём проникал свет и в некоторой степени воздух – хотя летом на Адриатике всегда стоит такая жара, что в каютах на солнечной стороне корабля к полудню уже можно хоть хлеб выпекать.
Вентиляционная шахта системы охлаждения артиллерийского погреба занимала угол каюты и сужала и без того недостаточное пространство для шкафа, который предназначался для хранения значительных запасов одежды: церемониального, парадного и повседневного мундиров, походной формы, рабочих комбинезонов и одежды для тропиков.
Помимо этого, наши удобства состояли из двух выдвижных ящиков под нижней койкой, складного стола и умывальника с дурной привычкой складываться прямо во время использования, пары рундуков, стула с жёсткой спинкой и подержанного плетёного кресла, которое мы купили вскладчину.
Учитывая все обстоятельства, это была довольно унылая конура. Мы оба сделали с ней всё что могли, повесив несколько страниц из венского журнала «Пшутт» и тому подобных. Но домашнего уюта в ней по-прежнему было не больше, чем в третьесортной общественной уборной.
А ещё было шумно: денно и нощно в каюте со всех сторон слышались мириады звуков этой огромной гулкой стальной громадины, корабля водоизмещением десять тысяч тонн, под завязку забитого машинным оборудованием, вооружением и припасами. И вдобавок семьсот человек экипажа, изо всех сил пытающегося разместиться на оставшемся месте. Даже во время отдыха в порту, как в этот вечер, корабль никогда не умолкал.
Вода бурлила в трубах, лопасти вентилятора гудели, вспомогательные двигатели пульсировали, чтобы напитать электрогенераторы, а голоса и шаги отдавались эхом в отдалённых проходах и на стальных трапах в огромном лабиринте над и под нами.
Массивные якорные цепи тихо поскрипывали в клюзах, когда корабль мягко покачивался около буя. Еще прежде чем я уснул, невидимый жестянщик приступил к своей ночной работе: человек, который, казалось, присутствует на борту всех линейных кораблей, но которого никто никогда не встречал. Тот, кто проводит ночные часы, перетаскивая ящик, полный старых такелажных оков, цепей и тому подобного в каюту прямо над твоей головой, а затем начинает их перебирать, кидая в кучи прямо на голую стальную палубу.
Вы, возможно, из вышеизложенного уже поняли, что элегантный пессимизм линиеншиффслейтенанта Кажала-Пиотровского, хотя и раздражающий, упал в благодатную почву. Ибо истина в том, что за последние несколько месяцев моя юношеская влюбленность в жизнь моряка впервые споткнулась. Вплоть до осени 1911 года я наслаждался удивительно многообещающей карьерой младшего морского офицера в небольшом, но теперь быстро растущем флоте Австро-Венгерской монархии.
По выпуску из императорской и королевской военно-морской Академии в 1904 году меня произвели в мичманы и фактически немедленно назначили на стационер в Китае, где я достаточно успешно оказался втянут в заключительные этапы русско-японской войны, во всяком случае, по возвращении меня произвели в фрегаттенлейтенанты на год раньше срока.
Потом, в 1907-1908 годах, шесть месяцев я провел в Англии, изучая вместе с королевским военно-морским флотом и господами Виккерс строительство подводных лодок в Барроу-ин-Фернесс.
Затем последовала череда назначений на второстепенные должности на различных кораблях, и в конце 1910 года мне предоставили первое самостоятельное командование - миноносец «Акула», базирующийся в Теодо, в Которской бухте.
Месяцы на борту этого маленького кораблика оказались для меня самыми чудесными, даже несмотря на то, что это была всего лишь увеличенная плоскодонка, сделанная из жести и приводимая в движение единственным, чересчур громоздким паровым двигателем тройного расширения.
День за днём, ночь за ночью мы парились на шипящих и вибрирующих двадцати пяти узлах вдоль коварных, усыпанных рифами проливов между островами Далмации, рассекая волны с невероятным ощущением скорости - всё из-за нашей близости к воде. Я тут прочитал несколько лет назад, что военно-морские историки миноносец теперь считают предшественником подводной лодки.
И как один из немногих выживших капитанов, я могу без сомнения подтвердить тот факт, что на большой скорости рассекая встречные волны, миноносец, казалось, проводил больше времени под водой, чем на ней. Порой мы за несколько недель ни разу не высыхали.
Но несмотря на стеснённые условия на борту, мы были счастливой командой, те двадцать матросов и я: сидели буквально друг у друга на головах, чтобы делало невозможным соблюдать старую добрую австрийскую дисциплину, и пережили вместе слишком много опасностей и лишений, чтобы чувствовалась хоть какая-то разница между баком и кают-компанией.
Потом, летом 1911 года, моё счастье полностью воплотилось в жизнь: «Акулу» (командир - линиеншиффслейтенант Отто Прохазка) выбрали лидером дивизиона миноносцев во время двухнедельных военно-морских манёвров в заливе Кварнер.
Но ничто, к сожалению или к счастью, не длится вечно: имелось множество других свежепроизведенных линиеншиффслейтенантов, жаждущих оказаться на море и впервые стать самостоятельными командирами. Очень скоро мне пришлось спускаться по трапу в направлении Полы и следующей ступени моего становления как военно-морского офицера, которой, как решила судьба и военно-морской отдел имперского и королевского Военного министерства, станет должность артиллерийского офицера на борту настоящего линейного корабля.
Линкор «Эрцгерцог Альбрехт», 10350 тонн водоизмещения, спущенный на воду в Триесте в 1906 году, был результатом характерного для Австрии решения извечной проблемы тощих ежегодных бюджетов императорского военно-морского флота.
На протяжении большей части своего почти векового существования австро-венгерский флот страдал от официального безразличия и нехватки денег. Поговаривали, это все связано с нашим престарелым императором, питавшем стойкую неприязнь к соленой воде с тех самых пор, как его ужасно укачало в 1872 году во время первого (и единственного) морского путешествия в Порт-Саид, на торжества по случаю открытия Суэцкого канала.
Это правда, что у Франц-а-Иосифа, единственного среди европейских монархов, отсутствовало как флотское звание, так и мундир, и он имел обыкновение говорить, что его тошнит при виде бумажного кораблика, плавающего в корыте. Но вероятно, все это скорее проистекало из того, что из всех европейских великих держав того времени старушка Австрия не только физически, но и мысленно оставалась в тесных границах суши, была невежественной и недоверчивой ко всему миру за пределами Европы. Не имела ни сил, ни воли в пораженных артритом конечностях, чтобы завладеть колониями. Результатом явилось то, что Вена никак не могла в достаточной мере определиться, нужен ей флот или же нет.
Что касается Будапешта, то об этом и упоминать не стоит: если у Австрии был хоть какой-то интерес к морю и землям, лежащим за ним, то венгерская половина двуединой монархии не имела его вовсе. Было достаточно сложно год за годом заставлять мадьяр вносить свою долю даже на содержание императорской и королевской армии, так что надежда заставить их раскошелиться на достойный военно-морской флот отсутствовала вовсе.
Отношения между Веной и Будапештом приобрели весьма напряженный характер, когда в 1903 году в имперском Рейхсрате[2] обсуждался оборонный бюджет.
Императорское и королевское Военное министерство не смогло выжать достаточно денег из мадьярской делегации, чтобы построить два линкора по стандартам, принятым во флотах ведущих держав, поэтому в результате родилось типичное австрийское половинчатое решение: вместо двух приличных кораблей построить три недолинкора, слишком слабых, чтобы сражаться со своими иностранными собратьями, и одновременно с этим недостаточно быстрых, чтобы от них смыться.
Затем, когда корабли уже заложили и строительство продвинулось настолько, что начинать заново стало уже поздновато, к травме добавилось оскорбление: королевская венгерская бюджетная рулетка неожиданно отрыгнула денег на четвертый корабль, который в итоге нарекли «Эрцгерцог Альбрехт», в честь старейшины австрийского императорского дома, одержимого уставом солдафона, который разгромил итальянцев при Кустоцце в 1866 году и, как поговаривали, случайно сжег свою собственную дочь, когда застал её курящей, а та попыталась спрятать злосчастную сигарету под кринолинами.
Он неодобрительно взирал на нас с портрета, когда мы обедали в кают-компании. Толстая габсбургская нижняя губа презрительно оттопыривалась, а полускрытые тяжелыми веками глаза, спрятанные за очками с линзами в форме полумесяца, прищуривались, как будто он выискивал небрежно застегнутые пуговицы или воротничок, пришитый на полсантиметра выше или ниже уставного.
«Эрцгерцог Альбрехт» и его собратья, конечно, выглядели достаточно грозно и вполне подобающе для летних круизов с демонстративными визитами в средиземноморские порты, а больше - ни для чего. Но внешний вид еще не есть верный признак того, что на королевском флоте зовется «счастливый корабль», и должен сказать, мои шесть месяцев на борту «Альбрехта» оказались крайне печальными.
Моя должность на корабле звалась «артиллерийский офицер», и я командовал средней батареей правого борта: шесть орудий калибром 19 сантиметров на миделе - две башни на верхней палубе и четыре каземата на орудийной.
Мой пост во время сражения - боевая рубка на миделе правого борта - мощно бронированный колпак размером с один из ваших уличных почтовых ящиков, встроенный в борт корабля над средней батареей. Я скрючивался внутри него с телефонной трубкой у уха и старшиной-дальномерщиком, прижатым где-то сбоку, выглядывая через узкие смотровые щели и пытаясь навести огонь шести орудий.
Все было организовано так: я давал дальномерщику цель, он сообщал мне расстояние до нее. Затем я производил вычисления и сообщал это по телефону наводчикам всех шести орудий, расчет каждого из которых состоял из пяти человек непосредственно рядом с ним, и еще двенадцати или около того внизу, подававших наверх боеприпасы из артиллерийских погребов.
Это означало, что я находился на весьма ответственной должности, если мы когда-нибудь вступим в бой - почти с сотней человек под моим командованием и примерно пятой частью совокупной огневой мощи корабля, зависящей от моих суждений и вычислений при наведении на цель. На практике, однако, я вскоре обнаружил, что моё положение как артиллерийского офицера средней батареи правого борта оказалось похожим на положение конституционного монарха и его министров: он обязан подписывать бумаги и одобрять уже принятые решения, но положить свою голову на плаху, когда дела пойдут плохо.
Потому что наши дальномеры и системы управления артиллерийским огнём всё ещё оставались весьма посредственными по британским и немецким стандартам - в разы лучше, чем в старые-добрые времена лет двадцать назад, когда каждый наводчик сам наводил орудие и стрелял тогда, как считал нужным (обычно промахиваясь по меньшей мере в девяти выстрелах из десяти), но не намного лучше. Более того, старослужащие старшины-артиллеристы, от которых во многом зависит эффективность сражения линкоров, за последнее время менялись пугающе часто, поскольку габсбургский военный флот начал расширяться спустя десятилетия полного забвения.
Старшины-артиллеристы, даже старшие канониры, сейчас пользовались большим спросом и, как результат, на «Альбрехте» в последние месяцы уходящего 1911 года шла непрерывная игра в «третий лишний» среди командиров орудий моей батареи, когда оставшихся старшин заменяли недавно повышенными в чине рядовыми матросами, которых вскоре снова повышали и переводили на другой корабль, едва только те успевали хоть немного чему-то научиться.
В этих обстоятельствах вряд ли удивительно, что наши результаты во время череды практических стрельб зимой 1911-1912 годов оказались худшими из сонма и без того не блестящих результатов. Более того, в один кошмарный полдень в начале марта на стрельбах к югу от форта Пенеда система управления огнем моей батареи окончательно вышла из строя, и мы кончили тем, что посылали снаряды в самых произвольных направлениях, пока капитан, заикаясь от ярости, не приказал прекратить стрельбу.
Результатом оказался недельный арест для меня, и месяц или около того беспощадного подшучивания над моими матросами, прозванными «миротворцами», которых втянули в серию пьяных драк в Поле, после того как им предложили попрактиковаться в ярмарочном тире.
Весьма безрадостное положение, это уж точно. Но я был молод и неопытен, и еще не вполне раскусил, что хаос, перемены и неизменно низкая компетентность - естественные условия организации жизни человечества; что на каждый счастливый корабль, будь то на море или на приколе, найдется дюжина несчастных и, возможно, три дюжины крайне посредственных.
Я чувствовал себя вымотанным и разбитым и начал задаваться вопросом (впервые за все время) - неужели судьба моряка, по крайней мере, её воплощение в рутине жизни большого корабля флота мирного времени, в почтенной и почти сухопутной империи - это именно то, чего я желал много лет назад, в бытность заболевшим морем мальчишкой в маленьком городке северной Моравии, когда читал «Остров сокровищ» в немецком переводе и строил плоты из бочек для засолки капусты, дабы чуть не утонуть в сельском пруду? Как весьма любезно указал Кажала-Пиотровский, мой двадцать шестой день рождения миновал неделей ранее.
Безответственность юности, восторженность мичмана с парой медяков в грязном кармане перед которым лежит весь мир, побледнела и растаяла. В кармане у меня до сих пор медяки (месячное жалование линиеншиффслейтенанта едва покрывало стоимость ваксы для ботинок, когда наступала пора оплачивать счета кают-компании), но от восторженной жизнерадостности молодости почти ничего не осталось.
Казалось, мир в последнее время сузился до гнетущего туннеля, окруженного стенами из долга и рутиной служебных уложений, туннеля безо всякого света в конце, за исключением слабого, бесконечно далекого мерцания золотых нашивок корветтенкапитана году эдак в 1919-ом.
Рост в чинах в австрийских вооруженных силах всегда происходил болезненно неторопливо. У нас не было колоний, а, соответственно, и колониальных войн с их приятной тенденцией ускорять продвижение по карьерной лестнице благодаря желтой лихорадке или парочке туземных копий в спину.
А кроме того, люди в Центральной Европе имели выраженную тенденцию жить, пока не окаменеют. Как ещё могло быть иначе при 82-летнем императоре в Хофбурге? Семьдесят лет - официальный возраст выхода на пенсию флотских офицеров в ранге выше коммодора, но какое-то число дотягивало и до восьмидесяти - благодаря специальному разрешению императора.
А что касается женитьбы - об этом следовало забыть: собственного состояния у меня не было, так что возлюбленной и небольшой вилле в Борго-сан-Поликарпо придется обождать по меньшей мере до середины 20-х годов двадцатого века.
Нет, не такая уж заманчивая перспектива, как казалось на первый взгляд, предстала передо мной тем дождливым весенним вечером в бухте Полы. И не обладая навыками ясновидца, я никак не мог знать, что в конце концов все обернется намного хуже (хотя, следует признать, намного интереснее), чем я мог себе вообразить той ночью. Я разделся и приготовился ко сну.
Сосед по каюте мерно храпел, а ночной кузнец-старьевщик уже приступил к своей дзынь-бряк-шмяк работе палубой выше. Отбили пять склянок, и я приготовился выключить свет и упасть в койку. Но когда я так и сделал, что-то встряхнуло мои мысли - белый голубь на обнаженной руке одной из полуприкрытых красоток из «Пшутта» на картинке, висящей на переборке. Я, стараясь не шуметь, открыл свой крошечный ящик в столе и вытащил пачку документов.
И да, вот оно: имперское и королевское Военное министерство (военно-морской отдел), циркуляр 15/7/203(б) от 27 марта 1912 года. Я перечитал его еще раз, подумал какое-то время, а затем положил в бумажник, на всякий случай. «Возможно, лучше переспать с этой мыслью до завтра», - подумал я. Но почему бы и нет? В конце концов, самое худшее, что они могут - сказать «нет».
Горн проиграл побудку точно в пять ноль-ноль. Наш общий денщик, угрюмый хорват-резервист по фамилии Байджели, постучал и вошел с моим утренним чаем и тазиком горячей воды для бритья (Кажала-Пиотровский нес утреннюю вахту, «диану», и потому ушел еще в четыре). Байджели был одет в мундир, соответствующий утру понедельника.
— С почтением сообщаю, что до сих пор идет дождь, герр шиффслейтенант, а матрос Куирини прошлой ночью вернулся весь в крови после пьяной драки в кафе. Он сейчас у главного корабельного врача - нужно наложить десять швов, может, двенадцать. Я внутренне застонал, отпустил Байджели, поднялся и выпил чай.
Затем сверился с графиком дежурств. Мы сейчас находились на якорной вахте, так что у меня нормальное рабочее время до вторника, когда я несу ночную вахту. Я вылил горячую воду в предательский умывальник, немного подправил бритву и побрился в тусклом утреннем свете, оделся и отправился исполнять свои обязанности офицера, командующего одним из подразделений вахты правого борта.
Думаю, вряд ли кто-нибудь из ныне живущих может постичь всю скрупулезность, с которой была организована жизнь на борту одного из этих линкоров, построенных до 1914 года, морских символах государственного престижа в конце целого века беспрецедентного мира и прогресса. Плавучие микрокосмы упорядоченной и устойчивой общности людей, которые (во всяком случае, в теории) должны были господствовать над сухопутными силами в те сейчас едва уже мыслимые дни золотого стандарта, конституционной монархии и ньютоновской физики.
На борту «Эрцгерцога Альбрехта» семьсот человек жили повседневной жизнью согласно расписанию, отрегулированному до последней секунды, точно и плотно сжатому, как швейцарские карманные часы. В 5:00 горны протрубят «Подъём и на молитву», пятнадцать минут, чтобы подняться и одеться, а затем еще пятнадцать минут, чтобы скатать и убрать гамаки и прибраться на нижних палубах.
Затем завтрак для матросов: полкило хлеба и литр густого, злобно-крепкого черного кофе. Кончен завтрак, и точно в 6:00 начинается общекорабельная приборка: вода из шлангов потоком несется по палубам и каскадом стекает в шпигаты, а четыре сотни осоловелых босых матросов, закатав штаны и подвесив ботинки к поясному ремню, скребут и отдраивают палубы, моют швабрами все окрашенное и полируют бронзовое. К 7:30 корабль приобретает безупречный вид: мокрый, провонявший карболовым мылом и полировкой для металла.
Теперь наступала очередь по подразделениям, толкая друг друга, умываться и бриться в гулких и переполненных корабельных носовых уборных, в то время как старшины рявкают, чтобы поторапливались и строились на палубе.
А в восемь утра - восемь склянок и торжественное начало дня: на корме поднимается красно-бело-красный стяг императорской Австрии, корабельный оркестр играет «Готт Эрхальте», а взвод матросов берет винтовки «на караул».
Церемония подходит к концу, спускаются шлюпки, на батарейной палубе роздана почта, навесы натянуты (если того требует погода) и все, кто не несет вахты, приступают к своей повседневной работе. Но в это утро навесы не требовались: непрерывно моросил дождь, и палубы все еще блестели от влаги, несмотря на то, что приборка закончилась несколько часов назад.
Мой полудивизион отправился вниз для чистки оружия: полировать сабли и абордажные крючья, как если бы мы по-прежнему планировали взять на абордаж вражеский линкор и отправить абордажные партии карабкаться по леерам. В 9:00 я отправился на утренний обход.
Матросы с безразличными лицами: в основном хорваты и итальянцы с побережья Далмации и островов, с большей, чем обычно, долей призывников.
Немалую часть моих матросов составляли первогодки, еще не до конца усвоившие флотскую дисциплину, в то время как многие из оставшихся дослуживали последний год, и потому находились в состоянии, которое, как я думаю, вы привыкли называть «преддембельским», и не склонны были воспринимать ограничения корабельной жизни слишком всерьез, когда до свободы оставалось всего несколько коротких месяцев.
Матрос Куирини, любитель пьяных драк, относился к числу последних. Как только я закончил обход, то в сопровождении старшины-писаря отправился в корабельный карцер навестить его, чтобы взять письменные показания.
Мы обнаружили, что он сидит с замотанной бинтами головой и страдает от жуткого похмелья, распространяя вокруг флюиды недовольства. Оказалось, что он напал на капрала крепостной артиллерии после ссоры по поводу футбола, и ему неслабо накостыляли. Кроме того, собутыльники капрала и ряд гражданских свидетелей выражали готовность поклясться, что перед нападением он обнажил штык.
Я взял у него объяснения, заставил их подписать, уверил, что ему грозит месячный арест, а также целый день на веслах в качестве наказания, а затем пошел, чтобы доложиться в 10 утра дивизионному офицеру.
Обыденная печальная череда мелких преступлений и безрассудств в понедельник длиннее, чем обычно, поскольку мне докладывались упущения за весь уикэнд, поэтому я закончил только в 10:45, назначив матросу-рулевому Венцличеку неделю ареста за то, что вынул проволочное ребро жесткости из тульи бескозырки, чтобы придать себе более залихватский вид во время прогулки с девочками на берегу..
Настала очередь стирать одежду, потому что это было утро понедельника. Мне всегда претило наблюдать за этим, а также контролировать зверский процесс, при котором восемьдесят или девяносто молодых людей стояли на коленях на мокрых палубных досках и стирали белое обмундирование и нижнее белье, отдраивая его до дыр жесткими щетками из щетины.
Вскоре шпигаты на палубе около первой орудийной башни пузырились от дьявольского вида грязнокоричневой жижи, неприятно напоминающей утренний кофе с завтрака. И сердцем они были не здесь, в это холодное, влажное утро, а я продолжал отсылать людей заниматься этим снова, после того как они предъявляли мне свою одежду для контроля.
Около половины двенадцатого старший офицер корабля, фрегаттенкапитан барон Мораветц-Пеллегрини фон Тройеншверт, сменил меня и сделал мягкий выговор за то, что мои подчиненные так медленно возятся со стиркой. За ним следом примчался посыльный, передавший записку, что в ответ на мой запрос капитан ждет меня в своей каюте днем после обеда, ровно в 13:15.
Потом в полдень я сопроводил своё подразделение на обед. Был понедельник, и каждый знал, что в меню: всеми презираемый рис с горохом - о нем можно сказать единственно хорошую вещь, что он не столь ужасен, как кислая чечевица, которой прижимистый провиантмайстер потчевал экипаж по пятницам.
Но стенания все еще доносились от переполненных обеденных столов, подвешенных на балках, пока баковые тащили с камбуза дымящиеся судки. Потом горны созвали офицеров на обед, который я молниеносно прикончил и пошел убедиться, что мой полудивизион устроился для законного послеобеденного часа отдыха.
Сегодня было промозгло, так что они не смогут провести время, как предпочитали. Обычно некоторые дремали на теплых досках палубы под средиземноморским солнцем, натянув фуражки на лицо, другие сидели группками, играя в лото, или писали ответные письма подружкам в Линц и Черновцы.
Что касается меня, я собирался по возвращении в каюту написать один документ, подать официальный запрос на одном из специальных бланков, известных как “канцляй-доппель”, на котором полагалось оформлять все многочисленные дела нашей погрязшей в бумагах империи. Я подписал его, прижал промокашку, затем аккуратно сложил и поместил во внутренний карман кителя.
Я взглянул на часы: уже десять минут второго. С волнением прошелся гребнем по волосам и усам, поправил галстук и аккуратно водрузил на голову фуражку. Потом с трепетом в сердце направился на встречу со Стариком (такое уж было у капитана прозвище, и он его знал).
За многие годы после падения Австро-Венгерской империи я часто слышал мнение, что она была ничем иным, как механизмом для господства немецкой высшей расы над множеством покоренных народов, которых она рассматривала чуть выше, чем крепостных - по сути вроде европейской южной Африки. Это полная чепуха, конечно: старая двуединая монархия совершила много ошибок (по крайней мере, в австрийской её части), но дискриминация по рождению или языку к ним не относилась. Хотя, нужно признать, что среди габсбургского офицерского корпуса безусловным было сильное преобладание одной национальности: хорватов.
Из тысяч пехотных и морских офицеров-хорватов со всей Австрии трудно найти более красноречивый пример, чем командир корабля «Эрцгерцог Альбрехт», линиеншиффскапитан Блазиус Ловранич, дворянин из Ловраницы.
Старик Ловранич - крупный, краснощекий мужчина пятидесяти с лишним лет с глазами навыкате, стрижкой «ёжиком» и чёрными усами, похожими на рога африканского буйвола, был представителем этого теперь давно забытого племени “Alte Grenzer” [3]: бедных, но ужасно гордых хорватских мелких дворян, расселенных Габсбургами вдоль дикой турецкой границы в качестве военных колонистов ещё в семнадцатом веке.
Даже козы отчаялись нащипать себе пропитание на каменистых склонах Ликийского округа, поэтому на протяжении минувших поколений Ловранич и ему подобные зарабатывали себе на хлеб, служа офицерами в австрийской армии и флоте, но редко поднимаясь выше майорского звания, поскольку их мужество и верность, как правило, соседствовало с тугодумием.
Наш капитан являлся ярым поборником дисциплины и военно-морских инструкций, и вселял больший страх скорее в подчиненных ему офицеров, чем в обитателей нижней палубы (которые, по крайней мере, видели его намного реже).
Но также следует сказать, что он был хорошим моряком, исключительно честным в пределах своих узких умственных способностей и необыкновенно храбрым. В 1912 году нас с ним объединяло немногое: мы оба принадлежали к крошечной горстке действующих австро-венгерских офицеров, которым вообще довелось понюхать пороху.
Старый Ловранич вдохнул его запах в июле 1900 года в Пекине, когда исполнял обязанности старшего офицера на крейсере «Темешвар», базировавшемся в Танку. Тогда Ловраничу поручили сопроводить отряд матросов для охраны австрийской дипломатической миссии в китайской столице, где, согласно докладам, начиналась заварушка [4]. По прибытию в Пекин они выгрузились на железнодорожном вокзале и направились в дипмиссию. Что-то уже затевалось: на всем пути на них напирала враждебная толпа, и вскоре в городе прозвучали первые выстрелы.
Потом, когда они прошли через городские ворота и вошли на монгольский базар, то вдруг оказались перед завывающей тысячной толпой фанатиков-ихэтуаней, вооруженных до зубов и жаждущих крови длинноносых дьяволов. Отступать было некуда. Большинство в этот момент закрыло бы глаза и стало молиться, чтобы все закончилось быстро. Но не Ловранич.
Возможно слишком недалекий, чтобы осознать ужасающе низкие шансы, он выхватил саблю, приказал матросам примкнуть штыки, а затем ринулся в атаку по направлению к Британскому посольству, расположенному на другой стороне площади. Сорок один человек прибыл с ним в Пекин. Лишь трое добрались до места назначения: Ловранич и два матроса, один из которых от полученных ран вскоре скончался.
Груды мертвых ихэтуаней лежали за их спиной. Ловранич, получивший восемнадцать колотых и рубленых ран, выжил, и по возвращению в Австрию удостоился золотой медали Signum Laudis [5] и особым императорским указом был повышен в чине, перескочив через одну ступень. Остались и другие сувениры этого восстания - багровый сабельный рубец поперек лба, пол-уха, и непоколебимое мнение: он получил уникальное понимание того, что есть война («понимаете, молодой человек, ВОЙНА»).
Когда он поднялся из-за стола в ответ на моё приветствие, я подумал, как жаль, что природа, наградившая его сердцем быка, также, видимо, наделила и соответствующими интеллектуальными способностями. Капитан отрывисто поприветствовал меня в ответ, потом взял со стола мой рапорт, держа его будто дохлую крысу, и какое-то время, прищурившись вглядывался в него, прежде чем заговорить.
— Ха! Обучаться в качестве пилота самолета! Какого черта вы хотите этим сказать, Прохазка? В жизни не читал большего вздора. Это какая-то шутка? Потому что предупреждаю вас...
Я нервно сглотнул: рубец у него на лбу начинал багроветь - как барометр, показывающий приближение грозы.
— Честь имею доложить, что если герр капитан соблаговолит ознакомиться с прилагаемым циркуляром Военного министерства, все станет понятным.
— Да, я прочитал его, благодарю, Прохазка, и всё еще хочу знать, что всё это значит? Вам не нравится служба на военном флоте, а?
Я пытался сдержать отчаянное желание убежать и поискать убежища в лазарете, ссылаясь на временное психическое расстройство.
— Я почтительнейше докладываю, что ни в коей мере, герр капитан. Просто в последнее время меня заинтересовала авиация, и поскольку Военное министерство поощряет желание офицеров пройти обучение в качестве пилотов, я подумал...
Ловранич оборвал меня, но, к моему удивлению, скорее тоном обиженного недоумения, чем ревущего гнева. Я почувствовал, что вместо того, чтобы вбить меня по ноздри в землю и запугать неподчинением, он пытается в своей неуклюжей манере меня отговорить.
— Аэропланы, Прохазка, - это полная и абсолютная чепуха. Кто вообще слышал о подобной ерунде? Послушайте-ка, я не противник прогресса: я вырос на парусном флоте, когда мне было столько же, сколько вам сейчас, не было даже вспомогательных двигателей, и вот я все же командую одним из самых современных линкоров монархии.
— Могу заверить, Старик может казаться вам, молодые люди, полным болваном, но мало найдется вещей, каких он не знает о паре, торпедах и казнозарядной артиллерии... (тут он со знающим видом постучал пальцем по лбу)... На самом деле, между нами говоря, могу сказать, что даже электричество скрывает лишь парочку тайн от старого Блазиуса Ловранича!
При этих словах я внезапно вспомнил инцидент, произошедший пару недель назад, когда в расположении кочегаров начался пожар после того, как капитан приказал электромейстеру поменять проводку в коробке с предохранителями на двухмиллиметровый медный провод «вместо той жалкой ерунды, на которой вы, дегенераты, настаиваете».
— Но самолеты, Прохазка. Бога ради, в чем смысл? Никакого. Если кто-то действительно хочет сломать себе шею, то, насколько я понимаю, он может с тем же успехом заняться эквилибристикой во имя Императора и Отечества.
— Но герр капитан...
Ловранич не обратил внимания на мои слова. Казалось, он страстно желал склонить меня к своей точке зрения, а не собирался вышвырнуть с криками из своей каюты, назначив две недели ареста как непочтительному щенку-молокососу.
— Уверяю вас, аэропланы могут иметь некоторую ограниченную полезность в разведывательных целях, хотя, если честно, не понимаю, как они могут принести пользу военному флоту, поскольку рискуют удаляться от суши всего на несколько миль и зависят от милости малейшего ветерка. Более того, как я понял со слов корабельного хирурга, скорость и высота приведет к скапливанию крови в мозгах пилота, что вызовет галлюцинации. Но что касается предполагаемого применения для атаки кораблей, — тут он яростно фыркнул, — мотылек тоже может надеяться пробить наковальню своей головой! Ловранич вытянул руку и ударил кулаком по окрашенной в белый цвет стальной переборке, отчего та глухо загудела.
— Ради бога: хлипкая конструкция, сделанная из бамбука и парусины, столь тонкая, что почти прозрачная, пытается угрожать десяти тысячам тонн хромированной стали с шестисантиметровой бронепалубой - да они там все с ума посходили, точно говорю.
Он сделал паузу: его мозговая активность полностью исчерпала себя этим непривычным использованием аргументов вместо привычного крика и обращения к военно-морским инструкциям.
Дело моё выглядело безнадежным: рапорт отклонен, мне добавилась еще одна черная метка, на этот раз «обезумевшего провидца» к уже существующей «неумелый артиллерист». Затем капитан повернулся ко мне.
— Ну, Прохазка, я не хотел этого говорить, но вы один из наших наиболее перспективных молодых офицеров, и я не хочу терять вас, — тут я от удивления чуть не грохнулся в обморок, ранее вообразив, будто нахожусь на грани военно-морского трибунала после фиаско на стрельбах, - за прошедшие полгода вы неплохо справились с весьма непростым назначением, и я бы хотел, чтобы вы остались с нами. Я считаю, что в имперских и королевских ВМС не так уж много лейтенантов вашего калибра, чтобы позволить себе транжирить их жизни, пытаясь сделать из них людей-птиц. Но... если вы желаете покончить жизнь самоубийством, я не стану мешать. Мое единственное условие, что вы отбудете сначала срок своего назначения здесь, на борту «Альбрехта», — он склонился над столом, чтобы подписать рапорт, но потом его рука зависла в воздухе. — Нет, не сейчас. Хорошенько подумайте еще разок и возвращайтесь через час. Говорят, что падают там долго и упасть можно только один раз.
К тому времени как я закончил своё дежурство в шесть склянок, на душе было намного легче, чем утром. Я спустился по трапу в офицерский баркас, и в кармане мундира у меня лежал официальный рапорт, теперь подписанный
капитаном, как он и обещал. Пока шлюпка скользила мимо длинного ряда пришвартованных кораблей по направлению к военной пристани перед фасадом Марине оберкоммандо [6], я снова взглянул на циркуляр Военного министерства:
15/7/203(б) от 27 марта 1912 года.
В отношении обучения в качестве пилотов морских аэропланов
В соответствии с решением имперского и королевского Военного министерства от 13/11/11 касательно возрастающей актуальности летательных аппаратов для ведения современной войны и, как следствие, потребности двуединой монархии в создании основного ядра обученных летчиков, имперское и королевское Военное министерство приняло решение увеличить годовой бюджет на данное обучение сверх лимита, предусмотренного оценками 1910/11 гг.
В связи с этим разрешен еще один этап подачи рапортов морскими и сухопутными офицерами, имеющими соответствующую квалификацию, которые будут рассматриваться в качестве кандидатов на обучение пилотированию аэроплана.
Предполагается, что обучение начнется в начале лета 1912 года и будет разделено: сначала в гражданских летных школах, затем в Императорской и королевской военной Авиационной Академии (создается).
Затем следовал абзац, который меня беспокоил:
Кандидаты должны знать, что ввиду высокого уровня отсева на летных курсах в течение 1911 года, а также ограниченности финансирования в текущем году, пилоты-стажеры отныне будут платить за своё обучение самостоятельно, получая только жалование и пособие на размещение во время прохождения обучения.
Стоимость обучения (в настоящее время оценивается в 800 крон) позднее будет полностью возмещена императорским и королевским Министерством финансов, но только после успешного завершения курса и получения действующей пилотской лицензии.
Собрат-линиеншиффслейтенант сидел рядом со мной на банке и вчитывался в циркуляр. Это был веселый парень с доброжелательным лицом по фамилии Фелзенбергер из-под Зальцбурга. Ощутив моё беспокойство, он рассмеялся и ткнул в параграф мундштуком трубки.
— Я знаю, что это значит, старина Прохазка: пришлось отскребать так много бедных обманутых придурков с летного поля в Асперне, что Военному министерству надоело оплачивать похороны.
— Неужели все на самом деле так, Фелзенбергер?
— Именно. Мой брат сейчас в армии, и он сообщает, что последний из этих недоумков шмякнулся в лепешку так, что его просто скатали как персидский коврик.
Баркас ткнулся в известняковый причал, и я ступил на берег. Моим первым пунктом назначения было здание почты на углу Арсенал-штрассе. Мне очень не хотелось туда идти, поскольку телеграмма в Вену пробьёт зияющую дыру в моих финансах посреди месяца. Но тетя Алекса всегда говорила, что... Поэтому телеграмму я отправил.
Я не ожидал ответа ранее следующего дня, но, встретив в главном зале знакомую даму, остановился, чтобы пару минут с ней пофлиртовать. Я уже собирался поцеловать ей руку и попрощаться, когда из окошка телеграфа меня окликнул клерк:
— Герр шиффслейтенант Прохазка? Для вас телеграмма из Вены.
Я бросился к окошку и вскрыл конверт. Телеграмма состояла всего из одного слова «Конечно». Я закончил свои дела в Марине оберкоммандо около пяти часов вечера, подав рапорт в трех экземплярах, предоставив необходимые финансовые гарантии и переговорив с нужными чиновниками, а затем ушел. Всё это ярко стоит у меня перед глазами даже сейчас, три четверти века спустя, потому что когда я спустился вниз по ступенькам и вышел на рива Франциско Джузеппе, то увидел толпу вокруг газетного киоска на краю гавани.
Только что поступил вечерний выпуск «Полаер Тагблатт». Желая понять, в чем дело, я пересек дорогу и попытался добраться до стенда, чтобы купить экземпляр - мне не повезло: все уже распродали. Но взглянув через плечо одного из читающих, я увидел заголовок, гласящий: «Утонул «Титаник» - огромное число жертв». А теперь уж и сам двадцатый век скоро канет в Лету.
Глава третья
Бестолковое кружение
— Контакт?
— Есть контакт. Всё готово?
— Готово к взлету, герр лейтнант.
— Тогда запускай мотор.
После короткой паузы самолет вздрогнул, когда механик всей массой тела навалился на пропеллер и крутанул его. Двигатель кашлянул, стрельнул пару раз, провернув пропеллер разок-другой и, дернувшись, заглох.
Механик сделал еще один оборот, и на этот раз, после секундного колебания, двигатель деловито застрекотал, плюнув из выхлопной трубы дымом, за которым в утренний полумрак вылетела метровая струя сине-зеленого пламени, похожего на павлинье перо.
Когда все четыре цилиндра двигателя Иеронима Вархлаховски заработали ровно, пламя съежилось до стабильно пульсирующего красно-золотистого свечения, Я дал мотору поработать на холостом ходу, чтобы прогрелся, и повернулся к четырем механикам, ожидающим позади.
— Хорошо, теперь разверните аэроплан.
Двое подняли хвост, остальные схватились за законцовки крыла, чтобы развернуть нос аэроплана навстречу слабому ветерку, шевелившему флюгер на другой стороне еще сумрачного пастбища, затерянного на просторах Богемии.
Света уже хватало, чтобы увидеть край поля, а также перелесок из молодых лиственниц позади, даже различить его зазубренный верхний край, выкошенный то там, то сям в ознаменование ошибочных решений предыдущих стажеров императорско-королевской летной школы «Арани унд Зелигманн». Я глянул поверх правой плоскости крыла - туда, где стояли двое мужчин: один в серо-голубой зимней куртке с меховым воротником и в малиновых галифе драгунского полка, второй же - гражданский в котелке, очках в золотой оправе и плаще-накидке.
Это были собственники школы, весьма противоречивая парочка: майор Дьюла Арани, граф фон Арани - богатый молодой офицер одного из лучших кавалерийских полков Австро-Венгрии. Его партнер - еврей, герр Лучан Зелигманн, финансист и промышленник из Брно.
Они организовали совместное предприятие, движимые общим интересом к авиации: Арани как летчик (он был одним из первых в Австро-Венгрии обладателей пилотской лицензии, выданной еще в 1910 году), а Зелигманн - как патриотически настроенный деловой человек. Они вместе боролись с непробиваемым равнодушием и враждебностью чиновников к попыткам создать австрийскую авиапромышленность.
Лётная школа явилась детищем их общей страсти: Арани обеспечил необходимые связи и придал ей престижность, а герр Зелигманн обеспечил финансирование.
«Нет смысла больше ждать», - подумал я, поскольку моряцкий инстинкт говорил мне, что сегодня ветер уже не усилится, и я с дрожью в сердце опасливо взглянул в сторону далёких деревьев, как наездник бросает взгляд на высокую преграду со спины норовистой лошади.
— Удачи, Прохазка, - крикнул мне Арани сквозь шум мотора, — ни пуха, ни пера!
Его спутник был менее склонен к подобному дружелюбию.
— Да, герр лейтнант, - крикнул он. — Еще раз сломаете крыло как в последний раз, и я лично переломаю вам и ноги, и шею, а потом примусь за все остальные кости!
Было еще довольно темно, но я почувствовал, что он не шутит. Я обратился к державшим хвост механикам:
— Давайте начнем, - и толкнул ручку газа вперед.
Двигатель, помпажируя, взревел всеми своими восьмьюдесятью лошадиными силами. Аэроплан рванулся вперед по высокой траве, механики направляли хвост и законцовки крыла. Аэроплан набирал скорость, раскачиваясь и подпрыгивая, когда его четыре велосипедных колеса натыкались на рытвины и кротовины. Двадцать метров, и механики отпустили хвост. Тридцать метров - и крылья начали гнуться и вибрировать. Пятьдесят метров - и я отчаянно уставился на рощу впереди, пытаясь определить нужный момент, чтобы оттянуть ручку управления: слишком рано - и я потеряю скорость и упаду, слишком поздно - и я задену верхушки и разобьюсь. Шестьдесят, семьдесят... Время! Я со всей силой рванул на себя ручку, сердце колотилось как бешеное, во рту пересохло от страха.
Внезапно колеса оторвались от земли, я ощутил, как аэроплан парит, увидел как надвигаются деревья - да, я сделал это, хотя и впритирку, поскольку отчетливо услышал сухой скрежет, когда шасси царапнуло верхушки. Я почувствовал, как в набегающем потоке воздуха на лбу выступил холодный пот страха, и повернул штурвал управления в верхней части панели управления, чтобы с креном отвалить от рощи.
Я благополучно взлетел: трудная часть позади. Это было в середине ноября 1912 года, хмурым утром, около семи часов, и я кругами набирал высоту в стороне от примитивного летного поля неподалеку от городка Иглау в южной Богемии.
Прошло уже почти семь месяцев с той поры, как я подал рапорт для прохождения учебы в качестве военно-морского пилота, но мне потребовалось столько времени, чтобы наконец добраться до выпускных экзаменов, поскольку бумаги переползали со стола на стол в Поле и Вене крайне неторопливо, потом возникли трудности с освобождением от моего назначения на борту «Эрцгерцога Альбрехта», затем пришлось ждать вакантного места в летной школе. Так что свой первый полет в Штайнфельдской летной школе, что неподалеку от Вены, я совершил только в середине сентября.
Через неделю я совершил самостоятельный вылет, а через две - получил лицензию гражданского пилота - эта скорость, должен отметить, оказалась не результатом какого-то исключительного мастерства с моей стороны, а скорее крайнего схематизма инструкции, выпущенной в те далекие дни, когда стажер обучался в основном на практике, как будто ездил на потенциально смертельно опасном велосипеде, и выживание само по себе являлось достаточно убедительным доказательством наличия способностей. И теперь я приехал сюда, в Иглау, чтобы сдать экзамен на военного пилота.
Императорская и королевская армия так и не удосужилась основать давно обещанную Авиационную Академию, поэтому обучение армейских и флотских летчиков все еще отдавалось на откуп гражданским авиашколам, как грибы возникавшим в разных местах двуединой монархии. Какие-то - весьма авторитетные, другие же - детище всяких шарлатанов, которые, похоже, получали секретную дотацию от гильдии гробовщиков, судя по количеству заказов, что они им обеспечивали.
Вчера я успешно завершил четвертое экзаменационное задание, согласно которому требовалось, чтобы я десять раз подряд набрал высоту тысячу метров - процесс включал набор высоты пологими спиралями, каждый раз около получаса, а затем двигатель отключался, чтобы аэроплан проскользил вниз и приземлился между двумя телеграфными столбами, расположенными в поле на расстоянии примерно в двадцати метрах друг от друга. Все шло гладко вплоть до последнего приземления - внезапный порыв бокового ветра подловил меня, когда я уже собирался коснуться колесами земли, из-за чего я ударился концом крыла об один из столбов.
Механикам пришлось задержаться, полночи забавляясь с клеем, проволокой и парусными иглами. Герр Зелигманн был мрачнее тучи - злобно глянул на меня поверх очков, вздохнул и аккуратно записал сумму в своем блокноте в кожаном переплете. Это будет стоить двести пятьдесят крон, так мне сказали - весомую часть месячного жалования. И я уже задолжал восемьсот пятьдесят крон тете Алексе за оплату самих курсов. Императорское и королевское Министерство финансов (казна), конечно, возместит мне стоимость обучения, если я сдам выпускной экзамен, а, возможно, и расходы на ремонт.
Хотя как из опыта, так и из расхожих историй я знал, что их истребование может растянуться на годы. Но это может и подождать, подумал я, потому что сейчас как раз выполнял пятую, заключительную часть выпускных экзаменов - ориентирование по карте.
Оно заключалось в стокилометровом полете над сушей на северо-запад от Иглау в сторону расположенной в пригороде Праги Бубенечской лётной школы с шестидесятикилограмовым мешком с песком, имитирующим пассажира. По прибытии я должен буду передать аэроплан другому экзаменуемому, который вернется на нем в Иглау, а я приеду туда поездом.
Аэроплан представлял собой любопытную штуковину, прозванную «Этрих таубе» или «Голубь»: моноплан, разработанный австрийцем Иго Этрихом и примечательный тем, что его крылья и хвост очертаниями вполне намеренно напоминали голубя на том основании (что, должен сказать, даже тогда меня поразило как логически весьма сомнительное), что если эта птица летает, то и самолет полетит.
Теперь, когда я это вспоминаю, то с дрожью думаю, что, наверное, был весьма безрассуден, раз поднялся в воздух на такой хлипкой машине, столь жалкой, прямо-таки стрекозиной хрупкости. Когда немцы использовали аналогичный аппарат для бомбёжки Парижа в 1914 году, люди на земле подумали про взрыв магистрального газа, потому что на фоне солнечного неба нападавший казался почти прозрачным.
Я сидел в своего рода плетеной сидячей ванне и крутил штурвал, вертикально воткнутый в колонку управления, который разворачивал аэроплан не при помощи пары элеронов, а путем скручивания всего крыла с использованием сложной системы из проволоки и шкивов, сходящихся на стойке прямо у меня под носом.
Что касается приборов, то в моём распоряжении имелся датчик уровня топлива, индикатор давления масла и весьма приблизительный высотомер. Но я быстро понял, что лучшие друзья пилота - это длинный шарф и музыкальный слух. Шарф являлся отличным индикатором направления: когда мы поднимались, его тянуло вниз, когда снижались - его тащило наверх, а в горизонтальном полете направление ветра можно было оценить, судя по тому, сносит его вправо или влево.
Что же касается скорости, то самый надежным способом оценить её (по крайней мере, для меня) было прислушаться, на какой ноте свистит ветер, проносясь через многочисленные расчалки [7]. Годы спустя, живя в доме на Айддесли-роуд, летом я частенько сидел в саду и смотрел, как реактивные лайнеры грохочут над головой, взлетая из Хитроу: самолет весом в пару сотен тонн и три сотни пассажиров взмывали в небо под углом градусов в двадцать, влекомые двигателями, суммарной мощностью как тысяча «Голубей» Этриха, связанных вместе.
Иногда я улыбаюсь и думаю: «Пусть Господь донесет вас на своих крыльях, дети мои, наслаждайтесь организованным туризмом. И вспоминайте иногда старого глупца с забавным акцентом, потому что если вы можете позавтракать в Слау, а отобедать уже на Тенерифе, то в какой-то мере обязаны этому таким как я. Поскольку, даже если положа руку на сердце, я и не могу утверждать, что был одним из пионеров авиации, то, по крайней мере, стоял в первом ряду тех, кто шел за ними.
Первый час перелета прошел достаточно буднично - я скользил на высоте в шесть сотен метров со средней скоростью в пятьдесят узлов. Начинался один из тоскливых дней, характерных для конца осени в центральной Европе, когда высокое давление умертвляет всяческое движение воздуха, а толстое одеяло из серых облаков висит над землей с такой скорбной и однородной плотностью, будто цвета земли и неба сливаются воедино.
Но, по крайней мере, имелся слабый ветер - важное соображение при пилотировании аэроплана, который на самом деле немногим больше, чем планер с мотором. Я тарахтел от Иглау в направлении Праги по моим прикидкам уже часа полтора. В соответствии с инструктажем я следовал вдоль дороги: белой царапины, петляющей сквозь тонкие, словно спички, борозды полей и темно-серые леса Таборского плато.
Я уже пролетал над Влашимом - неожиданный узел дорог и домов подо мной. Скоро я окажусь в Бенешау, где сориентируюсь по основной железнодорожной ветке и полечу вдоль неё, пока не увижу вдалеке шпили Праги. Арани сказал, что если я рассчитаю все правильно, то смогу следовать за экспрессом Вена-Прага. Я проверил датчик уровня топлива - никакого повода для беспокойства, осталось ещё полбака. Давление масла тоже в норме, но мне показалось, будто двигатель постреливает чуть менее равномерно, чем раньше. Похоже, в карбюратор попала грязь.
Но это не важно, часы говорили мне, что я опережаю график, так что если все станет совсем плохо, я всегда могу приземлиться где-нибудь в поле и прочистить карбюратор - пару раз уже приходилось так делать - затем снова взлечу и доберусь до Бубенеча в назначенный срок.
Я оторвал взгляд от приборной панели. Примерно в двух километрах впереди небо и землю закрывало облако медленно плывущего белого дыма. Похоже, местные крестьяне жгли солому после уборки урожая, либо где-то загорелся лес (в этом году стояла очень сухая осень).
Во всяком случае, границы этого дыма были слишком высоко, чтобы я успел подняться и облететь его сверху, и слишком расползлись, чтобы облетать вокруг. Так что мне ничего не оставалось, кроме как определить направление по карманному компасу и лететь прямо в дым, надеясь, что завеса не слишком обширная. Итак, я влетел в сладковато пахнущую костром серую мглу, держа курс на северо-северо-запад, кашляя от дыма и надев очки, чтобы остановить резь в глазах.
Думаю, я находился в облаке дыма минуту или две, компас исправно держал направление, но когда я вылетел на открытое пространство, меня осенило, что местность внизу не имеет абсолютно никакого отношения к карте, лежащей на планшетке у меня на колене. Я сбился с курса.
Но вскоре это оказалось наименьшей из моих проблем: как будто протестуя против запаха горящей растительности, двигатель начал тревожно захлебываться, и по мере падения оборотов я стал явственно терять высоту.
Вскоре потребуется вынужденная посадка. Я посмотрел вперед, и сердце ухнуло вниз быстрее аэроплана - передо мной маячило необъятное море темно-зеленого соснового леса. Высокие, мощные деревья и ни следа полян.
Весьма нежелательный поворот, ибо, если я не смогу удержать «Голубя» в воздухе достаточно долго, чтобы миновать лес и приземлиться на пастбище и убранное поле на противоположной стороне, то произойдет катастрофа, а линиеншиффслейтенант Оттокар Прохазка вполне вероятно закончит многообещающую карьеру насаженным на макушку богемской ёлки, как червяк на крючок.
Весьма вероятно, что аэроплан стоимостью три тысячи крон спишут, а с меня потребуют возместить потерю. Похоже, меня ждала перспектива беспросветной бедности до начала 50-х годов как минимум. «Давай же, давай, ты сможешь,» - пробормотал я аэроплану, как наездник подбадривает выдохшуюся лошадь для последнего рывка.
Мотор чихнул и вообще заглох, затем, спустя пару оборотов пропеллера, снова затарахтел. Я уже летел над лесом достаточно низко, чтобы разглядеть отдельные верхушки деревьев. Зубчатый дальний край находился, полагаю, примерно на расстоянии километра. Если бы мы только могли дотянуть... Я до крови закусил нижнюю губу и затаил дыхание, как будто это каким-то образом могло поддержать отказывающий двигатель.
Словно в ответ на неистовые молитвы, он снова чихнул, потом в карбюраторе раздалось несколько хлопков, и мотор полностью заглох. Теперь только ветер свистел в расчалках, когда я планировал в сторону угрожающих сине-зеленых шипов, тянущихся вверх, как кошачьи когти к птичке.
Но если аэропланы образца 1912 года не сильно отличались от планеров с моторчиком, то, по крайней мере, это давало преимущество, когда глох двигатель (что случалось частенько). Они все еще могли довольно долго самостоятельно скользить, и теперь, сражаясь со штурвалом в попытке удержать «Голубя» от сваливания и отчаянно направляя его в сторону далекого поля, я чувствовал признательность за вчерашние утомительные экзаменационные упражнения по набору высоты и планированию. В какой-то момент я уже было решил, что мы врежемся в верхушки, но слабый, причудливый восходящий поток дал «Голубю» возможность ещё немного набрать высоту - едва различимо, но достаточно, чтобы подняться над краем леса.
Теперь оставалась всего пара сотен метров - да, у нас получится! Планируя над бахромой леса, почти задевая верхние ветки, я увидел, как собрались внизу птицы, и множество фазанов с пронзительным криком взметнулись впереди.
Затем, когда я пронёсся над самым краем деревьев, воздух неожиданно наполнился шумом и свистом, а земля подо мной разразилась грохотом выстрелов, мелькнули вспышки, поднялись облачка белого дыма. Квадратный метр секции крыла возле меня разлетелся дождём из осколков и лоскутков ткани, педаль руля подо мной стала хромать, как будто что-то ударилось о хвост. Смертельно раненый «Голубь» внезапно потерял управление и покачнулся влево.
Я часто замечал в своей жизни любопытное явление. Когда надвигается беда, кажется, что время замедляет свой бег и появляется бездна времени, чтобы изучить значок на радиаторе автобуса, который собирается тебя задавить.
Так было и тем утром. В запасе оставалось не больше пяти секунд или около того, но я смог углядеть все мельчайшие детали вырисовывающейся катастрофы: широкое сжатое поле, а прямо передо мной - прямоугольная ограда из блоков прессованной соломы вокруг двух длинных складных столов, накрытых белыми скатертями с аккуратно расставленной серебряной посудой, бокалами и бутылками вина. Я увидел одетых в зелёные сюртуки людей, достающих посуду из плетёных корзин.
И с любопытством отметил, что они обернулись, оторвавшись от своего занятия, и уставились на моё «триумфальное» прибытие, а затем перемахнули через соломенную ограду и разбежались врассыпную как зайцы.
Я сделал последнюю отчаянную попытку разминуться с соломенной оградой, которая, казалось, притягивала меня словно какой-то роковой магнит. Но руль не слушался: перебило тросы управления. Мне оставалось лишь опустить голову вниз и крепко зажмуриться. С ужасающим треском ломающихся досок и разрываемой парусины аэроплан рухнул на желтую почву плато Табор. Шасси развалилось от удара, и «Голубь» заскользил по полю на брюхе.
Я плохо помню, что произошло дальше - только чудовищной силы удар, грохот бьющейся посуды, звон стекла и столовых приборов, хлопки бутылок шампанского, когда аэроплан врезался в соломенные блоки.
А затем все замерло, и наступила тишина, только клубилась желтая пыль. Постепенно я понял, что всё еще жив: весь в синяках и порезах, из легких вышибло весь воздух, но все-таки жив. Сначала я осторожно пошевелил пальцами рук и ног, а потом самими руками и ногами. Насколько я понял, переломов нет, но я оказался в ловушке из обломков, придавленный мешком с песком и опутанный проволокой и тросами контрольной панели, рухнувшей прямо на меня.
Хорошего мало: аэропланы образца 1912 года, похоже, умышленно разрабатывались как набор для растопки каминов - меньше месяца назад мой товарищ по стажировке в Штайнфельде сгорел заживо, зажатый после тяжелой посадки в обломках «Голубя».
Запах горящей плоти, казалось, уже коснулся моих ноздрей, когда я изо всех сил пытался освободиться. Сквозь пыль я мало что видел. Кроме того, одно из стекол на очках треснуло, а другой глаз закрывал сползший летный шлем, поэтому я с трудом мог разглядеть смутную фигуру, карабкавшуюся ко мне по обломкам.
— Быстрее! — заорал я. — Ради бога, помогите выбраться - самолет может полыхнуть в любой момент!
Но, к моему удивлению, вместо того, чтобы попытаться меня вытащить, спаситель с ревом ярости набросился на меня, схватил за лацканы летного комбинезона и стал трясти так, что у меня чуть голова не оторвалась.
— Подонок! Сволочь! Каналья! — ревел он. — Кусок дерьма, выпавший из-под хвоста вшивой кобылы! Гнилой мерзавец, которого даже навозные черви жрать не станут! Чего ты добиваешься этой выходкой, хулиган? Клянусь богом, я засуну тебя за решетку лет на десять и отсужу весь ущерб до последнего геллера!
Должен сказать, что это грубое нападение на беспомощную жертву авиакатастрофы вывело меня из себя. У меня оставалась свободной одна рука, поэтому я нанёс хороший ответный удар по внушительному животу. С громким «Ох!» злодей отшатнулся, размахивая руками, а потом позорно плюхнулся задом в пыль. Я подумал, что неплохо бы сейчас ознакомить его с моей точкой зрения на случившееся.
— Сам ты хулиган! Да о чём ты вообще думал, когда стрелял в пролетавший мимо аэроплан, жирный псих, а потом ещё и напал на выжившего, будто он какой-нибудь уличный бандит? Убытки - я бы тоже, знаешь ли, об этом подумал! Мне придётся платить за этот аэроплан, и клянусь, я вытрясу из тебя деньги, даже если для этого понадобится протащить тебя через все суды Австрии!
Мне удалось поднять на лоб защитные очки, пыль вокруг осела, и я сумел разглядеть своего обидчика. Красный от гнева, он уже поднялся и теперь отряхивался, бессвязно и злобно бормоча, словно бешеный индюк.
В эти давние дни до появления телевизоров, когда кинохроника была новинкой, а фотографии в журналах не слишком распространены, мы, обычные люди, оставались гораздо дальше от великих особ, чем сегодня. Мы располагали лишь парочкой сильно отретушированных фотографий, быть может, ещё случайно видели их издалека во время какой-нибудь процессии - и то лишь особо везучие жители больших городов.
Также здесь, в Центральной Европе, существовал характерный обычай: наши правители почти не появлялись на публике без военного мундира. Так что осенило меня лишь спустя некоторое время.
Хотя сомнений быть не могло: он носил зелёную фетровую шляпу и был одет в длинную охотничью куртку защитного цвета с вельветовыми бриджами, тирольскими чулками и высокими ботинками. Невозможно не узнать и двойной подбородок, кабаньи усы и пустые, мёртвые глаза, холодный взгляд которых смотрел на нас с тысячи официальных портретов.
Но несмотря на это, здесь, на поле в Богемии среди обломков «Голубя», мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать всю ужасающую правду: стрелявший в меня человек, пикник которого я только что превратил в руины, на кого я напал и оскорбил, был не кем иным, как Францем-Фердинандом Габсбург-Лотарингским, эрцгерцогом д’Эсте, прямым наследником императорского трона Австрии и венгерской Апостольской короны Св. Иштвана.
По спине побежала холодная струйка пота, я судорожно сглотнул и зажмурился, отчаянно надеясь, что, в конце концов, аэроплан все же заполыхает. Наследник теперь вполне отдышался, чтобы поведать мне всё, что обо мне думает.
— Ударил меня, да? Вы... вы хам! Мало было разгромить мой завтрак без всякого позволения? Что ж, господин хороший, вам не поздоровится, не сомневайтесь. Может, сейчас и времена демократии, но бить железнодорожного смотрителя и нападать на эрцгерцога - совсем не одно и то же...
Он замолчал. Рукав моего летного комбинезона порвался, и под ним виднелись три золотых шнура на обшлаге рукава кителя. По лицу эрцгерцога расползлась странная и неприятная улыбка - как я узнал позже, весьма редко наблюдаемая: когда верхние передние зубы медленно обнажаются, а кончики усов смыкаются вокруг носа, как рога жука-оленя.
— Ага, так вы морской офицер? Или следует сказать, были морским офицером? Потому что я воспользуюсь своей должностью адмирала, чтобы запереть вас на всю жизнь во флотской тюрьме Полы, или моя фамилия не Габсбург!
Наверно, вы решили, что в вышеизложенных обстоятельствах ничто уже не смогло бы осложнить затруднительное положение, в котором я оказался. Но вы ошиблись, поскольку пока наследник ругал меня, к нему присоединилась еще один субъект. И если я еще колебался, перед тем как узнать эрцгерцога, то не могло быть никаких сомнений в том, кто сейчас стоял передо мной.
Острые как пики кончики усов и деформированная левая рука были легко узнаваемы, как и довольно нелепое полувоенное охотничье одеяние, увенчанное шляпой с пером, богато украшенный кинжал на поясе и крест ордена Святого Губерта, болтающийся под стоячим прусским воротником. Это был Вильгельм II Гогенцоллерн, император Германии.
Я крепко зажмурился. Уверен, что вы тоже испытывали такое чувство: пребываешь в каком-то отвратительном кошмаре, отлично зная, что это лишь кошмар, но невозможно найти кнопку, чтобы отключить его и проснуться. Это выглядело именно так. Но все же я был любопытным и решительным. Я посчитаю до десяти и открою глаза.
Если они исчезнут (в чем я был абсолютно уверен), то это был только сон. Если останутся, то я решил, что выберусь из-под обломков, схвачу ружье наследника (лежавшее поблизости), упрусь в него подбородком и разнесу себе голову. Восемь, девять, десять...
Я открыл глаза в ожидании увидеть теперь, что разбился при посадке на площади Св. Петра, убив Папу Римского и американского президента. Но нет, Франц-Фердинанд и Вильгельм II никуда не делись. Я с тревогой пристально наблюдал, как кайзер с побагровевшим лицом недоверчиво уставился на меня. Потом к моему чрезвычайному удивлению он откинул голову назад и разразился таким хохотом, который я едва ли слышал прежде или потом. Он ревел, подвывал, рыдал от смеха. Просто покатывался от хохота. Слезы катились по его щекам, и он досмеялся до того, что слугам пришлось похлопать его по спине, чтобы не задохнулся. Потом он опомнился и порывисто обнял за плечо прямого наследника австрийского престола - во время этого приступа веселья тот стоял в стороне и выглядел смущенным и неуверенным в себе.
— Du Lieber Gott! [8], - выдохнул кайзер, — ох, Франци, это было бесценно... Милосердный боже, я сто лет так не смеялся... видеть, как ты плюхнулся на жирную задницу вот так прямо в пыль... о боже... боже мой... Какое зрелище!
К этому времени подошли остальные и присоединились к кайзеру и эрцгерцогу. Первой появилась худая, высокая женщина средних лет, в твидовом костюме с накидкой из лисьего меха и широкополой шляпе с густой вуалью. Она сопровождала девочку лет двенадцати и двух мальчиков помладше в нарядных морских костюмчиках на пуговицах и с надписью на ленточках бескозырок «Святой Георг». Они уставились на меня. Потом женщина заговорила.
— Нет, серьёзно, вы так и будете просто стоять здесь и глазеть? И вообще не собираетесь помогать бедолаге? Честно говоря... — она повернулась к двум мальчикам. — Макси, Эрнст, скорей, помогите выбраться бедному герру лейтенанту. И ты, София, беги, достань аптечку скорой помощи, а потом вели управляющему прислать автомобиль!
Эрнсту и Макси второго приказания не потребовалось: они пробрались сквозь обломки «Голубя» и принялись высвобождать меня из нагромождения тросов. К ним присоединилась пара загонщиков, и вскоре я лежал на скошенном поле, пока жена наследника и его дочь профессионально разрезали мне штанину, чтобы смазать йодом и забинтовать длинную, но, к счастью, неглубокую рану на голени.
Спустя полчаса я полулежал на среднем ряду сидений большого жёлтого мерседеса с кузовом типа фаэтон, и мы ехали, покачиваясь, по сельской просёлочной дороге.
Герцогиня Гогенберг и её дочь суетились вокруг меня, а кайзер и прямой наследник сидели впереди, сбивая с толку обеспокоенного шофёра. Что касается двух мальчишек, те забросали меня вопросами. Не слишком ли холодно в воздухе? Быстро ли летел аэроплан? Не закружилась ли у меня голова? Летал ли я когда-нибудь вверх ногами? Как выглядят облака изнутри? Пообещаю ли я когда-нибудь взять их в полёт, пожалуйста, ну пожалуйста, герр лейтенант... Их восторженные расспросы прекратились только тогда, когда автомобиль проехал по мосту под гулкой аркой ворот. Мы добрались до загородной резиденции прямого наследника, замка Конопиште.
Вечером за ужином по личной просьбе кайзера Германии меня посадили рядом с ним. Я едва успел положить вилку, как он набросился на меня с кучей вопросов со своей характерной безапелляционностью и деловитостью. Вопросы (что вскоре и подтвердилось) задавались им не ради извлечения информации, а скорее, чтобы впечатлить меня и сидящих рядом мастерским и виртуозным пониманием аэронавигационной науки, развития авиации и её потенциального гражданского и военного (в особенности же военного) применения.
Было трудно дать разумные ответы; отчасти потому, что он бы продолжал отвечать на вопросы сам, а отчасти потому, что оказалось, что в тот момент в его голове, прикрытой «пикельхаубом» [9] крутились мысли касательно сравнительных достоинств дирижаблей и крылатых летательных аппаратов; а также ряд откровенно странных представлений о предмете аэродинамики.
— Конечно, Прохазка, любому идиоту ясно, что машины тяжелее воздуха никогда не будут по размеру больше «Голубя», в котором вы так неудачно прилетели сюда сегодня. Всё это связано с плотностью атмосферы. Наступает момент, видите ли, при котором плотности воздуха уже не достаточно, чтобы поддерживать аэродинамический профиль.
Я знал, что королевским особам никогда нельзя перечить. Но я чувствовал своим долгом отметить, что по данным всех авиационных журналов, профессором Сикорским в России уже построен и летает гигантский четырехмоторный биплан, рассчитанный на двадцать пассажиров или несколько тонн груза.
Однако кайзер просто проигнорировал это и двинулся дальше. Он разъяснял про универсально признанную неспособность воздуха удерживать большие аэропланы, а также известный научный факт, что аэропланы никогда не смогут летать со скоростью выше двухсот километров в час, иначе у них отломятся крылья. И всё это послужило основанием для крупных вложений имперской Германии в цеппелины.
В общем, всё это продолжалось несколько часов, а именно с тех пор, как мои бесчисленные синяки и ссадины от аварии начали ныть и болеть. Но хуже этих ран (хотя однажды я всё же почувствовал облегчение, что остался жив и здоров), было ужасное осознание, что я «списал» не только «Голубя», но также и огромное количество серебряной, стеклянной и фарфоровой посуды, съестных припасов и столового белья. Как, чёрт возьми, я смогу за всё это расплатиться? По моей просьбе адъютант позвонил в Иглау, чтобы доложить о катастрофе, и сообщил, что герр Зелигманн на другом конце провода впал в ярость и обещал: а) публично кастрировать меня в Иглау перед ратушей; б) подать на меня в суд и взыскать всё до последней рубашки в качестве компенсации ущерба. Я стремился добраться до постели и найти хоть какое-то спасение от своих проблем в объятиях сна.
Но даже когда обед закончился, я не получил ни минуты передышки, поскольку, как только дамы ушли, пришлось присоединиться в курительной к кайзеру, наследнику и их окружению (по большей части невероятно аристократичным кавалерийским офицерам) и лицезреть ужасно неуклюжее северогерманское дружелюбие. Кайзера распирало от необычных событий сегодняшнего дня и собственного участия в них.
Я почувствовал, что история моей вынужденной посадки в поле уже вылизана для возможного включения в скромную маленькую брошюрку, озаглавленную «Весёлые анекдоты о нашем любимом кайзере» или аналогичную льстивую ерунду, которую придется прочесть целому поколению немецких школьников и которую купят (но так и не прочтут) все патриотичные немецкие домохозяйки.
Кайзер вовсю наслаждался ситуацией. Наследник же всё еще поглядывал на меня весьма прохладно, несомненно, памятуя об ударе в живот и гадая, когда он сможет, не теряя достоинства, отвести меня в сторонку и серьезно поговорить о компенсации за обращенный в руины охотничий пикник. Но сейчас, пока кайзер находился рядом, я был уверен в своей безопасности.
— Мой дорогой Прохазка, - прогудел он, здоровой рукой обнимая меня за плечи, - скажите, как вы себя чувствуете после небольшого утреннего инцидента?
— Ваше императорское величество, честь имею доложить, что...
— Давайте, старина, не смотрите мне в рот, выпейте еще бокал шампанского. Вы выглядите как пес после хорошей трёпки. В чем проблема?
— Что же, ваше императорское величество, должен отметить, я обеспокоен расходами, связанными с возмещением за утрату аэроплана и нанесение ущерба собственности его императорского высочества. У меня нет личного состояния, знаете ли, только жалованье флотского лейтенанта.
— Я просто пошутил, Прохазка, - кайзер расхохотался во все горло, — я знал это с самого начала, просто немного помучил. Не беспокойтесь на этот счет: обо всем этом уже позаботились, я лично за все заплачу.
— Ваше императорское величество, вы очень добры... я...
Он засмеялся снова.
— Моя Германия весьма богата. Вообще-то граф Хохенштайн менее часа назад разговаривал по телефону с тем паршивым евреем, владельцем авиашколы, и уверил его, что самое позднее завтра он получит в качестве компенсации не одного, а двух, заметьте, двух новехоньких «Голубей», любезно предоставленных авиационным заводом Рамплера и германским императорским домом. Это заткнет его вонючий еврейский рот. Но есть одно условие.
Я тяжело сглотнул: кайзер славился тем, что заставлял людей выполнять унизительные действия в обмен на свою благосклонность.
— Могу ли я узнать, что за условие, ваше императорское величество?
— Ну, поскольку останки разбившегося аэроплана теперь, формально говоря, ваша собственность, отдайте мне пропеллер и поставьте на нём свой автограф, чтобы я мог повесить его среди прочих трофеев в холле в Роминтене. Я хочу, чтобы все будущие поколения немцев помнили тот день, когда кайзер Вильгельм II подстрелил своего самого крупного голубя!
Несмотря на усталость, я плохо спал этой ночью из-за синяков, вывихов и накопившегося днём перевозбуждения. Но, по крайней мере, невероятное облегчение приносила мысль, что немецкий кайзер, который в итоге сознался, что именно он произвел роковые выстрелы, возместит весь ущерб. Следующим утром после завтрака наследник, явно не желавший, чтобы гость затмил его великодушием, взял меня на экскурсию по замку Конопиште. Кайзер следовал за нами по пятам и влезал со своими комментариями при каждой возможности.
Я довольно скоро пришел к заключению, что кайзер навязчиво искал слушателей и решительно хотел быть невестой на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах. В то утро до меня дошло, что он мог бы стать вполне сносным актёром, но был, мягко говоря, довольно беспокойным персонажем, возглавляющим сильнейшую военную и промышленную державу Европы.
Но также я должен отметить, что и хозяин замка был довольно своеобразен. Когда мы шли по комнатам, Франц-Фердинанд разглагольствовал о том, сколько он заплатил за обстановку каждой из них.
На самом деле все это больше напоминало дурно организованный универсальный магазин, чем основное жилище семьи наследника империи: каждая гостиная и каждый кабинет были от пола до потолка забиты гнетущим до чрезмерности количеством антиквариата и всяческими безделушками: вазами, картинами, скульптурами, турецкими коврами, арабским серебром, китайским фарфором, предметами искусства, всяческими находками и обычными мелочами. Комната в османском стиле, комната в тирольском стиле, комната в итальянском стиле. Подлинные бесценным шедевры искусства (в основном вывезенные из его поместий в Италии) беспорядочно смешались с хламом, который можно обнаружить на любом блошином рынке в шестнадцатом районе Вены.
И повсюду чучела животных: напоминание о несметном количестве диких созданий, застреленных этим неутомимым охотником. Эрцгерцог, как вскоре стало понятно, мог назвать по памяти цену приобретения каждого предмета, но не имел даже отдаленного представления об истинной ценности или бесполезности любого из них. Было что-то странное, вульгарное, можно сказать, психически нездоровое в этом неустанном накоплении вещей ради самого накопления.
Наибольшее впечатление, как я помню, произвела комната Святого Георгия, напичканная сотнями изображений святого воина на всем подряд: от витражных окон до пепельниц, а самое печальное - там имелось чучело утконоса размером с небольшую кошку. Наследник хвастался, что уложил его с одного выстрела как-то утром у ручья к северу от Сиднея во время своего путешествия вокруг света, совершенного в 1892 году.
Мы поднялись на третий этаж, и здесь наследник остановился, чтобы открыть дверь уборной, представляющей собой отделанный мрамором узкий проход. Я предположил, что он пожелает нас оставить на несколько минут, но к моему удивлению он позвал внутрь и закрыл за нами дверь.
— Самый лучший вид во всём замке - из этого окна, — произнёс он. — Великолепно, не правда ли? Самый большой розарий в Европе, и это всё моя работа. Пришлось снести деревню, чтобы иметь такую перспективу. И даже заказать пять сотен плетёных намордников, чтобы чертовы коровы арендаторов не смогли обглодать кусты. Никаких пашен в пределах трех километров от замка, таково моё требование. А если деревенским не нравится, они могут все продать и убираться в Америку. На прошлой неделе какой-то наглый мерзавец из чешской депутации задавал вопросы по этому поводу в Рейхсрате. Ха! Вскоре я с ним разделался: «Следи куда прешь, сказал я, весьма скоро я стану императором, и, разумеется, не намерен сносить дерзости со стороны таких, как ты».
Нам троим приходилось весьма тесно в уборной, которая, как и большинство подобных помещений, была рассчитана только на одного посетителя. Мы с кайзером прижимались друг к другу и к эрцгерцогу, чтобы полюбоваться видом.
— Франц-и, я тут подумал, — вдруг произнес кайзер.
— Да?
— О присутствующем здесь молодом герре шиффслейтенанте. Ты всего пару дней назад говорил, что твоему штабу требуется помощник военно-морского адъютанта по вопросам морской авиации. Так кто может быть лучшим кандидатом, чем Прохазка?
Я едва мог поверить своим ушам. Наследник явно колебался.
— А-а-а... э-э-э... да... Да, полагаю, я действительно говорил что-то подобное. Но... честно говоря, думал о ком-то чином постарше и... э-э-э... с подобающим происхождением.
— Франци, но ты не найдешь флотского офицера чином постарше и с лицензией пилота. И в любом случае, я говорил с твоей женой, которая весьма рада, что Прохазка - чех по происхождению, как и она сама.
— Что ж... да... но...
— Франци, с тебя и так причитается пара одолжений. Будь гостеприимным хозяином и сделай это для меня.
— Тогда ладно... была не была... хорошо.
Вот так и случилось, что всего двадцать четыре часа спустя после взлета с коровьего пастбища где-то в Богемии, я, линиеншиффслейтенант военного флота Австро-Венгрии Оттокар Прохазка, едва ли с двумя крейцерами в кармане, сын чешского почтового чиновника, приземлился в свите наследника если уже и не самой могучей, то всё еще величайшей и почтеннейшей монархии Европы.
Глава четвертая
Высшее общество
Учитывая всё случившееся, моё назначение в военную канцелярию эрцгерцога Франца-Фердинанда в качестве помощника адъютанта по морским делам произошло на удивление быстро. В обычных обстоятельствах в имперской Австрии на подобные вещи потребовались бы месяцы, если даже не годы, пока соответствующие документы передавались бы со стола на стол в бесчисленных государственных ведомствах.
Но в моем случае весь процесс имел позади мощный движитель в виде наследника, потому что даже если сам Франц-Фердинанд и был явно недоволен моим назначением, простое упоминание его имени оказывало удивительный эффект на неторопливые каналы габсбургской бюрократии. И дело не только в том, что все гражданские чиновники, от директора департамента до мелкого клерка, пребывали в страхе и благоговейном ужасе перед человеком, который скоро станет их господином и повелителем, но наследник также имел немалые рычаги влияния в Военном министерстве, особенно в его флотском департаменте.
Франц-Фердинанд единственный среди многочисленных членов благородного дома Австрии проявил интерес к флоту. Последним из Габсбургов, кто аж полвека назад занимался морскими делами, был брат императора Фердинанд-Макс. Тот самый, кто встретил свой конец перед расстрельным взводом после непродуманной попытки короновать себя императором Мексики. Возможно, Франц-Фердинанд поступил бы разумно, обратив внимание на тот злополучный прецедент.
Но вместо этого он по случаю носил адмиральский мундир, возился с Добровольным обществом помощи флоту и другими подобными учреждениями и использовал свое влияние в министерствах и Рейхсрате, чтобы выбить бюджетные ассигнования, которые позволили бы кое-что посерьезней замены уже превратившихся в антиквариат кораблей на просто устаревшие.
Это все проистекало (как мне сказали) из кругосветного путешествия эрцгерцога, совершенного в 1892 году, когда он с возмущением увидел, с какой легкостью надменные английские милорды, которых он терпеть не мог, контролируют мировые океаны своим могучим флотом. Но, как я понял, он никогда не думал, как исправить подобное положение дел, поскольку даже если бы двуединая монархия каждый год тратила весь свой национальный бюджет на линейные корабли, англичане запросто построили бы больше.
Как и большая часть энергии эрцгерцога (за что его регулярно нахваливала католическая пресса), эта энергия вела в никуда. Должен также сказать, что в то время, пока я служил наследнику в качестве младшего адъютанта, ответственного за морскую авиацию, я крайне редко встречался с ним лично.
Франц-Фердинанд уже создал своего рода полуофициальное правительство, заседавшее в Бельведере, его официальной венской резиденции, и к тому времени, когда я там появился, в свите эрцгерцога трудилось уже около сорока военных адъютантов под руководством полковника Бардольфа, составляя так называемую «Военную канцелярию».
Мои обязанности как весьма молодого линиеншиффслейтенанта далеко не блестящего социального происхождения в основном касались сбора информации о развитии военно-морской авиации в других странах Европы (главным образом из газет, и тут мои знания английского и итальянского весьма пригодились), скармливания басен ручным журналистам наследника и переписки с различными министерствами по вопросам, относящимся к морской авиации, а также с сотнями промышленников, изобретателей и полных безумцев, пытавшимися продать свои изделия и проекты австро-венгерскому флоту.
Я делил небольшую душную приёмную в Бельведере не со старшим адъютантом по морским делам, а с молодым армейским капитаном, графом Белькреди, который тоже занимался авиацией, но уже от лица императорской и королевской армии. Гауптмана Белькреди откомандировали из егерского полка, но не заурядного фельдъегерского полка вроде полка из Лейтмеритца моего брата Антона, а из знаменитого Тирольского полка королевских егерей в шляпах с заломленными полями и торчащими петушиными перьями.
Это был довольно сдержанный молодой человек, хотя и вполне любезный, и через пару недель между нами возник определенный дух товарищества. Его двоюродный дядя был премьер-министром Австрии в 60-х годах прошлого века, и молодой граф - что необычно для армейского офицера - тоже проявлял немалый интерес к венской политической арене, каждый день взахлеб читая газеты и проводя много времени в разговорах с различными деловыми людьми, часто посещавшими Бельведер. Я подозревал, что он лелеет мысль однажды оставить армию и начать политическую карьеру. Единственный раз я освободился от бумажной работы в декабре 1912 года, когда меня отправили на юг Адриатики, чтобы выполнить довольно ответственные полеты.
Я успешно пересдал последнюю, пятую часть своего экзамена на военного пилота через неделю после той аварии в Конопиште и должным образом получил патент морского летчика. Первая балканская война достигла полного хаотического размаха, так что по указанию эрцгерцога я направился в залив Каттаро, чтобы опробовать одно из недавних приобретений имперских кригсмарине [10] - Французскую летающую лодку «Доннэ-Левек». Австрия официально оставалась нейтральной, так что мои полеты вдоль черногорского побережья носили чисто наблюдательный характер.
Но я до сих пор помню те утренние вылеты из залива Теодо: набор высоты кругами в потоках холодного воздуха, когда заснеженные вершины Ловчена начинают освещать первые лучи восходящего зимнего солнца, играя такими красками, что и вообразить невозможно. Однажды я в течение двадцати минут кружил в воздухе и наблюдал, как турецкий крейсер «Хамидие» обстреливает черногорские позиции к югу от Антибари. В целом, возвращаясь обратно к Бельведеру, обязанности не сильно меня обременяли.
Поэтому впервые за все время я получил возможность изучить нашу великую столицу, которую ранее посещал только проездом на пару дней. Ах, старая Вена: думаю, нет во всем мире города, воспоминания о котором вызывали бы столь крайние проявления любви и ненависти. В последующие годы тысячи приторно-слащавых популярных песен и третьеразрядных фильмов изображали её как волшебное царство веселья, музыки и смеха.
Точно так же библиотечные полки полны воспоминаний и научных статей, описывающих её унылые туберкулезные трущобы и национализм, что кровоточил изнутри, душные, тесные меблированные комнатушки, стайки проституток на Рингштрассе и философов из кофеен, туманно рассуждавших об окончательном решении еврейского вопроса.
Но я видел город в те годы. И хотя канализация действительно была отвратительной, имперский парламент еще хуже, а сифилис являлся такой же местной достопримечательностью, как и яблочный штрудель, я до сих пор считаю, что для молодого человека вроде меня жизнь в имперской столице в период затишья перед мировой войной можно сравнить почти с раем, насколько это вообще достижимо на земле. Вена в те годы не походила на простоватый эдвардианский Лондон, а была бесконечно увлекательной и шумной.
Город прочно встал на якорь в самом центре Европы, но я обнаружил, что жизнь в нем удивительно напоминает моё первое путешествие на морском корабле, когда мне исполнилось лет одиннадцать: то же самое странное, довольно тревожное ощущение, когда идешь по палубе и обнаруживаешь, поставив ногу, что доски палубы уже не совсем там, где ожидаешь. Внешне - немецкая столица, но три четверти населения чехи, поляки, венгры или итальянцы, в лучшем случае - первое поколение немецкоговорящих.
Актеры в «Бургтеатер» [11] установили мировую норму для разговорного немецкого языка. Когда люди на улице спрашивали, как куда-то пройти, часто трудно было определить, на каком языке обращаются, не говоря уже о том, про что именно говорилось. В столице самой закоснелой, мумифицировавшейся бюрократии в Европе в те годы все еще обитали небольшие кучки ученых, философов и художников, которые занимались созиданием современного мира в каждой области, от ядерной физики до психологии и от экономики до музыки. Это полностью игнорировалось самими венцами, дремавшими в своём удобном маленьком коконе вальсов и взбитых сливок, лишь бы ничто и никогда не нарушало их бычьего спокойствия.
В городе имелось несколько европейских, весьма смелых современных общественных зданий, электрические трамваи и автобусы, одна из лучших городских железных дорог в мире. Общественное водоснабжение было таким превосходным, что вытекающую из кранов воду хоть разливай по бутылкам и продавай как минералку где угодно.
Но в городе гораздо сильнее чувствовалась атмосфера Балкан, чем западной Европы. Посиживая в кафе на улице, наблюдаешь за толпами в шляпах-котелках, шляпках со страусиными перьями на Мариахильферштрассе, неотличимых от тех, что на Оксфорд-стрит в Лондоне или Унтер-ден-Линден в Берлине. Потом вдруг видишь одетого в овчину словацкого пастуха или моравскую няньку в короткой плиссированной юбке и ярко вышитом корсаже; или взвод боснийских пехотинцев в красных фесках, марширующих по дороге в казармы; или даже (если очень повезло и это раннее утро) кухарку из Герцеговины, возвращающуюся с рынка Нашмаркт с покупками в удерживаемой на голове корзине.
Но город не был тихим, спокойным, теплым местом, как считалось. Вена была серой и закопчённой, постоянно обдуваемой ветрами - или холодным песчаным северо-восточным ветром с равнин Моравии, или липким, раздражающим ветром, дующим со стороны Альп и вызывающим эпидемии самоубийств, что являлось этакой особенностью местной жизни.
Для меня же Вена была местом, которое могло внезапно взволновать сердце: неожиданно, когда выглядываешь снежным утром из окон нового Хофбурга на панораму Рингштрассе - театральный блеск выглядит еще привлекательнее из-за шизофренической неспособности точно понять, какое он произведет впечатление на наблюдателя - поддельной немецкой готики или классической архитектуры, или той странной охристой версии неоренессанса, отличавшей общественные здания всей монархии.
Пока я был в Вене, с заключительным триумфальным размахом шло завершение проекта Рингштрассе: большая напыщенная псевдобарочная громадина нового Военного министерства в конце улицы Штубенринг, с гигантским двуглавым орлом, опасно взгромоздившемся на парапете, как будто он собирается обрушиться на тротуар. Под ним на архитраве [12] с целью удивить потомков огромными метровыми буквами помпезно выложена дата: 1413 год. Всё это было создано, чтобы произвести впечатление.
И должен признать, это было весьма внушительно для случайного наблюдателя; никогда при Габсбургах Австрия не выглядела такой уверенной и энергичной, как в те годы. Полагаю, я стал свидетелем последнего при старой монархии большого военного парада по Рингштрассе, если мне не изменяет память в октябре 1913 года, в годовщину столетия битвы под Лейпцигом.
Даже сейчас я все еще вижу, как участники парада маршируют мимо меня, под черно-желтыми флагами с орлом течет река темно-синих и серых мундиров, горит медь полковых оркестров. Солдаты старой имперской армии с винтовками на плечах и зелеными веточками пихты в киверах: немцы, мадьяры, чехи и словенцы движутся мимо сутулого старика в зеленой шляпе с пером, отдавая приветствие перед памятником Шварценбергу [13].
Исчезло, всё давно исчезло: растаяло как дым. Польская грязь и перепаханные снарядами поля Изонцо вскоре поглотили их, как будто они никогда и не рождались. Ничего от них не осталось - только в ушах старика еще звучит призрачное эхо твердой поступи сапог по гранитным плиткам тротуара и медный глас несравненных военных маршей: «Шёнфельда», «Эрцгерцога Альбрехта» и «Вперед, пехота».
Обязанности адъютанта вынуждали меня немало времени проводить вне столицы, сопровождая Франца-Фердинанда и его семью в поездках по землям двуединой монархии: от Вены до семейного сельского замка в Артштеттене, что на Дунае, а затем вверх до Конопиште, потом вниз аж до замка Мирамаре в Триесте для смотра флота и обратно в Вену. Однако, как и большая часть возни вокруг наследника престола, это неустанное движение создавало много шума и суеты, но в итоге реального результата почти не приносило.
Эрцгерцог находился как будто в нескольких местах одновременно: громкий, довольно высокий голос и странный, мертвенный рыбий взгляд, как будто радужки сине-серых глаз на самом деле служили иллюминаторами, а какая-то мелкая зверушка сидела внутри черепа, вглядываясь сквозь них и дергая за рычаги, чтобы управлять наследником. На снимках он выглядел весьма представительно, но на самом деле не был ни особо высоким, ни крепко сбитым.
Фотографии всегда как-то хитро делали с нижнего ракурса, а внушительный внешний вид в значительной степени являлся заслугой портного: от груди крой постоянно расширялся вниз, чтобы сделать менее заметным выступающее брюшко. К тому времени как я с ним познакомился, когда эрцгерцог появлялся в военном мундире (а это, должен заметить, почти постоянно), особая подкладка делала весьма заметной диспропорцию между верхней и нижней половинами тела, как будто к торсу по рассеянности приделали не ту пару ног.
Моё непосредственное общение с самим прямым наследником было кратким, но за те месяцы, по крайней мере, я вполне хорошо узнал семью эрцгерцога. Как я полагаю, большинство людей помнит со школы, что брак Франца-Фердинанда был довольно странным, его жена и дети официально не являлись частью семьи Габсбургов.
Когда наследник встретился с Софи Хотек фон Хотков и влюбился в неё, та была фрейлиной без гроша за душой. Графиня, конечно, но категорически не того уровня и происхождения, которое давало бы ей право выйти замуж за эрцгерцога и произвести на свет еще больше полудурков с выпирающей нижней челюстью. В итоге, после нескольких лет судебных препирательств, им разрешили заключить брак, но при условии, что дети лишались права престолонаследия и принимали титул своей матери - герцогини Гогенберг. Относительно самой герцогини Гогенберг мнения сильно разнились.
Подхалимы эрцгерцога в газетах клерикальной партии, конечно, изображали ее красивым, добрым ангелом света. Другие шептали, что она была скупой, мелочной и преданной католичкой, религиозный фанатизм которой превзошел даже фанатизм ее мужа. Со своей стороны, надо сказать, я считал ее вполне достойной личностью, в пределах узких умственных границ богемско-немецкого младшего дворянства. Она всегда питала ко мне определенную симпатию, потому что считала чехов соотечественниками.
Не могу сказать, почему она придерживалась этого мнения, ведь семья Хотек была чешской лишь по фамилии, из оставшегося в живых старого богемского дворянства, которому удалось удержать свои земли после 1620 года, став абсолютными немцами как по речи, так и по виду. Она говорила на чешском, но с сильным акцентом и с глаголами в повелительном наклонении, так как изучила его, отдавая приказания слугам.
Думаю, в остальном большая часть разговоров о ней была злонамеренными сплетнями со стороны высшего света против возвеличенной служанки, которая сделала всё возможное, дабы заполучить наследника престола. Она действительно довольно много экономила: как и я, она знала, что значит испытывать нужду, поэтому я готов был ей это простить. Конечно, она была умнее, чем большая часть представителей ее класса, хотя это ни о чем особо не говорит. А что касается обвинения в чрезмерном католицизме, в общем, я думаю, она просто относилась ко всему этому серьезнее, чем осуждающие ее современники.
Дети, старшая Софи и два брата, Макс и Эрнст, составляли приятную компанию, а исключение их из императорского дома Австрии, казалось, сделало их только лучше, по крайней мере, судя по маленьким эрцгерцогам и эрцгерцогиням, которых я также встретил в Бельведере примерно в это же время, те казались мне ужасно унылыми, сухими и безжизненными, потомками бедных набитых опилками маленьких инфант, что жалко взирают на нас с картин Веласкеса. Дети Гогенбергов были совсем иными.
Оба мальчика были отличными парнями: живыми, умными, активными и страстно увлечёнными авиацией. Так что, конечно, в те дни появление рядом настоящего живого авиатора казалось им почти божественным, как будто астронавт спустился с парашютом на игровую площадку современной начальной школы.
Я рад сообщить, что позднее жизнь, кажется, это подтвердила, хотя и при обстоятельствах, которых совсем не пожелаешь. Мой приятель мистер Витковски познакомился с ними много лет спустя, в бараке концентрационного лагеря Дахау. И он говорит, что их храбрость и великодушие служили постоянной поддержкой сотоварищам-страдальцам.
Любовь эрцгерцога к жене и детям была глубокой и неподдельной - никто из знавших его не мог этого отрицать - как будто весь его сильно ограниченный запас привязанности предназначался для этих четырех человек.
Однако то же самое верно для Гиммлера и Эйхмана; и я должен сказать, что во всех других отношениях Франц-Фердинанд, эрцгерцог д'Эсте, оказался одним из самых ядовитых людей, на которых мне выпало несчастье наткнуться на протяжении даже такой длинной жизни как моя.
В течение многих лет, прежде чем поступить к нему на службу, я слышал легенды о недостатках характера прямого наследника: о его дурном нраве; невыносимой, эксцентричной грубости; о скупости, доходящей до споров с рыночными торговцами и оставленных без оплаты счетах за гостиницу; а также о ненасытной жажде крови мохнатых и пернатых существ, которая имела такую психопатическую чудовищность, что это вызвало осуждение даже в те дни, казалось бы, неограниченной охоты и и минимальных угрызений совести по поводу убийства животных. До сих пор я обращал мало внимания на эти слухи: я был офицером императорского дома Австрии, и поэтому не интересовался политикой, а также чехом-демократом, и поэтому не сильно интересовался делами королевской власти.
Я принял к сведению слухи о прямом наследнике и приписал их к обычному злословию и подлым замыслам, свойственным старой Австрии, инстинктивному желанию исключительно слабого и сосредоточенного на самом себе общества уничтожить любого, кто проявил любые признаки энергии или способности и желания изменить мир вокруг.
Но это было еще до того, как я повстречался с ним лично. Вне всякого сомнения, на рубеже 1912-1913 годов Франц-Фердинанд и его теневой двор оказались в очень щекотливом положении. Старый император собирался жить, пока не обратится в камень. И поскольку он никому не позволял править страной вместо себя, то управление Дунайской монархией давно уже миновало стадию запущенного атеросклероза, а государственные структуры закостенели, как трубы некой древней системы центрального отопления.
Все знали, что Старый Господин долго уже не протянет. Но все знали это уже давно, а тот до сих пор зимой и летом каждое утро вставал в четыре часа, чтобы последующие шестнадцать часов провести за армейским походным бюро, подписывая бумаги - верховный бюрократ империи протирателей стульев. А в это время теневой кабинет в Бельведере все ждал... и ждал.
Этого было достаточно, чтобы измучить даже самых терпеливых. Тем не менее, даже если восходящее солнце встает мучительно медлительно, оно всё равно привлекает сторонников, и за эти годы лучшие, ярчайшие и целеустремленнейшие политики, писатели и бизнесмены пытались связать себя с Бельведером, видя во Франце-Фердинанде человека, чья известная уже энергичность и решимость вытащит Австрию из болота, в которое та погрузилась.
Но через год или около того они всегда отчаливали, отчаявшиеся и сбитые с толку бесцельной и деспотичной жестокостью наследника и невероятной силой и интенсивностью его ненависти. В конце концов, окружение эрцгерцога свелось к удручающему сборищу подхалимов и беспринципных политиков.
Лишь в одном Франц-Фердинанд был истинным демократом, если вообще был таковым: он ненавидел всех более или менее одинаково. Демократы, масоны, вольнодумцы, сторонники свободной торговли, республиканцы, атеисты, либералы, антиклерикалы, члены профсоюзов, академики; итальянцы, поляки, евреи, немцы, не немцы, сербы, американцы - все пали жертвами внезапных, похожих на раскалённую лаву ядовитых вспышек гнева.
Думаю, справедливости ради надо отметить, что по большей части это была не его вина, а скорее результат наследственности. Поколения двоюродных братьев и сестер женились друг на друге, образовав дом Габсбургов-Эсте, а дедом наследника по отцовской линии являлся старый мерзкий негодяй, король Фердинанд «Бомба» Неаполитанский, который привык сообщать подданным о своей любви внезапными артиллерийскими обстрелами. Но в этом необыкновенном каталоге объектов ненависти имелся один заметный всплеск.
Большинство прочих национальностей эрцгерцог просто терпеть не мог, венгров же ненавидел с рвением, граничившим с религиозным, до такой степени, что простое упоминание венгерской фамилии могло вызвать вспышку ярости. Ни у кого не осталось никаких сомнений, что на следующий же день после восшествия на престол Франц-Фердинанд мгновенно расправится с этим сбродом, хотя как именно, он никогда не уточнял.
Что касается слухов о маниакальной одержимости прямого наследника смертельной охотой, у меня появился первый шанс проверить их в начале января 1913 года, когда меня отправили на охоту в поместье около Юнгбунцлау в Богемии. Как большинство людей, которые однажды в жизни уже проехались бульдозером по протоколу и откорректировали шаблон, Франц-Фердинанд с тех пор стал педантично придерживаться его в отношении себя.
Итак, только с помощью еще одного пожертвования от тети Алексы мне удалось соответствующим образом экипироваться по такому случаю: серо-зеленая куртка, бриджи, коричневые ботинки, шляпа с пером и все остальное. Также мне пришлось одолжить подходящее ружье у сослуживца моего старшего брата Антона, который располагался поблизости с двадцать шестым егерским полком.
Наступило утро, и мы двинулись всей толпой к земляным валам для стрельбы. Сотни загонщиков, выстроившись в форме вытянутой петли, оцепили около десяти квадратных километров лесистой местности и стали сгонять дичь в сторону узкой части, где в засаде засели человек тридцать охотников. А потом началось: бойня напуганных, беспомощных, охваченных паникой птиц и животных, какой я никогда не видел даже в тяжелейших битвах обеих мировых войн.
Эта сцена до сих стоит у меня перед глазами: наследник и его гости, беспорядочно палящие в убегающих, сбившихся в стаи животных и птиц, от которых потемнело небо над нами (он был превосходным стрелком и безошибочно мог сбить птиц даже из охотничьей винтовки); помощники подавали ему и его компаньонам перезаряженные ружья, а те стреляли в своего рода трансе. Мертвые и раненые птицы падали вокруг, как гигантские капли дождя. Кабан пытался проковылять мимо нас на трех ногах, а испуганная косуля бросилась в паническое бегство нам навстречу. Давка была такой плотной, что каждый выстрел прошивал насквозь двух или трех животных.
Думаю, это продолжалось добрых десять минут, пока трупы убитых животных и птиц не оказались навалены вокруг, как в какой-то кошмарной скотобойне, и лесная земля пропиталась запахом крови.
На несколько мгновений наступило затишье. Улыбаясь и сияя от счастья, наследник повернулся ко мне (единственный раз, когда он заговорил со мной тем утром), и заметил:
— Знаете ли, лучше всего, когда человек доходит до такой стадии, когда убивает автоматически, не понимая, что убивает.
Потом они продолжили, бойня возобновилась. Я не вегетарианец и всегда неплохо стрелял на охоте. Но это было уже слишком. Предел настал для меня, когда я согнулся для перезарядки, и прекрасный фазан замертво упал у моих ног. Я посмотрел на переливающееся оперение шеи, совершенство оперения на крыльях, ярко-черные глаза, подёрнутые смертельной пеленой, и почувствовал себя подавленным. Нужно было что-то предпринять. Пока никто не видел, я захватил немного песчаной, влажной глинистой почвы и размазал её по двум патронам, зарядил, а потом поднял ружье и выпалил в воздух из обоих стволов. Затем переломил ружьё.
Как я и надеялся, обе пустых гильзы теперь вполне надежно застряли в стволах, я некоторое время повозился, пока продолжалась бойня, надеясь остаться незамеченным. Но вскоре все само собой закончилось, все местные живые существа размером крупнее полевой мыши уже были истреблены.
Эрцгерцог повернулся ко мне и изучал меня некоторое время своим пустым, безжизненным взглядом.
— Проблемы с оружием, Прохазка?
— Да, ваше императорское высочество, покорно докладываю, что оба патрона застряли.
Он рассматривал меня долгим, холодным пристальным взглядом.
— Хм! Лучше уделяйте больше внимания чистке вашего оружия в будущем - или купите что-нибудь получше. Те, кто не может позволить себе приличное оружие, не должны стрелять в достойном обществе.
И с этим он меня оставил. Как и многие до меня, я начал терять расположение эрцгерцога - хотя в моем случае, по крайней мере, падать оказалось недалеко.
Охотничий счет за день составил: сто семьдесят девять оленей, триста двадцать семь кабанов, тысяча пятьсот двадцать девять зайцев и кроликов, тысячу семьсот девяносто три куропатки, шесть тысяч триста пятьдесят семь фазанов, три ежа, разбуженных от зимней спячки, и домашняя кошка, которая каким-то образом затесалась не туда, куда нужно. Результат этого дня считался неплохим, но не выдающимся.
Но на следующей неделе я поднялся даже выше, на этот раз фактически к самой вершине того, что эрцгерцог называл достойным обществом. Поскольку в середине января 1913 года, к моему чрезвычайному удивлению, я получил письмо из имперской канцелярии гофмейстера дворца Хофбург.
Однажды в понедельник утром, помню, я проверил свой почтовый лоток в канцелярии Бельведера. Мы с соседом по кабинету гауптманом Белькреди только что расслабились за нашими столами, ослепленные и лишенные дара речи блеском предложения, представленным неким дипл. инж. фон Гергязевичем из Вараждина. Оно включало (насколько мы оба могли понять) дирижабль, который объединил бы совершенно новую систему движителя с полной невидимостью. Дирижабль двигался не при помощи пропеллеров. Его внешняя оболочка предполагалась в форме спирали, и штуковина вращалась по продольной оси и сверлила по пути воздух, как гигантский шуруп проходит сквозь кусок дерева.
Однако это ещё не всё: оболочку предполагалось окрасить спиральными полосами всех цветов спектра, и когда дирижабль начинал вращаться (в доказательство герр Гергязевич привёл многочисленные уравнения), его цвет постоянно бы менялся, и таким образом он стал бы невидимым для человеческого глаза. Белькреди присвистнул от изумления, прочитав письмо, потом сидел некоторое время в молчании.
Наконец он хлопнул себя по затылку, чтобы очнуться от мечтаний, и заметил:
— Ну действительно, нечего к этому добавить, правда? Мне кажется, лучше отправить это в психиатрическую больницу Штайнхоф в Вене с пометкой «срочно». — Он взял следующее официальное письмо из почтового лотка и изучал его несколько секунд. — Это для тебя, старина Прохазка. Бумага отличного качества, и кроме того дворцовый вензель с адресом. Возможно, на этот раз от маньяка из высших кругов...
Я открыл конверт, достал довольно простую открытку с рукописным текстом и недоверчиво уставился на неё. Она оказалась приглашением на ежегодный придворный бал. Я сначала подумал, что это какая-то ошибка. В старой Австрии ничто не бывало просто, если находился способ это усложнить и запутать. И в карнавальный сезон в Вене проводился не один, а два придворных бала, и оба в Хофбурге.
Один из них к 1913 году стал чем-то вроде ваших вечеринок в саду Букингемского дворца: собиралось нескольких тысяч человек, приглашались не только члены высшего общества, но и многие достойные, но незнатные простые смертные - профессора, провинциальные государственные служащие и даже горстка более-менее приличных журналистов и еврейских финансовых воротил.
Бал при дворе - дело совсем другое: исключительно привилегированное собрание членов императорского дома и трехсот или около семей из «высшего общества», те великие и древние землевладельческие династии имперской Австрии, что могли похвастать необходимыми шестнадцатью поколениями предков на своих гербах.
Обычно у простого смертного вроде меня - флотского лейтенанта, у которого предки с одной стороны чешские крестьяне, а с другой - мелкие польские дворяне, шансов попасть на последний бал было не больше, чем у свинопаса войти в мечеть аль-Харам в Мекке. Но дело в том, что число здравствующих эрцгерцогинь и дам высшего общества значительно превосходило число их родственников мужского пола.
Это означало нехватку партнеров для танцев, которую обычно покрывали за счет офицеров из самых известных полков, квартирующих в столице, а также служащих канцелярий эрцгерцогов, сделавших военную карьеру. Кто-то из ставки наследника должен был представлять флот, а старший адъютант по вопросам флота свалился с инфлюэнцей, поэтому по общему правилу выбор пал на меня.
Мы с моим слугой Смркалом большую часть трех дней потратили, чтобы привести мой парадный мундир в состояние почти полной безупречности. Смркал - кстати, дивное имя, означавшее на чешском нечто вроде «сопливый нос» - был добродушным, краснолицым сельским пареньком из Моравии, который отбывал в столице два года службы по призыву в пехотном полку, скучал по дому и был рад служить денщиком офицеру немногим старше себя и говорившему с ним на родном языке.
Еще до рассвета «великого дня» он уже приступил к работе с одежной щеткой и утюгом, и во второй половине дня, застегнув меня в тесный двубортный парадный мундир голубого цвета с высоким воротником (редко надеваемый и всеми ненавидимый предмет экипировки, известный во флоте как «Prachteinband» - «идеальная смирительная рубашка»), невероятно переживал за меня, как будто сам император явится и устроит ему разнос, если вдруг обнаружит какой-нибудь недочет в моём внешнем виде.
— Только запомните, герр шиффслейтенант, не садитесь, потому что тогда стрелки на брюках помнутся, и не дышите слишком глубоко, иначе отлетит верхняя пуговица.
Я прибыл в Хофбург в фиакре ровно в шесть вечера, как проинструктировали, и с несколькими десятками других офицеров потратил следующие полчаса на ожидание в вестибюле перед большим танцевальным залом. Большинство, как я и думал, прибыло из кавалерии. Кривые ноги, украшенные шнуром мундиры и идиотские акценты, казались, заполонили зал. Время от времени кто-то из них замолкал и наводил монокль, чтобы осмотреть меня с головы до пят - единственного военно-морского офицера, а потом возвращался к своей болтовне. Я начал сомневаться, не совершил ли по незнанию какую-нибудь ужасную ошибку касательно одежды.
Император, как известно, был чертовски внимателен к деталям мундира и мог наизусть цитировать императорское и королевское «Наставление о правилах ношения военной формы» (как он хвастал, единственную прочитанную им книгу): даже неправильно завязанного шнурка достаточно, чтобы погрузить меня в ад кромешный, если Старый Господин это углядит. Прозвенел колокольчик, и мы выстроились для проверки приглашений - прямо как в заштатном госпитале на прививку.
Мне указали на привратника этой святая святых аристократии: принца Монтенуово, основного приверженца и живое воплощение жесткого испанского протокола, согласно которому по-прежнему вершил дела Габсбургский двор. Этот человек внимательно следил за тем, чтобы, находясь в Вене, члены императорского дома ездили в каретах с позолоченными спицами - привилегия, привезенная из Мадрида в семнадцатом веке и в настоящее время претворяемая в жизнь Монтенуово и его приспешниками со рвением, которое, казалось, из-за полной бессмысленности только усиливалось.
Очень умный человек, как мне сказали, принц Монтенуово был одним из тех весьма озлобленных людей (я часто встречал таких в вооруженных силах), на которых возложена задача следить за соблюдением идиотских правил. И он находил извращенное удовольствие в отстаивании этих правил до самой последней буквы не вопреки, а именно из-за их идиотизма. Что касается украшения колес карет, например, он не считал, что титулованные особы могут (по своему желанию), иметь золотые спицы на колесах, а скорее - что все титулованные обязаны иметь их, даже если ездят в нанятом фиакре или (по случаю) на велосипеде.
Монтенуово, как сообщали, решил проблему неравного статуса прямого наследника с его женой в отношении колес экипажа, приказав украшать священными золотыми нитями колеса только на одной стороне транспортного средства. Гофмейстер проверил мое приглашение, посмотрел на меня вскользь, как будто через противоположный конец подзорной трубы, и направил к вестибюлю с остальными.
Потом начали прибывать высокие особы, обо всех объявлял швейцар. Скоро зала заполнился великими именами: эрцгерцоги и герцогини Габсбургские, затем Шварценберги, Лобковицы и Эстерхази, Меттернихи и Кинские, Штаремберги и Кевенхюллеры, Коллоредо и Ауэршперги, и одни только небеса знают, кто еще, три века истории Европы собрались в одном зале.
Впервые я видел, как столько великолепных родов австрийской и венгерской местной знати собралось в одном месте. Но вид их производил далеко не внушительное впечатление. Больше всего бросался в глаза возраст, как будто такое число древних родов и такое количество истории вызвали преждевременную старость у их владельцев: морщинистые, дряблые, беззубые лица, высохшие декольте и согнутые плечи.
Над собравшимися витал отчетливый дух нафталина и слабых мочевых пузырей. Но даже у особей помоложе смотреть было не на что: количества выступающих вперед нижних челюстей хватало, чтобы обеспечить работой команду современных ортодонтов на годы, а выражения лиц варьировались от бычьей тупости до откровенной имбецильности. Из этой отнюдь не вдохновляющей толпы высокородных выделялась всего пара человек. Один из них - высокий привлекательный мужчина лет шестидесяти в пенсне и с бородой серо-стального цвета. Один из немногих присутствующих, он был в придворном гражданском облачении, а не в каком-либо мундире. Его лицо почему-то было мне смутно знакомо, и я заметил, что оглядывая собравшихся, он на секунду задержал взгляд на мне.
Провозгласили прибытие наследника и герцогини Гогенберг. Эрцгерцог коротко кивнул мне, а его жена улыбнулась. А ровно в семь вечера гофмейстер ударил жезлом об пол и объявил, что нам следует пройти в бальный зал. В порядке старшинства первым войдет наследник. Собравшиеся парами выстраивались согласно титулам, эрцгерцог занял место во главе, с женой под руку. Затем со своего места в самом конце я увидел, что Монтенуово и пара его помощников шепчутся о чем-то с эрцгерцогом. Голоса стали громче, суть разговора оставалась неясной, но по внезапной тишине я понял, что происходит нечто необычное.
Я увидел, как эрцгерцог, краснея, стал от ярости брызгать слюной; уловил слова: «Ты, жалкий итальянский навозный жук, да как ты смеешь!...» Внезапно завязалась потасовка, в результате которой наследнику под руку всучили пожилую аристократку, пока герцогиню Гогенберг, бледную и удручённую, наполовину вели, наполовину толкали в конец процессии. Эрцгерцог определённо собирался устроить сцену, но, прежде чем он смог это сделать, распахнулись большие двойные двери, заиграл оркестр, и процессия начала маршировать, идти с напыщенным видом или же ковылять в танцевальный зал. Я оказался в самом хвосте, всё ещё без партнёрши. Монтенуово и группа придворных дам окружили веерами и нюхательной солью жену наследника, которая к тому времени дрожала и едва сдерживала слёзы.
Офицеры начали заходить в зал, но что-то заставило меня задержаться. Офицеров уже осталось мало, и стало ясно, что если Монтенуово и его прислужники смогли бы так устроить, София Хотек фон Хотков вошла бы в бальный зал в одиночку. По сигналу гофмейстера - без сомнения, долго и любовно отрепетированному - половинка двойной двери захлопнулась, дабы подчеркнуть унижение.
Затем на меня снизошел неожиданный безумный порыв. Дворцовый протокол я знал плохо, а беспокоился о нем и того меньше. Я подошел к ней и предложил руку, на мгновение она заколебалась, а затем приняла её, и мы проследовали в сторону бального зала. Толкая плечом створку двери, я мимоходом оглянулся и увидел, что Монтенуово стоит с отвисшей челюстью, явно застигнутый врасплох. Мы вошли в зал, и нас встретила внезапная гробовая тишина. Первыми ее нарушили две старых вороны около двери. Они прикрывали рты веерами, но я отлично их слышал.
— Это возмутительно, да к тому же и простолюдин! Простой лейте...
— Знаю, дорогая моя. Я всегда говорила, что род людской начинается только с баронов.
Затем оркестр заиграл императорский гимн - «Боже, храни». Как только я осознал, что сейчас натворил, то почувствовал внезапную слабость в коленках. Наследник подошел и похлопал меня по плечу, нарочито, насколько только мог, но я понял, что даже он, будучи ярым поборником этикета и социальных привилегий, когда речь шла о других, двояко относился к содеянному мной.
А что касается остальных, то у меня возникло внезапное и довольно неприятное чувство, будто я стал невидимкой. Зал пока разогревался первым вальсом, но партнёрши на этот вечер у меня определённо не предвиделось. Я получил некоторые преимущества, оказавшись свободным, так как это дало мне возможность осмотреть своё окружение.
Карнавальный зал был столь же скучным, как большинство танцевальных залов дворца: продуваемый насквозь как сарай и освещенный люстрами с сотней коптящих, оплывающих свечей. Именно в этом крыле Хофбурга всё ещё не было электричества или хотя бы газового освещения. Пока танцоры кружились в первых турах вальсов, в воздухе повис сильный запах ваксы: по настоянию императора все присутствующие офицеры должны быть одеты точно по служебным инструкциям, в которых обувь из лакированной кожи не упоминалась.
Но, по крайней мере, запах помог хоть как-то замаскировать слабый, но тревожащий аромат архаичной системы дренажа дворца и общественных туалетов танцевального зала, которые представляли собой лишь два ряда ночных горшков за ширмами.
Император спустился из своих покоев ровно в половине восьмого и, как обычно, смешался с гостями на пятнадцать минут, прежде чем возвратиться к столу. Он задал обычные вопросы людям, выбранным наугад, или, возможно, согласно некоему расчету в голове.
Меня это, слава богу, не коснулось, но он остановился, чтобы побеседовать с кем-то рядом, и это позволило мне впервые близко рассмотреть старейшего из монархов, главу самого великого и самого древнего правящего дома Европы. И действительно, полученное впечатление не соответствовало моим ожиданиям. Покатые плечи и бакенбарды были вполне знакомы по официальным портретам, а странная прыгающая походка – по газетным статьям. Но это оказалось своего рода потрясением - видеть, как сильно этот потомок Карла V напоминал пожилого кучера фиакра, и когда он открыл рот, услышать его явный венский акцент и выражения бюргера среднего класса, как если бы английская королева Елизавета вдруг заговорила бы с интонациями лондонского Пекхама или Шепердс-Буш. Наконец он удалился и вернулся наверх к своим бумагам, а бал прервался ради фуршета.
Предлагаемые закуски весьма соответствовали остальному антуражу Хофбурга: мерзко пахнущий темно-бордовый суп и тарелки с высокими горками сморщенных, кошмарно выглядящих маленьких пирожков, по виду вытащенных откуда-то из запасников музея. Я попробовал ложку супа и чуть не подавился. Тошнотворный вкус, будто жир бенгальского тигра неделю вываривали в крови дракона и приправили порохом и медными гвоздями. Я попытался как можно незаметнее избавиться от своей тарелки, когда услышал голос у себя за спиной.
— Мерзкий, правда?
Я обернулся. За моей спиной стоял привлекательный высокий мужчина в штатском, которого я приметил, когда мы еще собирались войти в бальный зал.
— Полагаю, вы знаете, как это называется. Испанский суп. Рецепт взят из Эскориала триста лет назад и до сих пор является тщательно охраняемым секретом кухни Хофбурга. Видимо, туда входит телега бычьих берцовых костей, два дня тушеных в железном котле с ведром чеснока и несколькими килограммами перца. Похоже, так делают потому, чтобы никто не смог съесть больше пары ложек, а затем оставшееся могли бы вскипятить для следующего раза. Какая-то часть этого супа движется туда-сюда в течение многих лет. А вы пробовали те пирожки?
— Нет.
— И не стоит: они еще хуже супа, хотя представляют куда меньший исторический интерес, поскольку приготовлены по рецепту времен принца Евгения Савойского [14]. Но скажите, молодой человек, как вас зовут?
— Оттокар Прохазка, герр, линиеншиффслейтенант императорского и королевского флота. В настоящее время служу в штате советников наследника.
— Да, я это уже знаю. Но откуда вы родом?
Я изо всех сил постарался сдержать удивление.
— Из маленького городка северной Моравии. Сомневаюсь, чтобы вы когда-нибудь слышали о нём: местечко называется Хиршендорф, недалеко от Ольмюца.
— Слышал ли я? — мой собеседник рассмеялся. — Да я родился и вырос там. Но позвольте представиться. Князь Йозеф фон унд цу Регниц, иначе известный как профессор Йозеф Регниц факультета правоведения Венского университета. К вашим услугам.
Ну конечно, вот почему он мне знаком. Регницы из замка Регниц были местными земельными магнатами в моих родных местах, и иногда появлялись в городе, чтобы местные жители помахали им шляпами. Но откуда он узнал про меня и почему...
— Да, Прохазка, я знаю, о чём вы думаете: что я здесь делаю? Но вы, быть может, слышали, если недавно навещали отчий дом, что моего старшего брата Адольфа недавно объявили сумасшедшим, и титул перешел ко мне.
— Тогда мои поздра... — я прикусил язык, но князь только улыбнулся.
— О, поздравлять меня не с чем, уверяю вас, не говоря уже об этих удручающих обстоятельствах. Я преподаю административное право в университете, немного верчусь в политике, и у меня не было никакого желания унаследовать титул и суету по присмотру за своими поместьями. Как правило, я стараюсь держаться подальше от подобных дел. Но Регницы были князьями Священной Римской империи с 1519 года, так что кому-то нужно представлять род; и, так или иначе, едва ли кто-то сможет отклонить приглашение от Старого Джентльмена.
— Но, простите за мой вопрос, откуда вы узнали, что я...
— О, я бывал по делам в Бельведере пару недель назад, и кто-то упомянул ваше имя; какой скандал, что сын почтового начальника из Хиршендорфа с фамилией Прохазка приглашён на бал при дворе. Так что я навёл справки, а потом припомнил, что в детстве за вами присматривала старая Ганушка Индрихова, жена нашего главного лесника.
— Очень любезно с вашей стороны помнить такие мелочи.
— Не стоит об этом: нам, юристам, нужна хорошая память. Но, так или иначе, я подумал, что должен попытаться утешить вас после того абсурдного происшествия в дверях.
Я скривился.
— Я надеюсь, что об этом вскоре позабудут. Я действовал, не подумав.
— Позабудут? К утру новость разлетится по всей Вене. Но взбодритесь: многие решат, что вы всё сделали правильно, критикуя те бессмысленные ритуалы, которые засоряют нашу монархию. Но в любом случае, Прохазка, я собирался спросить, не согласитесь ли вы поужинать со мной после нашего ухода? Я забронировал отдельный кабинет у Захера. Собирался обсудить некоторые дела с одним из чешских депутатов, но он не смог прийти.
— Ваше сиятельство, вы правда слишком добры. Но я не должен вас обременять...
Князь махнул рукой.
— Никаких проблем, уверяю вас: мне в удовольствие поговорить с умным молодым человеком не из этого отвратительного города. Я постоянно вынужден заверять самого себя, что в Австрии есть по меньшей мере несколько людей младше семидесяти лет с мозгами в голове вместо промокашки и кровью в венах вместо краски для штемпеля. И, кстати, забудьте о «его сиятельстве»: я не пользуюсь титулом нигде, кроме официальных мероприятий, так что зовите меня профессором или даже Регницем, если так удобнее. В общем, встретимся снаружи, когда настанет пора уходить: кажется, танцы скоро возобновятся. Auf wiederschauen [15].
Оркестр снова заиграл. И если хоть что-то было в порядке в Хофбурге, компенсируя неряшливое окружение, запахи и ужасную еду, так это музыка. Карл Михаэль Цирер [16], возможно, не был того же класса, как его предшественник на посту императорского управляющего придворными балами, несравненный Йоганн Штраус, но почти так же хорош и руководил отличным оркестром.
Полагаю, что для вас сегодня вальсы старой Вены звучат, как пыльный хруст какого-то древнего букета из сухих цветов, выброшенного с чердака. Но для меня, кто был молод, когда роса на них была еще свежа, вальсы никогда не теряли своей магии.
Любопытная смесь официоза и головокружительности, веселья с оттенком печали, что до сих пор для меня обладает запахом юности и приключений, тот мир уже ушел навсегда. Я слегка в растерянности - как объяснить, что такое закостенелое, подагрическое, совершенно непредприимчивое общество могло создать столь завораживающую музыку и в таких объемах. Возможно, люди в бальном зале возмещали бездеятельность в других сферах жизни, я на самом деле не могу сказать. В те дни я был довольно хорошим танцором.
Во времена моего кадетства в императорской и королевской Морской академии у нас два раза в неделю проходили танцевальные классы, и в те дни мы тяжело ступали по полу основного танцевального зала, пытаясь исподтишка потискать дочерей бюргеров Фиуме, которые приходили к нам из монастырских школ в качестве партнерш.
Но тем вечером, когда я так безрассудно нарушил дворцовый протокол, казалось, что мне вообще не выпадет возможность попрактиковаться в вальсе: даже самые престарелые и некрасивые потенциальные партнерши не соизволили меня замечать. И так продолжалось до последнего танца вечера, «белого танца», когда вдруг передо мной появилась улыбающаяся, стройная фигурка герцогини Гогенберг.
— Герр шиффслейтенант, могу я пригласить вас на этот танец?
— Почему... э... да, ваше высочество... конечно же, — бормотал я, пока мы двигались по паркету.
Я слышу это по сей день. Это был вальс «Wiener Bürger» [17] (в плане музыкальных вкусов Габсбургский двор отставал всего на три десятилетия, а не три века, как во всех других отношениях). И я помню, как мы степенно кружились перед ошеломленными взглядами женской части высшего общества. Графиню, казалось, это совершенно не заботило, и она явно оправилась от неприятного происшествия пару часов назад.
— Герр шиффслейтенант, - сказала она, - я просто не знаю, как вас отблагодарить за доблестный поступок у дверей.
— Ваше высочество, не стоит, я вас уверяю. Я просто сделал то, что считал своим долгом.
— В любом случае, пожалуйста, не волнуйтесь, что это нанесёт хоть какой-то ущерб вашей карьере. Мой муж благодарен и проследит, чтобы о вас не забывали. Что касается меня, то если когда-нибудь в один прекрасный день найдётся способ хоть чем-то вам помочь, я не колеблясь сделаю это...
И вскоре после этого она сдержала своё слово. Когда бал закончился, я забрал шинель и встретил профессора Регница. Опять пошел снег, и замёрзшая слякоть хрустела под ногами, когда мы шли к отелю «Захер» на ужин.
Десять минут спустя нас проводили в один из известных отдельных кабинетов отеля, которые оперетта превратила в устройство для соблазнения, но фактически их использовали в основном для обсуждения политических и коммерческих вопросов с глазу на глаз - насущная необходимость в небольшом городе вроде Вены, где сплетня была главным инструментом и где знать, кто с кем обедает, было часто столь же важно, как результаты парламентских дебатов. Внесли ужин, и официант удалился. Подавали тафельшпитц, отварную говядину с клецками, великолепное зимнее блюдо, моё любимое, но вкус которого я редко мог позволить себе испробовать.
Ужин был превосходным: лучшее из того, что я ел в этот год, когда проклинал кока кают-компании на борту «Эрцгерцога Альбрехта» или кормился куда более скверными блюдами, предоставленными в Бельведере, где из-за жёсткой прижимистости эрцгерцога его служащие получали весьма скудный рацион.
— Я бы рекомендовал любому, кто посещает Хофбург, — сказал профессор, закуривая сигару, — заранее организовывать себе ужин после бала. Знаю людей, которые валились с голода, если проводили там больше времени. Я слышал, что в Бельдевере кормят немногим лучше.
— Кухня там... в общем, не щедрая.
— Да, я так и думал, что наследник держит своих людей впроголодь. Но расскажите, Прохазка, какого вы мнения об эрцгерцоге?
— Я? Я... хм, вообще-то я не думаю, что было бы правильно...
— Ох, да ладно, нас не будут здесь подслушивать. Скажите откровенно, вам не кажется, что он становится хуже?
— Хуже, герр профессор? В каком смысле?
— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду: вспышки гнева и дурной нрав. Я спрашиваю, потому что это волнует не только меня, но и намного более высокопоставленных людей.
— Раз уж вы спросили, то должен сказать, что он, кажется, всегда был... ну... довольно неуравновешенным; и, хотя я здесь недолго и почти не видел его, другие говорили, что за прошлые несколько недель с ним стало всё труднее общаться. На самом деле, никто из домашней прислуги не задерживается дольше, чем на несколько месяцев.
На некоторое время собеседник задумался.
— Да, это определенно подтверждает те слова, которые я недавно слышал. Но должен сказать, меня пугает даже не столько его неконтролируемая жестокость, сколько то, что решение проблем с помощью грубой силы является признанием слабости. Поверьте, Прохазка, мне страшно за Австрию, когда этот человек станет императором, а это уже не за горами. Как сообщают сведущие люди, не так давно ему пришло в голову прекратить работу Рейхсрата, управлять Австрией с помощью указов и ввести военное положение в Венгрии.
— Мне об этом неизвестно, герр профессор: я всего лишь младший морской офицер, не интересующийся политикой. Должен сказать, что, впрочем, некоторые мои сослуживцы в канцелярии её действительно обсуждают, и их мнение таково, что лучше кому-то управлять с помощью указов, чем позволить плыть по течению, как это делали последние несколько лет. У меня брат в двадцать шестом егерском полку в Богемии, и в своём последнем письме он написал, что в этом году где-то треть призывников в Лейтмеритском военном округе пропала без вести или покинула страну; а те, кто в конечном счёте явились в учебную часть, отказываются учиться на унтер-офицеров. На самом деле, некоторые даже говорили вполне открыто, будто ожидают, что через несколько лет уже не будут зависеть от Австрии и станут служить в своей родной армии.
— Это меня не удивляет. Я депутат Рейхсрата от моравско-немецкой фракции, это воздаяние за грехи мои, и за всю свою жизнь я не видел столько политического мусора, как в парламенте за эти последние четыре года. У нас в Австрии больше нет правительства, только администрация. Скажите, Прохазка, кто у нас премьер-министр Австрии?
— А что... эээ... Штюргк, по-моему...
— Совершенно верно, хотя я удивлён, что вы в курсе: мало людей знает, что Штюргк - наш премьер-министр. Я вообще не уверен, что герр Штюргк всегда помнит об этом сам. Это, конечно, прекрасная компания, если вам когда-нибудь посчастливится увидеть их вместе, хотя Штюргк и его кабинет - само воплощение габсбургского государства 1913 года нашей эры: премьер-министр почти слепой, у Рёсслера больное сердце, Браф страдает от паралича, а Залески умирает от нефрита. И конечно, Сани Берхтольд в Министерстве иностранных дел, с его глупой усмешкой и раздражающим хихиканьем, — князь помолчал. — Вам удалось посмотреть какие-либо достопримечательности в Вене?
— Довольно много. Я официально расквартирован в Бельведере, но моя тетя живёт в восьмом районе, и я иногда остаюсь у неё на выходные.
— И вы уже посетили склеп капуцинов?
— Ну, да, был там с подругой в позапрошлое воскресенье, когда шел дождь, и у нас выдалась пара свободных часов.
— Вы заметили там странный запах?
— Теперь, когда вы упомянули об этом, действительно припоминаю: своего рода сладковатый, плесневелый запах. Мы сочли его довольно неприятным.
— И вы знаете, что это? Это запах десяти поколений забальзамированных Габсбургов, медленно превращающихся в прах. Но скажу вам кое-что еще: я заметил, что этот запах теперь во всей Вене, надоедливой и душной. Он поднимается от императорского склепа и наполняет все государственные конторы в этих жалких причудливых декорациях столицы. Он висит над чиновниками за их письменными столами и наполняет коридоры министерств. Запах гробницы пропитывает всю нашу ветхую империю.
— Но несомненно, герр профессор, вы слишком пессимистичны. Австро-Венгрия - по-прежнему одна из ведущих мировых держав.
Регниц засмеялся.
— На бумаге - да. Но на самом деле всё это самообман. Пока великие державы развиваются, монархию на её пути вниз скоро обгонит даже Италия, идущая вверх. Я знаю от своих знакомых в Военном министерстве, что если завтра разразится война, императорская армия сможет выставить на поле битвы меньше батальонов, чем в 1866 году, хотя сейчас нас на пятнадцать миллионов человек больше. Нет, мой дорогой Прохазка: старая Австрия до сих пор выглядит как настоящая, живая страна, но по сути это лишь тщательная подделка. Жизнь в стране Габсбургов потухла многие годы назад, и то, что когда-то было её сердцем, теперь превратилось в тяжёлую, мёртвую, инертную глыбу материи вроде ногтя или лошадиного копыта. И вскоре эта осыпающаяся окаменелость станет жертвой заботы нашего любимого наследника... — он остановился. — Я знаю, что не должен обсуждать такие дела с человеком вашего небольшого чина, но почувствовал, что должен спросить о ваших наблюдениях в Бельведере. Понимаете, тут ходили некоторые слухи о том, что Франц-Фердинанд балансирует на грани совершенного безумия, истории о мучительных провалах в памяти, рассекании подушек в железнодорожном вагоне саблей и даже о попытках задушить слугу. Я спросил вашего мнения, Прохазка, потому что верю: дела дошли до той стадии, когда герцогиня Гогенберг серьёзно взволнована. Я слышал, что она консультировалась у одного из наших ведущих неврологов, но эрцгерцог отказался проходить курс лечения.
— Милое дело, — сказал я спустя какое-то время. — Быть может, в конце концов, нам со Старым Господином не так уж и плохо живётся.
— Именно так. Может, у старика мозги сержанта сельской жандармерии, и мы можем смеяться над его железной койкой, походным бюро и холодными ваннами в четыре утра. Но в нём есть целостность, каждый это признаёт. Никто никогда не слышал, чтобы он был невежлив ни с монархом, ни с дворником, а что касается лжи, то он не мог бы произнести её и ради спасения собственной жизни. Франц-Фердинанд же и его закадычный друг, германский кайзер - существа из другого мира.
— Почему?
— Не знаю. Может, благодаря вековому накоплению богатств и оружия они думают, что стали полубогами. Знаете ли, дворцовые циркуляры в Берлине каждое воскресенье пишут «Этим утром в девять тридцать Самый высочайший нанесет визит Высочайшему». Говорю же, Прохазка, они меня пугают: дети с ограниченными умственными способностями за рулём мощных автомобилей. Сколько пройдет времени, прежде чем они врежутся друг в друга?
— Но я уверен, что эрцгерцог и кайзер не хотят войны. По крайней мере, они всех уверяют, что не хотят.
— И, возможно, они говорят правду: у наследника, несмотря на все его бахвальство, довольно робкий характер, кайзер же - жалкий болтун, решительный не более, чем флюгер, и боящийся собственной тени. Нет, не они пугают меня и не солдаты, стоящие за ними, а, например, наш собственный Конрад фон Гетцендорф [18]. В эти дни Конрад проводит добрую половину своей рабочей недели, блуждая по Вене и заставляя политиков типа меня выслушивать, что сейчас только война может спасти монархию: война с Сербией; война с Италией; война с Россией; война с островами каннибалов. Oни пугают меня, эти наши генералы. Потому как следует помнить, что никто из них не нюхал пороха и не видел умирающих. И когда они заявляются ко мне со своими речами о «спасении через жертву» и «великой идее», я говорю им, что видел, будучи еще мальчишкой в 1866 году, когда на городскую площадь Хиршендорфа доставляли и складывали раненных в сражении у Клаттау. Я часто вспоминаю зрелище, которое видел в тот день. И иногда думается, что стоило бы взять туда всех генералов и всех кадетов из каждого военного училища в монархии, чтобы они увидели: война – это нечто большее, чем цветные флажки на картах. Но это факт, Прохазка: нами управляют люди, страдающие от колоссального дефицита воображения. Старая Австрия умрет в ближайшее время, я теперь в этом убежден. Но, боюсь, с существами вроде эрцгерцога, Конрада и Сани Берхтольда во власти она умудрится утащить с собой в могилу великое множество здоровых молодых людей вроде вас.
Я попрощался с профессором, князем фон унд цу Регницем, в весьма задумчивом настроении и взял фиакр обратно в Бельведер. Почти наступила полночь, но мне еще требовалось собрать вещи, потому что завтра я должен был уезжать вместе с наследником и его семьей на Адриатический курорт Аббация. Мне также приказали захватить летный комбинезон.
Глава пятая
Польская кровь
Основной целью поездки наследника на Адриатику был отдых - семейный зимний отпуск на курорте Аббация. Тем не менее, государственные дела все же немного смешивались с отдыхом, поскольку в последний день января эрцгерцогу с женой предстояло посетить верфи Ганц-Данубиус в Порто-Ре, на другом берегу залива Кварнер, чтобы спустить на воду два новых эсминца императорских и королевских кригсмарине.
Адмиралтейская яхта «Далмат» приплыла за ними в Аббацию. Это может показаться странным, если посмотреть на карту: и Аббация, и Порто-Ре расположены в глубине залива, и между ними около двадцати километров по дороге - всего полчаса на легковом автомобиле. Но дорога проходила через город Фиуме.
А Фиуме - побережье королевства Венгрия. Заметьте, я сказал «побережье», а не «на побережье», потому что набережная Фиуме - четыре километра от Кантриды на западе до Сушака на востоке - и составляла всю приморскую линию королевства Венгрия, отданную Будапешту по Австро-Венгерскому соглашению 1867 года, при этом подавляющее большинство жителей города составляли итальянцы и хорваты.
Ненависть наследника к мадьярам была столь сильна, что он никогда не упускал даже самого незначительного случая их принизить, а тут представлялась отличная возможность выказать пренебрежение: приплыть морем из Аббации в Порто-Ре и показать кукиш венгерскому губернатору, сидящему в палаццо на склоне холма, нависающего над заливом.
В мою задачу не входило задеть гордость известных своей обидчивостью мадьяр. Мне лишь предстояло использовать это морское путешествие наследника и его приближенных для демонстрационного полёта последней модели летающей лодки императорского и королевского флота.
На этот раз это оказался родной австрийский продукт, «Этрих-Микль AII»: крылья и хвост маленького биплана слились с корпусом лодки, скорее похожей на фанерное каноэ. Машина приводилась в действие Французским роторным двигателем «Ле-Рон» мощностью шестьдесят лошадиных сил, в котором (по причинам, которые я когда-то знал, но давно забыл), коленчатый вал оставался неподвижен, а двигатель и пропеллер вращались вокруг него.
Пропеллер был установлен позади кабины пилота - невероятное облегчение, могу вам сказать, так как роторные двигатели смазывались касторовым маслом, и нахождение по нескольку часов сзади и вдыхание паров оказывало внезапное и сильное воздействие на кишечник.
Вся машина выглядела до смешного маленькой - чтобы залезть в нее, приходилось натягивать всю конструкцию как пару штанов, - а мощность двигателя столь незначительной, что в попытке уменьшить вес я снял ботинки с высокими голенищами и краги, какие обычно носили авиаторы того времени, и вместо этого надел чулки и пару резиновых тапочек.
Ко времени, назначенному для демонстрационного полёта, после полудня тридцать первого января, я уже поднялся в воздух, чтобы совершить пару тренировочных полётов над Аббацией, и понял, что машиной легко и приятно управлять. Поэтому я не ожидал трудностей, когда взлетел около двух часов следом за яхтой «Далмат», которая направилась в Порто-Ре в плотном окружении украшенных флажками небольших яхт.
Это был замечательный день в самом начале ранней весны на Адриатике. Деревья на берегу пока стояли голыми, но солнце согревало, и воздух был спокойным и кристально чистым после трёхдневного холодного северного ветра. Я скользил вдоль спокойной сапфировой поверхности залива Аббации и потянул ручку управления на себя, чтобы оторвать корпус от воды. Я перешёл к набору высоты над заливом Кварнер, над яхтой «Далмат» с серебряным следом от волн, рассекаемых форштевнем, затем развернулся вправо, в сторону побережья, набирая высоту. Вскоре подо мной проплывали кипарисовые леса и голые известняковые овраги горы Учка, там я повернул на юг, чтобы лететь обратно к Аббации.
Я собирался еще раз пролететь над заливом, затем спуститься и приземлиться на воду возле «Далмата», а потом снова взлететь и вернуться в гавань Аббации. Дул легкий ветер, поэтому направление приземления роли не играло. Я снизился. Увидел, что пассажиры выстроились у поручней яхты «Далмат» и машут, когда я пролетел в направлении побережья на высоте примерно четырехсот метров справа от яхты.
Я уже летел на высоте пяти или шести метров над почти идеально гладкой поверхностью моря. Сбросил газ, немного поднял нос машины вверх, так что первой точкой приводнения должна была стать хвостовая часть корпуса. При касании я почувствовал легкий удар и сотрясение, потом рев брызг при скольжении по поверхности воды. Мне потом сообщили, что это оказался огромный деревянный брус, оторвавшийся за несколько дней до этого от стапеля при спуске корабля на верфи в Бергуди. Но я ничего об этом не знал - лишь почувствовал внезапный, огромной силы удар снизу, сопровождающийся хрустом, как будто гигантский ботинок раздавил сигарную коробку. Затем отметил, скорее с любопытством, чем со страхом, что я все еще в воздухе, только на этот раз без самолета. Зрители «Далмата» видели, как я ударился о воду, подпрыгнул раза два, как камешек, брошенный вдоль глади пруда, а потом исчез под водой в туче брызг.
Мое следующее воспоминание - как я очнулся в полубессознательном состоянии, погрузившись в воду, и у меня перехватило дыхание. Поддерживаемый велосипедной камерой, которая служила спасательным жилетом, я был смутно раздражён, что правая нога не действует, когда попытался барахтаться в воде. Поблизости раздался скрип уключин, и чей-то голос произнес: «Суши весла!». Чьи-то руки подняли меня на гребной катер и положили на обшивочные доски, а старшина разрезал штанину на моей ноге складным ножом. Он втянул в себя воздух и резко сказал: «Господи Иисусе!», когда увидел всё это кошмарное месиво.
Я слабо попытался сдвинуться - и вскрикнул при первом отвратительном приступе боли в голени, как будто ногу надрезали, заполнили осколками бутылок и зашили снова. Шум, я помню, походил на глухой хруст треснувшей ветки прогнившего дерева.
Тем вечером, лежа в палате больницы Фиуме, я чувствовал себя слабым и больным. Мне ввели морфий, но я был ещё в сознании, когда собравшиеся хирурги сделали заключение, что у меня сложный перелом правых большой и малой берцовых костей. Я также знал, что для таких сложных травм в 1913 году было только одно средство - самое радикальное.
Только что меня посетили наследник и его жена; эрцгерцог, очевидно, с трудом скрывал свое отвращение в связи с необходимостью пребывания на венгерской территории. Он ушел через несколько минут, чтобы избежать встречи с губернатором, и оставил меня наедине с герцогиней Гогенберг. Она разговаривала с врачами и теперь вышла в коридор, вступив в оживленную дискуссию с главным хирургом. Тем временем я остался наедине с болью в ноге и своими мыслями, которые в целом были еще тяжелее, чем травма. Что мне теперь делать? Офицеру с ампутированной ниже колена ногой не было места в военно-морском флоте двадцатого века. Боже, я пережил одну аварию без травм, затем поднялся в воздух, чтобы испытать судьбу во второй раз - почему я не послушал этого старого дурака Ловранича на борту «Альбрехта»? Голоса за дверью палаты зазвучали громче.
Последними словами герцогини были: «Ну, если вы хотите оказаться в плохих отношениях с женой своего будущего императора, то пусть так и будет. Но я настоятельно советую вам учесть мою просьбу». Потом она вошла, улыбаясь, и встала рядом с моей постелью. Наклонилась и что-то вложила в мою руку. Она говорила на неразборчивой, неуклюжей смеси немецкого с чешским, пытаясь казаться доброй.
— Крепитесь, герр шиффслейтенант, всё будет хорошо. Просто молитесь нашей Богородице, чтобы поддержала вас в час испытаний, и храните этот медальон у себя. Его освятил сам Папа. Всё будет в порядке, вот увидите.
Потом она ушла. После этого я почувствовал себя еще хуже. Черт бы побрал и ее со своей снисходительностью, и ее святой медальон, несчастная немецкая сушеная треска! Велит мне молиться Богородице, когда мне собираются отпилить ногу, а потом уволить из военно-морского флота без гроша в кармане и не без возможности зарабатывать себе на жизнь. Будь она проклята! В гневе я выбросил священный медальон в мусорную корзину. Медсестра пришла с подносом и дала мне выпить что-то горькое. Ну, подумал я, вот оно. Они отвезут меня в операционную, и прощай половина правой ноги и вся моя карьера. Я почувствовал укол иглы в бедро, попытался не потерять сознание, а потом от усталости сдался и соскользнул вниз, в бездонную черную бездну.
Я проснулся, не зная сколько прошло времени. Медленно возвращались события прошедшего дня, и с ними болезненное сожаление. Я пытался двигаться - и внезапный отклик боли дал мне понять, по крайней мере, что правая нога все еще при мне. Потом я понял, что на самом деле нахожусь в железнодорожном вагоне, а не в больничной палате, сейчас рассвет, и мы движемся по городским окраинам под стук колес. Здания и мосты проносились мимо, пока не завизжали тормоза. Поезд замедлил ход, прибывая на станцию.
Меня подняли на носилках. Надо мной мелькнул высокий и затемненный стеклянный навес, потом меня погрузили в заднюю часть машины скорой помощи, и двери за мной закрылись. Полчаса спустя я лежал на другой больничной койке, на этот раз в Венской центральной больнице, «Альгемайне кранкенхаус». Дверь в палату открылась, и зашла группа медперсонала, ведомая невысоким мужчиной лет шестидесяти с аккуратной седой бородой и безошибочной аурой человека, привыкшего командовать. Я знал, что это вице-адмирал медицинской службы барон Антон фон Айзельберг, главный врач военно-морского флота Австро-Венгрии и один из самых видных хирургов того времени, ученик великого Бильрота [19] и автор некоторых хирургических приёмов, которые, как я полагаю, используются и по сей день. Он отрывисто пожелал мне доброго утра и сел изучать мою ногу. Доктор действовал аккуратно, но я вздрагивал от боли, когда он исследовал открытую рану и торчавшие из неё обломки кости. Наконец он встал.
— Ну что ж, герр шиффслейтенант, у вас очень скверный сложный перелом. Приди вы ко мне шесть месяцев назад, пришлось бы ампутировать, и никак иначе. Но теперь, я полагаю, мы сможем кое-что для вас сделать. Так вот, скажу вам прямо, как один морской офицер другому. Мы с коллегами разрабатываем технику восстановления кости, которая может - только может, - сохранить вашу ногу. Если вы согласны отдаться на моё попечение, мы испробуем ее на вас, но вы должны принять последствия в случае неудачи. Если же нет, то, боюсь, придётся пустить в ход пилу. Но вы должны решить сейчас же: с такой открытой раной скоро начнется заражение, и я вынужден буду ампутировать ногу не позднее вечера. Что скажете?
Я не колебался ни минуты.
— Герр адмирал, делайте со мной что хотите. Я готов на любые эксперименты.
— Молодец, Прохазка, говорите как настоящий офицер австрийского императорского дома. В следующие несколько месяцев вам потребуется вся отвага, потому как даже если операция пройдёт успешно, восстановление будет долгим и болезненным. Но, смею заметить, если это сработает, то ровно через год вы уже будете играть в футбол.
— Я покорно сообщаю, герр адмирал, что в таком случае вы совершите чудо, а не исцеление. Я никогда в жизни не играл в футбол.
Он улыбнулся.
— Ну, тогда ездить на велосипеде, если так предпочтительней. Но одно скажу: вам очень повезло, что герцогиня Гогенберг находилась в Фиуме. Эти мясники собирались отрезать вам ногу еще вчера вечером, но, как я понял, она их запугивала и угрожала, пока те не согласились перевезти вас, а затем взяла личный поезд наследника, чтобы отправить вас в Вену. Вам очень повезло, что у вас такие друзья. Так или иначе, работать мы должны быстро, так что я встречусь с вами в операционной через десять минут; впрочем, к тому времени вы меня уже не увидите. Может, сломаете шею или... ну, или другую ногу.
Медсестры подготовили меня к операции. Затем меня покатили по белому коридору в помещение с кафельными стенами. Я еще раз ощутил укол, потом мне надели маску на лицо. Я чувствовал себя столь отвратительно, как и в тот вечер, когда меня накачали лекарствами для путешествия, но в этот раз совсем по другим причинам. Найдут ли медальон в корзине и отдадут ли ей обратно? Как я смогу объяснить, как смогу отблагодарить ее при следующей встрече? Судьба распорядилась так, что у меня не было ни единого шанса.
Я очнулся после анестезии бог знает сколько часов спустя, и меня сразу же стошнило. Я чувствовал себя ужасно, а нога, для обездвиживания прикрепленная к шине, но пока еще без гипсовой повязки, чудовищно пульсировала. Я решил туда не смотреть. Мне дали чашку некрепкого чая и кусок черствого хлеба, затем я получил снотворное, усыпившее меня до конца дня. Я проснулся следующим утром, когда Айзельберг со своим персоналом зашли в палату. Адмирал был в приподнятом настроении.
— Ну, Прохазка, мы вчера четыре часа непрерывно работали над вашей ногой, вся наша команда. Раньше мы никогда ещё так долго не держали пациента под наркозом. Но полагаю, нам удалось вновь собрать вашу голень. К счастью, в малой берцовой кости был чистый перелом. Вот, посмотрите: эти рентгеновские камеры просто находка - без них можно даже не пытаться оперировать.
Он показал ряд больших чёрных фотопластинок. Я внутренне содрогнулся, когда увидел один из снимков, показывавших, очевидно, состояние «до». Нога была повернута под неестественным углом, а ближе к лодыжке голень раздроблена на три или четыре фрагмента, подобно мундштуку глиняной трубки. «После», напротив, выглядело куда более ободряюще: конечность выпрямилась, и, хотя трещины были всё ещё заметны, кость собрали заново как мастерски склеенную фарфоровую вазу. Однако я с удивлением разглядел внизу, на поврежденном участке, три плотные белые полоски с острым краем, расположившиеся на расстоянии друг от друга. Айзельберг указал на них карандашом.
— Стяжки. С нами в операционной работал один из лучших в Вене серебряных дел мастер. Мы вскрыли вашу ногу, вычистили тромбы и частицы костного мозга, соединили фрагменты костей, затем наложили скобы и снова скрепили всё это вместе. Довольно аккуратная работа, должен заметить. Нужна ещё одна операция приблизительно через два месяца, чтобы удалить несколько незначительных костных фрагментов, но по правде говоря, с этого времени всё зависит от вас и способности вашего организма восстанавливаться, и сопротивляться инфекции, конечно. Конечность должна оставаться обездвиженной - и я имею в виду полностью обездвиженной - в течение месяца; затем посмотрим, как дела. Не стану больше скрывать, что шанс сохранить ногу пятьдесят на пятьдесят, но, по крайней мере, самая трудная часть закончена. — Он сделал паузу и достал ещё один рентгеновский снимок. — Вот здесь с этим могут возникнуть проблемы, — он указал на участок длиной приблизительно в сантиметр. — Мы не можем добраться сюда, не нарушая главного перелома, поэтому придётся осколку прокладывать себе путь на поверхность самостоятельно. Пройдёт около восемнадцати месяцев и понадобится небольшая операция для удаления осколка, когда он туда доберется. А теперь я оставлю вас и пожелаю удачи. А еще большого терпения, потому что вам придётся следующие шесть месяцев пролежать на спине.
Как и предсказал Айзельберг, я провёл в постели весну и лето 1913 года, обездвиженный до середины марта, а потом в гипсе до октября. В течение первых недель я мучился опасениями на каждой утренней проверке адмирала, внимательно прислушиваясь к его «хм» или «ага» и страшась слов «Ну, Прохазка, боюсь сказать вам, что...», предвещавших операционный стол и ампутационную пилу.
Медленно тянулись недели, я начал понимать, что дали мне тридцать поколений богемских крестьянских предков - ничто иное, как крепкое телосложение. Хотя было больно.
Побочный эффект второй операции оказался куда хуже предыдущей, а моя первая попытка в начале сентября встать и перенести вес на ногу была сущим мучением. Последовали месяцы физиотерапии, во время которых я налегал на педали велотренажеров, восстанавливая силу икроножных мышц, потерянную за месяцы бездействия, до тех пор, пока ноги буквально не отваливались. Но я справился. Даже сохранив ногу, я мог бы остаться хромым на всю жизнь. Но в итоге меньше чем за год травма почти зажила. Правая нога стала короче левой примерно на сантиметр, остались лишь замысловатый узор шрамов, легкая хромота и боль, которая до сих пор беспокоит меня в сырую погоду. Однако существовала ещё одна небольшая проблема.
Нога выдержала почти без проблем ещё полстолетия приключений. И еще долго после моей смерти, когда я в своем гробу превращусь в прах, три ярких серебряных кольца останутся свидетельством мастерства адмирала-хирурга Антона барона фон Айзельберга и его коллег. Я надеюсь встретить его в ином мире, приветствуя и покорно доложив, что операция прошла полностью успешно.
Для меня, прикованного к постели в те бесконечные месяцы 1913 года, основной проблемой стала скука. Конечно, меня навещал отец: сомнительная честь, по правде говоря, так как он два битых часа разглагольствовал на тему тевтонской расовой чистоты. Старик из чешского либерального националиста века девятнадцатого перевоплотился в дико нетерпимого пангерманца века двадцатого и теперь заблуждался, что он белокур и двухметрового роста, хотя на самом деле был темноволосым, коренастым, почти квадратным славянским крестьянином.
Из Лейтмеритца также приехал меня проведать брат Антон. Оказалось, что вскоре его полк перебазируется в южные районы Боснии. Большинство офицеров австро-венгерской армии легче было отправить к дьяволу, чем в эту бедствующую горную провинцию, но Антон был весьма доволен. Он интересовался энтомологией и стал одним из ведущих экспертов по жукам в Австрии, автором целой серии научных статей о жесткокрылых - все опубликованы анонимно, с тех пор как австро-венгерский устав запретил офицерам на действительной службе публиковаться под собственными именами, и даже в этом случае только с разрешения непосредственного командира.
Да, район был удалённым и отсутствовали удобства. Но фауна насекомых региона в значительной степени не была каталогизирована. И брат был уверен, что до тех пор, пока у него есть баночки и микроскоп, он не заскучает.
Однако, так как я служил морским офицером далеко отсюда, на побережье Полы, редко случалось, что кто-нибудь из моих сослуживцев приезжал повидаться. Когда я месяцами лежал в неподвижности, моим главным контактом с остальным миром оставалась тетушка Александра, которая приезжала каждый день. Она была старшей сестрой умершей матери, по рождению полячка из Кракова, но всю жизнь прожившая в Вене. Она вышла замуж за барона, который со временем вырос до главы департамента в имперском министерстве финансов, а впоследствии умер в возрасте чуть больше пятидесяти, оставив ей значительное наследство - большую квартиру на Йозефгассе в восьмом районе, а также приличную пенсию. Приятная седовласая женщина, казалось, она при рождении унаследовала весь живой ум и характер, братьям и сестрам уже не доставшийся.
В те дни статус вдовы наделял женщин определенной степенью свободы, в которой в противном случае им было бы отказано. Поэтому после смерти мужа тетя Алекса стала довольно влиятельной хозяйкой салона в среде венской интеллигенции, поддерживая множество талантливых поэтов, музыкантов и художников. Многие из них были ужасны, но не все. Она находилась на дружеской ноге с художником Климтом, который нарисовал её портрет - «Портрет Александры фон Ригер-Мадзеотти», сияющий позолотой и инкрустацией. Как я понимаю, он больше не существует, сожжен наряду с другими картинами художника в 1945 году.
К счастью для меня в моем беспомощном состоянии, я всегда ладил с тетей Алексой, которая была отличной компанией, поэтому ее визиты стали постоянным удовольствием. Со своей стороны она пыталась заинтересовать меня живописью и литературой. Она утверждала, что моё образование весьма запущено в провинциальной дыре вроде Хиршендорфа и кают-компаниях линейных кораблей, и время после болезни ниспослало возможность заполнить пробелы. Ни дня не проходило без новой книги на моей тумбочке. Вскоре я познакомился с немецкими романами, польской классикой и начал читать Диккенса и Джордж Элиот.
Я также удостоился официального визита наследника. С присущим ему тактом и умением выбирать нужный момент, которыми он так справедливо славился, эрцгерцог использовал визит, длившийся около девяноста секунд, чтобы проинформировать меня о том, что я больше не служу в его канцелярии. Насколько я понял, эрцгерцог обнаружил, что моя мать, хоть и полячка, имеет итальянскую фамилию. Этот факт в глазах Франц-а-Фердинанда являлся основанием для немедленного увольнения, если только речь шла не о графе вроде моего бывшего соседа по кабинету Белькреди.
Я не был склонен протестовать. Я представления не имел, что буду делать, когда покину больницу, даже если предположить, что имперские кригсмарине пожелают оставить меня на службе. Но, конечно, Бельведер - точно не то место, куда бы мне хотелось вернуться.
Однако больничная жизнь стала испытанием, когда наступили долгие, жаркие дни венского лета. Меня перевели в палату на двоих к другому офицеру, польскому уланскому ротмистру Мальчевски. У него был перелом бедра, но полученный не в результате какого-то невероятного трюка в искусстве верховой езды, как я сначала представлял, а на булыжной мостовой Штефанплатц, куда он упал с подножки одного из новых городских автобусов. Он оказался чрезвычайно унылым и использовал фразу «так сказать» по крайней мере дважды в каждом предложении, как своего рода нервный тик.
Но, по крайней мере, он был спокойным и дал мне продолжить чтение. Как и у большинства поляков, у него имелось море родственников - бесчисленные кузены и кузины, тёти и дяди, живущие в самой Вене или в окрестностях, которые приходили к нему целыми полчищами. Большинство из них были среднего возраста, безвкусно одеты и не менее утомительны, чем сам Мальчевски.
Однако в один теплый воскресный день в начале июля в группе обычных посетителей оказалась дама с действительно великолепной внешностью, лет двадцати с небольшим - высокая, изящная, одетая по последнему писку моды и весьма вероятно полячка. Она вошла в палату, как будто ожидая, что её встретят аплодисментами, любезно улыбнулась мне, а затем, прежде чем сесть с другими родственниками у постели ротмистра, с подчеркнутой элегантностью сняла шляпу и вуаль. Волосы у нее были удивительно светлыми.
Большинство поляков светловолосы, но обычно это бледный, какой-то линялый цвет. Волосы этой женщины были густыми, словно лошадиная грива и цветом как золотая монета в двадцать гульденов, так что я бы предположил, что тут не обошлось без помощи парикмахера, если бы краски для волос в те дни не были столь отвратительными, что выдавали себя при первом же беглом взгляде. Я посмотрел на ее стройную спину, вздохнул и подумал: «Это птица не твоего полета, Оттокар, дружище» и вернулся к чтению «Мельницы на Флоссе» [20].
Начался разговор: нормальная польская семейная музыка, состоящая из гогота, шипения, рычания и проклятий, прерываемых упоминаниями всех святых, что для непривыкшего слуха звучит как прелюдия к началу бытовой поножовщины, но на самом деле это не так. Я привык к этому с детства и мог не обращать внимания, как в наши дни люди игнорируют радио. Спустя некоторое время я почувствовал легкое движение под своим одеялом, затем что-то коснулось моего бедра. Озадаченный, я взглянул поверх книги. Женщина все еще сидела ко мне спиной и, вероятно, была поглощена семейным спором, но её левая рука ползла под моим одеялом.
Рука проделала путь до интимных частей тела, о чьем существовании я почти забыл спустя месяцы после ранения, а затем последовали действия, давать детальное описание которых запрещает мне скромность, но обязан уточнить, что владелица руки была не новичком в таких делах.
Вдруг рука исчезла так же незаметно, как и появилась, дама воспользовалась затишьем в разговоре, чтобы оглядеться и одарить меня восхитительной улыбкой, а затем повернулась к Мальчевски и его родственникам. Что касается меня, я был смущен, как никогда в жизни. Женские ласки не были мне в диковинку, но я никогда не сталкивался с такой развязностью. Быть может, она высококлассная куртизанка, взявшая выходной? Я был уверен, что такая женщина предоставляет свои услуги лишь за деньги...
Когда они собрались уходить, я боялся, что мне осторожно преподнесут конверт, содержащий счёт. Но нет, она просто улыбнулась и попрощалась со мной по-немецки, а затем испарилась так же театрально, как вошла. Казалось, никто кроме нас двоих ничего не знал о произошедшем. Как только позволили приличия, я вовлёк Мальчевски в разговор и спросил, что за дама приходила.
— О, её зовут Божена Грбич-Карпинска, моя троюродная сестра. Превосходная штучка, не правда ли, так сказать? Работала оперной певицей в Лемберге, но затем вышла замуж, так сказать, за какого-то богатого серба из Баната [21] и забросила сцену. Сейчас проводит большую часть времени в Вене, так мне кажется...
— Так сказать?
— Да, так сказать.
Помимо этого пустякового происшествия, в остальном в моём пребывании в больнице особо и нечего отметить. В конце августа я впервые встал на костыли и начал передвигаться.
В октябре настал радостный день: мне сняли гипс, и я снова начал ходить, поначалу неуклюже, как годовалый ребёнок, но затем, спустя недели, с растущей ловкостью, физиотерапия начала приносить результат. В начале ноября меня выписали из больницы, и я переехал в квартиру тёти на Йозефгассе. Сеансы упражнений в больнице теперь проводились только три дня в неделю, и военно-морской флот предоставил мне отпуск на неопределённый срок для выздоровления, так что занять себя в оставшиеся четыре дня стало теперь проблематичней, ведь зима вступала в свои права, и гулять по улицам полукалеке с тростью стало сложнее.
В столице я почти никого не знал. Попытки позвонить нескольким подругам закончились удручающе. Фройляйн Митци из Карл-театра теперь была помолвлена с болгарским графом; а когда я позвонил фрау Ганни, жене торговца зерном из Пуркерсдорфа, её муж ответил на звонок и пообещал пристрелить, если я появлюсь рядом с его домом. Однако я не был полностью ограждён от общества, потому что теперь начала набирать обороты зимняя программа тёти, состоявшая из званых вечеров.
И во время одного из таких сборищ в середине ноября Франци, служанка тетки, возвестила о приходе мадам Грбич-Карпинска. Та вплыла в комнату, как фрегат под полными парусами, меховой палантин оставлял непокрытой её великолепную прическу. Серо-голубые глаза под изогнутыми дугами бровей обежали собравшихся - которые вдруг замолчали, будто находились в театре - а затем остановились на мне.
Она не смутилась ни на секунду. Тетя представила нас. Мадам Грбич-Карпинска обезоруживающе улыбнулась и произнесла по-немецки с отчетливым польским акцентом:
— Ах, дорогая Алекса, мы с герром лейтенантом уже встречались. У нас было приятное, но краткое свидание тет-а-тет летом, когда он был пациентом в Центральной больнице.
Я испытывал соблазн заметить, что тет-а-тет - это, безусловно, новое обозначение того, что тогда произошло. Но я хранил молчание, просто поцеловал ей руку и ограничился банальными вежливыми замечаниями. Немного позднее, как только позволили приличия, она отыскала меня: это было не сложно, учитывая, что нога вынуждала меня просидеть почти весь вечер. Божена очень обрадовалась, обнаружив, что мы можем общаться на польском, на котором я говорил бегло, хотя и с легким чешским акцентом.
— Мой дорогой, дорогой лейтенант, как приятно снова вас видеть. Как ваша бедная нога? Ваша тетя рассказала, что вы пострадали в авиационной катастрофе. Как романтично! Я всегда считала, что пилоты должны быть такими храбрыми. Когда-нибудь мне бы очень хотелось полетать самой: скорость, ветер в лицо, ах! Какой, должно быть, экстаз, упоительный, как сама любовь. Но скажите, вам уже лучше?
— Благодарю вас, намного лучше. Я уже способен гулять без трости. Доктора полагают, что к весне я окончательно поправлюсь. Но скажите, мадам, если возможно, что снова привело вас в Вену?
— Откуда вы знаете, что я отсутствовала? — она искоса взглянула на меня.
— Ваш кузен, ротмистр Мальчевски, сообщил, что вы живете в Венгрии, в Банате, как я понял.
— О, вы опасный, опасный человек, — она лукаво улыбнулась, — тайно выспрашивать о почтенных замужних дамах... Никогда не слышала ни о чем подобном. Почему вы хотели это знать?
— Чистое любопытство, моя дорогая. Я был очень огорчен, когда узнал от ротмистра, что столь прекрасная и очаровательная дама тратит свою нежность на захудалых кукурузных полях, хотя должна бы украшать столицу.
Она вздохнула, словно кузнечные мехи, и опустила взгляд.
— Ах да, очень жаль, мой дорогой лейтенант. Но в этой юдоли скорби все мы несем свои горести.
— Но какие горести, если не секрет? Уверен, что такая красивая и, как я понимаю, талантливая дама, как вы, должна иметь мало поводов для огорчений.
Она снова опустила взгляд и на пару мгновений замолчала, будто ожидая сигнала от суфлёра. Поскольку я не дал подсказки, она справилась сама.
— О да, все так думают. Но лишь Пресвятой деве известно, что у меня достаточно поводов для горя: я брошена в этой пустыне, погребена заживо в гнилой зловонной яме, зовущейся городом, окружена сербскими крестьянами, чуть менее дикими, чем их собственные свиньи, и стаей евреев и цыган. До ближайшей железнодорожной станции ехать полдня, а пароход до Будапешта идет два дня даже летом.
— Наверняка у вас есть муж и хозяйство, которым вы занимаетесь: предположу, что у вас есть дети?
Её глаза угрожающе сверкнули
— Фу! Этот невежественный грубый серб? Святая Богородица, зачем я вышла за него? Да-да, я знаю - из-за денег. Но разве могут деньги компенсировать то, что я делю дом и брачное ложе с безграмотным тупицей, от которого воняет табаком и свиным навозом, который едва ли даже знает, как пользоваться вилкой и ножом? О, лейтенант... — в уголке ее глаза блеснула слеза. — Дорогой лейтенант, когда я думаю о том, кем я могла бы стать, и когда я смотрю на себя сейчас, мне хочется плакать...
Я подумал, что она и вправду сейчас разрыдается, и в панике оглянулся. К счастью, мы были наполовину спрятаны от взглядов оставшейся компании за комнатными папоротниками. Она села на колени рядом с моим стулом и стала вглядываться в меня. Глаза её были сурового синевато-серого цвета с тёмной радужкой, но слегка раскосые, с оттенком азиатских степей.
— Ах, мой дорогой Оттокар - если я вправе так вас называть, - вы не сможете понять, что движет женским сердцем: ни один мужчина этого не сможет. Но вы могли бы оценить, сколько я отдала бы за любовь и дружбу чувствительного и нежного мужчины, который заботился бы обо мне, как о человеческом существе, а не личной собственности. Потому что мой муж женился, только чтобы получить ещё одно произведение искусства для своей коллекции: на этот раз живое, красивое молодое сопрано Божены Карпинска в самом начале карьеры, любимицы Лемберга, на чью руку претендует очередь из баронов и графов - на руку и чудесные золотые волосы. — Она взяла прядь волос и стала ее рассматривать. — И с каждой осенью, когда падают листья, в этих волосах появляется всё новая седина...
Нас прервало объявление моей тети.
— Meine Damen und Herren [22], прошу внимания. А теперь - небольшая музыкальная пауза. Мадам Грбич-Карпинска споет для нас небольшой пустячок из облегченного репертуара: куплеты «Майне герр маркиз» из «Летучей мыши». Представляю вам мадам Грбич-Карпинска.
Она поднялась, сжала мою руку на прощание, прослушала всплеск вежливых аплодисментов и заняла место возле фортепьяно, пока аккомпаниатор садился и раскладывал ноты. Пианист заиграл вступление, и, распрямив пышную грудь, она начала.
Я не особо разбираюсь в голосах, но должен сказать, что судя по меццо-сопрано, достойному и Вагнера, Божена Грбич-Карпинска пела довольно хорошо и выразительно, превосходно контролируя дыхание. Я не сомневаюсь ни минуты, что, если бы она не ушла со сцены, то, возможно, сделала бы если не блестящую, то, по крайней мере, очень достойную карьеру в оперном мире. Нет, проблема тем вечером была скорее личной, чем технической. По правде, хотя она была не выше меня, а мой рост не выше среднего для того времени - она была из тех людей, которые кажутся значительно крупнее, чем в действительности. Как в том определении газа, изучаемом на уроках физики в школе, она как будто расширялась, заполняя любое пространство, в котором оказывалась.
Конечно, в те дни оперный стиль подачи был намного более экспрессивным и напыщенным, чем теперь. Но нужно сказать, что в тот вечер не только певица и ария были дико несовместимы - как использовать боевого коня для катания детей на пляже в Градо [23] - но сама исполнительница вообще не учла тот факт, что она в гостиной венской квартиры, а не в провинциальном оперном театре с плохой акустикой, где нужно, чтобы звук достиг последнего ряда.
Люди в те дни с трепетом говорили о певцах, чьё верхнее «до» способно взорвать бокал. В общем, пани Божена голосом могла разбить цветочный горшок в двадцати пяти шагах. Когда она брала верхние ноты, я наблюдал на лицах вокруг болезненные гримасы и впервые был благодарен, что служба офицера артиллерийского линкора, по крайней мере, лишила меня возможности слышать верхние регистры.
На следующее утро за завтраком я разговаривал с тетей.
— Ну, Отто, милый мальчик (она всегда использовала немецкое сокращение, считая «Оттокар” крестьянским и вульгарным чешским именем), я вижу, что встреча вчера вечером зажгла в тебе искру. Ты выглядел весьма плачевно, когда вышел из больницы. Я видела, ты увлеченно беседовал с Боженой Карпинска, которая здорово меня развлекла. Тебе нужно чаще встречаться с людьми своего возраста, а не со старыми перечницами вроде меня. Как она тебе?
— Замечательная и очаровательная женщина, тетя. Весьма примечательная личность.
— Да, совершенно верно. В пани Божене нет ничего отталкивающего или тягостного. Но я рада, что она тебе понравилась, потому что она хочет с тобой встретиться. Вообще-то я пригласила ее сюда на чай завтра днем. Она бы пригласила нас, но живёт у родственников в Винер-Нойштадте, а я не считаю, что с твоей ногой позволительно путешествовать.
Я едва смог скрыть свое восхищение.
— Было бы приятно, тетя, надеюсь, что она развлечет тебя так, как развлекает меня.
— У нее не будет ни шанса, — Алекса загадочно улыбнулась, — завтра утром я уезжаю в Мерано на три дня навестить друзей. Франци и фрау Нидермайер позаботится о тебе, пока я в отъезде, и Франци подаст завтра чай перед уходом. У нее выходной.
Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
— Так или иначе, Отто, я надеюсь, что у тебя сложится приятный день.
— Э-э... да тетя... я уверен, мы... То есть я... Мадам Грбич-Карпинска хотела рассказать мне о своей работе с Малером.
Она бросила на меня пристальный, шутливый взгляд; изучающий, но добрый.
— Да, я уверена, она постарается. Я велела Франци постелить свежие простыни.
Наступил следующий день: половина третьего, затем три часа. И никаких признаков пани Божены. В конце концов она решила не приходить? Конечно, её внешность и поведение говорили, что она может быть очень капризной и ненадежной, возможно даже увлекаться жестокими маленькими розыгрышами. Я уже потерял надежду, когда на улице с грохотом остановился фиакр. Потом зазвонил звонок. Это она? Я похромал к двери и открыл. Да, там стояла она, великолепная как всегда, как будто ожившая фигура на носу корабля. Волна аромата чуть не сбила меня с ног – я пока еще держался на ногах не очень уверенно. Она обвила меня руками и запечатлела влажный поцелуй на щеке.
— Ах, мой бедный лейтенант, какое удовольствие видеть вас снова. Вы не собираетесь пригласить бедную девушку войти?
Божена, казалось, не была удивлена, что мне пришлось открывать дверь. Возможно, уже знала, что прислуга отсутствует? Она пронеслась мимо меня, пока я закрывал за ней дверь и ковылял, чтобы взять шляпу и пальто. Потом мне пришлось несколько минут ждать, пока она ходила в туалетную комнату. Я понюхал ее пальто, когда вешал его: замечательный теплый, женский запах, вдвойне опьяняющий того, чья профессия по воле судьбы вынуждает находиться в продуваемом насквозь, громком, мужском, пахнущем карболкой окружении корабельных кают и военно-морских береговых учреждений. Будучи двадцатисемилетним военно-морским офицером, конечно, я вовсе не был новичком в тонком деле соблазнения.
И знал, что определенная искусность и утонченность были в порядке вещей даже с женщиной, которая объявляла о своей готовности по радио, семафором, флагами и сигнальными огнями вместе взятыми. Поэтому я тщательно продумал планы: как одна тема разговора за чаем будет перетекать в другую; как поменяются сигналы; как я осторожно прощупаю почву и буду продвигаться шаг за шагом, преодолевая сопротивление везде, где с ним столкнусь, пока (возможно, даже к концу этого дня, если всё пойдет хорошо) не намекну о дальнейшей встрече в другом месте.
Но это (уверен, что вы догадаетесь) была стандартная пехотная тактика, которая привела к столь печальным результатам в Мировой войне, и я не успел вовремя понять, что в лице пани Божены я столкнулся с ранним представителем блицкрига. Дам ей время, подумал я и вышел в коридор - как раз чтобы увидеть её появление из туалетной комнаты, обнажённой, подобно Еве в Эдемском саду, за исключением распущенных золотистых волос, падающих блестящим водопадом на плечи.
Она откинула локоны с лица и улыбнулась, столь же уверенная, как если бы была полностью одета и носила шляпку, перчатки и пальто. Я знал, как выглядят обнажённые женщины, но тем не менее...
— Ну, мой дорогой Оттокар, бравому лётчику нравится его маленькая пани Божена?
— Я... ну... я...
— О, не стесняйтесь. Здесь нет никого, кроме нас. Ваша тётя сказала, что у Франци свободный вечер. Я знаю, что ваша бедная нога, должно быть, всё ещё болит, но я бы, по правде, хотела большей... ну, инициативы. Или то, что говорят о мужской энергии моряков, неправда? — она слегка нахмурилась. — Или, возможно, маленькая Божена не привлекает герра лейтенанта? Быть может, он предпочитает брюнеток?
Я пробормотал, что нет, правда, у меня нет никаких особых предпочтений, просто меня застигли врасплох. Мне следовало также добавить, что эпитет «маленькая» едва ли подходил для описания пани Божены. Она, бесспорно, была великолепна, но скорее величественная, чем чувственная, больше похожа на музыку Вагнера, чем Легара. Слово «крупная» соответствовало ей больше всего: широкая в кости и спортивного телосложения, подобно скандинавской валькирии с диким нравом.
Она заключила меня в объятия и поцеловала.
— Серьёзно? Обниматься в военной форме. Вы, офицеры, хоть когда-нибудь расстёгиваете мундир? Польская девушка предлагает утешение раненому герою-летчику, а он даже не может снять ради неё китель. Давайте я помогу вам раздеться. Мы должны помнить о вашей больной ноге, — её руки скользнули вниз, глаза раскрылись в поддельном удивлении. - Матерь божья, что это? Вы уверены, что хирурги удалили все осколки кости?
— Полагаю, вы прекрасно знаете, что это. На самом деле, насколько я помню, вы уже с этим знакомы.
На мгновение она выглядела озадаченной, потом засмеялась.
— Простая шалость, чтобы поскорее провести скучный день с родственниками. Одного лишь рукопожатия недостаточно для официального знакомства. Но мой бедный, дорогой Оттокар: вы делали упражнения для ноги, я знаю, но сколько прошло времени с того как...?
— Я забыл. Ну, больше года, думаю.
— Больше года? Господи, да вы превратились в евнуха. Давайте назначим вам небольшой курс физиотерапии, как вам идея?
И с того самого дня, в те последние недели года, сеансы физиотерапии от пани Божены стали обычным делом. Иногда моя тётя, которая, как вы уже могли догадаться, была очень мудрой женщиной, в течение дня могла куда-нибудь выйти и дать Франци несколько часов, чтобы та проведала свою мать в Фаворитене.
Франц-и была милой девушкой, но все-таки немного глуповатой, и я сомневаюсь, заподозрила ли она что-либо, даже если бы оставалась дома. Она не имела понятия, откуда берутся дети, и однажды, когда тётя взяла ее в воспитательную поездку в историко-художественный музей, смотрела некоторое время в замешательстве на статую греческого атлета, а потом озадаченно отметила, что не имела никакого представления о таких сильных отличиях между католиками и евреями.
В других случаях мы прибегали к помощи одного из местных второразрядных отелей. В те дни в большинстве европейских городов имелись заведения, где можно было получить комнату на час; но, насколько мне известно, только в Вене были отели, работающие исключительно на этой основе. Разводы были крайне редким явлением в католической Австрии, так что измена почти официально признавалась церковью просто способом выпустить пар.
Никто не придавал этому особого значения, пока соблюдались правила и люди вели себя прилично. По крайней мере, у меня были средства, чтобы снять комнату часа на два-три и оплатить поездку в театр (вполне уместно в моих обстоятельствах), где шла сенсация сезона - оперетта Оскара Недбала «Польская кровь».
За время моего пребывания в госпитале невыплаченное жалование накапливалось (для Центральной больницы я был чем-то вроде подопытного пациента, поэтому платы за лечение с меня не брали), а тётя, истинная полячка, с ужасом отказывалась от любой попытки хоть как-то отблагодарить её за гостеприимство.
А поскольку счета за расходы кают-компании мне не приходили, то впервые за все время службы у меня накопилась солидная сумма на банковском счете даже после того, как я выплатил старые долги тете. Это благостное положение дел так мне понравилось, что я даже подумывал сломать и другую ногу, чтобы оно не кончалось.
Естественно, нам с ней приходилось проявлять определенную осторожность. Пани Божена не была по своей природе человеком, учитывающим обстоятельства, но даже она понимала, что ее длительные поездки в Вену могли бы вынудить ее мужа, владельца фабрики в Венгрии, что-то заподозрить, возможно, даже проследить за ней. Также следовало принять во внимание, что сам я являлся весьма заметной фигурой на венских улицах.
Из всех европейских стран только в Австро-Венгрии офицерам было запрещено носить штатское и предписывалось везде появляться в форме, катаются ли они на лыжах или взбираются в горы. Так или иначе, Вена находилась достаточно далеко от моря, и офицеры-моряки нечасто там оказывались. Так что мы тщательно продумали и с удовольствием разыгрывали пантомиму, меняя трамваи, добираясь в отдельных фиакрах и оставляя друг другу записки на почте до востребования.
Оглядываясь назад, могу сказать, подготовка к прелюбодеянию доставляла не меньше удовольствия, чем сами упражнения в постели. В конце концов, сам процесс занимает всего полчаса, поэтому, на мой взгляд, то, как два человека добираются до дверей спальни, как правило, столь же интересно, как и то, что происходит, когда они находятся за ними. И проводят время после. И в этом отношении, должен сказать, что самым интригующим моментом моих отношений с Боженой Грбич-Карпинска стало познание самой женской сути.
Для выросшего в довольно сером, основательном буржуазном мире небольшого городка в чешской провинции - мире, который в начале двадцатого века не сильно отличался от подобного размера городов в Бельгии или Йоркшире - я никогда не встречал никого похожего на нее: живое свидетельство старого афоризма, что река Сан [24] является западной границей Азии. Она отдавала себя без остатка во всем, что делала. И во время этих недель, проведенных вместе, почти без всякой утайки демонстрировала мне как свою замечательную индивидуальность, так и красивое тело.
Пани Божена была замечательным, лучшим экземпляром экстраординарной породы среднеевропейских женщин. Тип распространился миллионами на обширном, аморфном участке территории, ограниченной Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями. Провинциалка по воспитанию (родом из местечка под названием Грудек в восточной Галиции, где ее отец служил таможенным чиновником), в душе она все еще оставалась крестьянкой: горячая, щедрая, находчивая и невероятно храбрая, но в то же время наивная, доверчивая, властная и по-детски хитрая; а также способная на внезапную причудливую жестокость, которую можно было оправдать лишь отсутствием преднамеренности. Если честно, то никогда в своей жизни я не встречал человека, действовавшего настолько же необдуманно; казалось, она живет, повинуясь исключительно инстинкту.
Не то чтобы она была глупой - вовсе нет, но большую часть времени её голова бездействовала, функционировал только спинной мозг. Её способность ни о чем не думать была удивительна и крайне притягательна для такого скучного и рационального чеха, как я. Я хорошо помню, как однажды мы лежали в постели после длительного сеанса упражнений в горизонтальном положении.
Она полулежала, ее волосы спадали на подушку, пока я, опираясь на локоть, лениво собирал миниатюрную башенку из спичек вокруг ее сосков, наблюдая, много ли смогу сложить, прежде чем ее дыхание всё разрушит. Мы болтали о том о сём, как обычно все люди после подобного. Затем она опять набросилась на евреев. Как и многие польские провинциалы, она была ужасной антисемиткой (в отличие от жителей Вены) и не старалась этого скрывать. Была произнесена решающая фраза: «Mowią ze...» - «Говорят, что...» - неминуемый предвестник потрясающе неправдоподобного заявления, словно поток воздуха в метро, оповещающий о прибытии поезда задолго до того, как его огни появятся вдали.
По мнению пани Божены, «они» (кем бы они ни были) обнаружили в последнее время, что Папа Римский был масоном, король Англии Георг V - женщиной, и, самое удивительное, Святой Франциск Ассизский - протестантом.
— Так или иначе, говорят, что... Что ты делаешь? Мне щекотно.
— Строю пагоду, твоя грудь напоминает мне храмы в Моулмейне.
— Где?
— Моулмейнские пагоды. Я был там еще курсантом, наш корабль остановился в Рангуне.
— Где?
— Рангун. Бирма. Возле Индии.
— О! В общем, говорят, евреи просто возмутительно занижают цены, чтобы оставить христианских лавочников не у дел. В Вене они уже захватили всё, прямо как в Галиции. А цены, которые они устанавливают, просто безумно высокие.
Я прервал строительство пагоды.
— Подожди, Божена, это бред.
— В каком смысле бред? Все это знают.
— Смотри, два утверждения, которые ты только что сделала, взаимоисключающие. Возможно, что оба утверждения неверны - если честно, оба кажутся мне бессмысленными. Но даже если это не так, то они оба не могут быть правдой.
— Почему?
— Потому что, чисто логически, евреи не могут одновременно урезать и поднимать цены: это просто невозможно.
— Конечно, возможно, если они евреи; это лишний раз доказывает, какие они хитрые.
Спустя некоторое время мы встали, оделись и пошли на прогулку в близлежащий парк. Я вполне мог справляться без трости, хотя меня слегка качало, и, казалось, мы забрели достаточно далеко от городского центра, чтобы кто-либо нас узнал.
Парк находился на окраине Леопольдштадта, недалеко от венского еврейского квартала. Внезапно я увидел идущего по направлению к нам по мостовой еврея-хасида в шляпе и с пейсами, а рядом шла его жена, обернутая шалью, и маленький сын, тоже с пейсами и в ермолке. О боже, мне казалось, что беды не избежать: мостовая казалась слишком узкой для того, чтобы могли разминуться две пары. Но стоило нам приблизиться, пани Божена вдруг завопила, как индеец, и бросилась к евреям, обнимая и целуя их, и сопровождая это восторженным потоком слов на польском и ломаном идише.
Затем она опустилась на колени и обняла маленького мальчика.
— Ну же, Рувим, неужели ты не поцелуешь тётушку Боженку?
Наконец мы попрощались и разошлись. Когда семейство больше не могло нас услышать, я повернулся к ней.
— Божена, ты либо лицемерка, либо сумасшедшая. После того, что ты говорила о евреях сегодня днем, ты вышла на улицу и накинулась с объятиями на первую попавшуюся хасидскую пару, словно они твои давно утерянные братья и сестры.
Её глаза неожиданно сверкнули.
— Как ты смеешь называть их евреями! Мы выросли вместе в Грудеке, Исайя, Рашель и я - самые настоящие поляки, которые когда-либо существовали на земле. Как ты посмел назвать их евреями!
Я понял, что продолжать этот спор бесполезно. Касаемо религии пани Божена время от времени была чрезвычайно набожной католичкой. Под этим я имею в виду, что около трёхсот шестидесяти дней в году она вела себя как весёлая и развязная таитянка до прибытия миссионеров. Но в оставшиеся дней пять или около того, в определённые, не совсем предсказуемые времена года, которые, кажется, определялись как по астрологии (в которую она безоговорочно верила), так и по церковному календарю, она шла в Гардекирхе, которая в те дни покровительствовала большому польскому сообществу в Вене, и здесь причитала на латыни и перебирала четки, ползая на коленях по каменной плите, пока не сдирала с них кожу, зажигала свечи и молилась перед иконами с рвением, которое сочли бы чрезмерным даже самые страстные индуисты. Это продолжалось около одного дня.
А затем она снова штурмовала матрасные пружины в уединённых гостиницах с той же бодрой чувственностью, что и раньше. Хотя время от времени религии удавалось немного просачиваться сквозь этот водонепроницаемый отсек и внедряться в другие стороны её жизни. Помню, как-то вечером, когда наша дружба только начиналась, так сказать, взбираясь в седло, я спросил осторожно, как только мог, принимает ли она... некоторые меры предосторожности. Такие вещи, конечно, ещё не обсуждались на людях, разве что проповедники в церквях клеймили некие «отвратительные процедуры».
Но даже в доброй старой Австрии лет десять назад или около того просвещённым слоям общества стали известны простые способы сильно снизить риск беременности. Мне нравились дети, и я хотел бы однажды стать отцом, но не сейчас и определённо не с женщиной, которая замужем за кем-то другим. Когда ей стало ясно значение моего вопроса, глаза её раскрылись в неподдельном ужасе, и она перекрестилась.
— Святая Матерь Божья и все святые, — сказала она, задыхаясь, — о чём ты меня просишь? Ты хочешь, чтобы я согрешила?
Так что последние недели года прошли в приятном тумане сексуального полуистощения. Но по мере приближения Нового года я говорил себе, подобно маленькой девочке из сказки, которая находит волшебный горшочек каши, что всё это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Пани Божена большую часть времени составляла восхитительную компанию, импульсивная и щедрая на милости. Но она также ожидала многого взамен, эмоционально и физически, и, хотя я делал всё что мог, но прошло меньше года после тяжёлого ранения и долгого периода восстановления, возможно, истощившего тело и дух даже больше, чем я думал. Достаточно сказать, что к Рождеству я чувствовал себя так, будто меня неделю варили, а затем отжали досуха.
Я также испытывал постоянный эмоциональный стресс, ведь мадам Грбич-Карпинска была очень взвинчена, хоть и сильна духом. Она колебалась между приступами мании величия, в течение которых утверждала, будто могла бы (если бы судьба поступила с ней менее жестоко) стать равной Мельбе или Йенни Линд, и периодами депрессии, во время которых она была ничто, никто и ниже брошенных собакам потрохов. Она была склонна к самым отвратительным и непредсказуемым переменам настроения и также находила удовольствие в скандалах, если чувствовала себя недостаточно в центре внимания. Как-то раз, помню, мы зашли в кафе на Пратере, и я встретил знакомую даму, Кати Мерицци, которая сидела за столом и ела мороженое с маленькой дочерью.
Фрау Кати была симпатичной женщиной безукоризненного достоинства: целомудренной, религиозной и в счастливом браке с восемнадцати лет с майором из полка моего брата. Пани Божена улыбнулась как тигрица и заговорила с явным польским акцентом, который обычно был не слишком навязчивым.
— Только представьте: очередная из брошенных любовниц Оттокара. В последнее время я натыкаюсь на них повсюду, — она наклонилась и понизила голос до оглушительного шепота. — Скажите, дорогая, когда он на вас последний раз влезал? А он довольно хорош в этом, да? Ну до чего ж красивая маленькая девочка. А отец - Оттокар? Да-да, мне кажется, у нее явно глаза Оттокара...
Это было почти семьдесят пять лет назад, но меня по-прежнему бросает в холодный пот, когда вспоминаю тот день: внезапная, мертвая тишина в кафе, сотня пар глаз уставилась на нас. Фрау Кати молча застыла с открытым от ужаса ртом и разрыдалась. Девочка спросила: “Мама, кто эта странная дама? Этот мужчина действительно мой папа?” Я отчаянно пытался вспомнить все, что читал когда-либо о самовозгорании, и задавался вопросом, что нужно, чтобы это случилось.
Наступил канун Нового года - праздник Св. Сильвестра, как мы его называли. Мы с Боженой отправились в отель «Кранц» на Нойер-маркт, где польские депутаты Рейхсрата устраивали новогодний вечер. Мы знали, что там будем в безопасности, поскольку поляки, как бы они ни ругались друг с другом, никогда не выдавали своих.
За десять минут до полуночи пани Божена куда-то испарилась. По мере приближения полуночи я отправился её искать. Вот сумасбродка! Она пропустит Новый Год. Улица была полна гуляк и пьяниц, дующих в рожки, бросающих ленты серпантина и толкающих полицейских или друг друга, провожая старый год. У входа в отель крупный мужчина избивал женщину, грубо обзывая её на сербском и тряся как грушу. Я хотел было вмешаться, а затем увидел кто это. Женщиной с растрёпанными волосами оказалась пани Божена, а мужчина был дородным, высоким, усатым типом из сельской местности - очевидно, сам Грбич из отдалённого Баната. Я колебался какое-то мгновение, раздумывая как поступить. Я обязан был её спасти.
Но, в конце концов, он её законный муж; а если разразится громкий скандал? Одного офицера суд чести уволил с военной службы после того, как тот вмешался в подобный конфликт, и муж положил руку на саблю, тем самым обязывая офицера немедленно убить наглеца (что у него как раз и не получилось), дабы смыть оскорбление, нанесенное офицерскому корпусу. Я в отчаянии огляделся по сторонам.
Срочно найти полицейского. Но не успел я пошевелиться, как подъехал фиакр, и Грбич затолкал Божену на заднее сиденье. Я закричал ей вслед, но дверь закрылась, и фиакр уехал. Чувствуя себя еще более ничтожным и бесполезным, чем когда-либо в жизни, я вернулся в отель, аккурат когда колокола собора и всех церквей города принялись отбивать полночь. Министр финансов Леон Риттер фон Билински забрался на стол и поднял бокал.
— Дамы и господа, дорогие австрийские поляки, давайте выпьем за то, чтобы новый год принёс мир и процветание каждому из нас, нашей дорогой польской родине, любимому императору и всем подданным нашей монархии. Дамы и господа, поприветствуем 1914 год.
Глава шестая
Дунайская флотилия
После того как в канун Нового года пани Божену внезапно похитил муж, меня ненадолго охватило уныние. Мало того, что я чувствовал себя неполноценным, поскольку не сумел вмешаться, мне ее не хватало.
Потому что даже несмотря на то, что она была весьма утомительна, её великодушие и энтузиазм более чем компенсировали частые периоды, когда она становилась несносной. Но получилось так, что у меня не оказалось времени погоревать о её отсутствии, ведь в третью неделю января меня вызвали в департамент военно-морского флота в Военном министерстве на Цолльамтштрассе для прохождения медкомиссии.
Второго приглашения мне не требовалось: я добровольно стал моряком, а за прошедший год только дважды бороздил морские просторы. Теперь я почти полностью выздоровел, а сухопутная жизнь уже начала надоедать. Я снова мечтал о вздымающейся под ногами палубе, о далеких голубых водах Адриатики или, может, даже о водах еще более голубых и далеких, если смогу заполучить назначение на корабль, отправляющийся к чужим берегам.
Морская авиация быстро развивалась, так что, кто знает? Может, скоро для опытных пилотов откроются вакансии на корабле, отправляющемся в Китай или Вест-Индию? Пытаясь снять напряжение в пострадавшей ноге, в дни перед медкомиссией я увлекся поднятием тяжестей и энергичными долгими прогулками.
Я пройду эту медкомиссию или сдохну. Результаты меня огорчили, как я и опасался: только категория А3. Теперь-то я понимаю, что тогда еще и года не прошло с тех пор, как я находился на волоске от деревянной ноги, и это вовсе не плохой результат. Но это означало (так мне сказали), что в обозримом будущем я к полетам не вернусь.
— Ничего личного, Прохазка, — сказал мне офицер, ответственный за назначения, — но неожиданно у нас оказалось пилотов больше, чем самолетов, так что категорию здоровья для пилотов подняли до А2. А также стоит еще принять в расчет, что вы в прошлом году угробили одну из новейших машин. Да-да, я знаю, в том нет вашей вины, но выглядит так, будто вам не везет. В любом случае, приходите на медкомиссию через год, посмотрим, что можно сделать.
— А что сейчас?
Мой собеседник поправил очки и взглянул на стопки бумаг.
— Да-а-а... что сейчас... Похоже, сейчас есть должность только на борту вашего старого корабля «Эрцгерцог Альбрехт».
Сердце у меня в груди внезапно чуть не остановилось.
— Доложитесь капитану, скажем... 23 февраля. Это сверхштатное назначение, но пока вы там, мы подберем что-нибудь еще.
С тяжелым сердцем я собрал чемоданы, попрощался с тётей и отправился на Южный вокзал, чтобы сесть на поезд до Полы. В назначенную дату, точно в восемь утра, я поднялся на борт линейного корабля «Эрцгерцог Альбрехт», чтобы доложиться вахтенному офицеру.
Я никогда не считал возврат к старому легким или приятным делом. Кают-компания достаточно тепло меня поприветствовала, но были и такие, кто втихомолку посмеивался. В каждой тюрьме есть те, кто будет свистеть и улюлюкать, когда сбежавшего на свободу обратно ведут в кандалах через ворота.
Помнится, мой бывший сосед по каюте линиеншиффслейтенант Кажала-Пиотровский особенно злорадствовал. Что удивительно, ведь я всегда считал его довольно слабым и глупым, но в основном вполне достойным субъектом. За едой не могло обойтись без прозрачного намека на мое недавнее быстрое вхождение в высшее общество и столь же быстрое изгнание из него: «Да, полагаю, что в придворных кругах все держат свои ножи и вилки именно так,» - и другие подобного рода шутки. Я изо всех сил старался не обращать на него внимания.
Однако больше всего удивил Старик, линиеншиффскапитан Блазиус Ловранич фон Ловраница. Я с уверенностью ждал неприятностей от этого упрямого, старого и придирчивого командира, ведь его совет об аэропланах я проигнорировал, после чего вернулся с поврежденной ногой, поджав хвост, продемонстрировав тем самым свою глупость. В первый вечер моего возвращения в кают-компанию он обратился ко мне на глазах других офицеров своим рокочущим, пронзительным голосом.
— Ну, Прохазка, вернулись к нам опять, как я погляжу? После случившегося, очевидно, что полеты не для вас.
Я стиснул зубы. Это наверняка превратится в публичное колесование, медленное и методичное в руках умелого палача, с каждым поворотом железного колеса мастерски демонстрируемое восхищенной толпе.
— Покорнейше докладываю, герр командир, что полеты как раз для меня. Просто мне изменила удача.
Он хмыкнул.
— Ну, со времени вашего отъезда я часто обдумывал то, что сказал во время нашей первой встречи. И понимаю, каким старым дураком я был. У меня по-прежнему есть сомнения относительно военно-морского применения самолета. Но, господи, я восхищаюсь силой вашего духа за попытку научиться им управлять. В конце концов, далеко бы мы ушли, спрашиваю я себя, если б никто и никогда не пробовал ничего нового? Все еще бултыхались бы в плоскодонках. И потом, я думаю о собственной легкомысленности в вашем возрасте. Нет, Прохазка, мне жаль, что это закончилось для вас плохо, и я действительно рад, что вы к нам вернулись. Проблема в том, что «Альбрехт» сейчас полностью укомплектован офицерами. Мы не можем вам особо ничего предложить кроме общих обязанностей.
Как оказалось, эти общие обязанности были обычной унылой мешаниной из работ, обычно возлагаемых на сверхштатных лейтенантов на борту линкоров: довольствие, отпуска, рассмотрение жалоб, организация уроков немецкого для кандидатов в старшины, помощь судовому хирургу с проекционным аппаратом на лекции по венерическим заболеваниям.
Я быстро смирился с тем, что болтался где-то между адом и раем корабельной жизни. Однако судьба решила, что еще до окончания недели меня изгонят в чистилище. Это произошло однажды утром в начале марта, сразу после восьми склянок, когда в кают-компании выдавали почту.
— Вот это для вас, Прохазка, похоже на официальное.
Это был темно-желтый конверт из Военного министерства. Пока я вскрывал его, среди собравшихся офицеров повисла тишина, тишина, которая окружает человека, роющегося в кадке с отрубями, где прячут рождественские подарки на ярмарке.
В конце концов я вытащил приз.
Военное министерство Австро-Венгрии (Военно-морской департамент)
26/II/14 Вена
Линиеншиффслейтенанту Оттокару Прохазке, в настоящее время служащему на борту «Эрцгерцога Альбрехта», надлежит безотлагательно прибыть в 8 утра 7 марта сего года на борт...
Дальше лист загибался. Я открыл его и уставился в ужасе.
...речного монитора «Тиса», в настоящее время базирующегося на военно-морской базе Будапешта, и доложить о прибытии капитану корабля корветтенкапитану Адольфу фон Полтлу.
Весомая должность – первый помощник капитана. Не шелохнувшись, я стоял молча, будто проглотил аршин, обескураженный и лишенный дара речи. Дунайская флотилия. Адольф фон Полтл. Ужас, полный кошмар.
— В чем дело, старина Прохазка, плохие новости?
Кто-то подобрал письмо, выпавшее из моих онемевших пальцев. Собравшиеся офицеры хором застонали:
— О боже, нет!... Полтл... «Тиса» ... бедолага!
Потом стенание превратилось в устойчивое, ритмичное скандирование. Полагаю, это один из самых основных человеческих инстинктов - по-видимому, бессердечный, но на самом деле довольно понятный. Когда соплеменник поражен молнией или сожран львом, выжившие должны обратить всё в шутку, поздравив себя с тем, что, по крайней мере, на сей раз это их не коснулось. Вскоре через всю кают-компанию выстроилась процессия. Склонив плечи и надев поверх голов кители, офицеры исполняли роль римских плакальщиц, стонущих хором, пока Кажала-Пиотровский наигрывал на фортепьяно в кают-компании “Похоронный марш” Шопена.
— Ад-ди фон Полтл и Дунайская флотилия, Ад-ди фон Полтл и Дунайская флотилия...
Внезапно открылась дверь. Это был первый помощник капитана, фрегаттенкапитан барон Моравец-Пеллигрини фон Тройеншверт.
— Какого дьявола вы себе позволяете, болваны? — взревел он. Все застыли по стойке «смирно». — К чему весь этот шум?
Кто-то протянул ему моё письмо.
— С вашего позволения, герр фрегаттенкапитан...
Он взял письмо и поправил монокль. Потом медленно закрыл глаза и тяжело сглотнул. Так он простоял несколько мгновений. Затем без единого слова тоже натянул китель на голову и присоединился к процессии, поскольку скорбящие снова начали громко топать по кают-компании.
Даже прибытие на мой новый корабль, казалось, было несчастливым. Я добрался до военно-морской базы Будапешта в назначенный день и час - но лишь обнаружил, что имперский и королевский речной монитор «Тиса» ушел два дня назад, направившись вниз по течению, к городу Панчова в пятистах километрах отсюда, у слияния Дуная и Тимиша вниз по реке от Белграда.
Итак, я отправился следующим речным пароходом, чтобы догнать свой корабль. Но когда на следующий день с багажом в руке ступил на пристань в Панчове, то я узнал, что «Тиса» опаздывает: фактически, исчезла без следа. Не в силах понять, как трехсотпятидесятитонный военный корабль с шестьюдесятью членами экипажа на борту мог исчезнуть на реке в сердце Европы в мирное время, я остановился в Панчове и стал ждать. Два дня спустя канцелярия военно-морской базы получила телеграмму: «Тиса» села на песчаную отмель приблизительно в сорока километрах вверх по одноименной реке, среди заброшенных венгерских равнин и болот, и просит для спасения выслать на подмогу буксир. Буксир в должное время уже отправили, а мне опять оставалось только ждать.
Я считал военно-морскую базу Будапешта довольно тоскливым местом, но её отделение в Панчове оказалось неизмеримо хуже: прибежище нерадивости и халатности, так часто наблюдаемые мной несколько лет спустя на берегу реки Парана в Парагвае. Тогда имперскую и королевскую Дунайскую флотилию многие называли австро-венгерским военно-морским эквивалентом Сибири. Большинство моряков монархии, как офицеры, так и рядовые матросы, попали в кригсмарине, потому что сами выбрали морскую стезю.
В монархии только три призывных округа из ста восьми направляли призывников непосредственно в военно-морской флот. Всем остальным, желающим пройти военную службу во флоте, приходилось вызываться добровольцами. А так как срок воинской повинности во флоте равнялся четырем годам по сравнению с двумя в пехоте, никто в здравом уме добровольно этого не хотел, если только впоследствии не намеревался делать карьеру на море.
Итак, это означало, что почти все в имперском и королевском флоте расценивали назначение во флот «утиного пруда» вроде Дунайской флотилии как нечто близкое к профессиональному позору: моряков вместо голубых морей отправляли ползать вверх-вниз по сточной канаве, даже если подразумеваемой канавой был широкий и часто вероломный Дунай.
Полагаю, что действительно самой разумной идеей было бы передать дунайские мониторы, которые действительно немногим больше, чем плавучие батареи, австро-венгерской армии, под чьим командованием они, так или иначе, пали бы во время войны.
Но бюрократические умы рассуждают совсем по-другому. Кораблю нужны матросы, поэтому портовые города типа Вены, Линца и Будапешта частенько видывали нелепого вида группы матросов в темно-синих мундирах, которые шатаются по улицам и выглядят столь же нелепо и неуместно, как Францисканские монахи в борделе.
Из трех дней пребывания на станции в Панчове я главным образом помню то, как однажды, около десяти часов утра, я сидел в домишке канцелярии, гадал, когда же, черт побери, прибудет мой корабль, и коротал мучительные часы, заполняя несколько бланков в четырёх экземплярах.
Комендант станции сидел за столом на другой стороне комнаты, подперев подбородок ладонями, неподвижно уставившись на лежащий на столе чистый лист бумаги. Дряхлый корветтенкапитан, посланный сюда (как он сказывал) на шесть месяцев в 1879 году, а затем позабытый австро-венгерским военным министерством - выпал через трещины в половицах чиновничьей памяти. Я ещё раз украдкой посмотрел на него. По-прежнему неподвижен. «Ведь не мог же он умереть, сидя в кресле?» — подумал я.
Потом, как у игуаны в зоопарке, которая, по-вашему мнению, наверняка чучело, веко слегка дрогнуло. Я вернулся к своим бланкам. Дверь открылась, и внутрь зашёл жизнерадостный, красивый и молодой линиеншиффслейтенант примерно моего возраста, с дымящейся сигарой и в лихо надвинутой на затылок фуражке.
Он поприветствовал коменданта, который и бровью не повёл при его появлении, повесил фуражку и саблю на крюк за дверью и с выражением невыразимой скуки сел за стол. Минут пять ничего не происходило, пока большая навозная муха с гудением не влетела через открытое окно. Лейтенант с интересом пронаблюдал за ней. Наконец она обосновалась на его столе и стала потирать лапки. С бесконечной осторожностью, чтобы не напугать её, он взял карандаш и медленно, аккуратно занёс его в воздухе прямо над насекомым.
Осторожно, бесшумно, миллиметр за миллиметром карандаш опускался плоским концом вниз. Муха явно почувствовала подвох, но казалось, приросла к столу и, по-видимому, не могла решить (когда чётко увидела опускающийся карандаш), в какую сторону спасаться. Карандаш завис в сантиметре от насекомого, еще потирающего лапки, но уже обреченного, а затем - хлоп! И все кончено. Лейтенант сгреб трупик на листок формуляра, встал и отнес коменданту станции, затем церемонно положил на стол перед ним, отступил назад и, ловко отсалютовав, иронично спросил:
— Герр комендант, позвольте поинтересоваться, есть ли еще какие-нибудь дела на сегодня?
Я сразу решил (не могу сказать, почему), что мне нравится этот молодой человек. Позже мы разговорились, и я узнал, что его зовут Рихард Зейферт, и мы оба направлены на заблудшую «Тису». Как оказалось, Зейферт должен был заменить второго лейтенанта, которого в прошлом месяце списали на берег по причине острой неврастении, а я - занять место старшего офицера, уже достигшего ранних стадий нервного расстройства. Но несмотря на эти жутковатые предзнаменования, я вдруг почувствовал, что вместе с Зейфертом жизнь может оказаться и не столь уж кошмарной.
Рихард происходил из старинной семьи мореходов - его отец дослужился до адмирала, а сейчас, выйдя на пенсию, проживал в Граце, но отношение молодого Зейферта к флотской дисциплине было весьма гибким, а отношение к жизни - крайне простым. Я расспросил его о нашем новом капитане - одиозном корветтенкапитане Адольфе фон Полтле.
— Боже милостивый! Все именно так, как о нём рассказывают. А на самом деле хуже, если судить по тому, что я слышал о нём в последнее время. Мой старик говорил, что его сослали сюда, в Дунайскую флотилию, потому что он представляет слишком большую опасность, находясь на борту морского корабля, не говоря уж о командовании им. Он полный кретин, его единственный талант - успешное прохождение аттестационных комиссий. Где бы он ни был, начальники рекомендовали его на повышение, лишь бы избавиться. Говорят... — и тут нас прервал отдаленный рев корабельной сирены выше по течению, — ну, — продолжил Зейферт, — похоже, это прибывает наш поезд. Лучше выйдем наружу и встретим судьбу как мужчины. «Аве цезарь, идущие на смерть...» и все такое. Нет смысла откладывать неотвратимое.
И мы вышли на деревянную пристань. Вверх по реке на могучем просторе великого Дуная показались два корабля - буксир и нечто, напоминавшее жестянку из-под печенья верхом на доске, в центре которой торчала дымящая труба. По мере того как корабль пыхтел по направлению к нам, из трубы вырывалось облако дыма, подобное извержению вулкана - самое необычное из всех, что я когда-либо видел: не плюмаж серого угольного дыма, а огромные аморфные черные сгустки, висящие в небе и соединяющиеся меж собой тонкими лентами - как будто тушью капнули в стакан воды.
В какое-то мгновение дым полностью исчез, а через несколько секунд вылетело чёрное грибовидное облако, яростное и бурлящее, вместе с языком пламени.
— Святая матерь божья, — произнес Зейферт, — что за игры, чёрт возьми, затеяли кочегары? Они очищают котлы или как?
Оба корабля уже приближались к пристани. Мы видели, как на носу суетилась команда «Тисы», готовясь к швартовке. Двойной рев корабельной сирены возвестил о том, что монитор собирается подойти к пристани. И тут мы почувствовали: что-то не так. Зейферт уставился на приближающийся корабль, который, похоже, и не собирался снижать скорость.
— Быстрее, Прохазка, бежим!
Мы нырнули с причала в поисках укрытия, и тут «Тиса» врезалась в него сбоку, монитор скользил мимо, а швартовочная партия отчаянно пыталась заарканить проносящиеся мимо кнехты. Наконец, один канат удалось набросить, и огромную секцию настила с оглушительным треском оторвало от пристани, а монитор резко затормозил, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов вокруг привязанного уже носа - как огромная рыбина, пойманная на леску - взбивая перед собой воду, пока уже другим бортом не врезался в причал ниже по течению.
На борту началась дикая кутерьма, матросы попрыгали на пристань, чтобы понадежнее пришвартовать корабль. Капитан буксира, стоя у себя на мостике, прикрыл глаза рукой и грустно качал головой. Наконец, после двадцати минут суеты и криков, речной монитор «Тиса» причалил (более или менее) к полуразрушенной теперь пристани.
Спустили сходни, раздался свист боцманской дудки, и тучный, пучеглазый коротышка с усами как у Франца-Фердинанда дерганной походкой сошел на пристань. Мы приготовились встретить широко известного корветтенкапитана Адольфа фон Полтла. Если всё пройдет гладко, наше знакомство с новым капитаном на пристани Панчове этим утром, несомненно, задаст тон будущим взаимоотношениям. Мы с Зейфертом подошли ближе и ловко отдали честь, чтобы доложить о прибытии.
Приветствие осталось без ответа: вместо этого шея фон Полтла от ярости покрылась пурпурными пятнами, а глаза выпучились еще сильнее. Он раздулся, подобно огромной жабе, так что китель чуть не лопнул.
— Будьте прокляты, вы, пара свиней! — завопил он. — Вы отдаете честь или от мух отмахиваетесь? А ну назад, и на этот раз сделайте всё по уставу!
Так что мы отошли на шаг назад и снова сделали это идеально синхронно, взметнув руки к козырькам фуражек столь чётко, что наши запястья громко хрустнули. Под конец нам предстояло ещё пять попыток отдать честь, прежде чем фон Полтл остался доволен.
Потом он молча смотрел на нас какое-то время. Наконец он заговорил. Голос поначалу имел угрожающий оттенок, но затем поднялся до яростного крика.
— И где, скажите на милость, вы шлялись пять дней?
Как временный первый помощник капитана, я рискнул ответить:
— Покорно докладываю, герр капитан, что, согласно нашим приказам о назначении, я должен был доложиться о прибытии на борт на базе военно-морского флота в Будапеште седьмого числа, а шиффслейтенант Зейферт - здесь, в Панчове, пятого, но в день моего приезда в Будапешт корабль уже отправился в плавание, а когда мы оба прибыли сюда...
— Молчать, когда разговариваете со мной! Опоздание на пять дней - месяц без увольнения на берег. Abtreten sofort! [25]
Так что следующие четыре недели мы провели на борту корабля. Или, точнее сказать, однажды вечером мы с Зейфертом ускользнули на берег, пока Полтл спал в своей каюте - но после десятиминутной прогулки по городу Панчова решили, что с таким же успехом могли и остаться на борту.
В офицерской среде австро-венгерской армии, по словам моего брата Антона, постоянно спорили о том, какой из бесчисленных гарнизонных городков больше всего соответствовал титулу «императорская, королевская и апостольская задница Дунайской монархии». Выбор, в конце концов, обычно сводился к местечку Радовцы в Буковине - области столь бедной и удаленной, что никто в Вене толком не знал, где это, и городку Мостар в Герцеговине, который мог похвастаться в качестве достопримечательностей зловонным и липким субтропическим климатом и блохами, способными вступить в схватку со взрослой кошкой.
Но если поискать вершину провинциального убожества имперского и королевского флота, лучше чем Панчова не сыщешь. Правда, в городе была железная дорога, но на станции останавливались лишь несколько поездов. А зачем? Всего две грязных улицы, обветшалая гостиница, единственный магазин и пара распивочных со сливовицей.
Месяц заточения на борту вынудил меня досконально ознакомиться со своим кораблем, хотя знакомиться-то было особо не с чем. «Тиса» - всего лишь речная версия того класса кораблей (теперь уже давно исчезнувших из флотов всего мира), известных как мониторы - по имени их праотца, американского корабля «Монитор» времен Гражданской войны в США: некое подобие бронированного парового плота с минимальной осадкой, отсутствием места для жизни и единственной башней, вооруженной парочкой тяжелых орудий. Наша «Тиса» именно так и начинала году в 1870-м, но с тех пор её модернизировали, и теперь из башни торчала одна 150-миллиметровая пушка, а в двух бортовых казематах разместили две гаубицы армейского образца.
В центре корабля торчала единственная тонкая труба. Также имелась боевая рубка, которой надлежало пользоваться для управления кораблем в бою, складывающаяся мачта с бронированным «вороньим гнездом» на верхушке, а на шлюпбалках с каждой стороны висело по две шлюпки: странные плоскодонные и изогнутые гребные ялики, используемые по всему Дунаю, всегда казавшиеся мне гигантскими деревянными бананами с обрезанными концами.
Вот и всё. Год за годом в течение всего предвоенного европейского золотого периода «Тиса» каждый апрель после зимовки в Будапеште отправлялась на юг - патрулировать Дунай и Саву, от боснийского Брода до теснины «Железные Ворота» - вдоль границы Австро-Венгрии и Сербии. А каждый декабрь пыхтела обратно вверх по реке, борясь с осенним половодьем, чтобы снова встать на зимовку в Будапеште до того, как река замерзнет.
Корабль погружался в воду всего на метр, а из воды выступал и того меньше, так что можете себе представить, жизнь под палубой была весьма некомфортной, поскольку высоты явно не хватало. Я не так уж и высок, но даже мне приходилось по утрам бриться, высунув голову и плечи из светового люка и удерживая зеркальце на комингсе.
Австрийские мониторы поздней постройки располагали вполне удобоваримыми условиями размещения, но не наша «Тиса»... Всё запихнули под бронированную палубу, а сама суть бронированных палуб - иметь как можно меньше отверстий для световых люков, проходов и вентиляционных шахт. Когда палило солнце, мы растягивали навесы, но даже при этом лучи южного венгерского солнца настолько раскаляли металл и в каютах становилось так душно, что хоть топор вешай. Всё это порядком утомляло, но помимо этого я вскоре открыл, что экипаж почти полностью состоял из этнических венгров.
Императорский и королевский австро-венгерский флот был подлинно многонациональной силой. По географическим причинам крупнейшей единой национальной группой среди моряков были хорваты. Если не точно пропорционально их численности в империи в целом, то не слишком далеко от этого были представлены десять других национальностей двуединой монархии, которые распределялись на корабли независимо от родного языка.
Официальным командным языком в австро-венгерских кригсмарине являлся немецкий, но на практике использовался странный сленг, известный как «маринешпрахе» или «лингва ди бордо», состоящий из сочной смеси немецкого, итальянского и хорватского языков. В австро-венгерском флоте имелся единственный признак благополучия на корабле: когда экипаж в беспорядке садился обедать, без оглядки на национальности, и за столом плечом к плечу размещался чешский электрик, хорватский минер и итальянский телеграфист.
В теории, речные мониторы комплектовались таким же образом, несмотря на то, что базировались в Венгерском королевстве. Венгры составляли около десяти процентов от общей численности военно-морского флота, поэтому можно было ожидать, что примерно каждый десятый человек экипажа «Тисы» окажется венгром. Но не тут-то было.
При всех своих недостатках австро-венгерская Дунайская флотилия все еще оставалась полезной военной силой, которую Будапешт хотел бы иметь под рукой, особенно если, как казалось, в скором времени эрцгерцог Франц-Фердинанд станет императором и осуществит свою давнюю угрозу урезать Венгерское королевство.
Так что спустя несколько лет в результате фальшивых должностных перемещений и прочих хитрых манипуляций военно-морской базы в Будапеште оказалось, что из всей команды корабля единственными не-венграми являлись капитан, Зейферт (оба - австрийские немцы), я (австро-чех), боцман Йованович (хорват) и старший механик, мозг которого оказался столь разъеден годами употребления сливовицы, что никто уже не мог с уверенностью сказать, кто он вообще.
Что касается меня, то я не сомневался, что если Франц-Фердинанд сядет на трон и возникнут неприятности между Веной и Будапештом, все мы быстро окажемся на дне реки с перерезанным горлом и кирпичами в карманах. Это означало, что одной из основных наших проблем на борту «Тисы» было общение между офицерами и экипажем. Потому как даже если немецкий технически являлся языком приказов, я вскоре узнал, что обращение немца к мадьяру часто заканчивалось бессмысленным взглядом и ответом «Nem tudom» - «я не понимаю», или в лучшем случае ответом на немецком, даже не ломаном, а до неузнаваемости искажённом.
За исключением (как ни странно) еженедельного построения для выдачи жалования, когда команда вдруг мстительно начинала «тудомить», а Святой Дух чудесным образом делал полиглотами тех моряков, которые считали, что из их жалования удержали хоть на крейцер больше положенного. Я говорил на семи из одиннадцати официальных языков монархии, но венгерский никак мне не давался. Язык приятный на слух, но, казалось, преднамеренно составленный так, чтобы максимально усложнить его изучение.
Нашим спасителем стал Йованович, который, будучи хорватом, вырос на границе и поверхностно знал венгерский еще со школы. Прекрасный человек, удивительно, как он очутился среди этого сборища отбросов на борту «Тисы». Я узнал, что пару лет назад на летних флотских маневрах он потерял торпеду, и его сослали в Дунайскую флотилию в наказание.
Весной 1914 года «Тису» никак нельзя было назвать счастливым кораблем: любой мог это сказать, глядя на облако дыма из её трубы, необычную смесь клубов дыма и сгустков копоти, возвестившую о прибытии монитора в то утро, когда мы стояли на пристани в Панчове. С кораблями, работавшими на угле, всегда так: любой может многое сказать о том, что происходит внутри, по дымному автографу за кормой. За кораблем, находящемся в хороших руках, оставалась ровная серая струя дыма; корабль же, страдающий несварением, будет производить рваные клубы - значит, кочегары работают спустя рукава, давление пара упало, капитан орет им вниз в переговорную трубу, а те предпринимают ответные меры, внезапно открывая дверцы топок, чтобы порыв тяги воспламенил сажу и та вырвалась из трубы, в надежде, что какая-то её часть осядет на мостике и парадном белом мундире капитана.
Достаточно заметить, что дымовое облако «Тисы» было одним из самых необычных, что я когда-либо видел: свидетельство не только напряженных отношений между мостиком и кочегаркой, но и зарождающегося мятежа. Эти плохие отношения имеют не слишком большое значение на борту морского корабля. Море - опасное место, и даже если офицеры и команда от всего сердца терпеть друг друга не могут, остается определенная общая заинтересованность не погибнуть на тонущем корабле. На речном судне - совсем другое дело.
Но тут мы ошибались, как я теперь понимаю, потому что с тяжелым бронированным корпусом и минимальным запасом плавучести «Тиса», конечно, пошла бы ко дну как топор, получив пробоину при столкновении, и утянула бы нас под воду. Более того, Дунай (как я вскоре обнаружил) - коварная река для навигации. В Банат-Воеводине река была широкой, окруженной болотами и разделялась на неисчислимые протоки, вьющиеся между низкими, болотистыми островами, заросшими ольхой и ивой. На реке преобладало сильное течение, особенно весной, когда тающие снега Центральной Европы стекали в Черное море; и осенью, после дождей; но также и в промежутке, когда период ливней на том или другом притоке вызывал непредсказуемые внезапные наводнения ниже по течению.
Часто в середине ночи слышалось, как корабль стонет и скрипит у пристани, когда вода поднималась почти поверх красно-белых полосатых отметок уровня воды на берегу, унося в извилистом потоке шоколадного цвета с корнями вырванные деревья, дохлых животных и даже целые крестьянские хижины.
В начале апреля разразилось одно из таких наводнений, которое принесло Зейферту и мне неожиданное спасение от монотонной жизни на борту. Мы обнаружили «его» однажды утром - застрявшее в ветвях дерева на берегу, около пристани Панчовы, красиво построенное, очень дорогое и почти неповрежденное красное каноэ в индейском стиле из древесины кедра.
На нем отсутствовало название и хотя бы малейшие признаки того, откуда оно взялось, поэтому мы посчитали его своим законным призом и следующие две недели в свободное время восстанавливали и повторно лакировали небольшое суденышко, а в это время Полтл штудировал австро-венгерский военный устав в поисках статей, позволяющих это запретить.
Мне кажется, что, возможно, через какое-то время я преодолею свое отвращение к службе на речном корабле и примусь за работу с желанием приобрести навыки речного лоцмана, которые сильно отличаются от океанской навигации. Мешало этому только постоянное присутствие капитана, который ходил с важным видом по мостику или сидел в своей каюте, просматривая служебные инструкции и продумывая новые способы, как нас всех притеснить. По правде, офицер вроде фон Полтла мог появиться только в стране, полвека прожившей в состоянии мира. Я думаю, что, даже если старые австро-венгерские кригсмарине располагали небольшим флотом и постоянно нуждались в деньгах, то офицеры и матросы в целом были превосходными, а стандарты судовождения и навигации не хуже, чем у ведущих мировых держав.
Но во всех службах есть исключения. Я был довольно хорошо знаком с королевским флотом в эпоху эдвардианского расцвета, когда тот, без сомнения, являлся самым опытным и профессиональным флотом на земле. Но даже тогда до меня доходили слухи об опасных безумцах, которые так или иначе (никто даже не мог сказать как) умудрялись успешно продвинуться по службе, пока не оказывались на такой должности, где могли нанести реальный ущерб.
Некоторые люди придерживаются теории «чертового дурака» - теории военно-морской некомпетентности. Но со своей стороны, многие годы наблюдая и размышляя над этим, я пришел к мнению, что по-настоящему фатальные идиоты в этом мире - люди средних умственных способностей, когда в них есть какой-то роковой недостаток характера (вроде перемкнуло что-то в голове), превращающий даже интеллект в потенциальное орудие убийства. Как правило, эти люди весьма умны на экзаменах (но не так умны, как они думают) и полностью лишены непостижимого качества, называемого здравым смыслом.
Они также неизменно энергичны. Глупые люди в целом довольно ленивы, а большинство умных лентяев можно уговорами или запугиванием заставить сделать работу как следует, если на них сильно надавить. Действительно опасны трудолюбивые маньяки, люди, которые сочетают в себе полную некомпетентность с неиссякаемым, собачьим рвением. Адольф фон Полтл относился именно к таким.
Как казалось, его путь в имперские и королевские кригсмарине был извилистым: сначала в качестве сержанта в артиллерии, пока необъяснимо как снаряженная двойным зарядом гаубица не взорвалась и не уничтожила половину его батареи, потом в крепостной артиллерии, этом кладбище для всего живого, затем в морской артиллерии (Австрия не имела морских пехотинцев, но солдаты часто служили в море в качестве артиллеристов), и, наконец, на флоте. Когда мы встретились, ему было уже около пятидесяти восьми. Напыщенный маленький тиран с выпученными глазами, чья жизнь целиком и полностью соответствовала требованиям военного устава Австро-Венгрии (всем четырнадцати томам) как жизнь ортодоксального еврея подчиняется Талмуду и Торе.
По словам корветтенкапитана фон Полтла (он всегда использовал таинственным образом приобретенное «фон» как неотъемлемую часть своей фамилии, австрийцы же считают это довольно вульгарной северо-германской привычкой) не было ни одной проблемы во всей вселенной - ни медицинской, ни философской, ни экономической, ни религиозной, ни даже математической, которую невозможно было бы решить, обратившись к служебным инструкциям. И если в уставе о ней не упоминалось, то и проблемой это не считается. Он знал наизусть каждый параграф, каждую строчку, каждое слово. На самом деле, если бы «Наставление о правилах ношения военной формы» разрешало, он бы носил миниатюрную копию устава как талисман на веревочке вокруг лба.
Неженатый, но воздержанный в отношениях с женщинами и личных привычках, он вёл жизнь, которую другие едва ли сочли человеческой. Но ему казалось (как, полагаю, и монаху), что удовлетворены все его потребности, и главная из них - потребность созерцать бесконечное совершенство устава. А когда он этого не делал, то мучил окружающих попытками привести их действия в соответствие с уставом. Вдобавок он был посредственным офицером. На самом деле обычное прилагательное «посредственный» едва ли отражает удивительную бездарность этого человека.
Корень проблемы, насколько я мог понять, крылся в том, что даже если он каким-то образом дорос до звания корветтенкапитана на флоте великой державы, и одна его половина была ослеплена собственным совершенством, то другая прекрасно осознавала, что он абсолютно некомпетентный офицер, объект жалости и презрения окружающих.
Поэтому, чтобы укрепить высокое мнение о себе, для него крайне важной и первоочередной задачей являлось всегда и во всем быть правым, независимо от ничтожности вопроса. Так, например, когда он прочно посадил корабль на мель в сорока километрах вверх по Тисе (куда заплыл, ошибочно приняв её за Тимиш), то настаивал, что именно так и намеревался поступить, и просидел там два дня безо всякой связи с внешним миром, любуясь видами. Думаю, «Тиса» до сих пор там бы и находилась, если бы у несчастного первого помощника капитана не случился период просветления и он не прокрался под покровом темноты на берег, где протопал двадцать километров до ближайшей почты и телеграфировал в Панчову, что нужна помощь.
Вот в этом, думаю, женская глупость отличается от мужской: даже если женщины и более склонны к безрассудству, они также гораздо быстрее возвращаются в нормальное состояние, как будто у них внутри имеется какой-то встроенный механизм саморегуляции.
Что же касается мужчин, то на протяжении этого мрачного века я часто видел, что в определенный момент психоз начинает подпитывать сам себя, и действуя как полный придурок, человек погружается в это состояние все глубже и глубже, пока не наступает катастрофа. Не думаю, что кто-либо из нас, как офицеров, так и матросов, боялся плавать на борту «Эрцгерцога Альбрехта» под командованием свирепого старого солдафона Блазиуса Ловранича.
Мы могли бояться его вспышек гнева и в узком кругу ворчать на строгость, но все признавали его неотъемлемую справедливость и чувствовали себя в безопасности, доверяя жизни его профессиональным навыкам. Однако Адольф фон Полтл был совсем другим, и все, кто его знал, не только не любили его, но и презирали. Он орал, неистовствовал, угрожал всем вокруг самыми жестокими наказаниями, но в этом не было смысла: дисциплина на борту «Тисы» оставалась удивительно слабой. Даже самые жестокие тираны рассчитывают на определенную степень соучастия со стороны своих жертв, но, конечно, этого практически не наблюдалось на нижней палубе «Тисы», где капитана обычно называли “pulykakakas” - «индюк» на венгерском - и запас терпения уже почти иссяк.
Возможно, находясь в Поле, где под рукой силы военной полиции и флотская тюрьма, он стал бы Иваном Грозным. Но здесь, в глубине венгерских равнин, где он мог положиться только на себя, его угрозы по большей части оставались без внимания. В глазах Полтла матросы являлись не более чем сбродом невежественных и ненадёжных крестьян-мадьяр; что касается нас, молодых офицеров, то он считал нас полными идиотами, которые ничего не знают об управлении кораблём. Однако его собственные представления в этой области были, мягко говоря, своеобразными.
Я, например, полагаю, что большинство школьников знает: на повороте реки скорость течения на внешней стороне полуокружности намного выше, чем на внутренней, прямо как когда колонна солдат заворачивает за угол. Из этого следует, что корабль, идущий против течения, намного легче будет плыть, если штурман проложит курс как раз по внутренним сторонам поворотов, конечно, следя за мелями и принимая меры, чтобы не навалиться на другое судно.
Но Полтл такими знаниями не обладал и руководствовался правилами дорожного движения - кораблям следует держаться справа, так как он полагал, будто Дунай на всем своем протяжении - это двухколейная железная дорога, по которой корабли бегают вверх и вниз, каждый по своей стороне: от города Сулин в устье Дуная и вверх по течению, вплоть до Ульма, что в Германии.
Паровые котлы и машины «Тисы» уже порядком износились: она едва могла выжать восемь узлов или сохранять эту скорость больше часа, поэтому наблюдающие с берега иногда становились свидетелями забавных сцен. Так, одним примечательным весенним утром на излучине чуть пониже крепости Петвардайн «Тисе» потребовалось три часа и тринадцать тонн угля, чтобы пропыхтеть двести метров вверх по реке, отчаянно сражаясь с течением, пока котлы зловеще стонали, а Полтл от ярости аж пританцовывал на мостике, угрожая публично четвертовать мокрых от пота кочегаров, если те не смогут повысить давление.
Точно так же он не мог или не хотел понять, что правильный способ подвести корабль с паровым двигателем (равно как и гребной ялик) к пристани, двигаясь по течению, это не лететь на него на всех парах, да еще и по течению, пытаясь зацепиться, проносясь мимо. Нужно спуститься ниже по течению, развернуть нос корабля на сто восемьдесят градусов, подняться уже против течения, уравнивая его скорость и собственную скорость монитора, достигнув точного баланса, когда опытный рулевой может причалить двадцатитонный полубаркас к круто сваренному яйцу, не раздавив его (и, кстати, я видел, как это делается).
У Полтла не было времени для подобных тонкостей - всякий раз мы на полной скорости летели вниз по течению, и каждая раздолбанная пристань, казалось, только усиливает его решимость продолжать попытки. В иных случаях излишнее почтение к правилам дорожного движения сдерживалось тем, что Полтл, казалось, абсолютно не в состоянии ни привязать карту к окрестностям (для него реальностью была карта, а не река, которую она отображала), ни распознать навигационные буи, отмечающие фарватер. Он также настаивал, когда мы плыли вдоль границы с Сербией ниже Белграда, что мы на боевой службе, а следовательно, в соответствии с уставом, обязаны управлять кораблем из боевой рубки, а не с мостика на её вершине.
Это достаточно неудобно и в дневное время, когда стоишь внутри душной стальной трубы и выглядываешь через узкую смотровую щель; ночью же мы с тем же успехом могли вести корабль, сунув головы в оцинкованные вёдра. Когда я нёс вахту, кто-нибудь из команды стоял под носовой частью палубы, просовывая голову через палубный иллюминатор и выкрикивая мне, куда плыть.
Тем не менее, как-то ночью в середине марта это едва не довело до беды, когда мы плыли вниз по Саве неподалеку от Землина и уничтожили плавучую водяную мельницу. На Дунае в те дни еще встречались такие: две баржи, вставшие на якорь там, где течение быстрее всего, между ними подвешено водяное колесо, а над колесом - деревянный навес для жерновов. К счастью для мельников, «Тиса» ударила как раз между баржами. Само колесо и навес превратились в щепки, но обе баржи остались на плаву. Жестоко разбуженные мельники осыпали нас проклятиями и угрозами, пока мы не исчезли в темноте.
Через неделю мы врезались в железнодорожный мост в Ужвидеке, а потом однажды ночью в конце месяца налетели на мель у сербского берега, выше одного из белградских фортов. К счастью для нас, ночь была пасмурной. Мы с Йовановичем сели в шлюпку и погребли на австрийский берег, где в конце концов нашли таможенный пост с телефоном и вызвали буксир из Панчовы, которому удалось вытащить нас с мели незадолго до рассвета. Если бы не эта подмога, боюсь даже представить, какие дипломатические осложнения могли бы последовать.
К счастью, несмотря на целую череду навигационных ошибок мы плавали на борту прочного корабля со стальной пятисантиметровой броней. По крайней мере, когда мы врезались в кого-то, другой стороне обычно приходилось хуже. Говоря профессиональным языком, моё положение весной 1914 года казалось хуже некуда: старший офицер у неизлечимого идиота капитана, с экипажем из недовольных мадьяр на борту плавучей батареи, ползающей вверх-вниз по болотистой реке в самом сердце Европы.
Но худшая, намного худшая, участь ждала впереди, поскольку шестнадцатого апреля 1914 года, находясь в Панчове, «Тиса» получила приказ немедленно проследовать к Нойградитцу - около сорока километров вниз по реке. Приказы обязывали помочь местным жандармам и таможенникам в пресечении контрабанды скота.
Глава седьмая
Свиная война
Причиной нашей внезапной трансформации в эрзац-таможенников явилась традиционная для Центральной Европы забава - война за свиней.
Разведение и продажа свиней всегда имела большое значение для сербских крестьян, которые, как правило, выращивали в год хотя бы одного поросёнка для продажи, чтобы заплатить налоги. Австро-Венгрия же являлась крупнейшим потребителем свинины, так что в обычные времена торговля домашним скотом через Дунай и Саву носила оживлённый характер; визжащие стада и поезда с сербскими свиньями совершали путешествие в один конец на скотобойни и колбасные фабрики двуединой монархии. Как следствие, если Австро-Венгрия хотела надавить на свою проблемную южную соседку, ей лишь требовалось запретить ввоз свиней на некоторое время под каким-нибудь предлогом - обычно из-за мнимой вспышки свиной лихорадки.
Самая длительная и ожесточённая война за свиней произошла в 1908 году, после того как Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину, и экономика Сербии была полностью задушена из-за запрета торговли. В конце концов всё закончилось, но Сербия преуспела в Балканской войне 1913 года; Будапешт обеспокоился возможными беспорядками (большинство жителей южной Венгрии были этническими сербами), и теперь осталась лишь частичная свиная блокада, относившаяся только к границе Сербии с Венгерским королевством.
«Тиса» включилась в нее, поскольку продавцы свиней из Сербии и венгерские владельцы колбасных фабрик, по-прежнему горящие желанием торговать друг с другом несмотря на закрытие границ, в последнее время стали переправлять скот через Дунай лодками, под прикрытием темноты. Таможня и жандармерия пытались их остановить, и кораблю кригсмарине следовало показать, кто здесь хозяин, и прийти на выручку, если шайки контрабандистов (а по имеющимся сведениям они были вооружены и хорошо организованы) перейдут к жестким действиям. Для нас это выглядело развлечением.
Мы причалили, а точнее, ударились о пристань Нойградитца (или, по-сербски, Нови-Града) семнадцатого апреля после полудня. Предполагалось, что мы останемся здесь до дальнейших распоряжений. Нас уже дожидался груз бункерного угля, а припасы должны были присылать еженедельно с пароходом из Панчовы, но в то же время, в случае если они не поступали, мы были вольны хоть вешаться. После швартовки мы с Зейфертом стояли на мостике «Тисы» и молча оглядывались. Панчова и сама по себе - страшная дыра, но это место...
С тем же успехом мы могли бы находиться на берегах Конго. Помимо пристани, у которой мы расположились, единственным признаком присутствия людей была старая турецкая пограничная крепость Семандрия на сербском берегу, находившаяся примерно в двенадцати километрах выше по течению. Её длинные стены и многочисленные башни венчали низкий утёс над берегом, до которого не могли дотянуться волны. Больше здесь не было ничего: ни дома, ни лодки, ни даже дыма из трубы какой-нибудь хижины - только вода, небо и небольшие лесистые острова везде, насколько хватало глаз.
— Бог мой... — сказал Зейферт, — тоска, зелёная тоска...
Как только кончилась вахта, и мы смогли улизнуть от бульдожьего взгляда нашего любимого капитана, мы с Зейфертом решили отправиться на разведку. Нарядились в лучшие мундиры для выхода, укомплектованные саблями и черно-желтыми шелковыми кушаками, всё как полагается, и двинулись на поиски того, что Зейферт оптимистично называл «цивилизацией». Единственным способом ориентации во время этого квеста стал деревянный знак у причала, гласящий лишь «К городу» и указывающий в сторону ухабистой дороги, ведущей через заливной луг. Мы отправились по ней. Прошло полчаса, потом час, но по-прежнему ни следа человека.
Я знал, что города вдоль Дуная построены по большей части на расстоянии от реки из-за наводнений, но все же... Наконец, на бобовом поле я увидел крестьянку с мотыгой за работой; на её голове был типичный для сербской деревни белый платок. Я свободно говорил на хорватском, похожем на сербский, только с латинской письменностью, так что окликнул её.
— Dobar dan gospodja [26]. Не могли бы вы сказать, как пройти в Нови-Град?
Она поднялась и сначала рассматривала нас молча, а потом повернулась, наклонилась и задрала юбку, открыв бледный и дряблый зад. Шлепнула по нему со словами «Поцелуй мою белую задницу» и вернулась к работе, как ни в чем не бывало.
— Что ж, — сказал Зейферт, — следует ли нам из этого предположить, что гражданское население этих краёв не очень хорошо относится к императорским и королевским вооруженным силам?
Мы продолжили утомительную ходьбу. Впрочем, ещё через двадцать минут местность стала плавно подниматься, и мы увидели дымовую трубу фабрики над тополями, а затем и купол церкви.
— А, должно быть, это оно, - сказал Зейферт. — По крайней мере, человеческое поселение.
Наконец мы дошли до свежевыкрашенного указателя возле дороги. Он был красно-бело-зелёным, с надписью «Шекерешфелегихаза» жирными чёрными буквами. Мы остановились, глядя на него с недоумением.
— Забавно, — произнес Зейферт, почесав голову, — мы явно не могли уйти так далеко. Так где же этот Нойградитц или Нови-Град, или как там его называют?
Несомненно, мы находились на краю какого-то поселения, поэтому решили войти в него и уточнить дорогу. Городишко, в котором мы оказались, по сравнению с Панчовой выглядел так же, как Аддис-Абеба по сравнению с Парижем. Мне кажется, что даже в Польше я никогда не видел ничего более запущенного - это была просто груда обветшалых лачуг, притворяющихся городом. Мы пробирались среди вонючих луж и мусорных куч по омерзительной трясине, зовущейся главной улицей. Единственными приличными сооружениями оказались полуразрушенная сербская православная церковь, двухэтажное здание (закрытое) - вероятно, административное, и пара «кафе», на самом деле - не более чем распивочных самого низкого пошиба. На одном из них, как я помню, имелась вывеска и на кириллице, и на латинице: кафе «Метрополь».
Под ней как раз шла драчка нескольких завсегдатаев, сербских крестьян с черными, пропитыми лицами, наскакивающих друг на друга с лопатами и вилами. Один уже валялся в грязи, ударом лопаты ему расшибли ухо и пол-лица. Потом драчуны увидели нас, и потасовка прекратилась. Несколько уличных зевак, большинство — явно идиоты или повредившиеся умом от выпивки и болезней, заметили наше появление в городе и теперь ковыляли к нам с угрожающим видом. Я почувствовал приближение беды.
— Зейферт, давай отсюда выбираться. Они хотят...
Зейферт внезапно рухнул - его сбило с ног нечто, что я поначалу принял за футбольный мяч, а на самом деле это оказалось полуразложившейся свиной головой, брошенной кем-то из толпы. Он поднялся, и мы припустили оттуда под градом камней и нечистот. У нас при себе имелись сабли, но я понимал, что любая попытка отразить атаку приведет к тому, что нас просто-напросто линчуют. Мы не имели представления о том, куда бежим, лишь бы подальше от преследователей. Вдруг мы очутились перед открытыми воротами. Мы инстинктивно нырнули в них и оказались у внушительного и довольно приличного дома, за ним находилась фабрика, чью дымовую трубу мы уже видели. Дверь была открыта, и мы метнулись туда, захлопнули ее за собой и остановились в прохладной прихожей, пытаясь отдышаться.
До сих пор я считал резиденцию наследника в Конопиште самым вульгарно и избыточно обставленным жилищем в мире. Но по сравнению с этим домом Конопиште был просто образцом аскетизма. Прихожую переполняли статуи, картины, шторы, рыцари в доспехах, позолота, кружева и парча, причем с полным отсутствием вкуса и настолько беспощадно плотно, что найти место, куда поставить ногу, и добраться до противоположного конца помещения было равносильно подвигу. Это зрелище вышибло из наших легких тот воздух, что еще остался после бегства от толпы. Но меня ждал гораздо больший сюрприз. Раздался собачий лай, и на мраморной лестнице появились два скалящихся и рычащих мастифа, готовых броситься в атаку. Мы замерли по стойке смирно, чтобы не дать им причин для нападения. Откуда-то сверху раздался женский голос:
— Кто там?
На верхней лестничной площадке показалась и сама женщина, и мы на некоторое время молча застыли, уставившись друг на друга. Это была пани Божена.
— Оттокар! Матерь божья! Святые угодники! Откуда ты здесь взялся?
— Божена... Прости, я объяснюсь... Только снаружи целая толпа...
— Бога ради, немедленно уходи! Скоро вернется муж. Он убьет нас обоих, если обнаружит тебя здесь!
Она сбежала вниз по лестнице и стала подталкивать нас к двери, потом услышала шум снаружи, поскольку толпа ввалилась во двор. Божена распахнула окно и прокричала по-сербски:
— Прочь отсюда, вшивые отбросы!
— Чтоб ты сдохла, польская шлюха!
— Убирайтесь, а не то...
Фраза осталась недосказанной, потому что снаружи прогремели выстрелы. Толпа мигом очистила двор, и появились девять или десять королевских венгерских жандармов, у некоторых еще дымились винтовки; другие осыпали наших преследователей ударами сабель плашмя. Меньше чем за минуту улица опустела, спокойствие было восстановлено. Божена вытолкала нас из дома и захлопнула дверь прямо перед носом. Мы тут же увидели молодого вахмистра венгерской жандармерии. Тот немного говорил по-немецки.
— Озверелые сербские скоты, — сказал он. — Здесь их нужно держать в ежовых рукавицах. Приношу свои извинения, господа, но боюсь, что чужаки получают в этом городе неласковый прием, в особенности если носят мундир.
— Вахмистр, — попросил я, — не будете ли так любезны объяснить, где мы находимся? Мы искали место под названием Нойградитц, или Нови-Град по-сербски, а оказались в Шекерешфелегихазе. Не могли бы вы указать нужное направление?
— Нет нужды, герр лейтенант, — засмеялся он. — Вы нашли то, что искали. Думаю, некоторые жители до сих пор называют его Нови-Градом на своем грубом местном диалекте. Но это королевство Венгрия, и власти в Будапеште собираются поднять в этом крае культурный уровень. Так что теперь город называется Шекерешфелегихаза.
Мы поблагодарили сержанта, и он велел двум солдатам сопроводить нас к кафе «Метрополь», чтобы пропустить по стаканчику, а потом обратно на корабль, к причалу. В кафе - выщербленной глинобитной хижине с земляным полом - я навел кое-какие справки у хмурого хозяина-еврея.
— О да, — сообщил он, — ваш брат-офицер в этих местах непопулярен, с тех пор как закрыли границу. Колбасная фабрика старого Грбича вверх по улице — единственное место работы в городе, и когда ее пришлось закрыть, всех просто выкинули вон. Да вы счастливчики, что смогли унести ноги, вот что я вам скажу.
— Грбич, говорите...?
— Да, Трифко Грбич. Он тут главный, — он понизил голос. — Самый скупой старый ублюдок, когда-либо живший на свете. Когда его фабрика работает, вонь стоит на весь город. Он просто разводил свиней, пока не придумал делать сосиски прямо здесь, а не в Будапеште. Потом сколотил состояние, построил большой дом вверх по улице и женился на польской актрисе. Неплохая штучка, но они вечно ссорятся, и она терпеть не может сербов и цыган. Большую часть времени она проводит в Вене или Будапеште, тратит его деньги, но когда возвращается, разговаривает только с мадьярами.
— А тут много мадьяр?
Он нашёл это ужасно смешным.
— Недостаточно, чтобы и курятник занять. Тут только чиновники, таможенники да жандармы. Но скажу я вам: эти свиньи выжимают из нас последние соки, а что насчёт их «Шекерешфелегихазы», так пусть подавятся. Даже дети в начальной школе теперь учат их ужасный язык, — он плюнул на пол. — Чтоб они все от сифилиса сгнили.
Мы вернулись на корабль, где Зейферт отбыл двухнедельный арест, потому что на его форме остались разводы из-за удара свиной головы. Но, по крайней мере, мы узнали, что Нойградитц/Нови-Град/Шекерешфелегихазу лучше бы обходить стороной. Но Божена... В голове вертелись всякие мысли. Как, чёрт возьми, мне следует поступить?
На борту «Тисы» будничные заботы жизни корабельной отвлекли меня от сложностей в личной. И эти заботы, и раньше довольно неприятные, теперь стали еще хуже — ведь для команды выход в город оказался под запретом, ради их же безопасности. Если и в Панчове особо нечем было заняться, то на берегах вблизи Нойградитца развлечения попросту не существовали. Вероятность принять участие в стычке выглядела весьма отдаленной — в этом месяце свиная контрабанда вошла в фазу затишья — и вскоре мы оказались перед лицом серьезных проблем с состоянием морального духа экипажа.
Команда, и прежде упрямая и неразговорчивая, стала быстро погружаться в угрюмое молчание, так что я даже побаивался мятежа, который мог возникнуть после очередной дисциплинарной выволочки капитана. Полтл недавно обнаружил, что параграф двести семьдесят три четвертого тома армейского устава («Разрешенные в свободное время развлечения на борту корабля императорского королевского флота») запрещает как свист, так и игру в карты на деньги, а разрешает лишь «благопристойную музыку и танцы». Сейчас одно из немногих развлечений, доступных состоящей в основном из мадьяр команде, заключалось в том, чтобы сидеть в сумерках в своей каюте с открытыми люками, когда на темнеющих берегах жужжат насекомые, и прислушиваться к безумной и меланхоличной мелодии чардаша, который танцуют на палубе под завывание скрипки и аккордеона, а также неразборчивые слова, пропетые под отбиваемый ладонями ритм.
Для нижней палубы это был один из немногих дозволенных способов выпустить пар, и вот как-то утром Полтл провозгласил на построении, что отныне чардаш, «бесноватые конвульсии, годящиеся скорее для животных, чем для моряков корабля, где говорят по-немецки», так он это назвал, будет под запретом на том основании, что в уставе указано на «благопристойность» музыки. Это, как я опасался, могло оказаться последней каплей. Теперь произнесенные по-немецки команды, и ранее весьма медленно и неохотно выполнявшиеся, встречались пустым взглядом и ответом по-венгерски. Однажды я даже наблюдал, как Полтл лично проорал матросу приказ перед строем, а тот лишь повернулся к соседу с невозмутимостью санитара психбольницы и спросил: «И о чем толкует этот старый осел?».
Проблему взаимодействия с экипажем неожиданно решил Зейферт, причем настолько гениальным образом, что я до сих пор мысленно присвистываю, стоит об этом подумать. Это случилось как-то утром около семи, когда мы завтракали в стальной каморке — кают-компании. Все люки были открыты, а над рекой еще стелился легкий утренний туман, но солнце поднималось по небу, и под палубой уже становилось душновато. Завтрак был как всегда отвратительным: кок Барчай, запертый в душегубке камбуза, похоже, находил садистское удовольствие в том, чтобы подавать офицерам кошмарные блюда. Вдруг Зейферт встал, высунул голову в люк и оглядел палубу, убедившись, что нас не подсушивают. Потом снова сел.
— Я знаю, что делать, Прохазка. Будем управлять кораблём по-английски.
Я поперхнулся кофе и молча уставился на него. Он начал сходить с ума, как его предшественники?
— Зейферт, что творится у тебя в голове? Что значит «управлять кораблём по-английски»?
— Вот что я предлагаю: будем отдавать команды на борту по-английски, а не по-немецки, ну только когда рядом нет Старика, конечно же.
— Но... как?
— Ну смотри: мы оба закончили Морскую академию, так что свободно говорим по-английски, верно? Ну и вот, последние несколько дней я прислушивался к разговорам и обнаружил, что почти все тоже на нем говорят или хотя бы понимают. За последние несколько лет в Венгрии стало модно эмигрировать в Америку — и когда я смотрю на свалки вроде Нойградитца, то этому не удивляюсь — так что в каждой захолустной деревеньке устраивают вечерние курсы для потенциальных эмигрантов. А насчёт Йовановича, я считаю, что он довольно сносно говорит по-английски после двух лет работы палубным матросом на борту британского барка, до вступления в военно-морской флот. Спрашивается, что может быть проще? Давай попробуем: по крайней мере, хуже уже не станет.
И вот я, Зейферт и Йованович вступили с командой в тайный сговор — когда вблизи не видно было капитана, речной монитор императорского королевского флота «Тиса» неофициально становился англоговорящим. Поначалу я скептически относился к эксперименту, но к моему удивлению это неплохо сработало. Конечно, мы говорили не на книжном английском Шоу, Голсуорси или редакторской колонки «Таймс», а уж тем более не на английском Шекспира. Но это был нейтральный язык, не обладающий для венгров скрытым и оскорбительным подтекстом, как немецкий, напоминавший звук той плетки, которой палачи Гайнау [27] полосовали женщин в крепости Арад во время Венгерского восстания 1849 года.
К тому же, стоило команде прийти в себя после первоначального изумления, подобные упражнения своей нелепостью оказались созвучны мрачному венгерскому чувству юмора. По прошествии недели стало ясно, что абсурдный эксперимент сработал. Я даже стал замечать, что среди экипажа зарождаются по отношению к нам с Зейфертом зачатки привязанности и чувства товарищества. Хотя раньше мы были чужаками и к тому же офицерами, теперь на нижней палубе нас считали просто молодыми людьми, не очень-то и отличными от остальных матросов, к тому же участвующими вместе с ними в заговоре с целью одурачить презираемого капитана.
Наверное, самое странное проявление нового командного духа произошло в начале мая, когда Зейферт на утреннем построении объявил, что с приходом лета (и раз уж мы обречены скучать у пустынных речных берегов) он лично будет проводить занятия по самой знаменитой английской игре — крикету, с которой близко познакомился, проводя летние отпуска у своих кузенов в Вустершире, в деревеньке неподалеку от Малверна. Строй с вытаращенными глазами взирал, как он достал мяч, набор столбиков и две биты, которые изготовил из прибрежной ивы корабельный плотник. Обучение началось на плоском лугу неподалеку от пристани, матросы разделились на четыре команды по одиннадцать человек, а я выступал арбитром.
Поначалу игра была шумной и хаотичной. Подозреваю, что и сам Зейферт имел смутные представления о правилах, что до меня, то признаюсь честно — я усвоил их по ходу. Не уверен, признали бы эту игру крикетом в Мэрилбонском крикетном клубе в Лондоне, но я получал истинное удовольствие и прекрасно проводил время. Венгры тоже по всей видимости наслаждались игрой, и через неделю стали по-своему достаточно умелыми игроками. В итоге на матчи делались немалые денежные ставки, а игроков пытались подкупить. Я часто думаю, что крикет мог бы иметь успех в Венгрии, если бы не вмешательство Мировой войны.
Так или иначе, к середине мая дисциплина и моральный дух на борту «Тисы» улучшились до неузнаваемости. Команда отлично справлялась со своими обязанностями и, казалось, начала гордиться своим кораблём, и даже блюда кока Барчая стали съедобными. Мы втроём — я, Зейферт и капитан — однажды ели в кают-компании весьма похвальный гуляш.
— Твердая рука, воинский устав и старая добрая австрийская дисциплина, вот что вам нужно с этими непокорными мадьярскими свиньями. Покажите строптивому отребью, что тевтоны всегда ими правили и будут править. Вот ведь стоило только натянуть вожжи и установить более строгие правила дисциплины, как даже стряпня Барчая улучшилась.
Хорошо, что через час или около того его не было на мостике, и он не мог нас услышать.
— Десять градусов налево, рулевой, потом держи ровно.
— Дэсять крядюсов налеево, сэр-лейтнант, подом држи рофно.
Зейферт повернулся ко мне.
— Знаешь, старина Прохазка, эти парни, может, и мадьяры и всё такое, но они вовсе не такие плохие, когда узнаешь их получше.
— И близко не такие. А ты не знал?
Впрочем, вскоре у меня появились более личные заботы. Случилось это однажды вечером возле пристани Нойградитца. Я стоял в сгущающихся сумерках и курил сигарету. Было начало мая, но комары дунайских болот уже активизировались - огромные твари размером с долгоножку и укусом, подобным уколу штопальной иглы. Дым помогал держать их на расстоянии. Внезапно я услышал шорох в кустах у тропинки.
— Эй! Оттокар! — Я обернулся, это была пани Божена. — Сюда, быстрее. Мне нужно с тобой поговорить.
Я оглянулся, чтобы убедиться, что нас никто не заметил; и проскользнул за деревянный сарай, служивший билетной кассой, когда подходили речные пароходы.
— Божена, какого чёрта...
Она немедленно обвила меня руками.
— Ох, Оттокар, любимый. Ты так далеко забрался, чтобы отыскать свою маленькую Боженочку... Сколько времени ты пытался выяснить, где я?
— Я... ну... понимаешь, это...
— Прости, дорогой, мне пришлось тебя выгнать, когда ты пришёл в дом, чтобы меня найти. Но если бы мой муж, эта свинья, узнал, что ты здесь, он убил бы нас обоих. Он уже застрелил одного человека лишь за то, что тот на меня посмотрел. Но сейчас он ничего не подозревает, так что если мы будем осторожны... — она крепко сжала меня в объятиях. Она была сильной женщиной, и мои рёбра громко хрустнули. — Ах, дорогой мой, храбрый герр лейтенант, как много одиноких ночей провела твоя маленькая Божена за последние месяцы, страстно желая оказаться в твоих объятиях, тоскуя по тебе, лежащем между её грудями и целующем...
— Божена, прости, но я не могу.
Она удивлённо отшатнулась и пару мгновений смотрела на меня в замешательстве.
— В каком смысле не можешь? Раньше ты всегда мог.
— Нет, дело не в этом. Я всё ещё могу. Я имею в виду... что, ну, теперь всё не так, как раньше...
— Что за ерунду ты несёшь? Ты проделал весь путь из Вены просто, чтобы сказать мне это?
— Я, по правде говоря, здесь вовсе не для того, чтобы тебя увидеть. Понимаешь... Нет, я, конечно, рад увидеть тебя и всё такое, но...
На лице её отразился испуг. Беда приближалась.
— Что? Ты хочешь сказать... что больше не любишь свою маленькую Божену...? — Она перевела дух для приступа истерики, как пловец, который собирается нырнуть. Началось всё с утробного вопля. — О-о-ох! Он больше меня не любит... Дева Мария... Святые угодники... За какие грехи, ох, за какие грехи? Ох, нелегкая женская доля... — Она безудержно зарыдала. — Вы, подлые мужчины, все вы одинаковы: пользуетесь нашими телами для развлечения, а потом бросаете, как старые тряпки... — её голос повысился до визга. — Как старые тряпки! Негодяй! Предатель! Лицемер! Ты такой же гнусный и подлый, как и остальные...
Её крепкое тело сотрясали рыдания. Я мог бы, пожалуй, заметить, будь я достаточно бездушен, что если я использовал её тело для развлечения, то и она неплохо попользовалась мной. Но испугался, что её рыдания привлекут внимание на борту корабля; а кроме того, меня всегда огорчал вид женщины в слезах. И с неприятным чувством, что втягиваю себя в ещё большую беду, я обнял её и прижал голову к своей груди, чтобы успокоить — нелёгкий подвиг, должен заметить, учитывая, что мы с ней были одного роста.
— Ну-ну, дорогая. Прости, я не это имел в виду. Я могу всё объяснить, если ты просто меня выслушаешь.
— Животное! Дрянь! Обманщик!
— Ну правда, Божена: просто успокойся, и я всё объясню. Я здесь по службе, потому что военно-морской флот отправил сюда мой корабль.
— К дьяволу твою службу. Какое мне дело до твоего несчастного флота?
— Пожалуйста, будь разумной. Мы можем встречаться (при этих словах я пал духом, хотя я еще не понимал почему)... но нам придётся быть осторожными. Я не могу навещать тебя в Нойградитце из-за твоего мужа и горожан, а ты не можешь навещать меня здесь, потому что мы на военной службе и капитан запрещает пускать на борт гражданских и даже не позволяет им находиться возле пристани... Она подняла взгляд, заплаканная, но слегка улыбающаяся. Лицо её просияло.
— Тогда ладно. Знаешь что? Встретимся завтра утром в десять на маленькой пристани выше по течению; отсюда её не видно, но она сразу за следующим изгибом. Мы отправимся на небольшой лодке к островку на реке. Он действительно красивый. Я часто там плаваю, — она лукаво взглянула на меня. — Иногда забываю взять купальный костюм. Конечно, завтра я буду хорошей девочкой и возьму его, и, надеюсь, ты тоже не забудешь взять свой. Но если забудешь, это не страшно: никто нас там не увидит. До завтра, дорогой Оттокар, au revoir [28].
На следующее утро мы встретились и поплыли к острову, как и договаривались. У меня как раз был выходной, так что проблем с капитаном не было: я сказал ему, что собираюсь уйти на день, чтобы в одиночестве изучить шестой том устава. Полтл явно был доволен.
— Здорово, Прохазка, великолепно. Самое лучшее чтиво для молодого офицера вроде вас. — Он раздулся от важности. — Осмелюсь сказать, что я сегодня прилежно штудировал служебные инструкции. Убедился, что вы должным образом одеты.
Мундир все еще был в порядке, когда я уходил. Мы довольно точно направили ялик в укромный маленький ручей сбоку от лесистого, травянистого островка, лежащего далеко от берега реки. Но это долго не продлилось. Полагаю, оглядываясь назад, что одно из немногих преимуществ офицера императорского дома Австрии, одетого целый день в яркий императорский мундир, было то, что вдвойне приятней снять его — это как самому заново родиться. Но я весьма тщательно сложил его и обернул вокруг шестого тома служебных инструкций перед тем, как мы пошли плавать с песчаного маленького пляжа. А потом он превратился в удобную подушку под ее голову, когда мы обнимались на заросшей травой солнечной поляне. Пели птицы, и где-то вдали еле слышно свистели речные пароходы.
Стоял замечательный денёк, все заботы отброшены в сторону, как и одежда. Вечером, после моего возвращения, Полтл поинтересовался, как мои успехи в изучении шестого тома служебных инструкций. Я самым покорным образом ответил, что нахожу его очень полезным. Его распирало от гордости, так что китель затрещал по швам, и он чуть не замурлыкал от удовлетворения.
— Отлично. Я всегда говорю, что военный устав полезен в любой мыслимой ситуации, в которой может оказаться австрийский офицер.
Мы с Боженой встречались почти каждый день в течение следующих нескольких недель, и в это время, по крайней мере, она казалась вполне уравновешенной: ни одного из постоянных, утомительных эмоциональных всплесков, которые так измучили меня в Вене. Зейферт был заинтригован. Наконец однажды утром он поймал меня за завтраком, когда Полтл находился в своей каюте.
— Ну, Прохазка, ты тёртый калач, и это уж точно. Каждый свободный час ты куда-то исчезаешь. И эти забавные записочки, которые продолжают тебе носить деревенские мальчишки. Скажу, что думаю, дорогой мой Прохазка: думаю, ты нашел себе где-то деревенскую девку и тайком кувыркаешься с ней в стоге сена.
Я сглотнул.
— Что ж, если и так, Зейферт, тебе-то что?
— Да ничего, — засмеялся он. — Я абсолютно уверен, что на самом деле ты ведешь монашескую жизнь самоотречения и спишь в боксерских перчатках, с благоговением думая лишь о Богородице. Но если такое и возможно, мне любопытно, не найдется ли у нее сестры или парочки сестер? Город, конечно, далеко, но даже если бы он был ближе, мне сказали, что в местном борделе цены кусаются и можно подцепить заразу. Скажи, Прохазка, она брюнетка или блондинка?
— Блондинка... Заткнись же, проклятье. Это совсем не то... Я хочу сказать...
— Давай, продолжай!
Еще одно свидание с пани Боженой было назначено на следующую среду, когда я был свободен во второй половине дня. Но когда я уже собирался смениться с дежурства, на причале звякнул велосипедный звонок. Это оказался почтальон с телеграммой из Панчовы. Нам предписывалось быть наготове и этой ночью оказать помощь местным таможенникам и жандармам, которые получили сведения о том, что примерно в восьми километрах ниже Нойградитца шайка контрабандистов намеревается переправить через реку большое стадо свиней.
Нам сообщили, что свиней соберут на сербском берегу и погрузят на баржи, которые спустятся вниз по течению и пристанут к Граховской отоке — низменному лесистому островку посреди реки, а уже в предрассветные часы их переправят на австрийский берег. Остров выбрали отчасти потому, что его густой подлесок служил отличным укрытием, а отчасти потому, что не было уверенности, австрийская это территория или сербская — русло реки сильно изменилось с восемнадцатого века, когда та являлась границей между Австрией и Османской империей. План явно состоял в том, чтобы одурачить таможенников, заставив тех думать, будто как только они увидят собирающихся на сербском берегу свиней, животных высадят прямо напротив.
Власти планировали устроить засаду на контрабандистов прямо на острове, и наша роль в этой операции заключалась в вооруженной поддержке в случае, если дойдет до серьезной стычки. «Тиса» немедленно разведет пары и проследует вверх по течению в направлении Панчовы, чтобы ввести контрабандистов в заблуждение. Затем, когда стемнеет, она вернется и встанет на якорь между двумя островами пониже Нойградитца. Две шлюпки с вооруженными матросами, одна под командованием Зейферта, а вторая — под моим, с обмотанными тряпками веслами (чтобы заглушить плеск воды), подгребут ближе к Граховской отоке и станут ждать сигнала жандармов. В целом это выглядело как забавная потеха: долгожданная смена корабельной рутины с едва достаточным уровнем опасности и секретности, чтобы совсем уж не походить на ночной пикник.
Мы сделали все нужные приготовления. По образцу 1914 года, разумеется: белые кители с золотым галуном на поле боя уже остались в прошлом, но до десанта спецназовцев еще было далеко. Но мы понимали, что темнота, тишина и внезапность — наше самое лучшее оружие, так что тщательно подготовились к этой необычной операции. Шестнадцать матросов сняли свою чудесную бело-синюю форму и натянули старые армейские рубашки и тому подобное. Ботинки заменили кедами на резиновой подошве или несколькими парами шерстяных чулок. Лица оставались проблемой, пока Йовановичу не пришла в голову блестящая мысль смешать сажу из топки с льняным маслом. Мое собственное обмундирование состояло из кед, старых флотских штанов, когда-то купленного в Англии темно-синего рыбацкого свитера и шерстяной кепки. Я вооружился пистолетом Штейра и швартовочным крюком, половина матросов взяла винтовки Манлихера, а другая половина — пистолеты и деревянные ручки от саперных лопаток.
Должен сказать, собравшись на квартердеке «Тисы» в свете наполовину закрытой облаками луны, выглядели мы как настоящие пираты: шестнадцать молодых венгров превратились из одетых с иголочки моряков в нечто похожее на шайку гайдуков [29] и бетиаров [30] — своих предков. В воздухе висело почти осязаемое напряжение. Жизнь в Нойградитце была невыносимо скучной, несмотря на матчи по крикету, и любое новое занятие с радостью приветствовалось. По широким ухмылкам я также почувствовал, что перспектива разбить местным жителям несколько голов им не так уж отвратительна. Венгры и сербы никогда друг друга не любили.
Во время приготовлений капитан имел до странности отсутствующий вид. На закате он удалился к себе в каюту, когда мы собрались уже спуститься вниз по реке, и оставался там, вероятно, листая армейский устав в поисках инструкций об организации ночных атак на шайки свиных контрабандистов. Если он занимался именно этим, то, похоже, ему не сопутствовала удача. Тем лучше, решил я, по крайней мере, старый осел не будет стоять на пути. Потом, около часа ночи, когда мы грузились в две шлюпки, он вдруг появился на палубе и при виде сцены, представшей перед ним в приглушенном свете фонаря, выпучил глаза от изумления.
— Га... гу... грррр... — В конце концов он обрел голос, — божежтымой-матерьбожья-чертпобери! — завопил он. — Герр шиффслейтенант, объясните, во имя Господа и Пресвятой Девы, что это? Кто эти мерзкие чернолицые ублюдки? Что означает эта выходка? Прохазка, Зейферт... Который из вас Зейферт? Под трибунал, обоих!
Я шагнул вперед и отдал честь со всей возможной невозмутимостью.
— Докладываю, что отряд к высадке готов, все в сборе, герр командир.
Мне показалось, что его чуть удар не хватил.
— Готовы и в сборе? Что значит готовы и в сборе? В жизни не видел группу менее готовых и собранных людей! Да вы не хуже меня знаете, что говорится в «Наставлении о правилах ношения военной формы» во время десантных операций в этой климатической зоне, наглец! Бело-синяя форма, краги и ранцы, легкий походный порядок, бутылка с водой и штык у левого бедра, саперный инструмент — у правого, двести патронов в подсумке, офицеры и сержанты с соответствующими рангу саблями, перед каждым отрядом свыше десяти человек — горнист и знаменосец. Где знаменосец? Отвечайте, ГДЕ ЗНАМЕНОСЕЦ?! Прохазка, клянусь, я отдам вас под трибунал за эту выходку. А теперь отведите людей вниз и не возвращайтесь, пока они не будут экипированы как положено морякам, а не трубочистам! Получите пять лет исправительных работ в крепостной тюрьме, или меня зовут не фон Полтл...
Что ж, приказ есть приказ, в особенности если исходит от капитана корабля. С этим мерзким клоуном надо что-то делать, и срочно, а не то он испоганит всю операцию. Внезапно мной овладело безумное чувство — сейчас или никогда, будь что будет. Я ответил по-английски.
— Простите, капитан, я вас не понимаю.
Он умолк и озадаченно уставился на меня. Как я и подозревал, он владел только немецким. Потом он ответил, но слабым запинающимся голосом, тоном человека, который уверен, что всё это — просто дурной сон.
— Was bedeutet «не панимайю»? Прохазка, bist du ganz verrückt oder so [31]?
— Я сказал «Простите, я вас не понимаю». Забыл немецкий, да и все равно на борту мы пользуемся английским, так ведь?
Я повернулся к собравшемуся десантному отряду - матросы явно получали удовольствие от происходящего. Тьму над рекой с жужжащим комарьем осветили шестнадцать белеющих ухмылок, и все хором ответили:
— Да, мы тоже не понимаем. Мы все - славные мадьяры, не говорить немецкий!
— Простите, капитан, — сказал Зейферт, — мы как раз хотели завести переводчика, разве вы не знали? Ну ладно, старина Прохазка, разве нам уже не пора?
— Как скажешь. Отряд, у лодок становись!
Полтл беспомощно стоял, что-то бормоча, как человек, только что переживший сердечный приступ. Пока отряд грузился в две спущенные на воду шлюпки, он лишь бубнил себе под нос, будто перебирая четки:
— Арестовать... взять под стражу... в кандалы... схватите их и уведите в тюрьму...
Мы не обращали на него внимания. Я знал, что в следующие несколько дней нам придется дорого за это заплатить, поскольку механизм флотской дисциплины был непреклонен. По меньшей мере, нас ждет трибунал и официальное расследование. Но в то мгновение мне было плевать: имела значение лишь стоящая перед нами задача.
Мы молча поплыли к Граховской отоке почти в полной темноте: взошла луна, но большую часть времени ее заслоняли густые тучи. Весла бесшумно несли нас по течению, чтобы сделать гребки тише уключины проложили паклей. Около половины третьего мы услышали вдалеке звук, который ни с чем не спутать: свиной визг. Я повернулся к Йовановичу, рулевому шлюпки.
— Похоже, таможенники были правы, — прошептал я. — Велите матросам подготовиться, остров в сотне метров от нас.
Из-за облаков выглянула луна и осветила мрачный лесистый силуэт впереди. Потом я услышал легкий всплеск за кормой. Я обернулся. Нас пыталась нагнать маленькая лодка. Ну ладно, решил я, сначала высажу людей, а потом разберусь с этими, кто бы это ни был. Наша шлюпка мягко стукнулась о берег острова.
— А сейчас, — тихо произнес я, — сходите на берег и ждите, а потом следуйте за мной. Не используйте огнестрельное оружие без необходимости.
Я снова повернулся и вытащил пистолет. Маленькая лодка почти нас догнала, сидящий в ней человек лихорадочно греб, разбрызгивая воду и тяжело дыша.
— Стой, или буду стрелять! — приказал я как можно спокойней.
Лодка продолжила движение, пока не уткнулась в берег рядом с нами. Это было наше каноэ, а на веслах сидел Полтл. Он встал и крикнул:
— Это ваш капитан, моряки! Я поведу вас... — он попытался спрыгнуть на берег раньше остальных, но не рассчитал и с плеском приземлился по пояс в воду. Но это не охладило его пыл, Полтл выбрался на берег, спотыкаясь о корни ольхи и отряхиваясь. — Вперед, моряки, за мной!
Я вытаращил глаза от ужаса.
— Йованович, бога ради, остановите его! Нас услышат. Старый осел испортит всю операцию!
Мы выбрались на берег и последовали за капитаном, чтобы схватить его и заткнуть рот кляпом, если потребуется. Он снова повернулся к нам.
— Я сказал вперед, за мной, трусливые мадьярские псы!
Я обратил внимание, что его белый китель ярко выделялся под бледным светом луны. Наверняка это заметил не только я. Где-то впереди, из-за деревьев, раздался громкий хлопок и вспышка, и Полтл покачнулся и упал, схватившись за грудь. И тут же по всему острову началась стрельба.
— Вперед! — крикнул Зейферт, и десантный отряд «Тисы» с громкими криками ринулся вперед, в подлесок. Последовали ответные крики и перестрелка. Пока где-то поблизости в панике визжали свиньи, мы с Йовановичем бросились к капитану.
— Герр капитан, с вами все в порядке? Куда ранило?
Полтл попытался подняться.
— Мои ноги... они меня не слушаются... я ничего не чувствую...
— Что случилось, герр лейтенант?
— Я думаю, Йованович, что его ранило в позвоночник, вот сюда, — я расстегнул китель и ощупал спину капитана. Когда я вытащил руки, они были липкими от крови, — давайте вытащим его отсюда, найдем что-нибудь плоское, на что можно его положить.
Земля под ногами была мокрой и засыпана валежником.
— Сюда, герр лейтенант. Здесь баржа, полная свиней. Должно быть, её спрятали под деревьями.
Я побежал взглянуть. Трудно что-либо разглядеть при свете маскировочного фонаря, но я увидел деревянную баржу с двумя-тремя десятками мельтешащих и хрюкающими свиней. Похоже, что над животными, недалеко от кормы, возвышалась низкая рулевая платформа. По крайней мере, что-то плоское и сухое. Мы потащили Полтла туда — ноги волочились за ним, как пара старых брюк, набитых газетами, — устроили его максимально комфортно, насколько возможно, и уверили, что вернемся через пару минут с носилками, а затем побежали вперед, чтобы присоединиться к десанту.
Команде Зейферта и жандармам потребовалось всего пять минут: из примерно двадцати контрабандистов двенадцать были схвачены, а один убит. Помимо Полтла у нас были еще пострадавшие: один матрос с пулей в бедре и пара с разбитыми головами. Я перевязал раненого, а затем мы с Йовановичем и двух матросами, несущими носилки, отправились забирать капитана. Мы продирались вглубь острова, где оставили баржу. Но когда добрались туда, то её не обнаружили. Постепенно нас осенило: контрабандисты отвязали баржу перед тем как сбежать, и течение унесло её прочь.
Весь остаток ночи мы гребли туда-сюда, как и большую часть следующего дня. Обыскивали каждый ручей и заводь. Мы даже вызвали в помощь моторную лодку из Панчовы. Но только спустя четыре дня мы наконец нашли баржу, когда проверяли ручей на небольшом острове километрах в шести вниз по течению.
— Герр лейтенант, — вдруг обернулся ко мне Йованович, — я слышал поросячий визг.
Мы прекратили грести и прислушались, потом вытянули шеи, чтобы рассмотреть низкий берег, вглядываясь через камыши и ивы на заболоченную полянку. Семь или восемь свиней блаженно похрюкивали в мокрой черной грязи вокруг стволов ольхи. Осужденные преступники, которых не только помиловали у самого эшафота, но и отпустили на свободу, в поросячью версию райских кущ. Мы погребли дальше вниз по ручью, пригибаясь под нависающими ветками, пока тот не стал слишком узким. Затем увидели баржу, наткнувшуюся на поваленные деревья, наклонившуюся, но еще на плаву. Мы с Йовановичем вскарабкались на болотистый берег и похлюпали к ней, а матросы привязали шлюпку и отправились обыскивать подлесок.
Когда мы оставили Полтла, он был парализован, но, возможно, достаточно оправился, чтобы отползти в кусты. На барже его следов не обнаружилось. Я хотел уже присоединиться к остальным, когда окрик Йовановича вызвал меня обратно к барже. Он стоял на дне посудины, посреди мешанины из свиного дерьма, сломанных веток и прочего мусора, и угрюмо протягивал мне ботинок. Только взяв его в руки, я с отвращением понял, что оттуда по-прежнему торчит нога, отгрызенная по лодыжку. Я с содроганием отбросил жуткий предмет. Йованович угрюмо кивнул в сторону днища. Там, посреди отбросов и дерьма, лежали лохмотья морской формы, человеческая рука и часть позвоночника, обгрызенные как кости в собачьей конуре. Какое-то время мы стояли молча.
— Матерь божья, не может быть...
— Боюсь, что может, герр лейтенант. Думаю, прежде чем их прибило сюда, баржа несколько дней дрейфовала, и свиньи просто... сожрали его.
— Но... как?
— Герр лейтенант, мой отец - крестьянин. Среди животных такого размера у свиньи самые мощные челюсти. Дайте им возможность, и они прогрызут себе путь в кирпичной стене, — Йованович опустил взгляд. — Вот старый придурок. Прошу простить, герр лейтенант, для вас не секрет, что судьба Полтла меня абсолютно не волновала. Но умереть вот так... Просто кошмар.
Похороны состоялись на следующий день на католическом кладбище Панчовы. В своём роде довольно впечатляющее вышло зрелище. Весь город выстроился посмотреть, когда команда «Тисы» медленно и безупречно маршировала за накрытым флагом орудийным лафетом и отрядом местного гарнизона, а затем встала над могилой с винтовками за спиной, левой рукой отдавая честь усопшему, как это принято у австрийцев. Когда я с тремя офицерами поднимал гроб на лафет в начале пути, он оказался неожиданно тяжелым. Мы следовали за ним, склонив головы. Мне удалось шепнуть идущему рядом Йовановичу:
— Боцман, что вы положили в гроб такого тяжелого? От капитана осталось-то не больше чем полведра.
— Да, герр лейтенант. Но я рассудил, что раз прошло три дня, свиное дерьмо на дне баржи, должно быть, когда-то было стариком Полтлом. Так что я велел собрать его лопатами и присоединить к останкам.
Должен сказать, меня несколько возмутила эта новость. Особенно когда священник окропил гроб святой водой и благословил «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Стоял жаркий день, и я заметил, что выражение лица священника стало напряженным, когда он читал панихиду. А еще он позаботился встать во время службы с наветренной стороны от гроба.
Мы вернулись в Нойградитц как только стемнело, добравшись до Панчовы речным пароходом, поскольку у «Тисы» была проблема с котлом. Первым меня встретил кок Барчай, который не участвовал в похоронной процессии. Он доложил, что пока я отсутствовал, к пристани приходила группа сербов во главе с верзилой с черными усами и требовала меня, желая поговорить наедине по какому-то важному вопросу. Барчай отделался рассказом о моем отъезде на неделю в Петвардайн, но мы оба чувствовали, что они завтра вернутся. И потому я решил, что в этих обстоятельствах лучше взять выходной, который мне задолжали за прошлую неделю. Барчай пообещал выдать мне обед, когда рано утром я на каноэ отправлюсь разведать окрестности.
Я покинул «Тису» на следующее утро, когда пробило пять склянок, и река была еще окутана туманом. Я отплыл, затем скорость замедлилась из-за борьбы с течением по пути к острову, где мы с Боженой обычно встречались. Это было очень уединенное место, и никому в голову не придет меня там искать. Я почувствовал необходимость спокойно посидеть денек и всё обдумать. Это касалось не только растущих осложнений в отношениях с пани Боженой, которая теперь может стать воплощением роковой женщины в самом буквальном смысле этого слова. Но и смерти старика Полтла, тех нелепых обстоятельств, в которых он встретил её, и грядущего вскоре официального расследования. Все это казалось чрезмерно сложным.
Я прибыл на остров, когда солнечный свет начинал пробиваться через марлевую завесу тумана. Я разжег костер и позавтракал, из-за тумана не опасаясь, что кто-то увидит дым, потом улегся на траву немного почитать, пока солнце поднимется в небо. Кажется, это был Конрад [32]: тогда я увлекался чисто английской литературой. Я немного подремал, потом снова почитал, потом лежал, размышляя о том, как птицы поют в ивовых зарослях и плещется в огромной реке рыба. Туман почти рассеялся. Похожий на бледно-синее стекло могучий Дунай медленно двигался в утреннем свете. Присутствие человека выдавали лишь отдаленные клубы дыма на сербском берегу, где вверх по реке отправился в путь пароход.
К одиннадцати мне стало жарко. Почему бы не окунуться? Плавание полезно для ноги. Я разделся и погрузился в прохладную воду, потом доплыл до другого островка в сотне метров от этого. Там я немного передохнул и поплыл обратно, взяв наискосок из-за течения - оно достигало наверное двух или трех узлов. Минут через пять добрался до того места, откуда отчалил, и выбрался на песчаный берег, а потом пошел туда, где оставил одежду. Там меня поджидал сюрприз: пани Божена, стоящая в чем мать родила. Похоже, она совсем не удивилась моему появлению, но вскрикнула в притворном ужасе, прикрыв одной рукой грудь, а другой чресла, как на картине «Диану и ее нимф застал врасплох Актеон», популярном сюжете наиболее похотливых венских художников.
— Ой! — взвизгнула она. — Мужчина! И тоже совершенно голый! Боже, что же мне делать? Бедную невинную девственницу застигло во время купания ужасное волосатое существо мужского пола! Что же мне делать, если он набросится на меня и лишит добродетели? Боже! Кто услышит мои крики в этом отдаленном уголке и придет на помощь?
— Божена, хватит паясничать. Что ты вообще здесь делаешь?
Она надулась и посмотрела на меня с презрением.
— Насколько мне известно, дунайские острова открыты для всех, — она покрутила головой. — Что-то не замечаю тут знаков, запрещающих совместное купание. Или, может быть, герр лейтенант недавно купил этот остров на свое жалованье? Как глупо с моей стороны этого не понять. Мне следует извиниться и уйти.
— Заткнись и послушай, идиотка. Пока я вчера ездил в Панчову, твой муж с группой головорезов приходил к пристани и спрашивал меня. К счастью, я отсутствовал, но он наверняка подозревает...
— Ну конечно, подозревает, — фыркнула она. — На прошлой неделе я пришла домой со спутанными волосами, пришлось сочинять сказку, что меня застиг ливень. Но какая разница? — она шагнула вперед и обвила меня руками. — Сейчас мы здесь только вдвоем, в точности как раньше...
— А твой муж?
— Не волнуйся, он уехал в Темешвар на два дня, что-то насчет просроченной закладной на фабрику. Иди же ко мне, дорогой Оттокар, разве ты не доставишь удовольствие своей маленькой Боженке и не позволишь ей угодить тебе?
— Божена... Будь разумной. Это глупо...
Она притянула меня вниз, на траву рядом с собой.
— Ну, давай же, глупыш, разве ты больше меня не любишь? — она легла на спину и улыбнулась. — Будь ласковым со своей маленькой польской девочкой, хотя бы разочек. Может, скоро я придумаю какую-нибудь срочную надобность по семейным делам в Грудеке и на некоторое время уеду.
Мое сопротивление испарилось, как горячая вода из проколотой грелки, и вскоре мы сошлись в страстном сеансе физиотерапии, примяв траву, когда перекатывались по ней. Через некоторое время ее глаза вдруг расширились раза в два, и она завизжала, как паровозный гудок. Божена всегда была несдержанна во время любовных утех, но такого я прежде не видел. Внезапно она оттолкнула меня и попыталась подняться на ноги.
Меня схватили крепкие руки и стянули с нее под какофонию воплей, криков и собачьего лая. Я попытался освободиться и пнул пяткой кого-то за спиной. Ответом был удар под дых, который вышиб из легких весь воздух. В ушах зазвенело. Когда пелена боли немного рассеялась, оказалось, что сзади на меня наседают четверо или пятеро мужчин и пара угрожающе рычащих мастифов. Я же глядел на широкую и напыщенную физиономию с черными усами. Это был Грбич. Он размахивал зловеще острым мясницким тесаком в нескольких миллиметрах от моего носа. Божена стояла напротив и отчаянно вырывалась из рук трех верзил. Один из них засовывал ей в рот тряпку в качестве кляпа.
— Итак, герр лейтенант, — произнес он на гортанной смеси сербского с немецким, — сначала вы превращаете меня в нищего своим вмешательством в торговлю, а потом вдобавок и наставляете рога. Что ж, скоро вы узнаете, каково это - перейти дорогу сербу. Видите моих чудесных приятелей? Это мои забойщики, точнее, были ими, пока ваше проклятый запрет на торговлю не лишил их работы, как и весь город. Но скоро вы увидите, насколько они ловко обращаются с ножом, потому что будете наблюдать, как мои псы сожрут вашу печень! Что до тебя, моя польская кобылка, то ты будешь смотреть, как кастрируют твоего богемского жеребчика. А потом я решу, что с тобой делать, мерзкая потаскуха!
Я не вполне понимаю, что именно потом случилось. У троих или четверых молодчиков Грбича имелись ружья, главным образом тяжелые охотничьи, и думаю, какой-то из них держал ружье одной рукой, другой пытаясь покрепче ухватить Божену, которая по-прежнему яростно сопротивлялась. В общем, что-то вспыхнуло, раздался громкий хлопок, все заволокло дымом, а собаки залаяли, почуяв, что напали на хозяина, сорвались с поводка и стали кусать кого попало. Я сцепился с теми, кто меня держал, и мое мокрое тело выскользнуло из их рук. Я помчался прочь, как заяц, спасая жизнь, вслепую продрался сквозь кучу малу из людей и собак, а те с завыванием бросились вдогонку. Я бежал голым и потому имел преимущество перед головорезами Грбича в тяжелых сапогах. Но меня настигали мастифы.
Я пролетел через кусты, проковылял по топкому берегу, не глядя пробрался сквозь заросли, а позади с воплями бежали охотники. Дыхание вырывалось из моих легких, подстегиваемое отчаянием и слепой надеждой выжить. Весь мир сузился до пульсирующего красного туннеля, я поскользнулся на мокрой земле и кувырком скатился по торчащим корням и колючим веткам. Псу удалось тяпнуть меня за икру, но к счастью, в эту секунду кто-то из людей Грбича выстрелил. Я услышал, как пес заскулил от боли, когда в него попала дробь, и зверюга тут же меня отпустила. Я споткнулся о корень ивы, но встал и продолжил бег. Если бы только я мог добраться до реки... Может, тогда я бы прыгнул и уплыл.
Теперь я шлепал по воде на заболоченном берегу. Над головой пропел еще один заряд дроби. Я пригнулся, чуть не рухнул, споткнулся, упал и ударился головой обо что-то твердое. Несколько мгновений я лежал, оглушенный, потом попытался нетвердо встать на ноги. Но как только в глазах перестало рябить, я увидел над собой злобное загорелое лицо с парой черных глаз и ощутил холодок стали у подбородка. Игра закончена.
— Как тебя зовут? — спросил обладатель этого лица. Говорил он по-сербски.
Теперь не осталось никакого смысла быть вежливым, конец явно близился, и я решил вести себя нагло.
— Прохазка, — выдохнул я. — А кто спрашивает?
Мужчина обернулся.
— Греби отсюда!
Я услышал, как в уключинах скрипнули весла, а гребцы, уперевшись ногами, ухнули, ялик качнулся и выплыл в основное течение Дуная.
Глава восьмая
Единство или смерть
Мои спасители налегли на весла, и нас понесло вниз по течению. Но Грбич и его сообщники не собирались так просто меня отпускать. Не прошло и двадцати секунд с тех пор, как мы отплыли от берега, и они показались за кормой.
Сам Грбич и двое его забойщиков яростно гребли в моём собственном каноэ, которое я привязал утром в заливчике, прибыв на роковой остров. Они кричали, чтобы мы остановились и пытались нагнать. Грбич прицелился и выстрелил. Но стрелять из ружья, сидя в каноэ, было непросто, и пуля просвистела над нашими головами, не причинив вреда. Мой спаситель, смуглый человек, приставивший мне нож к горлу, когда я ввалился в ялик, дал двум гребцам сигнал замедлить скорость, затем взял тяжёлое охотничье ружьё и лёг на днище, уперев оружие в вырез на корме.
Грбич со своими людьми находились уже метрах в десяти, и тут он выстрелил. Цель была выбрана мастерски: заряд дроби влетел в тонкую кедровую обшивку точно по ватерлинии. Лодка некоторое время по инерции шла прямо, а потом нырнула носом и опрокинулась, ее пассажиры оказались в воде. Мы оставили их в кильватере — они вцепились в перевернутое каноэ и честили нас по-сербски, показывая всё богатство обсценной лексики.
Непосредственная опасность миновала, мой таинственный спаситель снова повернулся ко мне, а я до сих пор лежал, прислонившись спиной к банке, наполовину оглушенный и тяжело дыша.
— Что ж, Прохазка, неплохо вы повеселились. Голый и мокрый, как лягушка, да еще с этой сворой на хвосте. Похоже, пограничники стали носить гражданское, будь они неладны. Вам поэтому пришлось плыть?
Я решил, что лучше с ним согласиться, и кивнул, как можно более неопределенно.
— В любом случае, друг мой, — засмеялся он, — хорошо, что вы так быстро откликнулись. Чуть-чуть бы замешкались, и я перерезал бы вам глотку.
Я посмотрел на него. Это был низкий, но внушительного вида мужчина с крючковатым носом, на вид скорее турок, чем серб. Что-то в его внешности подсказывало, что его слова о перерезании моего горла были не просто праздным пустословием. Но кто эти люди? И, что важнее, кем они считают меня? Единственное, что я понял — они ждали здесь, чтобы забрать человека по имени Прохазка. Что ж, Прохазка — достаточно популярная чешская фамилия. Правда, от южной Венгрии до Богемии были сотни километров. Разумно ли делать вывод, что под этим именем скрывается кто-то другой, а отвечая «А кто спрашивает?», я ненароком сказал этим головорезам нечто вроде пароля? Я предположил, что они свиные контрабандисты и, вероятно, разведывали остров для очередной ночной переправы вроде той, которую мы сорвали на Граховской отоке несколько дней назад.
По крайней мере, это объясняло, почему они не удивились, что меня преследует группа вооружённых людей. Возможно, они подумали, что меня поймали переодетые австрийские пограничники или что за мной гналась банда конкурентов. Только на прошлой неделе офицер жандармерии сказал мне, что сербские группировки контрабандистов готовы развязать войну друг с другом за большую долю в этой выгодной торговле. Я решил молчать и вызнать, всё, что можно. Похоже, я натолкнулся на хорошо организованную группировку. Эти бандиты определённо убили бы меня, если бы я сейчас попытался сбежать. Так что пока лучшее всего плыть по течению и наблюдать, что будет дальше. Прежде всего мне нужно было выяснить, кем меня считают. Мой спаситель, пристально вглядывавшийся за корму, в сторону австрийского берега, повернулся ко мне.
— Ну и как там Сокол?
Я решил не вдаваться в подробности: «Сокол» — явно кличка какого-нибудь главного контрабандиста на нашем берегу реки.
— Неплохо, спасибо.
— И что он говорит, действовать или ждать?
А это уже посложнее. В голове заскакали мысли: придется ответить «да» или «нет». Наконец я решил, что раз уж собираюсь раскрыть замысел преступников, то лучше их не задерживать, пусть приведут план в исполнение. Чувствуя себя так, будто прикладываю пистолет к голове, не зная, заряжен он или нет, я ответил:
— Сокол велит действовать.
Мы вчетвером провели день на острове прямо возле сербского берега и высадились по ту сторону границы незадолго до рассвета. Мне дали хлеба и овечьего сыра, а также пару глотков сливовицы (которую я ненавидел) и обеспечили одеждой: еле налезавшим старым костюмом-тройкой, фетровой шляпой и рабочей рубашкой без галстука и воротничка. Пока мы шли по ухабистой просёлочной дороге к железнодорожной станции Пожареваца, я впервые начал задаваться вопросом, для чего вообще здесь эти люди, потому что, как следовало из тщательных мер предосторожности, с которыми мы действовали — например, прячась в канаве при виде таможенника — они опасались как сербских властей, так и австрийских. Более того, когда мы дошли до Пожареваца, то билеты купили отдельно и сели в разных купе.
И почему они направлялись в Белград вместо очередной деревни на берегу реки, где находились базы контрабандного бизнеса? Я, должно быть, столкнулся с руководящим центром всей операции.
Двое суток спустя после моего побега от Грбича и его головорезов я сидел с крошечной чашечкой турецкого кофе с сахаром в верхней комнате кафе «Под златна грана» («Под золотой ветвью») в старом турецком квартале сербской столицы. Белград в те времена был городом более характерным для Сирии, чем для центра Европы: на другом берегу Дуная виднелась Австро-Венгрия, но в остальном больше похоже на базар в Алеппо, чем на столицу европейского государства. Нетрудно заметить, что в течение четырех столетий Белград был пограничной крепостью Османской империи.
Квартал города, в котором я теперь оказался, лежал чуть ниже крепости Калемегдан [33], обветшалого района с низкими, восточного вида домами с деревянными балконами и резными деревянными ставнями в лабиринте узких, дурнопахнущих переулков, где посреди улицы течет открытая сточная канава, и бродячие собаки чешут в ней болячки — сосредоточение доходных домов, борделей и небольших кафе-таверн, где посетители сидят весь день за стаканом сливовицы или чередой маленьких, с наперсток, чашечек кофе.
У меня было почти два дня, чтобы обдумать свое затруднительное положение. Два дня, чтобы напрячь все пять чувств и попытаться собрать информацию о моих былых спасателях и о собственной новой и непредвиденной биографии. Без сомнения, ясно одно: кем бы ни были эти люди, они не обычные преступники. С одной стороны, они явно слишком скрытны и слишком хорошо организованы, то есть могли быть только верхушкой преступной группировки — возможно, как мне показалось, это некая местная версия сицилийской каморры, причастной к бог знает каким тщательно продуманным злодействам. С другой стороны, речь и поведение тех пяти или шести из них, с кем мне пришлось столкнуться, не свойственны людям, обычно относящимся к профессиональными преступниками.
Они казались явно образованными, и манерой поведения скорее походили на людей, занятых в предприятии более высокого пошиба, а не просто в контрабанде и вымогательстве. Вообще-то, как профессиональному офицеру, мне пришло в голову, что они были частью какой-то военной организации, судя по спокойствию, с которым отдавали и получали приказы. Это совсем не похоже на взаимные крики и ругань, обычно бытующие среди обычных разбойников. Но также понятно, какой бы ни была эта организация, что они не хотели привлекать внимание сербской полиции или военных. Во всяком случае, если судить по особой секретности, с какой мы путешествовали до Белграда, канители с паролями и комнатам с закрытыми ставнями сразу по приезду.
Кем они меня считают? Это до сих пор оставалось загадкой. Но, по крайней мере, я должен с пользой провести время, чтобы состряпать себе биографию. Эти люди думают, что я серб, что многое объясняло. И мне нужно немного постараться, чтобы поддержать эту легенду. Благодаря почти пятнадцати годам в имперских и королевских кригсмарине я свободно владел сербско-хорватским (который в любом случае понятен для чеха), а за несколько лет до этого служил в заливе Каттаро, где местное население — в основном черногорские сербы. Кроме того, меня считали каким-то эмиссаром с австрийской стороны: возможно, армейским офицером, судя по паре сделанных ими намеков. Так что я решил назваться оберлейтенантом Анте Радичем из пятого полка полевой артиллерии, уроженцем Кастельнуово из залива Каттаро. Этот прибрежный район, по крайней мере, как я надеялся, объяснит, почему я говорю на сербском с легким хорватским акцентом.
Но кто, черт побери, этот Сокол? И какие новости и инструкции от него я должен сообщить? Что ж, так или иначе, я скоро это выясню, когда прибудет мой собеседник. А пока я сидел в комнате над маленьким занюханным кафе, взвешивая в уме все варианты. Я окажусь в смертельной опасности, если решусь продолжать, это ясно, ведь кем бы ни были эти люди, то ради своего дела они без колебаний убьют, если заподозрят во мне самозванца. Но в такой же опасности (может, даже большей) я окажусь, если попытаюсь бежать. Кафе тщательно охранялось их часовыми, я это знал. И даже если мне удастся прошмыгнуть мимо, придется пробираться через незнакомый город и как-то переправиться через Дунай на австрийскую сторону. Нет, нам рассказывали в Морской академии, когда мы изучали пехотную тактику, что в бою чаще погибают те, кто пытается сбежать, чем атакующие. Сейчас любое отступление выглядело более опасным, чем продвижение вперед.
Но в любом случае, разве присяга офицера благородного императорского дома Австрии не обязывает продолжить и посмотреть, как далеко я смогу зайти с этим обманом? Эти люди явно участвуют в каком-то заговоре на высоком уровне, по-видимому, с ведома и при попустительстве людей на нашей стороне границы. Заговор был, конечно, преступным и возможно даже политическим. Но в любом случае, с учетом националистических настроений в Сербии 1914 года, вполне вероятной целью является Австрия. Нет, мой долг — попытать удачу и внедриться в их группировку, чтобы узнать по возможности больше. Тогда, если выживу, я смогу бежать к своим и передать все сведения в полицию.
Прибывший собеседник выглядел весьма обнадеживающе: мощный, высокий, красивый мужчина с густой, черной как смоль бородой, в которой время от времени вспыхивали идеально белые зубы, как луч маяка в темную ночь. Когда он поприветствовал меня и сжал руку так, что хрустнули кости, я заметил, что он говорит по-сербски с ярко выраженным черногорским акцентом.
— Ну, Прохазка, добро пожаловать в Белград. Позволь представиться: майор Мирко Драганич, также известный как Муравей. — Он засмеялся, из бороды сверкнули белые зубы. — Хорошее прозвище, не правда ли, для малыша вроде меня? Я сам выбрал его для смеха, в точности так же, как назвал тебя, Прохазка, по имени того осла, австрийского консула. Неплохая шутка, а? Беда с этими сербами в Сербии, вечно ходят мрачные.
Меня осенило: так значит, кличку мне придумали в честь Оскара Прохазки (с которым я не состоял в родстве), австро-венгерского консула в Призрене [34]. Когда в прошлом году его избили, предположительно офицеры сербской армии, венская пресса целую неделю кипела патриотическим негодованием, а потом забыла об этом напрочь.
— Так что же, Прохазка, говорит Сокол? Ступанич утверждает, что тебя прислали с приказом действовать.
Настал момент, которого я боялся: безусловно, потребуется дополнительная информация о загадочном Соколе. Я подготовил уклончивый ответ, на самом деле не веря, что это спасет. Хотя он и не понадобился: к счастью для меня, майор Драганич был экспансивным экстравертом, тяготел к театральности, и, как правило, задав вопрос, отвечал на него сам.
— Всё верно, — ответил я, пытаясь унять дрожь в голосе.
— Отлично. Тогда начнем действовать. Кабан попадет в нашу ловушку, а охотники тут как тут. Они не промахнутся.
Кабан, подумал я. Неужели это на самом деле контрабанда свиней? Или я уже вовлечен в дела, связанные с убийством? Меня внезапно поразила мысль, что, вполне возможно, я оказался втянут не в сербский заговор против Австрии, а в финансируемый Австрией заговор против сербского государства: возможно, заговор с убийством их премьер-министра Пашича [35] или даже самого короля Петра [36]. Это было отнюдь не странное или мелодраматическое умозаключение: в этой бурлящей маленькой стране заговор был образом жизни, а политика зачастую мало чем отличалась от разборок шаек преступников. Всего в нескольких сотнях метров от кафе «Под златна грана» в 1903 году уничтожили тогдашнего короля Александра Обреновича [37] и всю королевскую семью: их противник Карагеоргиевич и антиправительственные армейские офицеры расстреляли их, а затем разрубили на части в ночной кровавой бойне.
Дунайскую монархию беспокоило, что Сербия была до сих пор официально дружественным государством, но в течение многих лет отношения оставались напряженными, и нет ничего удивительного в том, что в Вене тайно поддержали одну их многочисленных группировок. Взять «майора» Драганича: не сам ли он присвоил себе воинское звание, как часто бывает на Балканах, где бабушки и камеристки иногда знают о пехотной войне больше, чем весь шведский Генеральный штаб? Или он настоящий армейский офицер? При взгляде на него, несмотря на театральность и определенно манеры гражданского учебного заведения, я бы скорее посчитал его человеком, не понаслышке знающим свист пуль. Он некоторое время пристально смотрел вниз из окна на грязный переулок, очевидно погрузившись в размышления. Наконец он заговорил.
— Ну, тогда двадцать пятого июня всё и произойдет. Воины отечества уже начали прибывать на место. — Он повернулся ко мне с улыбкой. — Но, без сомнения, Сокол захочет, чтобы ты отчитался о том, как мы тратим его деньги, так что, возможно, мы спустимся вниз, и ты познакомишься с некоторыми моими учениками. Ступанич пригласил двоих из них с тобой встретиться, а потом можешь посмотреть на церемонию присяги. Тогда завтра я проведу тебя через туннель. Идем!
Он хлопнул меня по плечу и чуть не сбил с ног. Это было похоже на удар мешком с мокрым песком. Потом мы направились вниз по темной, шаткой лестнице. Наступил вечер, темную заднюю комнату «Под златна грана» освещали керосиновые лампы. Когда мы вошли, в нос ударила густая вонь жареного лука, кофе и дешевых сигарет, будто бросилась навстречу большая, неухоженная и вонючая собака. Когда глаза привыкли к тусклому свету, я узнал Ступанича и одного из его спутников, сидящих за столом в глубине комнаты. Их сопровождали двое юнцов лет девятнадцати-двадцати с землистого цвета лицами, которые странно выглядели в потертых костюмах и с жидкой порослью на верхней губе (в те времена взрослого серба без усов сравнивали с польским трезвенником, только это было еще более подозрительно). Один из них носил мусульманскую феску, а другой — неряшливое соломенное канотье. Они встали, чтобы поприветствовать нас.
— Прохазка, — усмехнулся Драганич, — позволь представить двух наших последних новобранцев: Мехмет Дусич и Илья Карджежев, оба — студенты Белградского университета.
Я пожал им руки, и мы сели.
— Ну, мои юные герои, — сказал Драганич, когда нам принесли стаканы со сливовицей, — готовы к завтрашней поездке?
— Да, брат майор, — отозвался мусульманин Дусич. — Имею честь доложить, что мы оба готовы выполнить священную задачу и принять свою судьбу.
— Хорошо. Мы с Прохазкой проводим вас часть пути по туннелю, а Ступанич пойдет вперед, но потом мы вас покинем. Надеюсь, что по прибытии вы покажете себя истинными сыновьями нашей великой страны.
Карджежев заговорил писклявым голосом подростка, глаза его горели.
— Можете на нас положиться, майор. Когда придет час, мы исполним наш долг как истинные сербы. Будущие поколения будут слагать легенды о нашем подвиге, а враги нашего народа будут оплакивать этот день. Мы станем верными сыновьями матушки Сербии, вскормленными на ее груди, а когда падем, наша кровь прольется на ее священную землю.
И в этот момент я ясно понял (независимо от нелепого мелодраматического содержания), почему речь Карджежева показалась мне настолько странной. Потому что он как будто декламировал белые стихи — достаточно частая привычка среди балканских славян в те дни. И поверьте, это звучало весьма странно для привыкшего к прозе чеха вроде меня, выросшего среди электрических трамваев и рациональности газового освещения северной Моравии. Но все же я заметил, что несмотря на манеру разговора и высокопарные патриотические чувства, группа из пяти-шести мужчин, играющих в шашки за соседним столом, не обратила на нас ни малейшего внимания.
— Так или иначе, — сказал Драганич, — вы получили всё необходимое для задания?
Я понял, что Карджежев ждал этого вопроса. Майор еще не успел закончить фразу, как юнец залез в карман, словно ребенок, которого попросили показать новую игрушку, подаренную на Рождество. Неуклюже достал какой-то предмет и показал его нам прямо под краем стола. Это был автоматический пистолет Браунинга, новенький, судя по виду. Я заметил, что пистолет снят с предохранителя.
— Вот, — сказал он усмехаясь. — Этим оружием я нанесу такой удар за отечество...
Вдруг мелькнула вспышка, и прогремел оглушительный выстрел. Ножка стола позади нас разлетелась в щепки. Стол зашатался на мгновение, затем шашки, доска и стакан сливовицы с грохотом соскользнули на грязный кафельный пол. Пока рассеивался дым, установилось неловкое молчание. Игроки в шашки повернулись к нам — не в страхе, а с усталым упреком, который исходит от людей из переднего ряда в театре, когда кто-то за спиной громко шепчется. Вошел хозяин и остановился, перестав протирать грязной тряпкой стакан.
— Я уже говорил, причем сотню раз: никакого оружия — правило заведения. У нас приличное кафе, и если вы не прекратите стрелять во что ни попадя, вам лучше пойти в другое место. И вот еще что, придется заплатить за ножку стола, иначе я вызову полицию. Студенты! Вечно одно и то же.
Он удалился на кухню, вытирая стакан и что-то бормоча себе под нос. Карджежев выглядел виноватым.
— Честно, майор... Он просто случайно выстрелил в руке... Я не...
Драганич, махнув рукой, прервал его извинения.
— Хорошо, хорошо, ничего страшного. Лучше стрелять слишком много, чем слишком мало. Предохранители еще ни разу не выигрывали битву. Так или иначе, прошу меня простить, нужно заплатить владельцу. Он ведь вполне серьезно про полицию.
Драганич поднялся из-за стола, слегка поклонился и ушел на кухню. Как только он исчез, Карджежев прошептал:
— Эй, хотите посмотреть?
— Что посмотреть?
— Это.
Он сунул руку в другой карман пиджака и вытащил прямоугольный чёрный предмет, по форме и размеру похожий на маленький флакон, но, очевидно, металлический. Латунный колпачок тускло мерцал при свете лампы. Когда я понял, что это, у меня кровь застыла в жилах.
— Красиво, не правда ли? Брат Ступанич дал каждому по две. Так это работает: берёшь её и сильно бьёшь колпачок, вот так... — он поднял руку над столом...
— Нет! — крикнул я и поймал его за запястье на лету, вспотев от ужаса, — нет, господи, не здесь! Будь разумен и положи это обратно в карман, пока не понадобится. Тут могут быть полицейские в штатском...
— В любом случае, — проворчал он, пряча гранату в карман, — на бросок остается всего восемь секунд, а майор говорит, что она убивает всех в радиусе десяти метров.
— Да-да, уверен, что майор прав. Но не здесь же, бога ради!
Мне пришло в голову, что юные фанатики не только весьма вероятно разнесут всех в клочья, но возможно, нас схватит полиция. И в этом случае я мог столкнуться с определенными трудностями, объясняя, как вышло, что меня, офицера австрийского флота, арестовали в сербской столице, в штатском и в компании вооруженного отряда террористов. В мыслях уже крутились туманные, но оттого не менее зловещие образы крепостной стены на рассвете, повязки на глазах и шеренги нацеленных винтовок. Тем временем Драганич вернулся, компенсировав владельцу нанесенные выстрелом повреждения.
— Что ж, друзья мои, — сказал он, — этим двум молодым людям следует лечь спать пораньше. Завтрашний день будет долгим, и я не хочу, чтобы вы всю ночь напивались и бахвалились перед однокурсниками. Но Ступанич и Прохазка пойдут со мной. Нам предстоит присутствовать на церемонии принятия присяги.
Мы распрощались и покинули кафе, отправившись через лабиринт переулков. Местом нашего назначения оказался дом как раз под стенами крепости. После пантомимы паролей и осмотра через глазок нас наконец впустили в маленькую комнату с плотно закрытыми ставнями, освещенную единственной керосиновой лампой. Там нас дожидались три юнца одного возраста с Дусичем и Карджежевым. Их возглавлял тощий, угловатый и лысый мужчина лет сорока с небольшим, в стальном пенсне и с мрачным выражением лица.
— Ты опоздал, Драганич, — буркнул он. — Где тебя носило?
К моему удивлению Драганич ответил самым смиренным извиняющимся тоном, словно школьник директору.
— Простите, командор, но у меня были дела в «Под златна грана».
— Ага, могу себе представить, что за дела, небось надираться и хвастаться перед собутыльниками. Твой язык доведет нас до беды. И вообще, давай продолжим с присягой, у меня есть дела и поважнее, чем торчать тут и ждать твоего появления.
Он зажег две свечи на столике в дальнем углу комнаты и погасил керосиновую лампу. Когда огонек свечи отразился в глазах трех взволнованных молодых людей, комната наполнилась суетой предвкушения. Между свечами стоял некий предмет, накрытый тканью. Командор занял место за столом, а молодые люди один за другим выступили вперед и присягнули ему в верности. Клятвы были длинными и состояли из совершенно чудовищных выражений: они обязались всю жизнь служить обществу, беспрекословно подчиняться офицерам, быть готовыми умереть под пытками, но не выдать секретов, и подвергаться самым жесточайшим наказаниям за малейшее отступление от этих правил.
Затем командор витиеватым жестом откинул ткань. Под ней оказались человеческий череп, бомба, пистолет, кинжал и распятие. Я ущипнул себя, дабы убедиться, что не сплю, настолько всё это выглядело нелепым и театральным, словно я случайно забрел на второй акт оперетты о сицилийских угольщиках и из-за кулис в любую минуту может войти субретка, заливаясь песней о несчастной судьбе пастушки. Однако претенденты, похоже, воспринимали всё достаточно серьезно: все по очереди подняли правую руку над реквизитом и воскликнули:
— Клянусь солнцем, что меня согревает, землей, что дает пищу, кровью моих предков и собственными честью и кровью.
Потом командор поздравил их с тем, что они стали членами патриотического общества «Звяз о смрт» - «Единство или смерть» на испытательном сроке. Лишь позже я узнал, что эта организация больше известна в истории под названием «Црна рука», то есть «Черная рука» [38].
Проснулись мы рано утром и поднялись с полных клопов постелей в дешёвой меблированной комнате, чтобы отправиться на пароходную пристань на реке Сава. Пунктом нашего назначения, как я узнал, был город Шабац, где мы собирались сесть на поезд и доехать через долину реки Дрины до Лозницы. Что ж, мне это подходило: Лозница находилась на сербской стороне границы с Австро-Венгерской империей, точнее, с недавно аннексированными областями Боснии и Герцеговины. А это означало, что в какой бы заговор ни были вовлечены неумелые террористы, его мишенью наверняка является монархия. Не то чтобы в этом было что-то необычное: Боснию и Герцеговину аннексировали только в 1908 году — последний жалкий триумф габсбургской дипломатии — и с тех пор едва ли выдавался год, в котором новые и не расположенные к нему подданные императора Франц-а-Иосифа (почти все они — этнические сербы) не выстрелили бы в упор в военного губернатора или не бросили бы бомбу в какого-нибудь прибывшего с визитом сановника.
Убийства и засады, так или иначе, были такой же традиционной частью боснийской жизни, как свиньи и сливовые деревья. Подобно большинству австрийцев, мне была настолько же интересна эта отдалённая нищая область, как многим англичанам сейчас интересны события на улицах Белфаста [39]. Но из беглого чтения газетных отчётов я почерпнул, что распространённой чертой всех этих террористов была их яркая некомпетентность: например, при покушении на императора в Мостаре в 1910 году террористу удалось добраться до старика у всех на виду, но затем он передумал безо всякой явной причины и отправился в Аграм, чтобы застрелить губернатора Хорватии; его убили, а губернатор остался невредим.
Насколько мне удалось разобраться в своих спутниках, пока поезд отходил от железнодорожной станции Шабац, они явно и прямо были вовлечены в традицию неумелых убийств. Путешествовали мы парами в разных вагонах, и я оказался с круглым идиотом Карджежевым. Он устроил целый спектакль, пока мы сидели на деревянных скамейках замызганного купе третьего класса, потея из-за гнетущей полуденной жары начала лета, а поезд гремел и раскачивался, двигаясь на юг. Наши спутниками была пара престарелых сербских крестьян и связанный поросёнок, которого они только что купили на рынке Шабаца.
Карджежев, как я видел, едва сдерживался, чтобы не рассказать им о нашей миссии, и вскоре его язык всё равно развязался после глотка сливовицы из бутылки, которую один из крестьян держал в заднем кармане. Старик сделал глоток, вытер пышные белые усы тыльной стороной ладони и посмотрел на студента мерцающими чёрными глазами на морщинистом лице цвета красного дерева.
— Так вы, молодой господин, как я понимаю, направляетесь в Лозницу?
— Да, в Лозницу, отец, но... — глухо добавил он, — наш путь там не заканчивается, отнюдь не заканчивается, скажу я вам.
— Так вы поедете на поезде до Зворника?
— Нет, не до Зворника, наша цель ведет нас намного дальше Зворника, но пешком.
На лицах пожилых крестьян появилось выражение какой-то детской хитрости.
— Ага, — сказал один из них, — значит ли это, что вы участвуете эээ... в торговле... через реку, так сказать? Говорят, многие, кто едет на этом поезде, развозят табак и сливовицу по всей Боснии и не беспокоят таможенников.
Карджежев понимающе улыбнулся, и пару секунд таинственно смотрел вверх — на багажную полку, где лежал дешевый фибровый чемоданчик с двумя пистолетами Браунинга, шестьюдесятью патронами и четырьмя гранатами.
— Да, отец, можете называть это контрабандой. Но табак, который мы везём, очень забористый — уж поверьте, настолько, что австрийцам, безусловно, поплохеет, когда они его испробуют.
Старые крестьяне переглянулись и кивнули, заметно впечатлённые. Тем временем я вздрогнул и отчаянно пытался дать ему сигнал заткнуться. Эти люди вполне могли оказаться доносчиками, тем более что в поезде ехали таможенники, а в коридоре полно путешественников. Но Карджежев играл на благодарную аудиторию. Он делал то, что умел, глаза его сияли в патриотическом экстазе. Он наклонился к ним; голос его понизился до резкого шёпота.
— На самом деле... — он огляделся, — на самом деле, я еду нанести такой удар за сербов, что об этом будут говорить многие поколения, и вы, отцы, сочтёте за честь рассказывать в своей деревне, что со мной встречались.
Глаза двух крестьян расширились от удивления и сливовицы. Наконец один из них заговорил.
— Но как вы вернётесь в Сербию, когда... закончите дело, о котором говорите? Австрийцы затравят вас, как собаку.
Карджежев вздохнул и опустил глаза с видом благородного смирения.
— Увы, старик, солнце не будет светить надо мной после этого дня. Если австрийцы меня поймают, я погибну на виселице. Но они не получат этого удовольствия. Вот... — он порылся в кармане. — Что это, по-вашему?
Это была маленькая склянка. Старики уставились на неё с вытаращенными глазами. Карджежев немного открутил колпачок, и купе наполнил едкий запах горького миндаля, на некоторое время перебив даже запах табака, поросёнка и сливовицы.
— Видите это, отцы? Это синильная кислота — цианид. Проглочу ее, и умру в считанные секунды. Нет, угнетатели моего народа не возьмут меня живьём.
Я в отчаянии извивался, оглядываясь вокруг. Кондуктор был в паре купе дальше по коридору. Я попробовал измерить скорость поезда на глаз, чтобы выпрыгнуть из него, если что. Наконец, один из крестьян преодолел свое удивление и спросил:
— Но куда вы направляетесь, и что это за дело такое?
Дабы повысить драматический эффект, Карджежев некоторое время выждал, а потом заговорил.
— Куда я направляюсь, отец? В Сараево, конечно. Моё поручение — величайшее дело, которое может выполнить сын сербской матери: убить австрийского эрцгерцога.
Поезд замедлил ход и заскрипел тормозами — мы прибыли в Лозницу. Несмотря на безудержную болтовню Карджежева, к моему удивлению, нас все еще не раскрыли, а мой мозг неустанно работал, переваривая всё, что удалось узнать. В императорском доме Австрии насчитывалось в то время шестьдесят три эрцгерцога — но не могло быть сомнений, кто являлся целью этого заговора. Я вспомнил, как мой брат Антон во время нашей встречи на выходных в Ужвидеке в начале мая упоминал, что адъютант двадцать шестого егерского полка переполошился, потому что прямой наследник собирается принять участие в летних маневрах в Боснии в конце июня.
Предположительно, он собирался посетить столицу провинции, и организация «Единство или смерть» об этом узнала, и теперь отправила этих юнцов, чтобы устроить эрцгерцогу неофициальную встречу. Что ж, хорошо, что я это выяснил, теперь все части головоломки встали на место. Конечно — Кабан, с этими-то усами и характером, должен признать, что кодовое имя выбрали как нельзя лучше. Поезд остановился, и вскоре мы собрались на станции, чтобы начать новый этап путешествия через хваленый туннель майора Драганича.
Вспоминая те события, я понимаю, что всё это произошло за каких-то тридцать шесть часов. Мне же казалось, что по «туннелю» из Сербии в Австрию — через Дрину, а потом по лесистым холмам в городок Обреница — мы шли тридцать шесть дней. Вообще-то я думаю, что по прямой отправной пункт в Лознице от первого места встречи с сотоварищами в Боснии отделяло не больше двадцати километров. Хотя для нас это казалось переходом через Анды и амазонские джунгли одновременно. Проблема заключалась в том, что приходилось избегать как австрийских пограничников, так и сербских, поскольку «Единство или смерть» у собственного правительство пользовалось не большей популярностью, чем у моего.
Это означало, что нашему отряду — Драганичу, мне, двум юным патриотам и проводнику из местных, чье имя я так и не узнал, приходилось ползти по канавам, продираться по прибрежным зарослям и спотыкаться на распаханных полях, чтобы избежать поимки, в основном, мы двигались под прикрытием темноты.
Первой трудностью стала переправа через Дрину. Нам нашли лодку — полусгнивший ялик, но большую часть первого дня пришлось пролежать в камышах, дожидаясь сумерек. А когда мы наконец оказались в лодке, то выяснилось, что течение гораздо сильнее, чем мы ожидали, поскольку в этой местности выдалась дождливая весна. В результате мы продрейфовали вниз по течению на довольно приличное расстояние, гораздо дальше предполагаемого места высадки на австрийском берегу.
К тому времени, когда нам удалось выбраться на берег, мы промокли насквозь и вымазались грязью после проведенного в камышах дня. Но это уже не имело особого значения, поскольку начал накрапывать дождь, и лил, ни на минуту не прекращаясь, еще два дня. Мы брели по прибрежным топям, потом по ольшаникам и заливным лугам, затем по полям мокрой и колючей кукурузы. Пробираться под дождем по грязи с саквояжем в руке, в дрянном костюме в дешевых городских туфлях мне казалось пыткой. А что еще хуже, лишь проводник и Драганич знали, где конечный пункт этого унылого и упорного похода, так что мы слепо следовали за ними то вверх по холму, то вниз в долину, час за часом, без малейшего представления о том, сколько еще продлятся мучения.
Дело усложнялось тем, что покалеченная нога начала болеть, возмущаясь поставленными перед ней неразумными задачами. Но гораздо сильнее была боль оттого, что теперь я вернулся на австрийскую территорию, после пяти дней отсутствия на корабле, в штатском и проникнув в страну нелегально в компании отряда отчаянных головорезов, собирающихся убить наследника трона. Если нас схватят, мне придется давать объяснения, и, по зрелому размышлению, это будет даже сложнее, чем если бы нас арестовала сербская полиция в «Под златна грана».
До этого чуть было не дошло, когда на следующее утро мы шли вереницей по краю горохового поля. Вдруг Драганич остановился и пригнулся, подав нам знак поступить так же. Я краем глаза заметил на дороге, ведущей через поле, пять или шесть фигур. Двое были в темно-синем, остальные в сером, с перекинутыми через плечо винтовками: вне всяких сомнений, австрийские таможенники в сопровождении солдат возвращались из ночного дозора против контрабандистов. К счастью для нас, они были такими же усталыми и промокшими, как и мы сами, и спешили добраться до ближайшей деревни и приправленного ромом чая в местном кафе. Они прошли мимо, не заметив нас, и когда удалились, мы с трудом разогнулись и побрели дальше.
До Обреницы мы добрались только на заре следующего дня, после того как ночью дважды заблудились в мокром сосновом лесу к востоку от города. За весь кошмарный день (половину нашего пути) нам удалось съесть лишь пару ломтей отсыревшего хлеба и пару кусков сахара, так что гороховая похлебка и горячий кофе никогда не казались мне такими аппетитными, чем в подсобке недавно открывшегося в городе кинотеатра «Биоскоп», чей владелец оказался тайным членом «Звяз о смрт». Даже Карджежев и Дусич впали в уныние. Когда мы устало ковыляли под дождем по закоулкам городка (весьма подозрительная группа странно одетых и вымазанных грязью чужаков), фибровый чемодан, где лежало оружие отряда, в конце концов не выдержал и развалился, и пистолеты, бомбы и боеприпасы со звоном высыпались на мостовую буквально через несколько секунд после того, как мимо прошагал местный жандарм во время утреннего обхода.
Бледные как полотно, мы побыстрее похватали оружие и нырнули в кинотеатр. Позавтракав и немного обсушившись в тесной подсобке «Биоскопа», мы с майором Драганичем распрощались с остальными. Проводник и двое будущих убийц должны были ехать в Тузлу, а оттуда по железной дороге в Сараево. А мы отправились на юг, на восемьдесят километров по австрийской территории, к границе с Черногорией где-то рядом с Фочей, там у Драганича было какое-то важное дело. Причины решения предпринять путешествие через враждебную ему территорию были, по его словам, двоякие: во-первых, теперь, раз мы уже перебрались через австро-сербскую границу, не стоит терять времени, чтобы делать это снова; во-вторых, расстояние до места нашего назначения стало бы гораздо больше, если возвращаться обратно на восток, в Сербию, поскольку австрийская территория в те дни клином вдавалась между Сербией и Черногорией.
Австрийско-черногорская граница выше Фочи, как сказал Драганич, проходила в гористой, заросшей густым лесом местности и охранялась не так строго по сравнению с границей, которую мы пересекли на Дрине. Он загадочно добавил, что слишком известен пограничникам на черногорской границе с Сербией. Я ломал голову над этим замечанием и задался вопросом, с какой стати это должно иметь значение, так как Драганич сам был черногорцем и, по-видимому, подданным короля Николы [40]. Что касается меня, теперь, когда мы благополучно перешли через границу на австрийскую территорию и избавились от Карджежева, я решил, что остаток путешествия будет не слишком опасным. Назвался груздем, полезай в кузов, наверное, вы и сами так скажете: итак, я обнаружил заговор против прямого наследника, оставалось еще больше месяца до его прибытия в Боснию, и я подумал, что смогу также узнать, что за «дело» звало Драганича в Черногорию. Во всяком случае, я сомневался, что это будет мастерская по ремонту велосипедов.
Когда мы покинули Обреницу, трясясь по шоссе на юг в гужевой повозке, предоставленной хозяином кинотеатра, снова светило солнце. Прежде чем мы уехали, он настоял на том, чтобы показать майору и мне последний фильм, присланный его кузеном из Питтсбурга. Это была десятиминутная история ковбоя с Томом Миксом. Первый вестерн, который я видел, и очень интересный — «Бретт из Бэдленда», если я правильно помню. Драганич был в восторге, и позже в тот же день, когда мы отдыхали в лесу, я видел, как он практикуется быстро выхватывать револьвер.
Так или иначе, двухдневная поездка к черногорской границе прошла без происшествий. По мере того как мы взбирались наверх, в горы, сельская местность становилась все более дикой и малонаселенной. Путников было немного, а что касается вооруженных сил или жандармов, мы не встретили ни одного. Драганич находился в приподнятом настроении. Его «туннель» работал хорошо, несмотря на трудности прохождения через него, а погода установилась прекрасная и теплая, как раз чтобы высушить одежду. Пока мы продвигались на юг, он развлекал меня явно приукрашенными, но, должен признать, очень интересными байками о своих недавних подвигах в последних двух балканских войнах в качестве командира группы четников [41]: тех чертовски храбрых полурегулярных войск, которые с такой свирепостью боролись в первой балканской войне, чтобы изгнать из Европы турок — и потом нападали друг на друга с еще большей свирепостью несколько месяцев спустя, когда страны Балканского полуострова начали ссориться из-за трофеев.
Истории майора, несомненно, содержали предостаточно героического преувеличения, театральности, естественной для человека из страны, где и в ранние годы этого века двумя главными мужскими занятиями по-прежнему являлись война и создание эпической поэзии. Но думаю, что даже несмотря на хвастовство, его рассказы звучали правдоподобно. Сербы, в конце концов, были храбрыми и весьма опытными солдатами — и до 1914 года не раз имели возможность это доказать — и ни одна ветвь сербской нации не была более воинственной, чем черногорская, это сообщество за минувшие века поставило в Европу предостаточно воинов.
Большая часть его рассказов звучала правдоподобно, даже тот, где он в 1912 году, вооружённый только штыком и винтовкой, в одиночку удержал мост на реке Струмице против батальона турок, словно легендарный римский герой Гораций, пока сербские сапёры укладывали рядом с ним динамит, чтобы уничтожить мост; а получив пятнадцать ран, он перепрыгнул через парапет и проплыл сорок метров под водой, пока вокруг взрывались заряды взрывчатки и рушился мост.
Но помимо их развлекательной ценности, весьма значительной, существовала и другая причина просить Драганича рассказывать мне все эти истории. Чем больше он говорил, тем меньше ему оставалось времени, чтобы задавать мне неудобные вопросы. У меня была готова история о том, что я — артиллерийский оберлейтенант Радич из Кастельнуово, но я глубоко сомневался, что она выдержит долгие расспросы. Теперь мы были сами по себе, вдалеке от человеческого жилья. Драганич имел оружие, в отличие от меня; и несмотря на его весёлость, я знал, что он убьёт меня без малейших угрызений совести, если что-то заподозрит. Я намеревался удрать от него, как только разузнаю, всё, что нужно — но лишь когда поблизости окажется пост австрийских жандармов. Винтовка Драганича была спрятана в задней части телеги, как и револьвер, и я знал, что если попробую внезапно сбежать, он пристрелит меня, прежде чем я преодолею сотню метров.
По счастью, всю дорогу рот у него не закрывался. Вообще-то лишь вечером на второй день, когда мы приблизились к черногорской границе, он наконец-то спросил что-то у меня. Стоял теплый денек, и мы лежали у горного ручья на лесной поляне, неподалеку от дороги. Лошадь щипала траву поблизости, и Драганич откинулся на спину с соломинкой в зубах и уставился в небо. Некоторое время он молчал, что весьма для него необычно, словно решал, стоит ли мне доверять. Наконец он заговорил.
— Скажи, Прохазка, как один черногорец другому: что ты думаешь о моих воинах отечества, а?
По слабой нотке иронии в его голосе я понял, что получить в ответ он ожидал не комплимент, которого требовала вежливость. Но всё же попытался уклониться от ответа.
— Кого ты имеешь в виду, брат?
Его белые зубы блеснули в зарослях бороды.
— Моих славных ребят, конечно, уже приехавших в Сараево. Ну разве они не бойцы, которыми должен гордиться любой народ?
— Раз ты спрашиваешь, должен сказать...
— Что считаешь их жалкими недоумками, да? Это ты хочешь сказать?
Я старался оставаться нейтральным.
— Ну, я думал...
Он засмеялся.
— Конечно, так ты и думаешь. И не могу не согласиться: это пустая трата нашего времени и ваших денег, и ты, без сомнения, доложишь то же самое начальству, когда вернёшься. Но знаешь, почему? Я скажу тебе: потому что я, майор Мирко Драганич, сознательно выбрал именно таких! Но скажу одну вещь, Прохазка: считай, тебе повезло, что ты не встретил первую группу, которую мы отправили в Сараево на прошлой неделе, потому как они еще хуже. Один из них, Чабринович, почти такое же трепло, как наш друг Карджежев, а его спутник, чьё имя я даже не помню, мелкий тощий туберкулёзник лет восемнадцати, едва ли сможет поднять пистолет, не говоря уж о стрельбе. Я устроил ему испытания по стрельбе, прежде чем мы его приняли, и, честно говоря, едва не взорвался от смеха. Он выстрелил по сараю десять раз с двадцати пяти шагов — и ни разу не попал, — Драганич замолчал. — Так что ты, без сомнения, задаешься вопросом, почему я, Муравей, выбрал для выполнения задания эту жалкую шайку школьников, хотя достаточно просто щёлкнуть пальцами, чтобы набрать закалённых в бою четников, воинов высшего качества и безоговорочно готовых отдать жизнь за сербскую нацию. И я скажу тебе почему: потому что я хочу, чтобы операция в Сараево оказалась настолько большим провалом, насколько это вообще возможно.
Я уставился на него.
— Но почему, чёрт возьми, после всех этих трудностей...?
— Потому что у меня есть голова на плечах. Ты знаешь, какая операция готовится в Сараево?
Я, конечно, знал, потому что мне выболтал Карджежев. Я подумал, что лучше для начала притвориться, что я не в курсе, но затем вспомнил, что должен изображать эмиссара от загадочного Сокола и, следовательно, полностью осведомлён о цели заговора.
— Конечно: убить эрцгерцога Франца-Фердинанда.
Он посмотрел на меня, а потом расхохотался.
— Ну, Прохазка, это показывает, как мало тебе рассказали в Австрии. Но господа в Вене не слишком-то хотят, чтобы эрцгерцога убили, насколько я понимаю. Когда они впервые обратились к нам, я думал иначе, но теперь понял, в чём дело. Майор Драганич, может, и опытный военный — что, с твоего позволения, вряд ли можно сказать о любом из вашей имперской и королевской армии, но у него всё же есть голова на плечах. Так что я думаю, им просто нужно, чтобы эрцгерцог попал в переделку, и тем самым получить предлог для войны с Сербией. Ну а я поддакиваю этой игре. Потому что у меня тоже свои планы.
— Прости, но я не понимаю.
— Ваши генералы - Конрад, наместник Потиорек [42] в Сараево и остальные — давно ждут войну, чтобы раз и навсегда раздавить Сербию. Но, насколько я слышал, ваш старый император не хотел на это соглашаться, в то время как крыло эрцгерцога колебалось, как листок на ветру: иногда за войну, а иногда против. Но кое-что наверняка заставит их действовать: нападение наших бойцов на старого императора или его наследника, тем самым Вена получит доказательство, что за этим стоит наше робкое правительство в Белграде.
— Да, понимаю, они обрадуются покушению на эрцгерцога, но только неуспешному. Так почему же и ты хочешь, чтобы покушение не удалось?
— Прохазка, я черногорец, как и ты, а не серб. У меня есть собственные планы. Я выбрал для этой операции самых больших кретинов, каких сумел найти, потому что хочу, чтобы они не просто провалили задание, а провалили с треском. Ты видел Карджежева и Дусича, а я видел остальных — всего их шестеро. И уверяю тебя, они совершенно ни на что не способны. Я даже сомневаюсь, что они смогут приблизиться к эрцгерцогу, австрийская полиция схватит их за несколько дней до операции. С такими-то длинными языками, как у Карджежева и Дусича, они наверняка уже в тюремных камерах. Нет, я хочу, чтобы их схватили, поскольку стоит австрийским следователям поднажать на наших юных героев, они начнут болтать и расскажут полиции всё дерьмо, что я вбил в их головы за последние недели: о том, что они получали личные приказы от старого толстяка Димитриевича [43] из совета при правительстве, а может, даже от этой трусливой крысы Пашича. С такими-то доказательствами Конрад и сторонники войны в Вене получат всё, что хотели. Скажи, Прохазка, в поезде на Лозинку идиот Карджежев показывал тебе свой пузырек для самоубийства?
— Даже вытащил пробку, чтобы мы могли унюхать запах цианида.
Драганич громогласно расхохотался.
— Цианида из моей задницы. Я купил его в белградской бакалейной лавке. Это миндальная эссенция для выпечки. Юный идиот заработает желудочные колики, и еще несколько дней после того, как он это проглотит, благоухать от него будет, как от засахаренных слив в марципане.
— Но разве это не слишком... безжалостно с твоей стороны, посылать этих бедных, ни о чем не подозревающих юнцов в подобную ловушку?
— Безжалостно, мой дорогой Прохазка? Где затронуты интересы нации, там не место подобным соображениям. Наши юные друзья вызвались отдать свои жизни за Сербию, так что, по моему мнению, не слишком важно, как именно они их отдадут. Умрут они на поле боя или на австрийской виселице, жертва та же самая. Нация — всё, личность — ничто. Это война, а на войне зачастую необходимо тратить жизни на отвлекающую атаку, чтобы увести врага от главного удара.
— Значит, операция в Сараево — просто приманка?
— Именно, — он выразительно замолчал, подобно мастеру-художнику, собирающемуся открыть свой chef d’oeuvre [44]. — Моя главная цель, Прохазка, убедиться в том, что даже если наши друзья Конрад и Потиорек наконец получат свою войну с Сербией, они не проживут достаточно долго, чтобы насладиться успехом. Понимаешь, ваши австрийские хозяева довольно плохого мнения о нашей национальной разведке. Они считают, что мы, сербы, просто слабоумные крестьяне, которые играют в заговор; и я надеюсь, что фиаско в Сараево подкрепит их ошибочное мнение, что мы слишком тупы, чтобы устроить больше одного заговора одновременно. Как только австрийская полиция раскроет заговор, они будут улыбаться, поздравлять друг друга, накупят кремовых пирожных в Konditorei [45] — и отправят начальника штаба и губернатора в Фочу, а там они попадут в мою ловушку. Видишь ли, у меня есть информация, что двадцать шестого июня, когда закончатся манёвры, Конрад и Потиорек будут присутствовать на демонстрации нового орудия горной артиллерии, неподалеку от черногорской границы. Ну и я устрою собственное небольшое представление: пятьдесят лучших четников, вооружённых до зубов и засевших в лесу в ожидании. Никто из них не выживет, и они это знают; но двое наших армейских друзей определённо умрут вместе с ними.
— Но это наверняка будет означать войну между Австрией и Сербией. Как ты рассчитываешь победить?
— Не только между Австрией и Сербией, но также и с Черногорией. Ха! Все кругом знают, что жалкий старый пес Никола в Цетине получает тайные подачки из Вены. Но убийство Конрада и боснийского наместника на территории Черногории не сможет объяснить даже этот старый лис. На короля Николу Петровича-Негоша у меня тоже есть планы, могу тебя заверить. Может, через месяц королем станет Мирко, раз мой клан имеет такие же права на престол, как и Петровичи. В альянсе Сербии и Черногории, да еще когда будут мертвы два лучших австрийских генерала, мы непременно победим. Может, погибнет миллион сербов, но мы победим.
— Скажи-ка, Драганич, а почему ты просто не убьешь эрцгерцога? Его смерть уж точно ничего бы для тебя не изменила.
Он печально покачал головой.
— Эх, Прохазка, ты позоришь Черногорию. Служба у австрияков сделала тебя таким же тупым, как и они. Подозреваю, что когда эрцгерцог прибудет в Сараево, ваша полиция и военные будут не слишком рьяно охранять бедолагу. Однако я уже послал туда своих людей, они проследят, чтобы ему не причинили вреда. Можешь мне не верить, но сейчас у Франца-Фердинанда нет более усердного ангела-хранителя, чем я. Я хочу, чтобы в Сараево он был в такой же безопасности, как в собственной постели.
— Но почему, боже ты мой? Разве не Габсбурги угнетают южно-славянские народы?
— Может и так. Но тебе не приходило в голову, что хорватам и словенцам, даже кое-кому из так называемых боснийских сербов, возможно, нравится, когда их подавляют, раз этим занимаются драгоценнейшие австрийские эрцгерцоги и жирные католические священники? Вот что я тебе скажу, Прохазка. Сейчас они толкуют о южно-славянском государстве — Югославии или подобной чепухе, но я не поставлю на это и соплей из носа. Мы, сербы, — люди восточные, вроде русских. Что нам делать с мямлящими на латыни хорватами? Нет, наше будущее с востоком: союз всех сербов, а в один прекрасный день, может, и Константинополь, снова возродится империя Стефана Душана [46]. Так-то, Прохазка. Может, однажды ты увидишь, как император Великой Сербии Мирко присутствует на пасхальной службе в Айя-Софии. Что до треклятых хорватов и словенцев, то пусть их примет Австрия. Раз они с Францем-Фердинандом так любят друг друга, то пусть и живут вместе. Он вскоре станет императором в Вене, когда старик наконец-то помрет в своем Шёнбрунне [47], а все хорваты со словенцами будут кланяться, расшаркиваться и натянут национальные костюмы, чтобы отслужить благодарственную мессу, и будут жить счастливо на земле эдельвейсов и картофельного пюре. Что может быть лучше? Долгой жизни императору Францу-Фердинанду! Уж точно не сыскать человека, который желал бы ему более долгого и процветающего правления, чем майор Мирко Драганич!
Рано утром, на третий день после отъезда из Обреницы, мы добрались до границы с Черногорией. Нельзя сказать, что граница между двумя странами как-то выделялась: в этой гористой местности сосновые леса перемежались голыми каменистыми осыпями. Граница, по словам Драганича, шла по маленькой, но быстрой речушке, бегущей по узкой долине. Мы собирались пересечь ее по старому турецкому мосту, откуда ухабистая дорога вела через реку в королевство короля Николы. Мы шли пешком, оставив лошадь и повозку в деревне, где провели ночь. Драганич теперь открыто нес винтовку, перекинув ее через плечо.
В конце концов, это уже почти Черногория, где в лесах водятся волки и медведи, к тому же все знают, что винтовка — это часть черногорского национального костюма. В этом отдаленном, диком и малонаселенном уголке мы не ожидали наткнуться на какие-то препоны при пересечении границы. И потому для нас оказалось настоящим шоком, когда мы спустились по лесу к мосту и увидели, что он перегорожен красно-белым шлагбаумом, и этот шлагбаум охраняет австрийский солдат, вооруженный винтовкой со штыком, в мешковатой пехотной форме и дрожащий от утреннего холода. Он украдкой курил, прикрывая сигарету руками, и даже издали было ясно, насколько он изнывает от скуки, став аж серым, под цвет формы.
— Проклятье, — сквозь зубы выругался Драганич. — На переправе поставили караульного.
— Почему? Думаешь, что-нибудь прознали о нас?
— Нет, похоже, ищут контрабандистов. Тут их полно, особенно с тех пор, как в Австрии увеличили акцизы на табак.
— И что будем делать? Перейдем вброд выше по течению?
— Я бы не стал: там глубже, чем может показаться на первый взгляд, а течение очень быстрое. Нет, думаю, просто уделю нашему австрийскому другу на той стороне немного внимания... — он мрачно усмехнулся в бороду, вытащил нож и проверил большим пальцем лезвие.
— Бога ради, Драганич! Ты же не собираешься...
— А почему бы и нет? Через месяц мы будем воевать с Австрией. Так что если кого-то убьют чуть раньше, какое это имеет значение? Их это лишь заставит усилить бдительность, а мне полезно время от времени потренироваться и перерезать кому-нибудь глотку. Я уже полгода никого не убивал! К тому же, та словенская сволочь заслуживает смерти за то, что позабыла о воинской дисциплине. Был бы он одним из моих людей, я б давно его прирезал... Эй, а это еще что?
Я посмотрел туда. Солдат у моста быстро выбросил сигарету и встал по стойке смирно. По дороге, ведущей к реке, шел офицер. Солдат отдал честь, и они некоторое время разговаривали. Мы слышали голоса, но находились слишком далеко, чтобы я мог разобрать слова.
— Что ж, — сказал Драганич, снимая с плеча винтовку, — двое — значит двое. Гляди в оба, уверен, ты в жизни не видел подобной меткости. Посмотри в бинокль, если угодно. Я просто дождусь, пока они встанут на одной линии, и уложу обоих. Второй будет мертв еще до того, как рухнет первый. На что спорим?
Я отчаянно всмотрелся через бинокль, меня замутило, а Драганич лег на землю и приложил приклад к плечу, потом взвел курок. Медленно, чтобы не шуметь. Офицер стоял к нам спиной. Затем он повернулся, и меня чуть не вывернуло. Это был мой брат Антон.
Глава девятая
По чёрным горам
Майор Драганич склонился к стволу винтовки. Внизу у моста мой брат с солдатом смеялись, не зная, что смерть уже распростерла над ними крылья. Нужно было действовать быстро. С внезапным криком я вскочил и отбил винтовку в сторону, как раз когда Драганич собрался выстрелить. Испуганные Антон с солдатом повернулись. Пока они ныряли в подлесок, мой брат вытащил пистолет, а солдат сдернул с плеча винтовку. Больше я их не видел, потому что теперь пытался спасти свою шкуру, симулируя эпилептический припадок, со стоном катаясь по земле и дёргаясь так можно реалистичней. Драганич пнул меня, схватил за воротник и потащил вглубь леса. Когда мы оказались в безопасности, он прислонил меня к дереву и влепил несколько звонких пощёчин.
— Ради всего святого, кретин! Зачем ты это сделал? Теперь за нами погонится вся австрийская армия!
— Ааа... эээ... Где это я? Что произошло? Всё потемнело...
Некоторое время мы лежали, ожидая погони, но потом поняли, что Антон с солдатом приняли мудрое решение не разбираться с невидимым снайпером самостоятельно, а пошли за помощью. Это означало, что теперь мы могли беспрепятственно пересечь реку по мосту. Как только мы оказались в безопасности на черногорской стороне, я постарался как можно убедительнее объясниться.
— Прости... я нездоров. Всё эти приступы: иногда случаются в моменты сильного нервного напряжения.
Драганич уставился на меня с подозрением.
— Это последний раз, когда я беру тебя с собой на боевую операцию. Будь ты четником, я бы уже тебя пристрелил. Больные не должны играть в солдат.
Если на австрийской стороне формальности с паспортами и таможней проводились поверхностно, то на черногорской вообще не существовали. Королевство Черногория было плодом дипломатической фантазии, а не полноценным государством. Власть короля Николы едва распространялась за стенами его дворца в Цетине, расположенного далеко на юге, в то время как в остальном королевстве люди занимались своим любимым времяпрепровождением — бандитизмом и кровной местью, не встречая препятствий со стороны центральной власти. В Боснии нашим неприятелем были представители закона, но теперь главным врагом станет беззаконие.
Местом встречи являлась лесная поляна в пяти километрах вглубь черногорской территории. Нас ждали двенадцать человек на мулах. Ступанич, мой спаситель на Дунае, был одет в штатское, как и главарь в очках, с которым я уже встречался в Белграде; остальные звали его командором. Остальная часть группы состояла из местных, выглядели они не менее свирепо, чем их земляк Драганич, обвешанные оружием и в маленьких шапках без полей, национальных головных уборах черногорцев: чёрных по краям, с красным верхом и пятью концентрическими полукругами из золотых нитей. Нам с Драганичем предоставили мулов — большое облегчение, ведь моя травмированная нога болела, и мы двинулись в путь. Командор ехал рядом.
— Ну, Драганич, в конце концов, ты это сделал. Около часа назад мы слышали выстрел. Это был ты?
— Выстрелил в австрийского часового на границе.
— Идиот! Хочешь втянуть нас в войну с австрийцами прямо сейчас, когда мы не готовы? Впредь будь поосторожней и постарайся больше думать мозгами, а не яйцами.
Тропинка вела наверх, через сосновый бор. Мы с Драганичем ехали во главе колонны, и командор забрасывал меня вопросами о Боснии и связях в Австрии. Я пытался отвечать по возможности нейтральнее, но также выяснить из его вопросов как можно больше. Я уже довольно много знал о заговоре благодаря неизлечимому стремлению Драганича к театральности и намеревался узнать побольше о других операциях «Звяз о смрт», прежде чем наконец скажу гостеприимным хозяевам adieu [48]. Если эти заговоры имеют поддержку в Вене или, что более вероятно, в Будапеште, то чем больше я смогу доложить австрийской военной разведке по возвращению, тем больше будет шансов избежать трибунала за самовольную отлучку, возможно даже получить вместо этого награду за доблесть.
Теперь мы проходили через область валунов и чахлых сосен. Внезапно позади колонны послышался какой-то шум. Мулы развернулись, тревожно фыркая, защелкали затворы винтовок. Мы замерли в тревожном ожидании. Я начал понимать, что за валунами над тропинкой к земле припали люди, направившие оружие на нас. Никто не шевелился. Спустя какое-то время впереди на тропинке в пятидесяти метрах появился всадник с винтовкой, покоившейся на луке седла, и медленно направился к нам.
Таинственная фигура приблизилась и остановилась прямо перед нами. К своему удивлению я заметил, что это девушка с вьющимися белокурыми волосами. Одета она была в черногорский мужской костюм — в туфли с загнутыми носами и штаны, облегающие бедра, но свободные и закатанные у колен, а также жилет, расшитый на манер кольчуги серебряными монетами, и кушак, из-под которого торчал длинноствольный револьвер, ятаган [49] и изящный изогнутый нож, так популярный в этих местах. Единственным отличием ее наряда от одежды черногорцев из нашего отряда была красно-черная шапочка с вуалью до самой шеи. Некоторое время девушка высокомерно нас рассматривала, а потом заговорила. Чистый девичий голос звучал в подобной напряженной ситуации донельзя странно.
— Ага, Мирко из чертова клана Драганичей. Вижу, с тобой незнакомцы. Считай, тебе повезло, иначе твой изрешеченный пулями труп уже валялся бы в пыли. Какой ты трус, раз едешь вот так, прикрываясь гостями. Тебе бы гусей пасти, а не воевать.
Драганич оправился от удивления и разразился смехом.
— Убирайся, Зага Данилович. Иди играй в куклы, как остальные девицы, и оставь войну мужчинам, или Мирко Драганич перекинет тебя через колено и как следует выпорет. Мой отец убил твоего отца, а я убил твоих братьев, но не хочу убивать женщину. Что до твоего обета девственности, то с таким уродливым лицом тебе и беспокоиться не стоит.
Девушка вспыхнула, ее глаза гневно блеснули: она действительно была не слишком привлекательной.
— Красив тот, кто красиво поступает, майор Мирко. Ты когда-нибудь думал, как замечательно будет смотреться твоя прекрасная голова на шесте у нашего дома? Я надеюсь как-нибудь увидеть её сохнущей на солнце, как головы моего отца и братьев однажды сохли у твоего. В общем, ступай себе дальше, дерьмо собачье и турецкое отродье. Надеюсь, мы снова встретимся, когда ты не сможешь спрятаться за спинами гостей.
С этими словами она повернулась и уехала обратно в лес, а наша колонна снова двинулась вперёд. Когда мы оказались вне досягаемости винтовок, командор изложил Драганичу свой взгляд на происшествие.
— Проклятые черногорцы со своей драгоценной četa [50], чуть нас всех до смерти не довели. Ты совсем псих или как? Две долгие войны с Турцией, а теперь, может, ещё и война с Австрией, а ты до сих пор льешь сербскую кровь как воду в своих идиотских родовых междоусобицах. Прибереги пули для врагов нации. Видит бог, их предостаточно!
Я немного отстал и ехал теперь рядом со Ступаничем.
— Ступанич, я думал, что četa объявлено вне закона много лет назад. Что здесь произошло?
Ему это показалось чрезвычайно забавным.
— Вне закона? Ах да, конечно: пошли полицейского и арестуй их за нарушение общественного порядка. Пресвятая троица и все святые, оглянись вокруг: ни нормальной дороги, ни школы, ни железнодорожных путей во всей этой ужасной маленькой стране — только сотня тысяч гордых дикарей вроде Драганича. Četa вне закона, говоришь? Боже мой, если бы ты только знал! К слову, о головах на шестах была не пустая болтовня: здесь до сих пор здесь коллекционируют черепа, как в Белграде коллекционируют почтовые марки.
— Но из-за чего эта вражда?
— Драганичи и Даниловичи? Одному богу известно — или, что более вероятно, он когда-то знал, но сам давным-давно позабыл. Говорят, это продолжается так долго, что идет уже само по себе. Драганичи были когда-то турецкими наёмниками, пока не переметнулись на другую сторону. По-моему, именно поэтому наш майор такой патриот. Отца господарицы Заги, Негуша Даниловича, убил отец Драганича в Колашине во время войны 1912 года [51]. Её брата Славко отец Драганича убил несколько дней спустя, затем Драганич со своими людьми застрелил из засады двух её старших братьев во время войны 1913 года [52]. Оставшийся брат умер от холеры в Монастире, так что она на пять лет приняла обет девственности и стала мужчиной, чтобы повести за собой četa и отомстить за своих родичей. Говорят, она свирепа, как любой воин клана, и сражается в одном строю с лучшими из них.
Теперь мы приближались к нашему пункту назначения: отдалённой усадьбе на голом каменистом хребте. Подобно многим фермам и деревням в этих краях, она была построена как миниатюрная крепость для защиты в те дни, когда была турецкой территорией и Османский департамент по внутренним налогам заезжал каждые несколько лет взимать положенное, развешивая на ветвях деревьев конечности неплательщиков. Здания с плоской крышей сгруппировались вокруг центрального двора, в них были сделаны амбразуры для стрельбы, а построены они были из известняка, настолько прочно, что выдержали бы по меньшей мере огонь полевого орудия. Мы прогрохотали через ворота в выложенный каменными плитами двор усадьбы, с одной стороны которого высилась огромная куча навоза. Мы прибыли в штаб-квартиру заговора по покушению на начальника штаба Австро-Венгрии и военного губернатора Боснии и Герцеговины. На кухне развели огонь, прирезали пару овец и приготовили ужин. Как только мы закончили трапезу, внутрь вбежал часовой.
— Командор, майор, у ворот три всадника!
— Чего они хотят? Кто такие?
— Братья из Белграда, командор. Говорят, что срочно хотят с вами переговорить.
— Хорошо, приведи их сюда.
Вошли три усталых и покрытых коркой пыли человека. Они были настолько грязными после долгого конного похода, что мне потребовалось некоторое время для того, чтобы с ужасом и потрясением понять — одного из них я знаю, и это не кто иной, как мой бывший сосед по кабинету в администрации престолонаследника в Вене, загадочный гауптман Белькреди. Он тоже не сразу меня узнал. Мы ошеломленно уставились друг на друга. Он был в штатском — приталенной куртке и бриджах для верховой езды. Один из его проводников нарушил молчание:
— Командор, позвольте представить эмиссара от наших друзей по ту сторону австрийской границы, герра Прохазку. Он просит прощения за задержку.
Я огляделся и заметил, что несколько человек уже пытаются незаметно отрезать мне путь к двери.
— Но... — ответил командор, — Прохазка уже с нами. Вы оба не можете быть Прохазками.
— Командор, майор, — сказал Белькреди по-немецки. — Я тот человек, которого вы называете Прохазкой, а он — самозванец. Так уж случилось, что его зовут Прохазкой, потому что это его настоящая фамилия. Линиеншиффслейтенант Отто Прохазка из флота Австро-Венгрии. Я это знаю, потому что когда-то мы вместе работали в Вене. Здесь он наверняка в качестве шпиона, засланного австрийской военной разведкой. Но я также привез вам срочное сообщение от ваших людей в Белграде.
Он вытащил из куртки белый конверт и протянул его командору. Тот вскрыл конверт, вытащил письмо и стал читать, явно не веря своим глазам. Наконец он оторвал взгляд от письма.
— Взять их! — рявкнул он. — Австрийца и собаку Ступанича! Уведите их и заприте, пока мы с этим не разберемся! Драганич, а ты просто первостепенный дурак, ты в курсе? Не только позволил австрийскому шпиону проникнуть в самое сердце организации, но и сидишь сложа руки, когда один из твоих ближайших помощников работает на болгарского короля. Уверяю, дорогой майор, когда вернемся в Белград, я выбью из тебя всю дурь. Ты и в разносчики в кафе не годишься, ясно тебе?
Это были последние слова командора, которые я слышал, потому что нас со Ступаничем грубо потащили по темному каменному коридору, Ступанич вопил о своей невиновности и валил все на меня. Нас бросили в крохотную кладовку, тяжелая дубовая дверь захлопнулась. Когда снаружи опустилась дверная задвижка, Ступанич начал колотить по бессловесному дереву кулаками. Его лицо приняло цвет непропеченного теста, он слегка дрожал от страха.
— Это неправда! Послушайте меня, говорю вам, это неправда! — Он прекратил колотить в дверь и опустился на колени, закрыв руками лицо. — Матерь божья, что со мной будет...?
Наступил вечер, и небо в маленьком решётчатом окне высоко над головой потемнело. Ступанич повернулся ко мне.
— Чтоб ты за это горел в геенне огненной... Как ты узнал, где нужно быть в то утро? Откуда ты узнал пароль? Зачем я вообще тебя забрал? Господи, господи...
Он разрыдался. Я же сел на какие-то мешки и стал ждать. Казалось, нужно сделать что-то ещё, но что до Ступанича, то я сомневался, что могу как-то улучшить его затруднительное положение. Где-то через полчаса мы услышали шаги и голоса снаружи в коридоре, а затем и звук поднимаемой задвижки. Массивная дверь со скрипом открылась, и перед нами предстал майор Драганич и шесть или семь бойцов. Майор был явно не в духе.
— Взять его! — закричал он, указав на несчастного Ступанича, который пытался спрятаться за моей спиной. Головорезы оттолкнули меня в сторону, схватили его и потащили в коридор, а он визжал от ужаса. — Хорошо. Уведите грязного предателя, и посмотрим, что он скажет в своё оправдание. Жаровня хорошо горит?
Умолявшего о пощаде Ступанича оттеснили в темноту, дверь снова закрыли и заперли, и я остался один. Я слышал крики, проклятия и голос Ступанича на их фоне.
— Нет! Нет! Это неправда... Я могу объяснить... Нет, Мирко... Нет!
Послышался долгий жуткий крик, отразившийся эхом от каменных стен; вой агонии раненого животного. Его заглушил взрыв смеха, за которым последовал вопль даже более пронзительный, чем первый. Я закрыл уши, чтобы не слышать этих звуков, но не мог заткнуть нос, не мог избавиться от кошмарной вони паленых волос, которая вскоре проникла даже в мою отдалённую темницу. Крики становились всё громче, а потом стихли до невнятного безумного стона, перемежавшегося проклятиями и хохотом. Это продолжалось долгий час. Наконец я услышал стук лопат во дворе и голос Драганича.
— Что ж, братья, закопайте его в навозной куче! Пусть каждый увидит и запомнит, как организация «Звяз о смрт» поступает с предателями.
Я в последний раз услышал голос Ступанича, едва узнаваемый и по-прежнему молящий о пощаде. Раздался топот многочисленных ног, и что-то протащили по двору, затем донесся последний крик — и стук лопат. Напоследок все радостно заулюлюкали, как будто завыло полчище демонов. Со Ступаничем было покончено; теперь настала моя очередь. Дверь распахнулась: с сосновыми факелами в руках зашёл Драганич с помощниками. Майор слегка покачивался от напряжения и сливовицы. В большом кулаке он держал окровавленные стоматологические щипцы. Двое его помощников схватили меня, каждый со своей стороны, и связали мне руки за спиной. Я не сопротивлялся: а какой смысл? Всё было кончено, и единственное, на что я мог надеяться — это быстрый конец. Драганич подошёл и наклонил ко мне широкое бородатое лицо, напряжённо дыша.
— Ну, дружище Прохазка, давай немного развлечёмся и с тобой. Думаю, нужно постараться и поработать над твоей эпилепсией. Слышал песню, которую для нас исполнил брат Ступанич? Что ж, надеюсь, у тебя тоже хороший голос. Уведите! — Бойцы потащили меня к двери, но затем Драганич с улыбкой повернулся. — Нет. Майор Мирко Драганич передумал: оставьте его до утра. Час поздний, и мы уже хорошо потренировались, и, так или иначе, я слишком много выпил. Хочу допросить этого утром, с ясной головой. — Он вернулся и вгляделся в меня большими, налитыми кровью глазами, похожими на бычьи глаза в мясной лавке. — Ты хитёр, Прохазка. Даже меня семь дней водил за нос. Скользкий, как лягушка в бутылке масла, но недостаточно, чтобы сбежать от майора Драганича. — Он помахал пинцетом у меня перед носом. — Понюхай, Прохазка. Без сомнения, завтра ты расскажешь мне много чего интересного об операциях твоей разведки в Сербии, — внезапно он наклонил лицо ещё ближе ко мне, обнажив зубы. — Но предупреждаю, не пытайся навешать мне лапши на уши. Потому что даже если я не знаю всех подробностей об австрийском шпионаже в нашей стране, мне известно достаточно, чтобы понять, когда ты несёшь чушь. Говори лучше правду, и умрёшь быстрее. Потому что, клянусь Святой Троицей, я вытащу её из тебя по частям, даже если понадобится потратить на это весь день. Вот, попробуй этот маленький образец...
Он схватил щипцами пучок моих усов и выдрал его вместе с кожей. Господи, какая боль! Я себе и представить не мог, что такая небольшая рана может вызвать столько боли. У меня до сих пор остался маленький шрам на губе. Глаза мои заслезились, но мне удалось сохранить молчание и не вздрогнуть.
— Небольшое предвкушение того, что ждёт тебя завтра, если снова попытаешься выставить меня на посмешище, — он умолк, затем засмеялся и хлопнул меня по плечу большой ладонью. — Но обещаю: ты можешь умереть завтра во время допроса, или мы убьем тебя, как только выжмем всё, что нужно — это по большей части от тебя зависит, но если выживешь, когда мы с тобой закончим, то умрёшь с честью. Мы закопали собаку Ступанича в навозной куче, где ему и место. Но ты, Прохазка, притворявшийся черногорцем, встретишь свой конец, как полагается нашему воину: от пули, стоя лицом к врагу. Я, Мирко Драганич, тебе это обещаю. Потому как тот, кто добровольно оказывается в пределах досягаемости «Чёрной руки», должен быть либо очень храбрым, либо очень глупым, а может, и всё сразу. Так или иначе, Прохазка, спокойной ночи, — он повернулся к двери. — Тебя ждёт тяжёлый день, и советую отдохнуть немного, пока можешь. Dobro spavate [53]!
Я остался один в импровизированной тюрьме, наедине со своими мыслями, которые были совсем не из приятных. У меня не было ни малейшей причины сомневаться, после того что я услышал в последний час жизни Ступанича, что завтра они используют каждую пытку из своего репертуара, чтобы вытащить из меня информацию. Беда только в том, что я действительно не мог предложить им ничего, чтобы избежать щипцов и калёного железа. Драганич, вероятно, не лгал, говоря, что знает достаточно об австрийских операциях в Сербии, чтобы различить, говорю ли я правду.
Я старался собраться с мыслями. Дело было не в длительном и болезненном конце, который мне предстояло встретить, а в самой идее такового. Потому что стояли первые дни июня 1914 года. Цивилизованный девятнадцатый век по-настоящему закончится только через несколько недель, и в те дни у большинства европейцев — даже в отсталой России, пытки вызывали ненамного меньшее отвращение, чем каннибализм. Всё изменилось через несколько лет, когда балканские стандарты заразили самые могущественные и развитые народы Земли; но в то время сама мысль была ужасающей. Я отчаянно рылся в памяти, пытаясь найти истории о христианских мучениках, разорванных на крючьях и жарившихся на решётках, думая о том, как стойко выдержать испытание.
Но почему-то терпеливое смирение мученика никогда не было частью моего характера. Я посмотрел на кладовку и вверх, на окно — и увидел то, что искал: железный гвоздь, торчавший из стропила на низкой плоской крыше. Спустя целую вечность, стоя на пустой бочке, я смог его выдернуть; затем залез на окно и начал отколупывать известковый раствор, на котором держался вертикальный железный пруток в середине. Проём был небольшим, но, может, мне удалось бы протиснуться...
Я работал над раствором часа два или больше, и, хотя пальцы болели и кровоточили, мне удалось отбить половину. Но я сник, когда увидел, что пруток не был вделан в последнюю очередь: он углублялся в стену между двумя массивными известняковыми блоками, которые формировали притолоку и подоконник. Чтобы вытащить его, мне пришлось бы разобрать стену вокруг камень за камнем. Измождённый и несчастный, я спустился и сел на кучу мешков. И уставился на стену. Возможно, я мог бы снять строительный раствор вокруг камня... Возможно... Возможно, это было бы лучше, чем просто сидеть и ждать, пока за мной придут. Квадрат неба за окном стал светлеть, а звёзды — гаснуть. Потеряв надежду; я сидел и глядел на стену. Она была по меньшей мере полтора метра толщиной и построена из аккуратно разрезанного и закреплённого известковым раствором камня. Нет, подумал я, нет смысла: даже прямое попадание из полевой гаубицы едва ее поцарапает.
Думаю, я был недалек от истины по поводу предположения о гаубице. В общем, как я узнал позже, разрушивший ее снаряд состоял из сорока килограммов динамита, уложенных в два ранца. С моей стороны стены результат был впечатляющим. Я даже думаю, что если бы кладка была не такой крепкой, я бы сейчас этого не рассказывал. Стена словно прыгнула на меня, а пол вздыбился, когда строение затряслось от страшного толчка. Я мало что помню из последующих событий — лишь как очнулся под завалами камней и балок с крыши, задыхаясь от дыма и пыли.
Над обломками торчала лишь моя голова, плечо и рука. В клубах пыли надо мной с воплями вбегали люди с пистолетами в руках. Они шли в атаку по черногорской традиции — в один ряд, с ятаганом в одной руке и тяжелым длинноствольным револьвером с зарядами из черного пороха в другой — при выстреле появлялась ярчайшая вспышка и облако дыма. Вдруг ко мне шагнула пара огромных ног в остроконечных туфлях, а из мрака проступил силуэт. Человек надо мной выругался и выстрелил, а потом повернулся к противнику, ударив того прикладом, но промахнулся и потерял равновесие. Раздался хлопок, он взвыл и покачнулся, а затем рухнул прямо сверху, чуть не выбив из меня остатки жизни.
Я, должно быть, потерял сознание: когда я очнулся, сквозь тонкий дым слабо светило солнце, а шум битвы прекратился. С меня стащили тело, и чья-то рука схватила меня за волосы. Голову дёрнули назад, и я почувствовал, как в горло упирается острие ножа.
— Господарица, тут еще один живой. Мне с ним покончить?
— Дай посмотреть, — ответил знакомый голос. О боже, нет! Это один из его гостей. Живо, вытащите беднягу. Помогите мне.
Руки шарили по мне, чтобы вытащить из-под обломков стены и балок. Через несколько минут я нетвёрдо стоял перед своей благодетельницей — в синяках, порезах и лохмотьях, но в целом невредимый. Господарица Зага была утомлена и вся в пыли, но явно счастлива. Она протирала тряпкой окровавленный нож.
— Вот, ловите!
Она что-то мне бросила. Я поймал без всякой задней мысли. Никогда даже не думал, что человеческая голова может весить так много. На мгновение я застыл, в ужасе уставившись на жуткий предмет: налитые кровью, закатившиеся глаза Драганича и белые зубы, стиснутые в гримасе смерти. Меня затошнило, и я с отвращением отшвырнул голову.
— Ох, осторожней, — сказала она. — Не кидайте её так, а то повредите. Я хочу, чтобы она осталась в целости, это для моей матери. Боже, до чего ж крепкая шея была у этой собаки. Я едва нож не сломала.
Обезглавленный труп Драганича лежал неподалёку. Застрелен в сердце пулей из револьвера господарицы.
— Ну, так кто вы такой и откуда?
Я не знал, как поступят со мной Даниловичи, если узнают, кто я на самом деле, и попытался по возможности объяснить, как я здесь оказался, не выдавая истинной причины. Выяснилось, что во всём доме выжил лишь я. Командор и гауптман Белькреди уехали вчера вечером, а оставшиеся либо сбежали, либо были убиты. К моему удивлению, причины моего пребывания здесь — общество «Звяз о смрт» и прочее, — казалось, нисколько не интересовали господарицу.
— Что ж, Радич, вы не можете здесь больше оставаться, это точно. Это страна Драганича, и они будут гнаться за нами, как выводок шершней, как только услышат, что здесь произошло. Мы сожжём ферму, а потом рассеемся по горам. Вам бы лучше пойти со мной: вы были их гостем, а теперь их не стало, так что вы, как чужеземец, теперь под защитой моего клана. Говорите, вы родом из залива Каттаро?
— Да, из Кастельнуово.
— Тогда лучше как можно скорее доставить вас обратно. Вся страна севернее Морачи [54] будет настроена против нас, как только про всё это станет известно, а наши ссоры вас не касаются.
— Спасибо за заботу, господарица, но зачем утруждаться, пытаясь меня защитить?
— Таков обычай. Но скажите, вы ранены? Ходить можете?
— Благодарю, только немного ушибся и потрёпан, и нога немного ноет от старой травмы. Но ходить я могу.
— Хорошо. Но нам нужны мулы, чтобы сегодня же добраться до моего родового дома, даже если придётся дальше идти пешком.
— Нам?
— Да, сегодня я буду вашим проводником. Я знаю местность до Морачи. Вы просто заблудитесь в горах и погибнете. Когда дойдём до реки, я передам вам своим родственникам, они доставят вас в Цетине. В общем, нужно поджечь дома и отправляться.
Деревянные крыши усадьбы подпалили факелами, в чистое и голубое утреннее небо взметнулся высокий столб дыма и искр. Мы потеряли его из вида, лишь перевалив через гору.
До того времени я не имел возможности по достоинству оценить красоту Черногории изнутри. По долгу службы мое знакомство со страной Черной Горы ограничивалось её морской частью, которая сплошь состояла из известняковых карстовых гор — безлесная, сухая, разрушенная, казалось, обреченная богом на вечное бесплодие. Здесь, в северо-западной части маленького горного княжества, пейзаж оказался совершенно другим. Горы были такими же обрывистыми, даже выше, чем гора Ловчен, возвышающаяся над Каттаро, но здесь их покрывали леса: каштаны и дубы у подножия и высокие, величественные черные сосны выше. По узким долинам и лугам с ярко-зеленой травой, густо усеянной цветами, струились сверкающие ручьи.
Ручьи, как я заметил, имели бирюзовый оттенок — из-за солей меди или чего-то подобного, что окрашивало известняк. Здешние пейзажи иногда напоминали Швейцарию, иногда Атласские горы в Марокко. В этом почти что раю меня беспокоило лишь одно: судя по всему, здесь никто не живет. За весь день мы не видели ни одного дома или хотя бы хижины. На пути нам повстречался лишь угольщик в лесу. Я подумал, что четыреста лет турецкой оккупации, не говоря уже про četa, сильно снизили численность населения.
К вечеру мы добрались до усадьбы Даниловичей. Вокруг нее высилась каменная стена, увенчанная деревянным частоколом, а внутри находился длинный дом с крутой крышей, больше похожий на перевёрнутый корабль. Снаружи это выглядело довольно величественно, но изнутри дом был обставлено так же аскетично, как коровник. Пока мы поднимались по тропинке к воротам, я заметил установленные то тут, то там столбы с круглыми предметами наверху. Спустя несколько мгновений я с содроганием понял, что это. Как я заметил вблизи, оказалось, это обычные черепа, выбеленные за многие годы солнцем, дождями и морозами; на одном из них была турецкая феска [55], на вид как новая.
Остальные — очевидно, более свежие, — были отвратительными, сморщенными и чёрными. Я знал, что скоро здесь появится ещё одна голова: майора Драганича, которая подпрыгивала в мешке, висевшем на седле господарицы Заги. Мы остановились во дворе среди взволнованной толпы родственников и слуг. Среди них особенно выделялась морщинистая старуха, но по-прежнему с прямой спиной, которой было (как я решил) около семидесяти. Зага порылась в сумке и под громкие восклицания победоносно подняла за чёрные волосы голову Драганича. И бросила её матери.
— Подарок тебе, мама.
— Спасибо, дорогая. Ох, разве он не прекрасен? Он займёт почётное место на нашем празднике.
Праздничный ужин состоял из жареной баранины и турецких лепёшек вместе со странными маленькими пончиками с мёдом, а также неописуемо отвратительным напитком «лоза», чем-то вроде бренди из остатков после отжима винограда, в совершенстве объединявшим вкус бензина и ужасную горечь случайно разгрызенной виноградной косточки. Когда-то я думал, что сливовица — самый отвратительный напиток на Земле, но даже самые дрянные сливовые напитки Сербии были нектаром по сравнению с этой жидкостью. Из вежливости я опустошил стакан размером с напёрсток. Господарица улыбнулась.
— Как тебе наш народный напиток? Мы тут говорим, что после трёх стаканов сможешь разговаривать на всех языках с мира, а после четвёртого и двух слов не свяжешь даже на своём.
Но, по крайней мере, стакан отвратительной лозы отвлёк от окровавленной головы майора Драганича, покоившейся в корзине посередине стола и уже начавшей синеть.
После еды, в честь успешного утреннего рейда, нас развлекал бродячий поэт — гусляр, приехавший в усадьбу на несколько дней раньше. Он был слепым, и его помощник, мальчишка, провел его в зал и усадил к камину. Потом гусляр запел. Я подумал, что никогда не слышал такой странной мелодии: такой неуклюжей, но удивительно трогательной, как будто я вдруг перенесся на три тысячи лет назад, во дворцы Менелая.
Это был неземное причитание на старосербском под аккомпанемент гуслей, своего рода примитивной однострунной скрипки, ее звук был похож на нечто среднее между шарманкой и человеком, дующим в горлышко пустой бутылки. Для слуха, воспитанного на Брамсе и Сметане, это вряд ли вообще можно было назвать музыкой, без видимой мелодии или музыкальной формы и ритма. Во время исполнения возникало странное гипнотическое чувство, строфа за строфой начал проявляться образ. В песне рассказывалось о битве в местечке с названием Крагуево поле примерно в 1877 году, когда дедушка господарицы Заги и его воины уничтожили турецкую армию во главе с подлым беем Нови-Пазара. Строка за строкой лилась песня, каждое слово как будто разрывало грудь старика, когда он рассказывал о доблести черногорцев в те дни. Каждая строфа заканчивалась припевом: «Никогда так не пировали вороны, как на Крагуевом поле».
Мы с Загой отправились в путь следующим утром до рассвета, на этот раз пешком. Мы несли кожаный ранец, полный копченой баранины и хлеба про запас, бутыль с водой, и у каждого за пояс были заткнуты револьвер и ятаган. В этих краях не было зеркал, но я, наверное, выглядел гротескно, когда мы покинули усадьбу Даниловичей и отправились в путешествие. На мне были остатки костюма-тройки и фетровая шляпа, которую Ступанич дал в тот день, когда спас меня голого на берегу Дуная.
Но теперь я нацепил красный кушак для оружия, и, поскольку мои дешевые ботинки давно развалились, пару черногорских матерчатых сапог. Они получались путем наматывания на ноги и ступни полосок ткани, и я стал похож на старика в Мариенбаде с подагрой в обеих ногах. Поверх этих доморощенных онучей кожаными ремешками были подвязаны туфли из бычьей кожи. Смотрелось в целом не особенно изящно, но господарица заверила, что эта обувь отлично подходит для скалолазания.
Это, безусловно, понадобится в ближайшие дни, что выяснилось после первых нескольких километров нашего путешествия. Наш путь лежал по дну глубокого лесистого каньона реки Тара. Нам предстояло идти вверх по течению, на юго-восток, около тридцати километров, а затем через горы в долину Морача и далее на юг к Цетине. В начале похода по настоянию господарицы мы пересекли стремительный пенящийся поток, чтобы сбить со следа любых преследователей.
События предыдущего дня аукнутся, сказала она, и люди Драганича определенно будут за нами охотиться. Это началось с первого дня. Мне стало тяжело идти и перелезать через валуны вдоль нижней части каньона. Нога болела, и когда мы в середине дня остановились отдохнуть и появился шанс снять с нее обмотки, я обнаружил болезненную шишку, образовавшуюся на икроножной мышце. Похоже, барон фон Айзельберг был прав насчет костного осколка. «Потребуется около полутора лет, чтобы осколок вышел на поверхность», — сказал он. А после той аварии как раз прошло полтора года.
Мы ночевали в ту ночь в лесу высоко в горах, а на следующее утро с первыми лучами солнца снова отправились в путь. Мы тащились по еле различимой тропинке, изображающей дорогу, я хромал из-за ноги. Но, по крайней мере, в компании господарицы Заги я мог отвлечься, потому что несмотря на её достойное сожаления хобби, она была, несомненно, живой и разговорчивый девушкой. Вскоре я обнаружил в ней нечто большее, чем показалось поначалу. Конечно, убийственная колкость Драганича по поводу ее внешности была недалека от истины. При худощавом телосложении и среднем росте у нее были песочного цвета вьющиеся волосы, выступающие зубы и любопытные, широко и высоко посаженные глаза, что придавало ей сходство с овцой. И эта невзрачность становилась все более очевидной, потому что черногорцы были вообще удивительно привлекательными людьми: по языку и темпераменту сербы, но внешне совершенно не похожи на славян, высокие и стройные, с прямыми черными волосами и лицом цвета слоновой кости, с изумительными носами с горбинкой, как орлиные клювы.
Женщины, помнится, были особенно великолепными созданиями, наделенными благородной и изящной осанкой. По сравнению с ними все королевы и императрицы мира казались похожими на прачек. В прибрежных городах они одевались с ног до головы в черное, так что улицы Каттаро в рыночный день становились как будто местом королевских похорон. Но нужно сказать, что если они внешне напоминали королев, то и, подобно им, отличались недостатком ума.
В 1910 году я служил в заливе Каттаро и со всем свойственным юности пылом влюбился в некую Ядранку Менотти, жену виноторговца из Кастельнуово. Я наседал на нее со своими ухаживаниями, и в конце концов однажды, когда ее муж был в отъезде, мы оказались в постели. Я хорошо помню, как она наконец-то призналась мне в своей благосклонности с безразличным лицом герцогини на вечеринке в саду, протягивающей два пальца в перчатке. А когда я находился уже почти на вершине блаженства, она вдруг ни с того ни с сего спросила: «Как вы считаете, капитан, хороший урожай черемши выдастся в этом году?» Я был тогда молодым и глупым, и мне еще предстояло понять, что не в каждом сфинксе есть загадка и не каждый слой льда скрывает тайные глубины.
Но черногорцы мужского пола были не многим лучше, как я выяснил: храбрые, как тигры, без сомнения, по-своему благородные, но ленивые, тщеславные, жестокие и в общем пустоголовые. Через несколько месяцев после этих событий (как мне позже рассказали) черногорская дивизия боролась бок о бок с сербами при Цере [56] и в несколько минут ее полностью разбила наша артиллерия, потому что солдаты отказались окапываться, считая ниже своего воинского достоинства красться в земляных окопах.
Во всяком случае, возможно, из-за отсутствия внешности, которой можно в жизни гордиться, у Заги Данилович, казалось, в голове не гулял сквозняк, в отличие от остальных соотечественников. По стандартам цивилизованной довоенной Европы, она бесспорно была кровожадным дикарем. Я был кадровым офицером, но сомневаюсь, что смог бы атаковать врагов с такой безрассудной стремительностью или набраться мужества, чтобы лишить мертвого врага головы.
Тем не менее, я обнаружил, что она не только хорошо информирована об остальном мире, но и грамотна — довольно необычно в стране с единственной школой и где с женщинами обычно обращаются как с рабочей скотиной. Она весело болтала, пока мы двигались вперед по горным склонам, скрашивая крутые подъем своим приподнятым настроением, даже ранец казался легче. Но самое большое удивление ждало меня еще впереди. Мы говорили по-сербски, но в какой-то момент, не вспомнив правильное выражение, я использовал венско— французскую смесь — «das ist mir tout égal» [57] или что-то вроде. И тут как будто щелкнул выключатель. Ее глаза загорелись от восторга.
— Ah m’sieur, donc vous parlez français? Mais quel plaisir! [58]
За этим последовал поток превосходного утонченного французского, в котором я не уловил ни намека на акцент. Я пытался угнаться за ней, но мой французский официальной морской дипломатии с накрахмаленным воротничком был весьма корявым и отдавал школьным классом и официальными приемами на борту военного корабля. Она же не только говорила свободно, но также была знакома и с классической французской литературой (автоматически предполагая, что и я ее читал), музыкой и живописью, и даже с писателями вроде Франсуа Мориака и Анатоля Франса, которые в те дни считались слишком авангардными, а потому не входили в кругозор лейтенанта австрийского флота. Наконец мне удалось задать вопрос:
— Но господарица, скажите, как вам удалось научиться так превосходно говорить по-французски?
— О, я провела два года в лицее для благородных девиц в Цетине. Уфф! До чего ж я его ненавидела! Приходилось носить дурацкие длинные платья, шляпку и белые перчатки, и плеваться сквозь зубы запрещалось. Но там, по крайней мере, я выучила французский, немецкий и русский.
— И почему вы покинули лицей?
— Сбежала.
— И как же вы продолжили изучение французского?
— Учительница сбежала вместе со мной. Мадемуазель Ланнет из Тура. Она тоже ненавидела лицей, так что переехала жить с моим кланом. Она носила мужскую одежду, а через некоторое время научилась стрелять и обращаться с ножом, как любой черногорец. Ее убили в стычке с Драганичами. Но думаю, что Франция — это самая прекрасная в мире страна, а Париж — благороднейший из городов. Мадемуазель Ланнет говорила, что он даже больше Цетине. В моей стране тоже много поэтов и философов, а в бою никто не сравнится с нами храбростью, но боюсь, что мой народ слабо развит этически и отстал в искусстве быть цивилизованным, — она на мгновение замолчала, задумавшись, стоит ли мне доверять. Затем продолжила, — лейтенант Радич, я скажу вам, поскольку считаю другом и гостем семьи. Я давно лелею в сердце мечту, что когда-нибудь, когда я стану старше и četa с Драганичами будет закончена, я поеду во Францию, чтобы учиться в Париже, а потом вернусь сюда и посвящу свою жизнь тому, чтобы поднять философский и культурный уровень моего народа. И теперь, конечно же, у меня получится! Драганич мертв, и кровный долг моему отцу погашен. Вот почему эти два дня я щебечу и пою как жаворонок, ведь я так счастлива. Вот, — она покопалась под блузой, — я хочу показать вам кое-что, что не показывала никому. — Она нащупала и выудила скомканный и изжеванный листок бумаги, мокрый от пота, и протянула его мне. Это оказалась сложенная карта: Carte de la Ville de Paris et ses Environs, Editions Hachette, 1906 [59]. — Вот, — продолжила она. — Я уже два года ношу ее у сердца, потому что знаю: однажды я туда отправлюсь. Теперь я знаю каждую улицу на память. Скажите, дорогой лейтенант, вы там бывали?
— Случилось так, что бывал: два дня в 1907 году, на пути в Лондон, где полгода прослужил при королевском флоте.
Она взглянула на меня, как на священную реликвию.
— О, лейтенант, как чудесно! Все художники действительно живут на Монмартре? Мечтаю встретиться со всеми. Скажите, вы говорили там с Равелем? [60] Когда-нибудь я туда поеду, я в этом уверена.
Миновал полдень. Мы поднялись выше уровня лесов и теперь пересекали сухую известняковую осыпь с валунами и карстовыми впадинами. Пока мы спускались в тенистую долину, тепло отражалось от бледно-серых камней. Вдруг мой взгляд привлекло нечто в стороне от дороге. Это был человеческий череп, лежащий словно выброшенный молочный бидон, пустые глазницы уныло уставились на нас. Потом показался еще один, затем ребра и почти целый скелет. Вскоре вся поверхность вокруг оказалась усеяна костями и ржавым оружием, а также истлевшими фрагментами военного обмундирования.
И повсюду между камнями валялись тысячи латунных гильз. У дороги лежала развалившаяся деревянная телега, ее тянули два вола-скелета, навечно запряженные вместе самой смертью. Что бы здесь ни произошло, это явно случилось много лет назад, судя по обрывкам выцветшей ткани, по-прежнему развевающейся над грудой костей в расселине.
— А это чьи останки? — поинтересовался я у господарицы, хотя она, похоже, не считала кости достойными упоминания.
— Ах, эти? Это Крагуево поле, о котором пел гусляр. Много лет назад мой отец разбил здесь турецкую армию.
— Здесь лежат и кости вашего отца?
— Боже, нет, конечно, — вспыхнула она. — Как такое могло взбрести вам в голову! Нет, мы забрали своих погибших и отвезли их в долину для захоронения. Но турок оставили грифам и лисицам.
— А люди вашего отца захватили много пленных?
— Только одного — бея Нови-Пазара собственной персоной. Остальных предали мечу. Но его забрали с собой, чтобы он заплатил за свои злодеяния.
— И как с ним поступили?
— Как поступили? Его жестокость была притчей во языцех даже среди турок. За год до того его люди захватили моего двоюродного дедушку Милана. Его повесили на рыночной площади в Колашине, продев крюк через ребра. Он умер только через три дня, но говорят, встретил смерть как воин, до самого конца проклиная бея и его приспешников. А люди моего отца заманили в засаду турецкую колонну на перевале Тара и перебили всех, кроме одного. Этого человека отправили обратно в Нови-Пазар с приколоченным к голове письмом к бею. Тогда бей напал на Моначко во время крещенской ярмарки, убил тысячи людей и взял в плен двоюродного дедушку Душана, его жену и дочерей. Женщин насадили на пики у крепостных стен Нови-Пазара. Душана заставили смотреть и подготовили жаровню и металлические клещи, чтобы его ослепить — агония родных должна была стать последним, что он увидит. Но он оказался более ловким. Он выделялся недюжинной силой даже среди черногорцев и вырвал свои цепи из стены, размозжил ими голову палачу и спрыгнул со стены на камни текущей внизу реки. Да, он погиб как воин, — улыбнулась она.
— А бей Нови-Пазара?
— О, когда дедушкины люди схватили его, они обращались с ним, как с собакой, как он того и заслуживал: отрезали ему яйца, поджарили их на вертеле и заставили его сожрать, а потом с него заживо содрали кожу. Говорят, орал он так, что слышно было до самого Колашина. Дедушка приколотил его голову над воротами и приказал каждый год надевать на нее новую феску. Кожу выдубили и превратили в коврик. В детстве я на нем играла, — весело добавила она.
После этих слов я на некоторое время замолчал. На меня не только произвели впечатление меланхоличные образы старых полей сражений, но и слегка замутило от кошмарного списка зверств с обеих сторон, причем она перечисляла их таким бодрым тоном, словно докладывала о результатах соревнований по бадминтону в одной из женских школ Вены. В ту ночь я плохо спал. Было холодно, нога ныла еще сильнее, чем в предыдущий день, и меня мучили яркие сны, в которых Артюр Рембо [61] поджаривал на медленном огне Дебюсси, а армии воинов-скелетов в фесках штурмовали баррикады из мольбертов на склонах Монмартра под завывание гусляра, чья песня эхом прокатывалась по улицам: «Никогда так не пировали вороны, как в парке Монсо».
Глава десятая
Беглецы
На следующее утро при первых же лучах солнца мы отправились в путь, спускаясь по лесам в долину реки Морача. Вдоль неё проходило одно из двух шоссе с твёрдым (более или менее) покрытием королевства Черногория. Наш план заключался в том, чтобы следовать по нему на юг, пока не доберемся до города Подгорица, где долина превращалась в равнину, а затем мы собирались повернуть на северо-запад и подняться до столицы Черногории, города Цетине.
Но проблема в том, что с моей ногой так далеко не уйдёшь. Вызванная поднявшимся на поверхность осколком кости шишка ночью разболелась, и поутру я едва мог ковылять с палкой. Наконец Зага отвела меня в сторонку, в сосновый лес, и уложила на мох. Она развернула обмотку, чтобы осмотреть твёрдое тёмно-синее вздутие.
— Выглядит плохо, — сказала она. — Придётся вскрыть и вытащить осколок.
У меня волосы на голове зашевелились.
— Вы с ума сошли, господарица? Вскрыть? Это может привести к гангрене. И чем вы будете резать?
Она показала свой кинжал.
— Этим. Держу пари, я в своё время вылечила больше ран, чем вы видели в жизни. Там, откуда я родом, нет ни врачей, ни хирургов.
— Но риск инфекции...
Я с отвращением подумал о том, как она использовала нож за последние пять дней: и как оружие, и для еды за столом, и для отрезания людских голов. Она посмеялась над моими опасениями.
— Вот, — сказала она, слегка ударяя клинком по ногтю большого пальца. Он зазвенел, — слышали? Замечательный клинок. Этот принадлежал мне всю жизнь: им перерезали пуповину, когда я родилась. Как такой благородный клинок может вызвать инфекцию? Никогда не слышала большего бреда. Но погодите, нужно приготовить мазь.
Она достала из ранца небольшую глиняную фляжку с отвратительной лозой и скрылась в лесу минут на десять, оставив меня мучиться в догадках, во что я ввязался. Она вернулась, энергично взбалтывая содержимое фляжки.
— Смола чёрной сосны, растворённая в лозе — самая хорошая мазь для открытых ран, лучше всех больничных лекарств.
Я крепко зажмурился и стиснул зубами кожаный ремень, а она принялась работать острием кинжала. Длилось это, думаю, где-то минуту, но это была самая длинная минута в моей жизни. Я старался не стонать, но в самом конце, когда она вытащила осколок, всё же не удержался и вскрикнул от боли. Я открыл глаза; она поднесла осколок, чтобы я мог рассмотреть: белый кусок кости в кровавых потёках, похожий на собачий зуб.
— Ну, вот, столько шума из-за ерунды. Вы называете себя сербом и солдатом: что же за воины у австрийского императора, если так суетятся из-за ерунды? Есть вещи и похуже, скажу я вам.
Тут она была вполне права: сама по себе операция, может, и была мучительной, но также и приятнейшей из ласк, если сравнить с ощущениями от повязки из смолы и лозы, которая заставила меня взвыть от боли на всю долину и возвратилась эхом с противоположной стороны гор.
— Вот, — радостно сказала она, — печёт, да? Но раны очищает просто магически.
Как ни странно, она оказалась права: через день отек уменьшился, а примитивная мазь действительно сняла воспаление: жгучая боль прошла. Но когда мы дошли до дороги в конце долины, нам обоим стало ясно, что я не смогу пройти далеко. Мы сели на обочине и стали думать, что теперь делать. Но пока мы спорили, попросить ли помощи на следующей ферме, несмотря на то, что фермер может оказаться родственником Драганича, или отправиться в монастырь Морача и искать убежища у монахов, я услышал вдалеке звук — знакомый, но дико несоответствующий этой примитивной маленькой стране. Да быть не может! В этом анклаве Афганистана в Европе?
Но я оказался прав: автомобильный клаксон. И вскоре показался источник звука, в раскачку движущийся по ухабистой тропе, которая в этих краях служила дорогой. Это был большой и чрезвычайно потрёпанный автомобиль марки «Панар» [62] королевской черногорской почтовой службы, везущий мешок с недельной почтой из Колашина к сортировочному пункту в Подгорице. Водитель был добродушным молодым парнем, а главное, дальним родственником господарицы.
Так что мы вдвоем забрались на мешки с почтой и поехали вниз по извилистой дороге. Водитель не задавал вопросов, почему двум растрёпанным вооружённым путникам, один из которых, очевидно, ранен, так нужно на юг. Кровавые междоусобицы и клановые войны были столь обыкновенным явлением в этой необычной стране, что человека, сующего нос в чужие дела, посчитали бы в высшей степени невоспитанным.
Я думал, что за прошедшие две недели пережил столько душераздирающих событий, сколько большинству и за всю жизнь не доведется. Но эти тридцать километров на почтовой машине по дороге из Колашина в Подгорицу превзошли всё многократно. Ужас. Полный кошмар. Само транспортное средство, хотя и не старше двух лет, если судить по значку на капоте, находилось в последней стадии дряхлости, до такой степени, что вызывало удивление, как оно вообще ездит. Выхлопную трубу давно оторвало, и все восемь цилиндров оглушительно стреляли прямо в воздух.
Грязь и пыль облепляла ржавый кузов и подножки таким толстым слоем, что казалось, будто машина вырастает прямо из-под земли, все это было стянуто вместе паутиной из старых веревок и обрывками провода. В нескольких местах я увидел дырки от пуль. Что касается коробки передач, то сомневаюсь, осталась ли в ней хоть капля масла. Шестерни визжали и скрежетали так, что уши просто отваливались, а водитель переключался со второй передачи на третью лежащим на полу молотком. А тормоза... их уже давно забрали черти: чтобы остановить машину, водитель направлял ее вверх по склону а затем выскакивал и подкладывал под задние колеса деревянный брусок.
Но это еще полбеды: стиль вождения нашего шофера оказался несравненно хуже. По правде, он вызвал бы тревогу и посреди гладкой равнины, но здесь, на узкой, извилистой дороге, прорезанной в стенах каньона Морача, где в ста метрах внизу бурлит река... Это стало одним из самых жестоких моральных потрясений, которое мне довелось испытать в жизни. Мне оставалось лишь откинуться на гору почтовых мешков, крепко зажмуриться и повторять про себя, будто перебирая четки: «Пресвятая Богородица, спаси и помилуй, этот человек, как и я, не желает умирать; этот человек знает, что делает, и ездил по этой дороге много раз; у него есть жена и дети, которых он нежно любит, а они ждут его дома».
Наконец каньон Морача начал расширяться, а горы по обе стороны стали ниже и лишились растительности. Мы покидали континентальную часть Черногории и въезжали в пустынный карстовый район вдоль побережья, «Камено море», как называют его сербы. Вскоре мы окажемся в Подгорице, а оттуда двинемся на запад, снова в горы, в столицу страны — Цетине. День пути, подумал я. Приехав туда, я прямиком отправлюсь в австро-венгерскую миссию и заставлю их телеграфировать непосредственно в Вену новости о готовящемся двойном покушении.
У нас еще оставалось время. Я не знал точно, какое сегодня число, слишком многое произошло за последние две недели, но, подсчитав, подумал, что сегодня, вероятно, десятое июня. Наследник и фельдмаршал Конрад отправятся на боснийские маневры только в последнюю неделю месяца. И в любом случае, как я знал, после смерти майора Драганича нападение возле Фоча уже не случится. Если главная угроза теперь осталась в Сараево, то полиции будет достаточно двух недель, чтобы схватить заговорщиков, это если еще из-за болтовни Карджежева они пока не угодили за решетку, и арестовать капитана Белькреди, когда тот снова появится на австрийской территории.
Наш тарантас вильнул в сторону, со стоном и дрожью остановился и почти сбросил нас с Загой прямо в пыль, когда водитель передними колесами въехал на склон, чтобы затормозить. Нас взмахом руки остановил пожилой селянин с белыми усами и винтовкой за спиной. Он восседал на осле, а его облаченная в черное жена плелась позади, согнувшись под огромной вязанкой дров. Водитель высунул голову.
— Что случилось, отец? — вежливо поинтересовался он. — Дальше на дороге еще один оползень?
— Нет, сынок, за следующим поворотом, как раз на расстоянии выстрела перегородили дорогу, потому что ищут женщину из наших и чужака... — тут он посмотрел на меня своими ясными глазами, — ...хромого чужака в иностранной одежде. Я с ними поболтал, и они говорят о предательском заговоре против короля Николы и всего дома Петровичей-Негошей, а еще об австрийском шпионе.
Водитель обернулся к нам.
— Что же, друзья мои, все равно мне нельзя возить пассажиров, так что я высажу вас здесь. Да хранит вас Господь, кем бы вы ни были.
— Пусть Господь и все святые отблагодарят тебя за помощь, — ответила Зага (я бы пробормотал «дьявол и его присные», но это было бы неблагодарно).
Мы помахали рукой на прощание, и жалкое подобие автомобиля укатило прочь, громыхая как содержимое скобяной лавки в железной бочке, катящейся с горки. Мы задумались, что делать дальше. Но старик и его жена, похоже, разделяли характерное для всех черногорцев сочувствие к беглецам. Зага спросила его, как избежать засады и добраться до Подгорицы. Старик минут десять (время в этих краях не имеет большой ценности) поглаживал усы.
— Здесь внизу есть рыбацкая хижина, принадлежащая некоему Милану Миланковичу, дочка. У него несколько лодок, и он наверняка даст вам одну, чтобы сплавиться до Подгорицы и оставить её где-нибудь там, а Милан потом ее заберет.
— Но разве по реке сейчас можно сплавиться? Отсюда течение выглядит очень быстрым.
— Да бог его знает. Обычно в это время года — да.
Мы спустились вниз по каменистым склонам долины к хижине рыбака Миланковича, располагавшейся над каменистым берегом. Перед домом виднелись пять местных лодок — любопытные небольшие суденышки с резкими, вздернутыми носом и кормой, целиком выдолбленные из бревна и с дощатыми бортами. Миланкович оказался сговорчив — не стоит упоминать, что он приходился дальним родственником Заги, и мы решили этим воспользоваться. Вскоре нас с ужасающей скоростью уже швыряло вниз по течению Морачи. Приходилось отчаянно грести, чтобы избежать гигантских валунов, неожиданно появляющихся перед нами через каждые десять метров. У нас было время оглядеться и заметить солдат и контрольно-пропускной пункт высоко на утесах. К счастью, мы увидели их, прежде чем они заметили нас. Мы почти скрылись за следующим изгибом реки, прежде чем град пуль поднял море брызг вокруг нас и отрикошетил от скал.
Примерно через пять километров в сторону Подгорицы река хотя и осталась очень быстрой, но расширилась и была не так щедро усеяна валунами. Когда мы прошли под первым из мостов чуть выше города, уже опускались сумерки. Первые три моста мы преодолели без происшествий и приблизились к четвертому и последнему, где река была достаточно медленной, с зарослями тростника вдоль берегов. Какое-то шестое чувство заставило нас снизить скорость. Было достаточно светло, чтобы разглядеть часового с винтовкой и штыком, шагающего взад-вперед по мосту.
Мы вылезли на берег, наполовину скрытый тростником. Часовой выглядел настороженным, мост был низким, и я сильно сомневался, сможем ли мы проскользнуть под ним, избежав пуль. Но пока я не решил, как поступить, решение приняла господарица. Молча и проворно как кошка она выпрыгнула на берег, вытащила нож и стала пробираться через подлесок. Моё сердце заколотилось в ожидании. Тем временем на мосту случилась короткая потасовка, послышалось короткое «Ох!», потом плеск воды, и что-то упало в воду. Меня замутило, Зага вернулась, вытирая ятаган так небрежно, как будто только что зарезала цыпленка. Мы оттолкнули ялик от берега и снова осторожно поплыли вниз по течению. Нужно было хранить молчание. Но у меня всё равно не нашлось бы слов, чтобы выразить свои чувства.
Несколько часов спустя опять начались трудности. Уже стемнело. Облака клочьями проплывали на фоне луны. Мы скользили через болота, окаймляющие неглубокое озеро Скутари, и держали путь по мелким протокам, среди илистых берегов и зарослей тростника и кувшинок — дельте реки Морача. Проблема заключалась в том, что мы заблудились. Я никогда раньше не видел озеро — мы называли его озером Бояна [63] — лишь знал понаслышке, а познания в географии страны у господарицы казались весьма ограниченными. Я мог лишь сказать, что на другом берегу озера стоит деревня Вирпазар, где находится конечная станция узкоколейной железной дороги, ведущей от черногорского побережья в Антибари. Работает ли она, я не брался утверждать, так как слышал, что ее разрушили турки во время войны 1912 года. Однако стоило попытаться.
О Цетине не могло быть и речи, когда за нами по пятам гнался не только клан Драганича, но и черногорская армия, да и моя нога не годилась для ночного скалолазания. Мы гребли вперед, доверяя своему умению ориентироваться и вялому, едва заметному течению, которое должно вывести из озера. Время от времени мы натыкались на скопления гнездующихся водоплавающих птиц, они испуганно хлопали крыльями в воздухе и кричали.
Наконец мы увидели свет на противоположном берегу. Перед нами вырисовывались черные горы, значит мы на правильном пути. И уже буквально через полчаса мы привязали ялик к небольшому деревянному причалу на краю Вирпазара. Железнодорожной станцией оказался простой деревянный сарай. Внутри не было никаких признаков жизни, кроме единственной парафиновой лампы, а между ржавыми гвоздями проросла трава.
— Есть кто-нибудь? — окликнули мы.
Спустя какое-то время появилась фигура с керосиновой лампой. Это оказался станционный смотритель.
— Чего вам надо в такой-то час? — спросил он.
— Мы вдвоем направляемся в Антибари. Когда будет следующий поезд?
Он удивленно уставился на нас.
— Вы с луны что ли свалились? Поезд не ходит вот уже полтора года. Во время войны турки, будь они неладны, подорвали пути, а чинить их некому. А вы кто такие?
Мы пробормотали какие-то извинения и поспешили вернуться к причалу. Теперь у нас оставалась единственная возможность — плыть на юг, к тому месту, где из озера в сторону Адриатического моря вытекает река Бояна. Я знал, что по озеру еженедельно ходит пароход компании «Австрийский Ллойд» [64], но не знал, когда именно. Изнемогая от усталости, мы спустили ялик на воду и снова погребли по озеру.
Начался дождь. Мы гребли с час или больше, а потом остановились и навострили уши, услышав кряхтение лодочного мотора — и двигалась лодка в нашем направлении. Мы изменили курс в сторону кустов на берегу, но слишком поздно. Нас высветил луч фонаря, а голос прокричал издалека:
— Вот они!
Не успели мы что-либо сообразить, как в воду вокруг нас врезался град пуль. Нам удалось опередить преследователей на пути к берегу, мы бросили ялик и кинулись в лес, а пулемет строчил в темноте, пули свистели в ветвях над нашими головами. Моторная лодка продолжала преследование. Вскоре мы услышали, как люди вылезают на берег. Теперь нам не оставалось иного выбора — либо подняться в горы, либо погибнуть, в каком бы состоянии ни была моя нога.
Тот ночной переход через горную гряду Румия [65] всплывает в памяти, как самая ужасная ночь в моей жизни. Дистанция не очень большая — не больше десяти— двенадцати километров, думается мне, — но чрезвычайно крутой подъем, почти до двух тысяч метров от озера Скутари, и затем такой же резкий спуск к берегу Адриатики с другой стороны. Я часто видел гору с палубы корабля, проходя вдоль побережья, её серые, голые известняковые валы, зубчатые и опасные, похожи на горы давно умершей планеты.
Но это было еще не самое худшее, поскольку внизу склоны горного массива Румии по большей части были покрыты типичным для карстового региона подлеском, который французы называют маквисом: плотно спутанные, непроницаемые заросли карликового дуба, сосны, мирта, олеандра и утесника смешались с острыми как битое стекло осколками известняка, кусты божественно пахли в мае и июне, но были почти совершенно непроходимыми.
Мысленно я вернулся в те годы, когда был кадетом, отвечающим за десантный отряд при штурме небольшого форта на острове Брацца [66], нам потребовалось пять часов, чтобы пройти двести метров через спутанные кусты, прибыли мы лишь когда отведенное время уже давно закончилось, и судьи посчитали десантный отряд Прохазки погибшим. Но это было днем и при хорошей погоде, а я не выбился из сил и не приволакивал травмированную ногу, а вооруженные люди не угрожали моей жизни. Несколько раз этой ужасной ночью я падал и молил господарицу бросить меня и спасаться самой. Но она всегда хватала меня за воротник и шла дальше, подставляя плечо, тащила меня через рассыпанные в беспорядке валуны. В конце нашим спасением стала козья тропа, иначе мне не пришлось бы вам об этом рассказывать. Она позволила нам взобраться наверх и уйти от преследователей.
Мы услышали за спиной голоса и одиночный выстрел, но звуки отдалялись, и скоро все стихло, кусты и низкое дождевое облако замедлило продвижение преследователей. Мы продолжили мучительный подъем через колючий подлесок, а затем, когда он стал более разреженным, через скалы и каменистые осыпи. Казалось, это будет длиться вечно. Потом мы заметили, что склоны стали менее крутыми; наконец, подъем сменился спуском.
Подъем к вершине гряды Румия был чистым мучением; но спуск с другой стороны сырым ранним утром и в темноте оказался еще хуже. Наш путь лежал вниз, по жуткому нагромождению скал и пропастей, а потом еще раз в ненавистный маквис. Мы шли туда по едва заметной тропинке, но скоро она оборвалась на участке настолько плотных зарослей, что все буйволы и носороги в мире не смогли бы проторить путь сквозь них. Я даже приблизительно не знал, где мы находимся, а теперь это меня заботило еще меньше.
— Господарица... Мы не можем идти дальше, ни шагу...
Она утомленно кивнула.
— Да... Не можем... Я тоже не могу. Давайте устроимся прямо здесь... По крайней мере, до утра в густых зарослях мы будем в безопасности.
Мы легли, совершенно истощенные, промокшие и продрогшие до костей, и прижались друг к другу в поисках единственного тепла, которое могли найти под холодной моросью. Но как только от усталости мы провалились в глубокий сон, я расслышал слабый звук. Поначалу я решил, что это просто звенит в ушах от утомления. Но нет, сомнений вскоре не осталось: это был мягкий плеск волн о берег.
Мы проснулись на заре, замерзшие и с негнущимися конечностями. Дождь прекратился, но солнце еще не поднялось достаточно, чтобы его согревающие лучи засияли над высокой грядой утесов над нами. При взгляде на гору из кустарника казалось почти невероятным, что мы смогли бы спуститься оттуда и при ясной погоде, не говоря уже о том, чтобы в темноте и под низко нависшими облаками. Я попытался пошевелиться и застонал от боли. Казалось, какой-то китайский мастер пыточных дел разъединил все суставы, а тело съежилось, словно кожа была ему велика на несколько размеров. Зага заворочалась. Выглядела она после ночного похода так же ужасно, как я себя чувствовал, почти потеряла человеческий облик. Она зевнула и потянулась.
— Что ж, — сказала она. — Умираю с голода, да и вы, наверное, тоже. Пойду поищу что-нибудь поесть, пока мы не отправились дальше.
— Но где?
— Я только что слышала перезвон колокольчиков. Это козы. Значит, где-то поблизости есть хижина. Подождите меня здесь.
Она скрылась в кустах. Скрипя от боли как старый стул, я поднялся и огляделся в доходящих до плеч зарослях. И сердце заколотилось от радости: я понял, где мы находимся! Мы провели ночь на низкой, поросшей кустарником известняковой гряде чуть выше каменистого берега широкой и неглубокой бухты. В нескольких километрах к югу я увидел на отрогах горы группу белых домов и признал в них город Антибари. На другом конце бухты, примерно в семи или восьми километрах на северо-запад, лежали несколько каменистых мысов. За ними возвышались два конических пика. Меньший, с восточной стороны, венчали развалины старой венецианской крепости Хай-Нехай. А к югу от нее, как я знал, на 42° 08' северной широты находится деревня Спицца.
Вот, скажете вы себе, несомненно, наконец-то поймали старого лжеца. Как вообще кто-то может помнить такие детали спустя три четверти века? Но поймите: точное расположение Спиццы неизгладимо отпечаталось в моём юношеском сознании ещё в первые дни учёбы в Военно-морской академии. Ведь Спицца была крайней южной точкой Австро-Венгрии, и широта её известна во всём имперском и королевском флоте как «Золотая линия», поскольку корабли к югу от неё стали причислять к работавшим за границей, и в связи с этим их экипажи получали жалование в золотых монетах.
Что ж, теперь всё ясно: австрийская граница с Черногорией тянулась вдоль безымянного горного ручья не более чем в паре километров к северу от того места, где я лежал. Если бы мы прошлой ночью прошли чуть дальше на север, то находились бы в целости и сохранности на дружественной территории. Но едва ли это теперь имело значение, ведь нам требовалось лишь что-нибудь поесть, дабы восстановить силы, а затем доковылять до границы — которая почти наверняка не охранялась, за исключением таможенного поста на мосту, — и незаметно проскользнуть во владения императора Франца-Иосифа.
Усталость как рукой сняло, когда в голове замелькали приятные образы того, что произойдёт, когда мы наконец доберёмся. Я отчитаюсь пункту жандармерии в Спицце и воспользуюсь их телефоном, чтобы связаться с штаб-квартирой военно-морского флота в Теодо, откуда, конечно, нам пришлют автомобиль, как только осознают важность моих сведений. Я подробно доложу обо всём, и адмирал порта сделает официальный выговор за мою выходку — несомненно, в довольно снисходительной манере. А потом я получу то, в чём так отчаянно нуждался — ванну, бритву и новую одежду — и устрою то же самое для господарицы.
А затем, несколько дней спустя, быть может, декорации изменятся на вестибюль дворца Шёнбрунн, я в лучшем двубортном кителе с портупеей и золотыми эполетами, а Старый Господин в бледно-голубом мундире сжимает мою руку со словами вроде «Мы поистине благодарны, Прохазка, что вы предотвратили этот подлый заговор против императорской семьи и высшего командования. Пожалуйста, примите этот маленький знак нашей вечной признательности...». Я также думал и о будущем господарицы Заги. Она, конечно, могла бы переждать в Каттаро, пока у неё дома всё не поутихнет, и вернуться к семье. А может, и нет.
Я был всего лишь скромным линиеншиффслейтенантом, но приложил бы все усилия, чтобы ей воздалось должное за то, что оберегала меня во время этих диких приключений. Кто знает, может, если награда будет довольно существенной, этого хватит на долгожданную поездку в Париж. Я уже планировал поселить её в Вене у тёти Алексы, чтобы она немного освоила польский, когда эти приятные грёзы прервало возвращение самой господарицы. В кустах раздался шорох, а затем появилась она, с буханкой хлеба и куском бледного овечьего сыра в руках. Она принесла дурные вести.
— Хлеб мне дала старуха из хижины вниз по ручью. Она говорит, солдаты здесь ещё с рассвета и проходили мимо как раз незадолго до моего появления, — она остановилась и начала резать хлеб пополам, стараясь не смотреть на меня. — Говорит, они готовы хорошо заплатить за головы пресловутого австрийского тайного агента по имени Прохазка, он же Радич, замешанного вместе с майором Мирко Драганичем в антиправительственном заговоре, и его сообщницы, господарицы Заги Данилович. Они примерно знают, где мы находимся, и, видимо, как только посветлеет, начнут прочёсывать лес, чтобы нас выкурить.
— Тогда попробуем перебраться через границу: она всего в паре километров на север.
Она вздохнула и подняла на меня взгляд.
— Боюсь, не получится: на равнинах, где всё хорошо просматривается, вдоль границы стоят солдаты; а с вашей ногой лезть через горы...
Фраза так и осталась незавершённой. Мы оба знали, что всё кончено. После увиденного в Черногории у меня не оставалось сомнений, что в этой стране награда за чью-то голову понималась в буквальном смысле. Казалось, надо мной уже навис дамоклов меч.
— Господарица, скажите мне одну вещь.
— Да?
— Вы знали, что я австриец, хотя и не шпион и не заговорщик, как говорят?
Она кивнула.
— Да.
— Тогда зачем вы шли со мной всё это время, возможно, навстречу смерти?
Она пожала плечами.
— А вы бы не стали? Это обычай. Вы под защитой моего клана, а значит, я обязана оберегать вас, будь вы хоть самим дьяволом или турецким султаном. Если я вас брошу, то меня проклянет Бог, я обесчещу свою семью. Вот и всё. Так или иначе, поешьте хлеба и сыра.
Она оторвала кусок от половины буханки, но у меня не было никакого аппетита. Увидев это, господарица улыбнулась.
— Ну же, Прохазка, ешьте свой хлеб. У нас есть поговорка, что умирать на пустой желудок вредно.
Я взял свою долю хлеба и кислого белого сыра и стал безучастно их жевать, пристально глядя на море. Из-за мыса у северного края залива показалось большое судно. Оно находилось еще далеко, следуя вдоль побережья, но я смог разглядеть пассажирский пароход с двумя трубами. Странно, подумалось мне: это словно другой мир. Шестьсот пассажиров плывут на юг, на самом роскошном лайнере, какой только может предложить двадцатый век: с электрическим освещением, центральным отоплением, лифтами между палубами и холодной и горячей водой в каждой каюте.
В салонах скоро предложат завтрак, пассажиры поднимутся со своих пружинных матрасов и станут мыться, бриться, одеваться, потом направятся вниз, и вышколенные молчаливые официанты в белых куртках будут подавать им горячие булочки, кофе, вареные яйца и конфитюр. Потом настанет напряженный день, пассажирам предстоит решить, играть ли на палубе в кольца до того, как стюарды в одиннадцать принесут крепкий бульон с булочками, или выбрать подходящий непритязательный роман из судовой библиотеки, а может, направить энергию на легкий флирт с девушкой из соседнего шезлонга, пока ее мать отвернется. А мы сидим здесь, всего километрах в четырех: двое грязных бродяг на краю дикой страны, находящейся еще в бронзовом веке, в ожидании, что нас затравят как зайцев в кукурузном поле и с наступлением рассвета обезглавят.
Я бесцельно глядел на пароход, повернувшийся к нам бортом. Он находился ближе, чем мне показалось вначале, даже если учесть, что приличные глубины начинались почти прямо у берега. Я не мог разобрать название, но понял, что это пароход компании «Австрийский Ллойд». Крест компании был хорошо различим на темно-синих, почти черных трубах, а на корме развевался красно-бело-зеленый торговый флаг Австро-Венгрии с двумя коронами. А потом, не веря собственным глазам, я увидел, как случилось немыслимое. Судно начало снижать скорость, а когда оказалось примерно в трех километрах от нас, полностью остановило машины. Пароход не бросил якорь, но с него спустили моторную лодку, и она полетела к берегу в сторону Антибари. Наверное, за почтой или пассажирами. Но надолго они не задержатся, максимум на полчаса. Нельзя было терять ни минуты: до парохода оставалось километра полтора по берегу, нужно лишь их преодолеть.
— Господарица, живо, вниз на берег! Если сможем найти какую-нибудь лодку...
Она не задавала вопросов — только заковыляла следом за мной по гальке через поросль. Солдаты сюда еще не добрались, зато был рыбацкий сарай с двумя лодками. Мы побежали туда. Одна лодка выглядела крепкой, но слишком тяжёлой, чтобы справиться с ней вдвоем. Другая — маленькая гнилая плоскодонка, но достаточно лёгкая, чтобы дотащить до воды. Также имелось два весла. Я схватился за них, но Зага медлила, погрузившись в размышления.
— Ну же, ради бога... мы не можем проторчать тут весь день! В чем дело?
Она вытащила нож и срезала с корсажа несколько серебряных монет.
— Что за идиотские игры? Ну же!
— Я не воровка и должна заплатить за лодку.
— Но... вы же вчера преспокойно убили своего соотечественника...
— Я знаю. Убийство — это ерунда. Но воровать подло. В Черногории можно оставить мешок с золотом у обочины и вернуться за ним в следующем году...
— Ну же!
Вскоре мы изо всех сил налегли на весла, направив лодку к застывшему в ожидании лайнеру. Я уже заметил, что моторка отошла от причала Антибари. Теперь вопрос был в том, кто доберется быстрее.
Вот уж не думал, что нам это удастся. Но мы пришли голова в голову и оказались у трапа парохода. Над нашей лодчонкой высились черные борта «Горшковски» водоизмещением восемь с половиной тысяч тонн, зарегистрированного в Триесте, а мы вопили, чтобы привлечь внимание второго помощника, поднимающего на борт пассажиров первого класса и их багаж. Пассажиров было шестеро: родители в белом (отец семейства в панаме и с моноклем) и четверо детей в матросских костюмчиках. Все таращили глаза на два грязных всклокоченных привидения, пытающихся добраться до трапа раньше них. Я крикнул по-немецки офицеру и двум матросам, стоящим наготове с крюками, чтобы вытащить моторку:
— Эй, на палубе! Поднимите нас на борт, скорее! Я австрийский морской лейтенант и должен срочно переговорить с капитаном по делу государственной важности!
Второй помощник капитана уставился на нас, а затем отозвался:
— Прочь! Это вам не Порт-Саид, мы не потерпим, чтобы тут шатались торговцы! Пошли вон!
— Вы не понимаете: я должен поговорить с капитаном! На кону жизнь наследника престола!
На борту начали шёпотом переговариваться, а потом один из матросов поднялся наверх. Тем временем семья высадилась с лодки, бросая на нас испуганные взгляды, как на китайских пиратов. Наконец моряк вновь появился и передал офицеру записку. Он прочёл её и посмотрел на нас.
— Хорошо, по очереди поднимайтесь на борт. И без выходок, если дорога жизнь.
Я увидел, что матрос также передал револьвер. Спустя пять минут мы с господарицей стояли на полуюте, пытаясь объясниться с капитаном и старшим помощником, пока нас рассматривала толпа пассажиров у ограждения, стараясь что-нибудь расслышать. Я как можно короче рассказал свою историю, и когда увидел на корабле радиоантенны, потребовал отправить радиограмму в Каттаро. Капитан не обрадовался.
— Радиограмму? — рассердился он. — Вы с ума сошли. Вообще-то я уверен, что вы оба — сбежавшие психи...
Спустя некоторое время радист поднялся к капитану и передал листок бумаги. Тот прочитал, посмотрел на нас и повернулся к нескольким крепким палубным матросам, слонявшимся рядом.
— Хорошо. Обоих — в арестантскую камеру!
Моряки двинулись, чтобы схватить нас. Господарица закричала и вытащила нож. Она бросилась к капитану, но слишком поздно: трое моряков её одолели.
— За борт эту дикарку! — закричал капитан. — Холодные ванны — лучшее лечение от безумия!
И к моему ужасу вырывающуюся, брыкающуюся и кусающуюся, как разъяренная кошка, Загу подняли и небрежно выбросили за борт. Я вырвался и подбежал к поручням. Я боялся, что винты разрубят её на куски, ведь пароход пришел в движение. Но увидел её за бортом — Зага быстро плыла к ялику, который бросили на произвол судьбы дрейфовать в поднятых лайнером волнах. Господарица остановилась на секунду и помахала мне на прощание. Я видел её в последний раз. Вообще-то последний раз за довольно долгое время, когда я видел хоть что-нибудь. Меня схватили крепкие руки, и голос позади произнес: «Прости, но...», а затем что-то вспыхнуло. На мгновение перед глазами мелькнули стремительно приближающиеся доски палубы. А потом стало темно.
Глава одиннадцатая
Последнее воскресенье лета
Когда я очнулся, снова было темно, причем настолько, что я даже сперва решил, будто ослеп. В голове пульсировало, а язык был сухим и потрескавшимся, как старая кожаная перчатка. Потом я медленно начал отличать тьму в своей больной голове от другой — вокруг; разделять пульсацию и тошнотворные толчки в голове от ритмичного стука двигателей и медленного, устойчивого покачивания судна, быстро двигающегося в открытом море. Судя по шуму, липкому теплу и запахам смазочных материалов и угольной пыли, я понял, что лежу в своего рода камере, глубоко внизу, в самой нижней части судна. Я попытался встать с пружинящего матраса — и понял, что руки привязаны к телу рукавами какой-то жесткой брезентовой одежды. Я прекратил попытки, так как в глазах затрещали искры, и снова на некоторое время заснул.
Вероятно, так я пролежал около часа, пока с внезапной, ослепляющей яркостью не загорелась зарешеченная лампочка на потолке. От рези в глазах я зажмурился и отвернулся, глазок в двери приоткрылся, и на меня кто-то воззрился. В замке загрохотал ключ, дверь распахнулась, и стюард принёс на подносе булочку и кувшин горячего молока. Его сопровождал крупный моряк с кофель-нагелем [67] в руке.
Стюард стал кормить меня булочкой с молоком, как маленького ребенка, а матрос стоял позади него, наблюдая за мной явно без симпатии и красноречиво постукивал импровизированной дубинкой по своей ладони, стоило мне попытаться сказать хоть слово. Я заметил с некоторым удивлением, что на нем форма австрийского военного моряка, а не мундир компании «Австрийский Ллойд». Они закончили меня кормить и ушли, так и не сказав ни единого слова. Свет снова погас, и вконец обессиленный, я впал в безжизненную, лишенную сновидений дремоту.
Я проснулся несколько часов спустя, когда снова зажегся свет, и открылась дверь. На этот раз это был человек с погонами судового врача компании «Австрийский Ллойд». Его сопровождали два санитара и тот же огромный, угрюмый матрос. Прежде чем я понял, что происходит, один из санитаров поставил меня на ноги, все еще связанного смирительной рубашкой, и прислонил к переборке, а другой меня измерил. Врач пункт за пунктом ставил галочки в блокноте, как будто выполнял инвентаризацию складских запасов.
— Рост: метр семьдесят пять — есть. Телосложение: среднее — есть. Волосы: тёмно-коричневые, усы такие же — есть. Глаза: серые — есть... Он остановился и посмотрел вниз.
— Свежий сложный послеоперационный шрам на правой голени — есть. Ну, думаю, теперь всё ясно.
Он повернулся ко мне, как будто я только что выиграл дар речи в соревновании.
— Так. Прохазка, у вас тут скверная открытая рана на ноге. Могу спросить, как вы её получили?
— Обломок кости, оставшийся после падения самолёта в прошлом году. Он начал выходить, нужно было вытащить.
— Но как вы его вытащили? Обычно для этого требуется операция под анестезией.
— Моя спутница, господарица Зага Данилович, женщина, которую вы с капитаном пытались утопить, вырезала его ножом.
Он содрогнулся.
— Du lieber Gott... Так, нужно немедленно обработать рану. Просто чудо, что ещё не попала инфекция. Но вам хорошо бы помыться и побриться для начала, а потом мы найдём вам одежду. Придётся сжечь тряпьё, в котором вы ввалились на борт.
Меня сопроводили в душ для кочегаров, и я впервые за две недели насладился мылом и горячей водой. Пришел судовой парикмахер и побрил меня; мне выдали парусиновые морские брюки и полосатый жилет. Затем врач обработал и перевязал рану на ноге, оставшуюся после извлечения осколка кости, и несколько других небольших порезов и ушибов, которые я получил во время безумного спуска предыдущей ночью в горах Румии.
Дневной визит в моей тюрьме в трюме проходил более официально. Делегация состояла из капитана судна в сопровождении стенографиста, пожилого корветтенкапитана имперских и королевских кригсмарине и элегантного господина в монокле, который садился на борт «Горшковски» вместе с семьей тем утром, когда мы с господарицей приплыли на разваливающемся ялике. Для них принесли стулья, а я сидел на краю койки, но в небольшой каморке было очень тесно и зверски душно. Я хотел встать и поприветствовать старшего офицера, но мне дали знак сидеть. Потом начался неофициальный допрос.
Прежде всего я рассказал все, что со мной случилось, начиная с того момента, как я покинул «Тису» на пристани Нойградитца в то роковое утро, и до того мгновения, когда несколько часов назад звучный удар по затылку положил конец моим приключениям. Стенографист записывал каждую деталь, часто останавливалась, спрашивая меня о написании сербских имен. Закончив говорить, я решил, что вполне исчерпывающе отчитался о том, что произошло во время моего пребывания с патриотическим обществом «Звяз о смрт», или «Черной рукой». Я настоятельно попросил в заключении незамедлительно передать мой доклад по радио командующему военно-морской обороной в Каттаро и в Военное министерство в Вене. К моему удивлению, морской офицер насмешливо фыркнул.
— Да, Прохазка, уверен, все это просто чудесно, но скажите мне, вы в последнее время не перегрелись на солнце?
— Не столь уж сильно, герр капитан, могу я поинтересоваться, почему вы спрашиваете?
— Потому что, говоря откровенно, за всю свою карьеру я не слышал подобной чуши.
— Но, со всем почтением, герр капитан, что вы подразумеваете? Существует серьезный заговор с целью убийства начальника штаба и губернатора Боснии, и, возможно, также наследника престола...
И тут вмешался тот гражданский, вкрадчивый и снисходительно вежливый, как профессиональные дипломаты (каковым я его посчитал).
— Да, мой дорогой герр лейтенант, несомненно. Капитан не собирался подвергать сомнению ваше здравомыслие или правдивость. Но нужно признать, что только что изложенная вами история звучит, мягко говоря, крайне надуманной. И если кому-то в голову пришло бы написать повесть, то её бы сочли дико неправдоподобной.
— Уверяю вас, все именно так и было. Я абсолютно уверен, что по меньшей мере восемь вооруженных убийц дожидаются в Сараево визита наследника, и, вполне возможно, отряд четников на границе с Черногорией готовит засаду на фельдмаршала Конрада фон Гетцендорфа и генерала Потиорека. Прошу прощения, если это звучит невероятно, но таковы факты. Боюсь, на Балканах всё выглядит как мелодрама.
Дипломат вынул монокль и протер его шелковым платком.
— Да-да, я ни на минуту не сомневаюсь, что вы стали свидетелем всего, о чем поведали, или кто-нибудь рассказал вам о том, чего вы лично не видели. Но со всем уважением, мне не нужно рассказывать о Балканах. Видите ли, только что закончилось моё пятилетнее пребывание в качестве второго секретаря в нашей дипмиссии в Цетине. И поверьте, в этом регионе заговоры — по пятаку за пучок. Вся страна просто кишмя кишит заговорами и тайными обществами. Знаете, основная проблема с этими балканскими народами — они как дети в теле взрослых: кровожадные, жестокие и коварные, как вы сами видели, но и совершенно некомпетентные, склонны к весьма вычурным фантазиям и совершенно не в состоянии соблюдать конспирацию. Сомневаюсь, может ли хоть кто-нибудь из сербских головорезов ограбить хотя бы продавца спичек, не раструбив предварительно об этом во всех газетах. Как вы сами заметили в своем докладе, уровень потенциальных убийц, якобы отправленных в Сараево вашим майором Драганичем, крайне низок, в эту часть вашей истории я охотно верю. На самом деле, судя по вашему рассказу о майоре, готов поспорить, что он, вероятно, самозванец, вообразивший о себе невесть что. Выглядит полным шутом, и, разумеется, в Цетине я встречал довольно много таких — заговорщиков, которым не доверишь и почтовую марку купить.
— Но никто же не станет уверять, что «Связ о смрт», или «Черная рука», не существует.
Он устало улыбнулся.
— Сегодня нам пришлось немало потрудиться, Прохазка, и захватить радиорубку на несколько часов, чтобы проверить то, что вы рассказали капитану, когда поднялись на борт. Мы связались с министерством иностранных дел в Вене, а они даже телеграфировали в военную миссию в Белграде. Но что касается этого вашего «Единства или смерти», оно же «Черная рука» — ну и названия, кстати, прямо как из оперетты, — мы не нашли совершенно ничего. Ни разведка, ни эксперты по балканским террористическим организациям в Белграде никогда не слышали о подобной организации. Вообще-то в министерстве иностранных дел нам сказали без обиняков, что мы зря отняли у них время.
— Но, герр...
— Барон, Прохазка. Барон Эрдейи фон Эрделихаза.
— Но, герр барон, в это вовлечены и австрийцы, я собственными глазами видел по меньшей мере одного, гауптмана Белькреди, с кем я когда-то работал в одном кабинете в Вене. Он оказался эмиссаром, которого они здесь ждали, настоящим «Прохазкой».
Барон вздохнул, вытащил лист бумаги и вставил в глаз монокль.
— Вот, герр лейтенант. Военно-морской департамент Военного министерства соизволил прислать нам телеграфом выдержку из вашего служебного досье. Разрешите зачитать? «Усердный и сведущий офицер, склонный, однако, к поспешным суждениям, бросается выполнять задачи, не рассматривая операцию в целом». Вам не приходило в голову, Прохазка, хоть на минутку, что гауптман Белькреди, если вы и впрямь видели именно его, находился среди бандитов, потому что этого хотели мы? Или если вашей шайке юных заговорщиков позволили попасть в Австрию и разгуливать на свободе по Сараево, то именно этого и хочет австрийская полиция? Право, Прохазка, вас считают человеком сообразительным, и вы могли бы догадаться, что одним из способов борьбы с политическим терроризмом является внедрение своих людей в ячейки террористов, чтобы дать заговору созреть. Ну как с нарывом — сначала дают ему немного подрасти, а потом уже вскрывают.
— Другими словами, вы внедряете людей в те организации, которые, как вы только что уверяли, даже не существуют...
Он взглянул на меня исподлобья.
— Я не говорю, что они не существуют, даже если нам не встречались эти названия: сербский политический терроризм, увы, существовал всегда. Но, по всей вероятности, это не более чем крохотные фракции, отколовшиеся от основной группы, «Народна одбрана» [68]. Вообще-то, герр лейтенант, уверяю вас, что в подавляющем большинстве случаев название — самая впечатляющая часть этих организаций. В дипмиссии в Цетине у нас целая картотека с подобными названиями: «Союз крови», «Бородатые мстители Святого Вита», и, как правило, больше ничего. Нет, Прохазка, ваша забота о благополучии начальника штаба и наследника весьма похвальна для младшего офицера, но можете быть уверены, что за ними хорошо присмотрят компетентные органы. Австрия уже три века проводит свою политику на Балканах, и еще со времен князя Меттерниха [69] наша политическая разведка не имеет равных. Я уверен, что все под контролем, — барон перетасовал бумаги, — во всяком случае, я сказал, все что хотел, так что теперь оставлю решение этого вопроса соответствующим инстанциям. Герр корветтенкапитан?
— А? Что? Спасибо, господин барон. Ну, Прохазка, дела обстоят так: Маринеоберкоммандо в своей мудрости решило, что как старший морской офицер в этих водах, я стану на некоторое время вашим командиром и разгребу последствия вашей выходки. Теперь, буду откровенным, у вас есть выбор.
— Выбор, герр капитан? Простите, но я не понимаю.
— Вот что, Прохазка, желает сообщить вам герр корветтенкапитан, — вмешался барон Эрдейи. — Вы можете выбрать один из двух возможных вариантов.
— И каковы же они, герр барон?
— Либо вы настаиваете на своих немыслимых заявлениях о так называемом заговоре с целью убийства начальника штаба и престолонаследника, хоть президента Франции, если пожелаете, и в этом случае вас высадят в ближайшем порту и отправят в Полу под конвоем, где вы предстанете перед трибуналом...
— Значит, именно так я и поступлю.
— Пожалуйста, герр лейтенант, пожалуйста, не спешите. Выслушайте меня, умоляю, и примите во внимание возможные последствия.
— Последствия, герр барон? Для кого?
— Для вас, мой дорогой друг. Пожалуйста, попытайтесь понять, как все это может выглядеть скорее всего перед военным трибуналом. Вы тринадцать дней отсутствовали на корабле без разрешения, по вашему собственному признанию, в результате любовной интрижки с местной женщиной; вы провели большую часть этого времени в компании вооруженных врагов двуединой монархии; неоднократно покидали и возвращались на австрийскую территорию без разрешения, в гражданской одежде и без прохождения пограничных формальностей; и когда, наконец, появились сегодня утром у Антибари, то опять же в компании молодой женщины, на этот раз с оружием. Правда, Прохазка, будьте разумным и просто подумайте, как все это может выглядеть в глазах опытного обвинителя. Конечно, мне не стоит напоминать вам, что, являясь австрийским офицером, вы всё же чешского происхождения. Уже несколько лет в Вене сильно обеспокоены панславянской подрывной деятельностью в чешскоговорящих областях и в австро-венгерской армии. И уверяю вас, если в департаменте военного прокурора решат, что они наткнулись на чешско-сербский заговор в офицерском корпусе, следователи будут давить, пока у вас глаза из орбит не вылезут, даже если вы невинны как агнец. Двуединая монархия — цивилизованное государство и не использует смертную казнь за измену в мирное время; но я вполне уверен, что вы получите двадцать пять лет каторжных работ. Подумайте мой дорогой друг, сначала подумайте, прошу вас.
— Тогда могу я поинтересоваться, какова же альтернатива?
— Альтернатива, — ответил уже корветтенкапитан, — Прохазка, в том, что вы под моим командованием спокойно возвращаетесь к карьере морского офицера на борту этого корабля, предав забвению ту дурацкую выходку. Если вы выберете этот вариант, то Маринеоберкоммандо уверило меня, что расследования не будет. Разве что вам придется хранить все произошедшее в тайне.
— На борту этого корабля, герр корветтенкапитан? Но, со всем уважением, это пассажирский лайнер...
— Я в курсе. Я командую отрядом моряков, следующих к своему кораблю.
— Могу я поинтересоваться, к какому именно?
— Разумеется. Крейсер «Кайзерин Элизабет». Мы должны прибыть в Шанхай шестнадцатого июля и присоединиться к экипажу.
Так что на самом деле выбора у меня особо и не было: либо меня высадят в Порт-Саиде и отправят обратно в Полу на следующем же корабле как потенциального заключенного, который предстанет перед военным трибуналом, либо сверхштатная должность в отряде пополнения из сорока моряков, плывущих на Дальний Восток, чтобы заменить тех, у кого истек срок службы на борту австро-венгерского корабля-стационера в тех водах — уже довольно дряхлого крейсера «Кайзерин Элизабет». Но это лишь через несколько недель, а пока же я вел довольно странное, не вполне свободное существование на борту «Горшковски»: у меня была собственная каюта, одежду мне одолжили другие офицеры, но в остальном мне полностью запретили вступать в какие-либо контакты с пассажирами и членами экипажа лайнера или говорить с кем-либо из состава пополнения, кроме как по служебным вопросам.
Мне даже не разрешалось обедать с другими офицерами: еду приносил в каюту стюард. Это был серьезный и степенный человек лет пятидесяти по имени Фердинанд Вонг — китаец-католик из Триеста, чьи родители переехали в этот город из Китая еще в 70-х годах девятнадцатого века и стали играть заметную роль в маленькой китайской общине. Вонг был приветливым, очень ловко и ненавязчиво исполнял свои обязанности и гордился тем, что стал стюардом в первом классе на линиях «Австрийского Ллойда». Ему не разрешали много со мной разговаривать, но, чувствуя моё неловкое положение на борту, он был по-отечески добр ко мне и на протяжении всего рейса обращался со мной как с травмированным котенком, уложенным в картонную коробку с подкладкой из старого одеяла, которого нужно выходить до полного выздоровления.
Мне нечем было заняться, разве что читать книги, которые Вонг приносил из судовой библиотеки. Но поскольку я был физически и эмоционально истощен приключениями на Балканах, это плаванье, по крайней мере, позволило восстановить силы и залечить рану в ноге. Тем не менее, я был морским офицером, поэтому мой новый командир, корветтенкапитан Юлиус Фихтерле, вынужден был найти для меня какое-то занятие. В конце концов, он смог придумать лишь должность офицера-шифровальщика. Как вы можете себе представить, чудовищно скучная работа на борту гражданского лайнера в мирное время. В основном я просто сидел в радиорубке и читал, как и раньше.
Мне запретили разговаривать с радистом по внеслужебным вопросам, но это едва ли имело значение: в те дни компания Маркони предоставляла радиоаппаратуру вместе с радиотелеграфистами и не поощряла их общение с командой. Прозванные «маркошами», они носили собственный мундир, сами несли вахты и, как правило, старались поменьше общаться с кем-либо на борту.
В остальном про эти несколько недель на борту лайнера и рассказать нечего. «Горшковски» летел по залитому солнцем Средиземному морю гладко, как поезд по рельсам, на пару часов бросил якорь в Порт-Саиде, пока мы пережидали встречные корабли, уже плывущие по Суэцкому каналу — французский крейсер и два транспортных корабля по пути из Сайгона в Марсель. Потом мы вошли в канал и как призраки проскользнули мимо залитой лунным светом пустыни по пути к Исмаилии и Порт-Суэцу. Затем последовал ужасный, изнурительный от жары проход по Красному морю: всё живое, вплоть до последнего таракана, сгрудилось на затененной стороне судна, а палубы обливали водой каждые несколько часов, чтобы доски не растрескались и не выгнулись. Мы прибыли в Аден и остановились на день, чтобы высадить пассажиров и почту в этом тоскливом жарком мареве. Потом настала очередь необъятного сияющего простора Индийского океана, уже неспокойного, с внезапными дождевыми шквалами, поскольку близился сезон муссонов.
В воскресенье утром мы прибыли в Коломбо. Когда мы вошли в гавань, над раскидистыми кокосовыми пальмами плыл звон колоколов англиканского собора, созывая прихожан Цейлона к заутрене. Мы ошвартовались у причала и, поскольку требовалась замена конденсаторной трубы, пассажирам, членам экипажа и подразделению военных моряков на двадцать четыре часа разрешили сойти на берег. Всем, кроме меня. Я должен был оставаться на борту и отправить несколько ничего не значащих зашифрованных телеграмм в морской департамент Военного министерства в Вене, информируя о продвижении отряда Фихтерле по земному шару, как будто мы совершали какой-то знаменательный вояж первопроходцев.
В Коломбо нас ждали несколько официальных телеграмм, но они и выеденного яйца не стоили. Наступил день, а с ним пришло и неожиданное приглашение, доставленное мичманом на шикарной гоночной гичке. Оно было от капитана британского линкора «Неумолимый», стоящего на якоре по другую сторону гавани, старенького броненосца класса «Канопус», который еще не так давно был флагманом Королевского флота в Индийском океане. Они узнали, что на «Горшковски» находится австрийское морское подразделение, и пригласили вечером в гости. Все радовались возможности отвлечься от монотонной корабельной жизни. За исключением, опять же, меня. Старый Фихтерле имел виноватый вид, когда зашел ко мне в радиорубку перед тем, как они отбыли.
— Ну, Прохазка, жаль, что вы не можете пойти с нами, особенно теперь, когда я узнал, что вы неплохо владеете английским, а сам я на нем не говорю. Думаю, придется взять кого-нибудь в качестве переводчика. Так или иначе, я велел стюарду-китайцу, чтобы принес вам особый ужин из ресторана первого класса в качестве компенсации.
— Спасибо за заботу, герр командир.
— Не благодарите, — на какое-то время он замолчал, глядя сквозь открытую дверь радиорубки на гавань — великолепное тропическое солнце уже тонуло за горизонтом Аравийского моря. — Какая всё-таки странная жизнь. В смысле на флоте. Лично мне кажется, что с вами обошлись слишком жестоко. Молодой офицер в мирное время на флоте — чего они ожидали? Конечно, вы жаждали приключений и ввязались во всякие глупости. А кто бы так не поступил, кроме уж самых никчемных? Они что, хотят, чтобы флотом командовали слабаки? Если им нужны именно такие офицеры, то могли бы и штатских отправить на флот и тем с ним покончить, — задумавшись, он на какое-то время замолчал. — Но возможно, именно этого они и добиваются, на флоте у нас стреляют раз в полвека. Довольно забавно, если подумать: я везу людей в Шанхай, а затем, выполнив задачу, просто вернусь обратно, и старый Юлиус Фихтерле выйдет на пенсию. Пятьдесят три года я служил императору и ни разу не видел серьезных передряг. Я был гардемарином на борту старого «Кайзера», помните, во времена Датской войны: прибыл в Куксхавен в тот день, когда датчане предложили перемирие. Потом плавал на «Галатее»: в 1866 году прибыл в Лиссу, подоспел только, чтобы подобрать несколько трупов. Затем полвека драил медяшку, переводил бумагу и наказывал матросов на два дня гауптвахты за пьянство и неподчинение. Не слишком насыщенная жизнь. Но вскоре всё кончится. Я уже присмотрел домик в Граце, где проведу старость, и место на семейном кладбище для нас с фрау Фихтерле. Иногда я удивляюсь, зачем вообще жил. У меня два сына, знаете ли: один занимается медициной, а другой — адвокат. Я сказал им, пусть занимаются чем угодно, только не служат в армии в мирное время: это смерть при жизни. Но, Прохазка, это не должно вас расстраивать. Мы отбываем, так что в мое отсутствие вы побудете вахтенным офицером. Приглядывайте за кораблем и смотрите, чтобы его никто не украл, пока нас нет. До свидания!
— Приятного вечера, герр командир.
— Благодарю, уверен, он таким и будет.
И я остался один. Вскоре стемнело, в вышине над палубой ярко засияли звезды, а во мраке жужжали светлячки. Вырвавшись из-под навеса, натянутого на квартердеке «Неумолимого», над водой поплыли аккорды вальса «Судьба» в умелом исполнении оркестра королевской морской пехоты. Издалека доносились раскаты смеха и звон стаканов. Все явно отлично проводили время. Мне страстно хотелось оказаться среди них.
Я бегло говорил по-английски, а проведя в 1907-1908 годах шесть месяцев при королевском военно-морском флоте, сохранил теплые воспоминание об этих довольно молчаливых, но добродушных и гостеприимных людях, населяющих кают-компании. Мне всегда поражало, что их монументальная, непоколебимая уверенность в себе — результат векового неоспоримого господства в океане и репутации первоклассных мореходов — сделала их приветливыми и гостеприимными, а не высокомерными и властными, как немцев, или раздражительными и недовольными, как французов и русских. Как будто англичане милостиво позволяли всем остальным плавать в своём океане с надеждой, что мы будем наслаждаться этим, как некий герцог, любезно открывающий в благотворительных целях на одно воскресенье в год свои сады для публики.
Я съел ужин, принесенный стюардом Вонгом — отличный, как и было обещано, а потом какое-то время читал. Но было трудно сконцентрироваться, теперь, когда я предоставлен сам себе на борту судна, почти безлюдного и тихого, за исключением разве что приглушенных ударов по железу где-то внизу, где инженеры разбирались с конденсатором. Я все еще пытался сам разобраться с ошеломляющим развитием событий последнего месяца. А еще оставалась тревога за двух женщин, принявших участие в моём диком турне по Балканам. Одна, в первую очередь, зачинщица цепи событий, из-за которых все и началось, а другая — спасительница, вытащившая меня из них живым. Я был уверен, что господарица Зага сейчас в безопасности.
В последний раз, когда я видел её, она плыла к брошенной лодке, и, конечно, её хватило ума грести к Спицце и высадиться на австрийской территории, уклонившись от охотников на черногорском берегу. Но что с пани Боженой? Может, муж и его сообщники перерезали ей горло, а потом утопили тело в Дунае, или изуродовали лицо в качестве наказания за прелюбодеяние? Грбич выглядел способным на любую жестокость.
Как только мы высадимся в Шанхае, я отправлю Зейферту на «Тису» письмо с просьбой выяснить, что случилось с Боженой. Он, должно быть, уже знает, что я нахожусь в пути на Дальний Восток: Фихтерле через Вену связался с Панчовой, и оказалось, что меня сочли пропавшим без вести еще двадцать восьмого мая (предположительно утонувшим во время купания в реке). Мою одежду обнаружили аккуратно сложенной на островке, где я ее оставил, и через пару дней вместе с другими моими пожитками продали бы на аукционе. Боцман Йованович всё упаковал, чтобы отправить в Шанхай со следующим пароходом.
Уже было довольно поздно, но с борта «Неумолимого» все еще доносилась музыка. Видимо, в нашу честь звучали избранные номера из оперетты Легара «Граф Люксембург». Наконец где-то в одиннадцать вечера в дверь радиорубки постучал стюард.
— Простите герр шиффслейтенант, но у трапа стоит какой-то местный и просит разрешения поговорить со старшим австрийским морским офицером на борту. Боюсь, я не очень хорошо говорю по-английски, не могли бы спуститься вниз и узнать, что ему нужно?
Я спустился вниз по сходням. Это оказался тонконогий очкастый местный клерк с телеграфа, держащий телеграмму, адресованную военно-морскому подразделению, Фихтерле, «Горшковски», Коломбо, сверхсрочно.
Я поблагодарил курьера, дал ему на чай и отослал обратно в теплый сумрак вместе с велосипедом. Отнес телеграмму в радиорубку, открыл и сразу понял, что там какая-то тарабарщина.
нас ледник при столе суп рогоз астра елены сара его дожи дайте с дальней щука за ней
Казалось, послание зашифровано, но я не мог понять каким кодом. В 1914 году кригсмарине использовало аж четыре кодовых книги: официальный военно-морской код Тройственного союза, его немецко-австрийский вариант (необходимый в связи с вполне обоснованными сомнениями по поводу лояльности третьего партнера — Италии), австро-германский дипломатический код и внутренний код императорского и королевского флота. Дикая путаница в результате использования не той книги — обычное явление в жизни австро-венгерского офицера-шифровальщика. Я по очереди доставал каждую книгу из сейфа и пытался расшифровать загадочную телеграмму. Каждый раз результатом была еще большая чушь, чем прежде.
Потом я снова посмотрел на сообщение и увидел, что даже если оно и не имело никакого смысла, все слова были английскими или близкими к тому. Возможно, мы получили неправильную телеграмму? Я с интересом всмотрелся в слова. Это было похоже на составление анаграммы из имени – когда глядишь на буквы и знаешь, что за ними скрывается что-то еще, но не можешь это извлечь. Для начала многообещающими казались «суп» и «щука»: возможно, местного кока завтра весьма озадачит срочная телеграмма из Вены, сообщающая, что в результате поправок к флотскому уставу от 1908 года теперь матросам следует подавать по субботам холодный рыбный суп.
Несомненно, суп можно охлаждать на леднике, прежде чем подавать на стол. Но при чем здесь цветы и женские имена? К тому же перепутаны все падежи. А какое ко всему этому имеют отношение венецианские дожи? Одно ясно — они, безусловно, далеко. Полный бред, но на удивление завораживающий, если в том, из чего я пытался извлечь смысл, он вообще присутствовал. Я просидел почти два часа со стаканом холодного пива поблизости, а пол вокруг меня был завален скомканными листами бумаги, пока я комбинацию за комбинацией пытался найти в этом хоть крупицу смысла.
Наконец я услышал шум гуляк, возвращающихся с «Неумолимого»: матросы по брови накачались британским пивом и ромом, а офицеры — розовым джином. Я показал загадочную телеграмму Фихтерле, который весьма заметно покачивался и цеплялся за поручни, стоя у трапа.
— Не печальтесь об этом, Прохазка — кто-то дурью мается на телеграфе. Если это важно, то пошлют еще раз, а нет — отлично обойдемся и так. Я иду спать. Спокойной ночи.
И он ушел к себе в каюту. Как только дверь за ним захлопнулась, нас окликнули снизу. Я перегнулся через поручни — у борта покачивалась четырехвесельная гичка, лопасти ее весел фосфоресцировали в темноте. Британский капитан-лейтенант стоял на кормовой банке. Я понял, что на ногах он держится весьма нетвердо.
— Вижу, вы из австрийского военного флота? Вы-говорите-по-английски?
— Да. Говорю. И чем я могу вам помочь?
— Послушайте, старина, мне не хочется быть предвестником беды и все такое, но я с «Неумолимого». Наш радист только что поймал сигнал немецкой станции в Дар-эс-Саламе, ретранслированный с Науэна. Кажется, вашего кронпринца или как-его-там и его жену сегодня утром застрелили анархисты в местечке под названием Сара-что-то-там, где-то на Балканах. Капитан послал меня сообщить, что мы выразим официальные соболезнования и завтра утром приспустим флаг и все такое. У вас не военный корабль, но капитан говорит, что поскольку на борту находится отряд австрийских военных моряков, то мы выкажем уважение как военному кораблю.
— Благодарю, вы очень добры.
— Никаких проблем. Что ж, мне пора, и еще раз простите за то, что принес дурные вести.
В задумчивости я направился обратно в радиорубку. Фихтерле громко храпел в своей койке. Наверное, нет никакого смысла будить его и сообщать новости из Сараево. Похоже, юные убийцы, посланные майором Драганичем, оказались всё же не такими уж неумехами.
Я взглянул на лежащую на столе телеграмму. Конечно, теперь всё встало на свои места: местный телеграфист не понял немецкого и преобразил его в знакомые слова:
наследник престола с супругой застрелены в сараево дожидайтесь дальнейших указаний
В ту ночь я почти не спал.
Новости флотскому подразделению официально сообщил Фихтерле в восемь склянок на следующее утро, а пассажирам — капитан Мартинелли за завтраком. Объявили траур. Никто, похоже, точно не знал, сколько дней положено скорбеть по Наследнику престола, и решили остановиться на трех. До четверга на борту отменили все танцы, концерты и другие увеселения. Но не считая этого траур был простой формальностью.
Вечером во время ужина мне сказали, что группа венгерских пассажиров в обеденном зале второго класса заказала шампанское и устроила шумную попойку с пением и плясками, пока не пришел капитан и вежливо не попросил вести себя потише. Но даже австрийские пассажиры не сильно горевали. В народе Франца-Фердинанда никогда особо не любили, хотя, конечно, никто не осмелился признаться вслух — большинство втайне испытало облегчение, что им не придется мириться с ним в качестве императора. Теперь наследником стал молодой эрцгерцог Карл и его прекрасная жена — итальянка Зита, и все считали его — как это говорят? — «славным малым»: добросовестным, заботливым и, как сообщалось, с либеральными современными взглядами. Ну прямо как ваш принц Чарльз.
Что касается меня, я ничего не говорил по поводу событий в Сараево, поскольку поклялся хранить молчание. Но мне было жаль, что два человека бессмысленно погибли отчасти потому, что мои предупреждения проигнорировали. Очевидно, вера барона Эрделихазы в компетентность австрийской полиции и разведки не оправдалась; он и сам это негласно признавал, избегая моего взгляда, когда мы несколько раз встречались на палубе.
Либо, в лучшем случае, чиновники как всегда не разобрались, либо эрцгерцога и его жену преднамеренно отдали на растерзание вооруженным убийцам. Лично мне было очень жаль герцогиню Гогенберг, спасительницу моей правой ноги, оставившую троих детей сиротами. Я вспомнил святой медальон, который в приступе гнева выбросил тогда в госпитале Фиуме. Отдали ли его герцогине? О чем она подумала? Узнать это и отблагодарить её или что-то объяснить теперь невозможно.
Что касается престолонаследника, я в любом случае не считаю, что наказанием за дурной характер должна стать смертная казнь. Мои чувства по поводу его жестокого конца были такими же смешанными, как и у большинства австрийцев. Я сожалел о том, что убили человека, и по-прежнему думаю, что его грубость, раздражительность и бессердечность были вызваны наследственностью и обстоятельствами, в которых он находился. Но я был рад, что он не станет нашим императором. В последнее время я часто слышу разговоры о том (обычно об этом твердят престарелые баронессы-католички в изъеденных молью лисьих манто), что, если бы он выжил, то габсбургская монархия продолжила бы свое существование.
Должен признаться, я в это не верю, потому что он был жестоким, фанатичным деспотом-милитаристом, в его дурной голове не содержалось ни единой дельной мысли. Старая Австрия была обречена на смерть: либо от постепенно разложения без Франца-Фердинанда, либо от приступа бешенства с ним. Я был одним из тех, кто всё потерял во время распада Австрии: карьеру, страну, дом и даже любимую женщину. Но я все еще считаю, что это куда лучше, чем тот ужасный конец, который ждал бы нас с приходом Франца-Фердинанда в качестве правителя.
Спустя несколько дней качки в Бенгальском заливе — первого случая плохой погоды с начала нашего путешествия — проблемы далекой Австрии казались еще более отдаленными, чем раньше. Почти все пассажиры разошлись по каютам, кроме нескольких опытных мореплавателей, которые остались на палубе, чтобы посмотреть на серые волны, прохладный дождь и частые вспышки молний, пока над нами сгрудились низкие муссонные облака. Связь была ужасной, и до нас дошло лишь несколько сигналов: подтверждение новостей из Сараево и приказ об официальном трауре, затем спустя несколько дней поступило сообщение о возможных дипломатических трудностях с Сербией, и что за каждым сербом на борту следует наблюдать.
Единственным сербом на борту оказался коммивояжер из Кантона. За ним должным образом следили на палубе, и стоило ему немного отойти от морской болезни, пара вооруженных людей с револьверами следовали за ним по пятам с приказом застрелить, если возникнет малейшее подозрение, что тот собирается захватить корабль. Мы прибыли в Пенанг третьего июля, прошли мимо Сингапура и через Малаккский пролив, в Южно-Китайское море. В Гонконге мы оказались двенадцатого июля, а утром шестнадцатого июля, точно по расписанию, вошли через серую утреннюю дымку в мутные желтоватые воды дельты Янцзы. Впереди виднелись Шанхай и его пристань. Наше путешествие окончилось.
Ну, почти. Как только «Горшковски» пришвартовался, мы осмотрели длинные ряды кораблей на реке. Среди них была масса военных: британские, американские, французские, голландские и даже датские. Но мы нигде не видели знакомый угловатый силуэт «Кайзерин Элизабет». Мы с Фихтерле сошли на берег, к конторе Объединенной восточноазиатской телеграфной компании. Мы были уверены, что здесь нас уже ждет телеграмма. «Кайзерин Элизабет» не смогла спуститься по реке в Шанхай, как планировалось, вместо этого она сейчас бункеруется углем в Чифу, на северном берегу Шаньдунского полуострова. Группе Фихтерле, таким образом, предстояло продолжить путь на поезде до Тяньцзиня, а оттуда на каботажном пароходе до Чифу, а там уже присоединиться к экипажу корабля.
Поезд шел до Тяньцзиня тридцать шесть часов, во время которых я быстро привык к плоскому болотистому ландшафту восточного Китая и характерному запаху — смеси вони из сортиров, прогорклого масла и дешевого табака. Сталкиваясь с местными жителями, я также снова ощутил себя словно прозрачным (странное и довольно неприятное чувство) — не полностью невидимым, но будто бы меня здесь нет. Они относились ко мне не враждебно, но постоянно изучали с тревожащим, каким-то научным интересом, словно рассматривали экзотического жука через увеличительное стекло. Хотя большую часть путешествия мы редко сталкивались с китайцами. Железные дороги являлись иностранными концессиями и шли через Поднебесную империю как трубопроводы — длинные полоски чужой земли, управляемые по иностранным законам и находящиеся под охраной иностранных войск.
Еще одним подобным анклавом являлся отель китайской западной железной дороги в Тяньцзине — кусочек Европы в центре пыльной, желтой, продуваемой всеми ветрами равнины к югу от Китайской стены. Припоминаю, что в фойе висела табличка «Собакам и китайцам вход запрещен».
Офицеры остановились там на ночь (матросов разместили в близлежащих немецких казармах), пока ждали парохода в Чифу. В полвосьмого я спустился к ужину, там меня ожидал приятный сюрприз — профессор Регниц, только что прибывший на поезде из Сибири по пути в Йокогаму. Мы не виделись с тех пор, как он навестил меня прошлым летом в больнице, поэтому профессор пригласил меня пообедать. Должен признаться, приглашение оказалось просто манной небесной, потому что в то время я находился в крайне затруднительном положении. Жалование где-то задерживалось, и мне пришлось брать взаймы у казначея «Горшковски». Во время ужина Регниц поведал, что ненавидит морские путешествия, поэтому прибыл сюда через Москву по Транссибирской магистрали. Причиной его поездки было приглашение прочитать серию лекций по административному праву в Токийском университете.
— Оказывается, наши маленькие японские друзья высоко ценят австро-венгерскую систему государственного управления. В этом случае я могу только сделать вывод, что они и вполовину не столь умны, как все утверждают. По правде говоря, этого самого управления у нас больше, чем где бы то ни было. Но почему это должно делать из нас экспертов? Точно так же можно считать покойного эрцгерцога Отто авторитетом в вопросе сифилиса на том основании, что он цеплял его чаще, чем кто-либо из ныне живущих.
Из-за того, что я пообещал держать язык за зубами, я не мог ничего рассказать о своих приключениях с «Черной рукой», но разговор неизбежно коснулся убийства в Сараево, о деталях которого я до сих пор знал очень мало.
— Стрелял сербский студент, — сообщил Регниц, — парень по фамилии Принцип девятнадцати лет. Но чем больше сведений попадает в газеты, тем удивительнее выглядит всё это дело. Австрийская государственная машина, которой так восхищаются японцы, в то утро явно дала маху. Вообще-то в Вене даже поговаривают, что это Потиорека следует пристрелить за то, как он организовал охрану престолонаследника во время визита. Похоже, убийца и его сообщники, по крайней мере пятеро, бродили вокруг целых две недели, рассказывая о своих планах всем подряд, но ни один из полицейских в штатском их не задержал. Тем утром, один из них метнул бомбу в машину наследника и промахнулся. После этого Франц-Фердинанд и герцогиня решили побыстрее покинуть город по другой дороге, но шофер всё неверно понял и свернул не туда, потом попытался развернуться обратно, и прямо перед носом нашего юного друга Принципа, стоящего на обочине с револьвером в кармане. Войск вдоль маршрута не было, лишь жалкая кучка полицейских: в общем, всё было организовано из рук вон плохо, говорят даже, будто наследнику специально позволили отправиться в город, кишащий убийцами, чтобы от него избавиться. Лично я в это не верю, зная, до каких вершин некомпетентности может подняться наша бюрократия. Но могу понять тех, кто чует здесь заговор. Незадолго до того, как я покинул Вену, как раз был скандал, когда сербский представитель в Вене прислал заблаговременное предупреждение, но раз Боснией занимается министерство финансов, то письмо легло на стол слабоумного Полака Билински, и он не соизволил его прочесть, пока не стало слишком поздно.
— По-своему даже забавно, хоть и печально, — заметил я. — Как там в марше? «Вена есть Вена»?
Регниц ненадолго замолчал, уставившись в свою тарелку.
— Хотел бы я тоже счесть это смешным. Помяните мое слово, в воздухе пахнет грозой и серой. Когда я ехал по Сибири, наш поезд останавливался каждые несколько километров, чтобы пропустить эшелоны с войсками — все они ехали на запад. А перед этим, в Берлине, я обедал с друзьями из Рейхстага. Они сказали, что в прошлом месяце Сани Берхтольд и Конрад каждый день разговаривали по телефону с Вильгельмштрассе, требуя от Германии поддержать войну с Сербией.
— Ну так и что же? — ответил я. — Почему бы и нет? Это гнездо бандитов и убийц нужно вычистить. Они, безусловно, этого заслужили.
— Это будет означать войну с Россией, вот почему мы до сих пор ее не объявили. Но как я понял, немецкие генералы (хотя не политики, заметьте) заверили Вену, что разберутся с Россией в случае любых недоразумений. Кайзера как обычно шатает — он соглашается с любым, кто последним с ним говорил, но Тирпиц [70] и адмиралы жаждут войны на том основании, что она так или иначе все равно разразится в ближайшие два года, а соотношение германских и английских кораблей никогда не было настолько благоприятным, так почему бы не начать войну сейчас?
— Возможно, они и правы, — осмелился предположить я. — Если войны не избежать, то нужно поскорей с этим покончить. В любом случае она не продлится больше нескольких недель, это всем известно.
Регниц погрустнел.
— Почему вы так в этом уверены? Нет, Прохазка, похоже, скоро мы ввяжемся в мировую войну, но не потому, что кто-то действительно этого хочет, а лишь потому, что все считают ее неизбежной, а у власть имущих не хватает мозгов, чтобы ее предотвратить. И если причина в этом, то есть ли у вас основания полагать, что по своей тупости развязавшие войну Сани Берхтольды и кайзеры Вильгельмы вдруг превратятся в Наполеонов и Бисмарков, смогут возглавить процесс и контролировать его? Нет, я уверен, что если мы вступим в войну, она продлится гораздо дольше и будет кровавей, чем все ожидают. Вообще-то голову даю на отсечение, что она затянется на целый год.
Глава двенадцатая
Прогулка по северному Китаю
Крейсер «Кайзерин Элизабет», он же «Старушка Лизерль», в тот июльский вечер у угольного причала Чифу выглядел не слишком впечатляюще. Единственный австро-венгерский военный корабль на военной базе в Китае, он находился на Дальнем Востоке уже с 1906 года и вид имел довольно плачевный.
В 1890 году, когда его только спустили на воду, это был довольно примечательный для того времени корабль, попытка решить извечную австрийскую проблему скудного военно-морского бюджета путем создания своего рода ранней версии карманного линкора: тяжелые орудия главного калибра и толстая броня корпуса при водоизмещении крейсера. Эксперимент явно нельзя считать безусловным успехом: корабль всегда был малоостойчивым, тесным и перегруженным артиллерией. Теперь, уже в преклонном возрасте, со старушки сняли столько лишних пушек, что она стала лишь немногим лучше гигантской канонерки, а затем отправили на Дальний Восток, чтобы представлять австрийский флаг.
Год за годом, пока долгий век мира и спокойствия клонился к закату, корабль на неизменных девяти узлах пыхтел из Гонконга в Сайгон, из Сингапура в Батавию, из Сурабая в Манилу и из Йокогамы в Циндао, демонстрируя худосочную мощь двуединой монархии китайцам, малайцам и японцам.
Что о нем думали, можно только догадываться, но, как мне сказали, судить об этом можно по посещению японской базы в Сасебо в 1911 году. Группу японских морских офицеров тогда провели по кораблю, и те оценили все увиденное и как стадо гусей присвистывали с вежливым восхищением каждому примеру австрийской военно-морской техники.
Сомнения возникли только в конце визита, когда гости уже собирались садиться в баркас, и японский контр-адмирал, возглавлявший делегацию, поклонился и через переводчика сказал:
— Прошу передать нашу благодарность хранителю этого музея.
Старый корабль был совершенно бесполезен в любых серьёзных военных операциях, и время, проведенное на Дальнем Востоке, положения не улучшило. Так как Австро-Венгрия не имела колоний, её корабли в иностранных водах полностью зависели от других властей в вопросах бункеровки углем и ремонта в доках. А эти власти — даже наши германские союзники в Циндао — требовали денег за пользование сухими доками, так что днищу корабля внимание почти не уделялось.
Более того, состояние его паровых котлов, жадно потребляющих уголь, но неспособных создать достаточного давления пара для поддержки даже двенадцати узлов хода дольше часа, было плачевным. Нижнюю палубу «Элизабет» в основном населяли служащие по два года призывники из Европы, часть срока с удовольствием проводившие на Дальнем Востоке, но значительная часть офицеров и унтер-офицеров были престарелыми курортниками, которые много лет служили на Востоке и теперь годились лишь для летних круизов по китайским морям: показывать красно-бело-красный флаг, обеспечивать качественной музыкой, устраивать приёмы на борту — в общем, они жили согласно известному представлению об австрийцах как о приятных, но не слишком серьёзных людях. Короче говоря, корабль представлял собой нечто вроде плавучей венской оперетты.
Из-за нехватки собственных бункеровочных станций «Элизабет» поплыла в Чифу. Поначалу она намеревались загрузиться углём в немецком порту-колонии Циндао, а затем продолжить путь в Шанхай, чтобы принять пополнение с «Горшковски». Но немцы неожиданно подняли цену на уголь, а Вена обнаружила, что «угольные» деньги для военных кораблей в бюджете 1914 года уже на исходе. Уголь в Чифу был паршивым, похожим на пыль и дающим мало жара, но стоил дёшево, потому что его добывали кули почти рядом с пристанью. Но когда крейсер прибыл в Чифу, чтобы начать погрузку угля, с платежом возникли дополнительные трудности, вследствие чего корабль оставался около причала четыре дня, ожидая приказа заполнить угольные ямы. И на следующее утро после нашего прибытия проклинаемый всеми процесс начался.
Одним из утешений службы на Дальнем Востоке в те дни, по крайней мере, для тех, кто не особо над этим задумывался, служило то, что огромное количество рабочих-кули буквально сражались за право поработать за пару геллеров в день. Это означало, что бункеровка корабля, дело хотя и грязное, была по крайней мере, не столь каторжной, как в европейских водах, где команде не только требовалось загрузить мешками и корзинами пару сотен тонн угля в бункеры, но и выдраить корабль и отскрести себя и одежду буквально до дыр, чтобы избавиться от коварной черной пыли, проникающей повсюду.
Тем не менее, это были крайне неприятные дни. Армия китайских чернорабочих подобно муравьям поднималась по одним сходням, чтобы опорожнить корзины с углем в угольные ямы крейсера, а затем по другим спускалась, чтобы отправиться за следующей. Все щели и отверстия забили мешковиной и паклей, но мелкая черная пыль все равно незаметно проникала в каюты и жилые палубы.
Поздним утром, как только этот восхитительный процесс набрал обороты, изысканно-вежливый молодой китайский клерк с телеграфа передал мне приглашение явиться в кабинет коменданта порта. На борту «Элизабет» (пока мне не придумали другие обязанности) я теперь служил офицером-шифровальщиком. Меня поджидала зашифрованная телеграмма от немецкого военно-морского командования в Циндао. Я принес её на борт крейсера, вскрыл и принялся за работу с карандашом, блокнотом и книгой с военно-морским шифром Тройственного союза. Через пять минут я закончил:
Морской департамент Военного министерства
Вена, 20 июля 1914 года. 19:30.
высока вероятность политических осложнений россией францией касательно сербии тчк следуйте экономичным повторяю экономичным ходом шанхай и ждите дальнейших распоряжений
Я взял расшифрованный текст и отнес на мостик, чтобы показать капитану, линиеншиффскапитану Маковицу — высокому, довольно тучному хорвату (имеющим немецкие корни)тс густыми черными усами, тот прочитал телеграмму и повернулся ко мне.
— Герр шиффслейтенант, прошу сопроводить меня на телеграф, и захватите с собой шифровальные книги. Мне нужно кое-что сообщить в Вену.
Я возразил, что инструкции ясно запрещают выносить шифровальные книги из радиорубки.
— Выполняйте, черт побери, как вам приказано: взять книги! Я не желаю тратить время на подобную чепуху.
Пять минут спустя я стоял рядом с Маковицем в портовой конторе и шифровал послание:
совершенно секретно тчк относит вашей телегр от 20 июля тчк не могу повторяю не могу следовать в шанхай тчк котлы требуют ремонта тчк иду в циндао
Поскольку мы не могли телеграфировать напрямую в Вену из-за проблем на линии, как объявил китайский телеграфист, телеграмму послали в австро-венгерскую миссию в Пекине с просьбой отослать ее через Соединенные Штаты. Мы прождали подтверждения до четырех. Оно так и не пришло. В конце концов капитан вышел из себя, что частенько с ним случалось, и потребовал соединить его с Пекином по телефону, но связь была плохой. Оказалось, что нашу телеграмму там не получили. Тогда, к моему ужасу, Маковиц прочитал сообщение прямо по телефону, несмотря на то, что из-за жары окна в конторе были открыты настежь. Похоже, у него возникли проблемы.
— Да, я сказал «Совершенно секретно». Да, придурок, совершенно секретно!!! А дальше — «Не могу следовать в Шанхай тчк котлы требуют ремонта тчк иду в Циндао. Да, Ц-И-Н-Д-А-О!
Мы прибыли в Циндао вечером двадцать пятого июля, отправившись из Чифу на экономичной, повторяю, экономичной скорости в восемь узлов. Вот так мы и провели последние дни конца старого мира — стоя на якоре под ярким солнцем у живописного гористого побережья Шаньдунского полуострова, пока где-то далеко, на другой стороне земного шара, самая богатая и самоуверенная цивилизация заканчивала приготовления к самоубийству. Европейские государства беспомощно соскальзывали в пропасть, как связанные веревкой альпинисты. Составлялись расписания мобилизации, миллионы людей по всему континенту прощались с привычной жизнью, коричневые конверты опускались в почтовые ящики, почтальоны добирались до самых дальних уголков, а на площадях собирались радостные толпы. Но здесь, на восточном побережье Китая, мы почти не ощущали дрожи землетрясения, сотрясавшего Европу.
На приличном расстоянии следом за «Элизабет» из Чифу шел небольшой японский каботажный пароход, а русский крейсер, на который мы наткнулись за день до этого сразу за оконечностью Шаньдунского полуострова, в ответ на обычные флотские любезности с нашей стороны вел себя довольно неучтиво. Но в остальном — обычная корабельная рутина. Вообще-то примерно через три дня пребывания в Циндао мы начали подозревать, что о «Кайзерин Элизабет» просто забыли. Капитан дважды в день сходил на берег, чтобы переговорить с немецким губернатором колонии и узнать, нет ли каких-либо сообщений для нас из Вены или Пекина, но их не было.
Тем временем мы наблюдали, как корабли наших германских союзников приводят в состояние боевой готовности: выгружают на берег всё легковоспламеняющееся, устанавливают затемнение, а моряки сменили яркую бело-жёлтую тропическую форму на серую военную. Или они просто были слишком заняты, чтобы думать о форме. А на нижних палубах «Элизабет», праздно стоящей на якоре в липкой жаре конца лета, начали с тревогой осознавать, что через несколько дней эта нескладная старая посудина, еще с давних времен лишь на словах являющаяся военным кораблем, может превратиться в груду полыхающих развалин, заполненную мертвыми и умирающими.
В конце концов, утром двадцать девятого июля мы получили радиосообщение через станцию компании «Телефункен» в Циндао. Двуединая монархия объявила Сербии войну, и военные действия с Россией неминуемы. Последуют дальнейшие инструкции. Это в случае, если о нас кто-нибудь вспомнит.
Что касается меня, я не был чужаком в немецком порту Циндао. Раньше я дважды посещал город и своё первое представление «Весёлой вдовы» видел в гарнизонном театре, примерно году в 1906. Но, впрочем, сколько бы раз я сюда ни приезжал, город не казался мне менее странным: как будто Дармштадт или Геттинген позднего девятнадцатого столетия чудесным образом переместился на окраины Поднебесной.
Немцы вытребовали это место у Китая в начале века, как компенсацию (по их словам) за убийство двух немецких миссионеров, а затем приступили к строительству города, который будет стоять тысячу лет как маяк немецкой культуры на берегах Восточной Азии. И, надо сказать, они достигли своей цели в весьма угнетающем смысле, принявшись за работу с пугающим прусским сочетанием технических навыков и целеустремлённости, и построили неправдоподобно точную копию кайзеровской Германии на противоположной стороне земного шара.
В Циндао царили немыслимый порядок и аккуратность. Тошнотворная готическая архитектура из коричневого кирпича в духе Бисмарка, эти основательные громады, неуклюжие и непривлекательные, могли бы пережить сотню будущих поколений, а закованные в известняк бульвары пересекались под идеально прямыми углами. Еще там были евангелистская кирха и католический костел с монастырем, отель «Централь» на перекрестке Вильгельмштрассе с Фридрихштрассе, кафе «Метрополь» и «Дахзаль», дендрарий и пивная «Фюрстенхоф», больница императрицы Августы, военная и торговая гавани, радиостанция «Телефункен» и вокзал в конце железнодорожной ветки Шаньдунбан.
А вокруг простирались акварельные горные пики, которые переименовали в Принца Генриха, Дидерихса и Бисмарка, и приземистые железобетонные форты с пушками Круппа. Но всё же в мире существует несколько вещей, неподвластных немецкому усердию. Климат по-прежнему оставался прибрежным климатом северного Китая: липкое и жаркое лето с осенними тайфунами и сухая, пронизывающе-холодная зима с пыльными ветрам из Маньчжурии. Во всем остальном это место с пугающей точностью напоминало копию кайзеровской Германии. Пухлые матроны ели пирожные с кремом в кафе «Метрополь», пока их коротко стриженные мужья потели за столами в государственных учреждениях и на складах торговых компаний.
А на безупречных бульварах гражданские уступали дорогу подтянутым армейским офицерам с моноклем в глазу. Все было построено на века. Тем не менее, китайцы, наследники цивилизации в десять раз более древней и в тысячу раз самодовольней, казалось, обращали на это удивительно мало внимания, прямо как древесные муравьи — когда положишь камешек на их привычной тропе: какое-то время они будут ощупывать его усиками, а затем решат обойти препятствия и продолжат заниматься своими делами, как если бы камня и вовсе не существовало. Немцев в Циндао было слишком мало, чтобы управлять всем самостоятельно, так что в колонии не только неквалифицированный труд, но и большую часть повседневного управления осуществляли китайцы под руководством немецких начальников. Что первые думали о последних — можно только догадываться.
В конце июля 1914 года Циндао пребывал в состоянии некоторого беспокойства, осознав, что, пока в Европе началась всеобщая война, город оказался, в сущности, беззащитным, не считая фортов, в десяти тысячах миль от Германии и окружённый врагами; а японцы, вероятно, вступят в войну на стороне противников. Обычно здесь располагались мощные германские военно-морские силы — Восточно-Азиатская эскадра адмирала фон Шпее, но сейчас она ушла на манёвры на две недели куда-то в Тихий океан, и было бы весьма неразумно возвращаться.
Таким образом, в гавани остались лишь лёгкий крейсер «Эмден», несколько старых канонерок и миноносцев, бесполезных в современной войне, и мы. Когда «Эмден» смылся, «Кайзерин Элизабет» стал (если уж на то пошло) самым мощным кораблём Центральных держав в китайских водах. Но что мы могли сделать? Австро-Венгрия, вероятно, скоро вступит в войну с Россией. А что насчёт союзника России — Франции? А насчёт союзника Франции — Британии? А британского союзника — Японии? Мы ещё раз попытались связаться с Веной — бесполезно, ведь сухопутный телеграфный кабель проходил через Россию, а подводные кабели вели к британскому Гонконгу и французскому Индокитаю. Мы лишь получили сообщение в первый день августа с приказом законсервировать корабль в Циндао и отправить команду обратно в Австрию «любыми возможными средствами», а если не получится, то добраться до австро-венгерской дипломатической миссии в Пекине.
Поэтому мы приступили к работе по подготовке «Элизабет» к возможному длительному летаргическому сну. Всю мебель и деревянные перегородки сняли и убрали в пустые портовые склады на одном из торговых причалов. Утомительное дело во влажной августовской жаре: потеющие человеческие цепочки, передающие тысячи самых причудливых предметов быта из рук в руки с корабля на пристань и дальше на склад. Полагаю, вы, наверное, тоже замечали, как при переезде содержимое дома удивительным образом разбухает в объеме, и то, что когда-то заполняло всего лишь шкаф, теперь занимает половину мебельного фургона.
Только всё оказалось гораздо, гораздо хуже, по мере того как накопленный за четверть века службы мусор извлекали из трюмов «Элизабет»: чемоданы с личными вещами давно уже похороненных в море людей; яванские ложки для риса и бамбуковые клетки для попугаев, купленные во время увольнения и забытые мичманами, теперь уже ставшими седовласыми фрегаттенкапитанами; полные комплекты для чистки корабельной артиллерии, уже давно переданной в музей. Потом боеприпасы из пороховых погребов, сами орудия, которые освобождали от станин и покрывали предохраняющей от ржавчины смазкой (жутко грязное дело), а потом грузовой стрелой перемещали на берег и увозили.
Одновременно в недрах корабля трудились механики и кочегары, сливая воду из котлов и обертывая двигатели промасленной мешковиной. Наконец, вечером второго дня трудов, когда все было закончено, мы поднялись на борт, чтобы смыть грязь и упаковать вещи для поездки в Пекин. Но в это время прибыл курьер и вручил капитану телеграмму из Военного министерства в Вене. Мне выпала честь её расшифровать, и по мере написания послания сердце заныло: нам следовало немедленно подготовить корабль к боевым действиям и перейти в подчинение губернатора Циндао. Капитан объявил об этом экипажу, когда матросы стояли на причале, чумазые, едва не падая с ног от усталости. Невероятно трогательно слышать, как триста пятьдесят моряков произносят «Вот дерьмо!» на одиннадцати различных языках.
Тем не менее, приказы есть приказы, и пришлось возвращать все обратно. Чертыхаясь, экипаж при свете керосиновых ламп снова извлекал все со складов и грузил обратно на борт, затем опять установили орудия и счистили смазку, заново заполнили водой котлы и убрали промасленную мешковину с двигателей. Под конец люди так устали, что просто рухнули на камни причала, кто где стоял, и заснули, слишком утомившись, чтобы натянуть гамаки.
После этих бесплодных стараний следующая пара недель прошла почти без происшествий. Австро-Венгрия теперь официально находилась в состоянии войны с Францией Англией, Россией и Сербией. Но для нас, находящихся здесь, на побережье Китая, это почти ничего не значило, за исключением того, что службу на корабле теперь несли по нормам военного времени, все деревянные части с корабля удалили и действовала светомаскировка. Единственная наша задача состояла в том, чтобы по очереди с немецкой канонеркой «Ягуар» патрулировать входы в гавань Циндао и близлежащий залив Цзяочжоу. Мы пыхтели до позиции примерно в двух милях от берега, вставали на якорь с подветренной стороны рифа и два дня торчали там, пока нас не сменял «Ягуар». Все это было довольно скучно и ни в коей мере не походило на мои представления о боевой обстановке.
Так продолжалось до двадцать третьего августа. В тот день Япония наконец объявила войну Германии, но не Австро-Венгрии. Мы еще раз телеграфировали в Вену, запросив указания, теперь через Сан-Франциско, и снова получили ответ: «Выведите корабль из эксплуатации и следуйте в Пекин». Мы пришвартовались в Циндао и начали всё по новой, законсервировали корабль и перенесли на берег всё, что можно. Потом снова погрузились в поезд на Тяньцзинь и китайскую столицу. На борту осталась лишь небольшая группа технического обеспечения.
Поскольку из-за возраста, алкоголизма или низких умственных способностей большая часть офицеров и старшин «Элизабет» оказалась непригодной к воинской службе, в Циндао осталась лишь пара молодых артиллеристов в помощь германскому гарнизону. Я был молод и когда-то был офицером-артиллеристом, но не присоединился к ним — по какой-то необъяснимой причине в телеграмме Военного министерства в числе тех, кто должен следовать в Пекин и, вероятно, будет интернирован китайцами до конца войны, упоминалось мое имя. Времени поразмыслить над этим не было, потому что теперь мы рьяно взялись за подготовку к поездке в Пекин. Мы собирались отправиться группами по пятьдесят человек, и я оказался вторым по старшинству офицером подобного отряда. Возглавил его не кто иной как корветтенкапитан Юлиус Фихтерле, в конце концов так и не сумевший вернуться в Европу на «Горшковски» из-за разразившейся войны. Моим помощником стал престарелый унтер-офицер из Вены по имени Флориан Кайндель.
Я уже был знаком со штабсторпедомайстером Кайнделем — он служил унтер-офицером в моем дивизионе, когда в начале века я был еще кадетом на борту парового корвета «Виндишгрец» во время учебного плавания по Южной Атлантике осенью 1902 года. Я хорошо его запомнил: седеющий старый пройдоха с тридцатью годами флотской службы за спиной уже тогда и по крайней мере одним сроком во флотской тюрьме за продажу латунных гильз штатским сборщикам металлолома.
Редкостный циник, Кайндель являлся постоянным источником сведений и рекомендаций для тех, кто помоложе. Я хорошо помню его на румпеле шлюпки одним жарким ноябрьским днем неподалеку от Мадейры. Мы сидели на веслах, сабли свисали с поясов, поскольку предполагалось, что мы должны изображать десант, и наблюдали, как изношенные шестидюймовые пушки нашего корабля (нарезные, казнозарядные, но до сих пор установленные на колесные станки) полыхнули бортовым залпом. Кайндель смотрел (фуражка сползла ему на затылок), как снаряды, вылетев из облака дыма, плюхнулись в море в паре сотен метров от шлюпки. Кайндель сплюнул в воду, а затем повернулся к нам.
— Ну-c, молодые люди, вот поэтому на флоте и выдают спиртное перед боем: чтобы, когда враг вдруг встанет борт о борт, вы могли хотя бы помочиться на него, раз не сможете сделать ничего другого.
Кайнделю уже оставалось меньше года до выхода на пенсию, но он огорчался, что пропустит теперь войну, считая ее своего рода спортом, который не должен доставаться только молодым.
— Не то чтобы я хочу, чтоб меня убили, герр шиффслейтенант, — признался он мне, когда поезд грохотал по направлению к Цинанфу, — просто мне особо некуда возвращаться в Австрии после увольнения с флота, у меня только сестра в Вене. И если случилась война, я бы хотел в ней поучаствовать, раз уж говорят, что она закончится через пару недель.
Корветтенкапитан Фихтерле его энтузиазма не разделял. Насколько я мог судить, он был рад укрыться в относительной безопасности нейтрального Китая. Его в основном заботило, что в его отсутствие фрау Фихтерле не сможет выплатить остаток за виллу в Граце, где он собирался провести старость.
Мы прибыли на пересадку в Тяньцзинь, где нам приказали до дальнейших распоряжений оставаться в немецких казармах — мрачном сборище кирпичных зданий, которые вполне могли бы располагаться где-нибудь в землях Бранденбурга. В ту ночь пошел дождь — не по-европейски сдержанная туманная морось с хорошей погодой на следующий день, а внезапно началась северо-китайская осень: устойчивый, непрекращающийся ливень, который вскоре превратил дороги в реки, а поля — в зеркала из жидкой желтой грязи. Но худшее ждало впереди, потому что двадцать седьмого мы получили еще две телеграммы.
Первая была из нашей миссии в Пекине, и в ней сообщалось, что в связи с китайским нейтралитетом, а также, поскольку железную дорогу в столицу контролируют британцы, мы не сможем продолжить путешествие. Вторая же пришла из Циндао, где получили радиосообщение из Вены. Австро-Венгрия теперь находилась в состоянии войны с Японией, и «Кайзерин Элизабет» должна сражаться бок о бок с немецким гарнизоном. Поэтому всем трудоспособным членам экипажа приказывали немедленно вернуться на корабль. Все дружно застонали и начали паковать вещи: это означало еще один круг загрузки корабля по возвращении.
Около полудня нас посетил германский консул в Тяньцзине. Китайские власти вряд ли позволят нам возвращаться в австрийской морской форме, сообщил он, поэтому консул организовал экстренный сбор гражданской одежды среди немецкого и австрийского сообществ города. Мы должны скинуть мундиры и ехать по железной дороге обратно в Циндао в гражданском, разделившись теперь уже на группы человек по двадцать, которые, надо надеяться, будут привлекать меньше внимания на железнодорожных станциях по пути.
Именно потому и вышло, что вечером двадцать седьмого августа 1914 года линиеншиффслейтенант Оттокар Прохазка прибыл на железнодорожную станцию Тяньцзинь, чтобы и дальше служить его имперскому королевскому и апостолическому величеству, одетый не в соответствии с «Наставлением о правилах ношения военной формы», а следующим образом: защитного цвета бриджи ниже колен (по крайней мере на два размера больше, чем нужно); шерстяные чулки, подбитые гвоздями горные ботинки; широкая твидовая куртка с поясом и стоячим воротником (почти нужного размера) и шляпа-котелок на размер меньше необходимого. Остальная часть моего отряда была одета примерно в том же стиле или еще хуже: причудливая смесь немецкой одежды для скалолазанья, полосатые матросские куртки, мягкие фетровые шляпы, соломенные канотье, велосипедные шапочки и даже отдельные элементы вечерних костюмов. Большую часть пожалованной нам одежды когда-то пошили, чтобы она подошла дородным фигурам немецких железнодорожных чиновников и руководителям мануфактур среднего возраста, поэтому все это жалко смотрелось на юных и худых австрийских матросах.
Несмотря на эксцентричный внешний вид, первый этап нашего путешествия прошел достаточно гладко: ночной переезд в Цинанфу в вагоне третьего класса, полном веселых, плюющихся, курящих, играющих в кости китайских крестьян, едущих на рынок со связанными пучками живыми курами и свиньями, привязанными к бамбуковым палкам. Весьма пахучее сборище, нужно отметить, но добродушное и благожелательное и (казалось) совсем не возражающие против путешествия с двадцатью длинноносыми дьяволами, одетыми как цирковая труппа. С помощью языка жестов мы обменялись сваренными вкрутую яйцами, арахисом и сигаретами. Затем появился набор для игры в маджонг. Я засомневался, но Кайндель с готовностью сел за партию. Костяшки щелкали по доске как пистолетные выстрелы, и к тому времени как солнце встало над залитыми водой плоскими полями, он не посрамил честь кригсмарине, сорвав банк. Китайские игроки оказались «умными», сообщил он, но, видимо, недостаточно умными для унтер-офицера из Вены.
Дело усложнилось после Цинанфу — пересадочной станции на немецкую железную дорогу Шаньдунбан. В вагон поднялся молодой и вежливый китайский полицейский и на безупречном немецком попросил нас покинуть поезд на следующей станции, Вэйфане. По какой причине? Китай сохраняет нейтралитет. И что нам в таком случае делать? Он лишь пожал плечами. Мы можем вернуться обратно в Тяньцзинь? Нет, согласно полученным им приказам, это невозможно. Можем ли мы связаться с германским консулом в Тяньцзине по телеграфу? Нет, это также невозможно.
Похоже, нам придется торчать на платформе в Вэйфане и дожидаться, пока китайцы решат нас интернировать. У меня возникло такое чувство, что он выпрашивает взятку, но даже если бы я решил заплатить, то не хватило бы средств: деньги на карманные расходы мы давно истратили, и даже с учетом выигрыша Кайнделя в маджонг мы едва могли наскрести пару китайских долларов. Я спросил полицейского, можем ли мы уйти из Вэйфана пешком. Он ответил, что это тоже не дозволено, но он в любом случае сомневается, что мы уйдем далеко, раз к западу от Циндао высадились японцы и оккупировали часть железной дороги Шаньдунбан.
Целый день мы просидели на платформе в Вэйфане под проливным дождем, замерзшие, промокшие и голодные, в ожидании ночи, когда сможем улизнуть от китайского полицейского и двинуться вдоль железнодорожных путей. Мы решили идти двумя группами по десять человек на расстоянии оклика одна от другой и надеялись, что удача и рука провидения помогут нам избежать японского патруля. Если мы натолкнемся на японцев, то свернем в поле и попытаемся прорваться на север. Мои спутники не воспринимали японцев всерьез и считали их какими-то потешными войсками, состоящими из слабаков и очкариков. Я же видел их в деле — в Манчжурии в 1905 году — и предпочитал держаться от них подальше.
Как только стемнело, мы двинулись по путям и несколько часов уныло брели по хрустящему щебню под проливным дождем. Мы промокли насквозь и устали, но всё же не пали духом, разве что кроме Фихтерле — тот был уже слишком стар для подобных приключений. Он всё чаще и чаще требовал остановиться, чтобы передохнуть. Около полуночи мы заметили впереди свет и услышали голоса.
Мы нырнули в укрытие и залегли в мокрой траве у насыпи. Думаю, их было человек двенадцать, но, судя по голосам, это были скорее китайские солдаты, чем японские. Мы пропустили их, поднялись и устало возобновили поход. Серый рассвет застал нас отдыхающими под прикрытием насыпи. Мы разделили последние остатки еды: несколько промокших рисовых печений и конфет, которые выменяли в поезде. Цвет у них был такой яркий, что, даже несмотря на голод, есть их было страшновато. Фихтерле привалился к нашим спинам. Он плохом выглядел — с трудом дышал, лицо приобрело землистый оттенок. Но мы не могли его оставить и потому снова двинулись вдоль железной дороги. Фихтерле приходилось практически нести.
Первыми их увидели мы с Кайнделем, примерно в восьмистах метрах впереди — человек пятьдесят сгрудились у паровоза с разведенными парами. Мы велели остальным залечь и под прикрытием насыпи поползли вперед, на разведку. Люди были одеты в форму цвета хаки, но это нам ни о чем не говорило. А потом я увидел флаг, прикрепленный перед топкой паровоза. Белый, с красным кругом посередине. Мы как можно осторожней развернулись и поползли обратно.
Затем последовал долгий путь в обход по сельской местности, мы шагали, поднимая брызги, по затопленным тропинкам между полями, утопая в нечистотах, которые китайцы использовали вместо навоза. Крестьяне в соломенных шляпах с любопытством взирали на нас, когда мы проходили мимо, не пытаясь ни помочь, ни помешать. Любая эксцентричная выходка круглоглазых демонов для них явно была в порядке вещей, пусть даже они бродят по округе в странных одеяниях прямо под осенним дождем. Мы прошли мимо группки глинобитных домишек, на первый взгляд покинутых. Они почти уже оказались позади, когда вдруг откуда ни возьмись вырос отряд мелких солдат в коричневом с винтовками наперевес. Возможно, они были китайцами, но я не имел желания останавливаться и спрашивать. Мы побежали. За спиной послышались крики, потом выстрелы. Пули поднимали фонтанчики грязных брызг, когда мы нырнули в дренажную канаву и не то бежали, не то плыли по ней.
— Я не могу... не могу... пожалуйста, оставьте меня... я не могу больше, — рыдал Фихтерле, пока мы почти тащили его за собой. Он споткнулся и упал — вместо дыхания раздалось бульканье, а лицо стало почти синим. — Оставьте меня, товарищи, оставьте... я не могу... продолжать.
Мы втянули его в дренажную трубу, поскольку у него начался сильный приступ удушья. Ослабили воротник и расстегнули куртку, чтобы растереть грудь, но в этом не было смыла: он умирал от сердечного приступа. Поначалу его пульс еле прощупывался, а затем и вовсе затих. Мы оставили его там, в затопленной трубе среди равнинных заболоченных полей провинции Шаньдун, под низким серо-коричневым небом и безжалостным дождём. Я известил о его смерти, когда мы вернулись, но, насколько я знаю, его тело так и не нашли. Быть может, сельские жители обнаружили его и похоронили, но более вероятно, что он погрузился в зловонную жёлтую грязь и до сих пор лежит там, на другом конце света от фрау Фихтерле, семейного склепа и небольшой уединённой виллы на окраине Граца с виноградными лозами, увивающими дверь.
Остальные вернулись в Циндао в последний день августа — промокшие, голодные, вымотанные, а двое из нашей группы находились на ранних стадиях малярии. Для выздоровления времени не хватало: японцы окружили порт на расстоянии около пятнадцати километров и ждали только прекращения дождей, чтобы начать осаду. Скоро мы испытаем на себе все её прелести; хотя и сейчас на борту «Элизабет» мы не бездельничали.
Каким-то чудом почти весь экипаж вернулся из Тяньцзиня — по железной дороге или пешком, на лодках, на запряженных буйволами повозках или даже, как один отряд, на китайских тачках с парусом. Корабль снова привели в боевую готовность и установили все вооружение, за исключением двух шестидюймовых пушек, которые воткнули в редут над городом, прозванный «Батарея Элизабет». Задачей крейсера при обороне порта было войти в залив Цзяочжоу, встать на якорь в его части под названием Цанку, скрытой холмами от японских орудий, и использовать свою артиллерию для удара во фланг, если противник выдвинется к городу.
Единственная очевидная загвоздка состояла в том, что если японцы не могли видеть «Элизабет», то и она не могла видеть их. Именно потому пятнадцатого сентября 1914 года торпедомайстер Кайндель, два матроса-телеграфиста и я заняли позиции в укрытии из железнодорожных шпал и бамбука, вырытом на склоне Вороньего перевала над Циндао, с видом на равнину с северной стороны. До получения других приказов нам предстояло выступить в качестве наблюдательного поста для артиллерии нашего корабля.
Мы находились на левом фланге немецкой обороны, состоящей из небольшой сети траншей и блиндажей справа от нашей позиции, с ними нас связывала короткая траншея, а спереди защищали огрызки проволочных заграждений. Для личной защиты в случае японской атаки у нас имелись лишь винтовки. Хотя, судя по всему, они нам еще достаточно долго не потребуются. В бинокль мы видели, как японцы передвигают свою артиллерию вдоль затопленных дорог в деревни на равнине, но кроме случайного выстрела в нашем направлении, противник не выказывал никаких признаков готовности к немедленной атаке.
А поскольку запас снарядов на «Элизабет» был ограничен, нам оставалось лишь наблюдать, как несколько наших пристрелочных снарядов прошелестело над головой, взметнув при взрыве комья желтой грязи в поле. А осенний дождь, гонимый холодным и порывистым северным ветром, все лил и лил. Нам оставалось только ежечасно докладывать на корабль: «Никакого движения за последний час» и посменно вести наблюдение, а в перерывах, скрючившись, дрожать под протекающей крышей блиндажа, пытаясь приготовить пищу в старой жестянке из-под бензина над еле тлеющей рисовой соломой. Так вот какова война, думал я про себя, пробуя языком язвочку во рту: не белые мундиры, рев горнов и блеск сабель, а попытка укрыться от дождя в затопленной дыре на склоне китайского холма. У меня не было возможности узнать, что далеко в Европе миллионы солдат в эти минуты делали точно такое же удручающее открытие.
Все произошло внезапно. Однажды утром сразу после восхода солнца мы, мокрые и продрогшие, как обычно, но довольные хотя бы уж тем, что дождь за ночь прекратился, пытались сварить кофе на самодельной плите. Кайндель облокотился на заграждение из мешков с песком, пытаясь зажечь влажную сигарету, и вдруг выронил спичку, уставившись в недоверии куда-то вдаль.
— Матерь божья, они наступают!
В соседних немецких окопах пришли к тому же выводу: там исступленно колотили в жестянки, созывая солдат по тревоге. Я в ужасе взирал на открывшееся зрелище. Это было похоже на толпу футбольных болельщиков, выбегающих со стадиона после матча, только в сто раз большую. Они мчались вверх по каменистому склону, едва снизив скорость у жалких рядов колючей проволоки — детские фигурки в шинелях и фуражках цвета хаки. Они бежали с пронзительным криком. Офицеры мчались впереди с обнаженными клинками. Над плотными рядами наступающих разносился пронзительный звук горнов, и развевались флаги c восходящим солнцем.
В течение нескольких секунд слышался только стук винтовочных затворов и лязг взводимого пулемета «Максим» в немецком редуте. И началось. Первая шеренга японцев, находившаяся примерно в пятистах метрах, вся полегла — люди попадали как картонные фигурки. Но все-таки они наступали. Времени на раздумья не оставалось, только передергивать затвор и стрелять, передергивать затвор и стрелять, вставлять новую обойму, снова передергивать затвор и стрелять, пока винтовка так нагрелась, что невозможно было прикоснуться, а порох в патронах самопроизвольно воспламенялся от жара ствола. Целиться даже не требовалось.
Тем не менее, рой фигурок в хаки приближался, некоторое падали, конвульсивно дергаясь, другие медленно оседали на колени и роняли винтовки, а потом сами падали сверху. Теперь уже снаряды из орудий фортов выли у нас над головами и разрывались среди наступающих, подбрасывая вверх фонтаны земли, камней и человеческих внутренностей. Грохот стоял ужасающий, он отгонял любые мысли, только перезаряжать, стрелять и снова перезаряжать. Где-то в глубине сознания эхом раздались слова наследника престола, произнесенные тогда на охоте в Богемии: «Лучше всего убивать, не зная, что убиваешь». И тут заклинило пулемет Максима справа от нас. К счастью, к этому времени японская атака захлебнулась, её наступательный порыв угас среди поля мертвых и умирающих. Тем не менее, несколько геройски выживших неслись вперед, как последний язык волны на берег, и не то запрыгнули, не то свалились на нашу позицию. Последовала короткая, но свирепая рукопашная схватка с применением прикладов и шанцевого инструмента, пока мы пытались изгнать мерзких маленьких человечков.
На меня набросился офицер с двуручной катаной. Он был на целую голову ниже меня, но если бы не поскользнулся на мокрых мешках с песком, то, несомненно, сравнял бы эту разницу. Клинок вжикнул у меня над головой, а я инстинктивно ткнул вперед винтовкой со штыком. Потом я помню, как противник выронил своё оружие и удивленно уставился на штык, торчащий из живота. Со слегка раздраженным видом, как будто у него оторвалась пуговица на кителе, он схватился за штык обеими руками и попытался вытащить его, а когда я сам его выдернул, японец закашлялся и упал на колени, а я повернулся, чтобы помочь одному из матросов, который отчаянно пытался отразить штыковые выпады японского солдата. Но японца застрелили, прежде чем я до него добрался. И все закончилось. Навалилась тишина и внезапное чувство внутренней опустошенности.
Слишком ошеломленный и сбитый с толку, чтобы о чем-то думать, я вернулся обратно на пост и наткнулся на офицера, пытавшегося меня убить, и которого я сам только что насадил на штык. Тот был еще жив, но осталось недолго. Он посмотрел на меня черными глазами и сказал что-то, чего я не мог понять. Раненый дышал ртом, и я заметил, какие великолепные у него зубы. Я нашел алюминиевую фляжку с водой, опустился на колени и прижал ему ко рту. Он немного отпил и что-то еще пробормотал, и снова я не смог ничего понять.
Потом он стал что-то потихоньку напевать. Странная заунывная песня напоминала мне, даже не знаю почему, песню гусляра тем вечером в горах Черногории. Но песня становилась все слабее, а его ногти посинели. Под конец он мелко задрожал, и все было кончено. Это зрелище потом долго меня преследовало. И даже до сих пор иногда меня настигает ощущение бессмысленности всего происходящего: двух молодых людей из стран, которые едва знают о существовании друг друга, отправили на другой конец света, чтобы один убил другого.
Это был не первый убитый мной человек: я застрелил из револьвера туземца, когда на нас напали каннибалы в Новой Гвинее. Но тогда это было издалека, в суматохе сражения. Впервые жертва умирала так близко. Прошло семьдесят с лишним лет, и я могу утешить себя лишь тем, что он умер счастливым, с чувством исполненного долга. Надеюсь, мы скоро встретимся снова, там, где нет языковых преград, и я попрошу прощения за содеянное, объяснив, что я не причинил бы ему зла, если бы только он не поскользнулся, если бы только мои руки оказались короче, если бы он убил меня первым.
Глава тринадцатая
По воле шторма
— Уже очень скоро... — сидящий рядом со мной офицер посмотрел на наручные часы, а затем на серый силуэт на гладком, освещённом солнцем осеннем море. — А вот и они! Прямо как часы!
Внезапно далёкий корабль озарился разрастающимися золотисто-оранжевыми вспышками, прокатившимися от кормы до носа, и скрылся в облаках коричневатого дыма. Несколько секунд спустя воздух задрожал из-за мощных толчков, как будто стальные двери в банковском хранилище быстро захлопнулись одна за другой.
Снаряды прогудели над головами, как вереница поездов по тоннелю. Человек с острым зрением мог различить их в чистом голубом небе — промелькнувшие в воздухе четыре черные точки.
Мы повернулись, чтобы взглянуть на склон ниже форта Гогенцоллерн, а земля под нашими ногами содрогнулась, и чуть ниже бруствера с оглушающим грохотом в воздух взметнулись четыре миниатюрных вулкана, подняв на сотню метров вверх столбы земли и раздробленных камней. Когда пыль и дым осели, мы увидели, что, хотя корабль выстрелил с недолетом, но прицел был верным. Судя по цепочке воронок, медленно, но верно взбирающейся по склону холма к форту, они, должно быть, поднимали стволы на полградуса после каждого залпа. Причину такой точности не нужно было далеко искать. Над нашими головами медленно кружила мелкая белая букашка, такая смешная и хрупкая по сравнению с недавней демонстрацией мощи, и наблюдала за падением снарядов. Это был гидросамолет Фармана, и на крыльях были хорошо видны красные круги.
— Думаете, у них есть радио? — спросил я у соседа. — Хотя вряд ли. Гидросамолет Фармана и пилота-то с трудом поднимает, не то что радиопередатчик.
— Может, и так. Но с тех пор как появился японский аэроплан, они стреляют всё точнее. Это явно не совпадение. Что это за корабль?
— Наверное, «Неумолимый». У британцев больше нет на Дальнем Востоке кораблей класса «Канопус». Забавно, но не далее как три месяца назад, в Коломбо, меня пригласили на прием на его борту, а теперь они пытаются убить нас, словно мы всю жизнь были заклятыми врагами.
— Это война, Прохазка. Но могу только восхититься британцами — обстрел прямо как по часам, залп каждые пять минут, секунда в секунду. Но почему они не стреляют чаще?
— Наверное, знают, что мы всё равно никуда не денемся и никто не придет нам на помощь, так что они могут оставаться в море и обстреливать нас в свое удовольствие. Хотя должен признаться, я ожидал большего эффекта от двенадцатидюймовых снарядов. Вчера видел несколько воронок у форта Виктория-Луиза. Снаряды сначала глубоко уходят под землю, а потом уже взрываются, и в результате получается лишь узкая и глубокая яма, похожая на дымоход.
— Это точно. Но очень скоро один из снарядов наткнется на склад боеприпасов в самом низу этой ямы, и тогда прощай, форт Гогенцоллерн.
Мы вернулись обратно с мыса, откуда открывался вид на Желтое море. Прошло уже приблизительно две недели с той атаки японцев. Осенние дожди на какое-то время прекратились, и установилась ясная и теплая погода, хотя с каждым днем становилось все холоднее. Но осада никуда не делась, вообще-то за последнюю неделю её линия приблизилась. В отличие от своих коллег в Европе, японские генералы хотя бы уяснили из бойни на Вороньем перевале, что в век пулеметов и многозарядных винтовок массовые атаки пехоты средь бела дня — дело бесполезное и весьма кровавое.
Они, видимо, пока решили, что медленное удушение — наилучший способ управиться с Циндао. Со своей стороны, мы отодвинули линию обороны на несколько километров вглубь, чтобы сократить периметр. Запасов продовольствия и боеприпасов хватит еще на несколько месяцев, но из той малости, что мы могли узнать о ходе войны в Европе, следовало, что никакой помощи мы сейчас не получим. Пройдет несколько недель, может быть месяцев, но немецкая колония Циндао и её четырехтысячный гарнизон обречены сдаться.
В то утро, когда мы вошли в город, он представлял собой крепость в осаде. На каждом углу возвышались баррикады из мешков с песком, в заброшенных школах устроили госпитали, а на улицах не было ни единого человека в гражданском. Весь день и большую часть ночи воздух сотрясался от ударов японской тяжелой артиллерии, обстреливающей форты с берега, а орудия английских кораблей вели обстрел с моря.
После бомбардировки город остался нетронутым, кроме разве что случайных снарядов, поскольку шел 1914 год, и преднамеренные нападения на гражданские объекты для цивилизованных стран находились под запретом. Но фортам в горах вокруг Циндао приходилось все тяжелее, особенно теперь, когда британцы задействовали линкор, орудия которого обладали достаточной дальнобойностью, позволяющей ему бросать якорь вдали от немецких минных полей, вне досягаемости нашей собственной артиллерии, и молотить нас в свое удовольствие.
Мы с моим спутником обсудили эту проблему по пути через город к военной гавани, где «Кайзерин Элизабет» днем отдыхала после артиллерийской поддержки левого фланга нашей обороны.
— Что нам нужно сделать, — сказал он, — так это убрать тот линкор любой ценой. Корабли поменьше не столь дальнобойны, не особо навредят фортам и не осмелятся приблизиться из опасения наткнуться на наши минные поля. Если бы только добраться до британцев...
— Проще сказать, чем сделать. Днём это было бы самоубийством, а ночью в открытом море патрулируют японские эсминцы. Несколько ночей назад один германский миноносец попытался и чудом спасся, вернувшись с изрешеченными как дуршлаги трубами. Корабль никогда не подберётся достаточно близко, чтобы выпустить торпеду.
Собеседник рассмеялся.
— Может, нам стоит попробовать китайскую джонку? Насколько я знаю, местные жители мало обращают внимания на длинноносых и их маленькую войну. Во всяком случае, я часто видел среди военных кораблей джонки, плывущие рядом под парусом, как ни в чем не бывало. Такое ощущение, что китайские капитаны плавают этими маршрутами последние четыре тысячи лет и не собираются их менять из-за япошек и кучки сумасшедших европейцев, воюющих друг с другом. Возможно, нам удастся загрузить торпеду на борт джонки и как-то ночью выползти и попытаться торпедировать «Неумолимый». Если ничего другого не придумаем, то это лучше, чем сидеть здесь и ждать, когда нас возьмут в плен.
Некоторое время я шел молча, глубоко задумавшись. Я вспомнил кое-что из богатых запасов, раскопанных в трюмах «Элизабет» пару недель назад, во время первой суматошной консервации корабля. Мне также пришла на ум одна проделка, которую мы пытались исполнить много лет назад, когда я еще курсантом плавал на борту парового корвета «Виндишгрец». В тот же вечер, вернувшись на борт «Элизабет», я попросил о встрече с капитаном.
— Ну, Прохазка, — произнес он, — на первый взгляд это весьма эксцентричная идея. Но обдумав ее за обедом, я решил: почему бы и нет. Откровенно говоря, «Кайзерин Элизабет» и её экипаж пока играют не очень-то заметную роль в операциях, а то, что вы предлагаете, даже если не увенчается успехом, может поднять моральный дух и даже способно восстановить престиж австрийских кригсмарине в глазах наших немецких союзников. Во всяком случае, как вы считаете, сколько человек вам потребуется?
— Думаю, около двадцати, герр капитан. На местных джонках примерно такая команда.
— Двадцати? Ужасно много, особенно учитывая, что это будут самые молодые и способные. Ну да ладно, что еще они могут делать, кроме как сидеть здесь и ждать, пока их возьмут в плен, когда город падет. Что касается остального, то, как я понимаю, вам потребуется две торпеды калибром сорок пять сантиметров и бортовые подвесы?
— Именно так, герр капитан.
Он какое-то время пожевал губы и в рассеянности крутил кончик уса.
— Две торпеды потребуют некоторой бумажной отчетности, если вы их потеряете, но, опять же, какое вообще им можно найти применение, когда мы заперты в гавани? Что касается бортовых подвесов, то пожалуйста: это штука настолько старая, что уже даже не учитывается в запасах. Полагаю, их собирались списать на металлолом еще году в 1908-м, но поскольку корабль уже находился в Китае, то никто толком не озаботился. Но вы когда-нибудь их использовали?
— Только однажды, герр капитан, когда был еще кадетом. Мы попытались запустить торпеды с пятнадцатиметрового парусного куттера в заливе Кастелло.
— И каков же был результат?
— Честно говоря, довольно неоднозначный, герр капитан.
Он пожал плечами.
— Что ж, хорошо: у вас будет ваша команда, судно и необходимое вооружение. Добровольцев я поищу завтра. Лично я думаю, что вы лишь зря играете со смертью, но это хотя бы может оставить свой след в истории осады. Австрийская военная история по большей части состоит из тщетного героизма, так что боюсь, вы лишь продолжите эту традицию. Так или иначе, когда вы планируете отчалить на своей джонке?
— Возможно, послезавтра, герр командир, если всё будет готово вовремя.
— Прекрасно. Я приду посмотреть. В последнее время было мало поводов посмеяться.
Габсбургский флот в мои дни был немецкоговорящим, но так было не всегда, ведь в 50-х годах девятнадцатого века приказы отдавались на итальянском. И почему бы и нет, мы же являлись последователями и законными наследниками флота светлейшей Венецианской республики. Когда на рубеже веков я был еще курсантом, многие старые офицеры по-прежнему плыли к берегу на гондолах, а не на четырехвесельных гичках, как предписывают инструкции.
Мой первый капитан, Славец фон Лёвенхаузен с «Виндишгреца», был одним из таких. Я получил задание вернуть его гондолу в Моло-Беллону до отплытия из Полы в Южную Америку. И до сих пор помню горечь унижения, когда маленькая лодка беспомощно маневрировала посреди гавани, как я потел от усилия и смущения, отчаянно пытаясь рулить и грести одним веслом, а все имперские и королевские кригсмарине выстроились у поручней, потешаясь над моим конфузом. Что ж, подобное чувство бессильной ярости я испытал на следующий день, когда мы изо всех сил пытались вывести двадцатиметровую торговую джонку в воды залива Цзяочжоувань.
Мне кажется, за все свои годы на море я никогда не сталкивался с более неуклюжим судном, настолько полностью и вызывающе неповинующимся всем правилам управления лодкой, принятым в остальном мире. Мой экипаж в основном состоял из хорватских моряков с побережья и островов Далмации, мужчин, для которых управлять небольшими парусными судами было так же естественно и легко, как дышать. Они прекрасно могли управляться с четырехугольным люггерным парусом, которых у нашей джонки имелось целых пять, а также длинным и тяжелым рулем, крепящимся на двух канатах, стандартными на борту их родных трабакколо и браццера [71].
Тем не менее, хоть они и были превосходными моряками, джонка одержала над ними верх. Когда мы пытались идти на фордевинд, судно отклонялось от курса и бесконтрольно кренилось из стороны в сторону, потом вдруг разворачивалось прямо по ветру и плыло в обратном направлении, хлопая парусами подобно злому богомолу. Когда мы отчаянно пытались развернуть судно по ветру, оно продолжало уваливаться под ветер или намертво стопорилось на сильном ветру, и приходилось разворачиваться при помощи огромного бамбукового кормового весла.
Когда мы пытались идти в галфвинд, судно дрейфовало боком, как краб, проваливающийся во впадинах волн; а что касается движения по ветру, картонная коробка плыла бы лучше. В итоге после двух-трех часов мучений нам пришлось признать поражение. Слишком измотанные и безразличные к реакции улюлюкающей толпы на маяке, которой предоставили редкую возможность отвлечься от дневной рутины, мы приняли унизительное решение о буксировке обратно паровым баркасом.
Когда я поднимался по ступенькам мола, чтобы сообщить капитану о бесполезности джонки, от толпы отделилась фигура. Человек подошел ко мне, отдал честь и протянул руку. Я уже немного про него знал: Пауль Эрлих, лейтенант имперского германского резерва ВМФ. Он выделялся среди других немецких военно-морских офицеров в Циндао, будучи евроазиатом, сыном лютеранского проповедника из Мекленбурга, прибывшего в северный Китай в 1880 году и женившегося на местной женщине.
В мирное время он занимал должность инспектора по навигации и лоцманскому делу в местных германских органах судоходства, и так как свободно говорил на китайском, кантонском и всех местных диалектах, а во время войны должен был находиться на борту речной канонерской лодки на реке Янцзы. Но в начале войны его корабль стоял на ремонте в Циндао, и теперь, как и все остальные, он оказался в осажденном городе.
Однако его положение было обособленным. С одной стороны, германские кадровые морские офицеры довольно пренебрежительно относились к резервистам, а с другой — не стоит забывать про цвет его кожи. Если офицерский габсбургский корпус был удивительно равнодушен к национальному происхождению своих членов, то для германского расовый вопрос был больным местом. В кадровом офицерском корпусе действовал запрет для евреев на получение офицерского звания, также это было весьма проблематично для поляков или франкоговорящих эльзасцев. Эрлих считал себя немцем, хотя никогда не был в Германии, но к нему с подозрением относились и немцы, и китайцы.
— Господин линиеншиффслейтенант, — сказал он, — надеюсь, вы простите меня за комментарии, но я не мог не обратить внимания, что ваш экипаж не имеет ни малейшего понятия как управлять джонкой...
«Спасибо, господин лейтенант», — подумал я про себя, — «возможно, вы наполовину китаец и никогда не видели далекого Отечества, но унаследовали природную тактичность и деликатность, которой так справедливо славятся пруссаки». Но прежде чем я успел придумать, как вежливо об этом сказать, Эрлих улыбнулся и продолжил:
— ...но, конечно, никто из европейцев не имеет понятия. Чтобы должным образом управлять джонкой, нужно родиться на ее борту и провести всю жизнь на плаву.
— Благодарю за совет, господин лейтенант. Но позвольте заметить, это никак не поможет мне в операции, которую мы планируем.
— Могу я вам кое-что предложить?
— Сделайте одолжение.
— Позвольте найти для вас сегодня на набережной местный экипаж и продемонстрировать, как они умеют управлять этой лодкой. Тогда, если это вас впечатлит, а я думаю, так и будет, можно нанять их для управления джонкой в... операции, которую вы готовите.
— М-да. Согласен, идея кажется привлекательной. Но есть две проблемы. Первая: местные моряки — китайские подданные и потому граждане нейтрального государства; а вторая — даже если удастся преодолеть бюрократические препоны и нанять их, как я объясню им, что делать? Я ни слова не знаю по-китайски.
— Легко. Я пойду с вами.
Так лейтенант Эрлих набрал экипаж из семнадцати китайских моряков. Это оказалось непросто. Как только началась война, большая часть местного китайского населения тактично исчезла из Циндао. Немецкий губернатор издал указ и объявил военное положение, чтобы завербовать оставшихся, но быстро обнаружил, что бывают случаи, когда законы спроса и предложения действуют даже на побережье Китая.
И в мирное время в городе было слишком мало европейцев, чтобы им управлять, а теперь, когда все взрослое мужское население оделось в мундиры, оставшиеся в Циндао китайцы требовали и получали вполне приличное жалование, копая траншеи и выполняя погрузочные работы в порту. В конце концов нам пришлось выложить из судовой кассы немалую сумму золотом для экипажа. Но он, несомненно, следующим утром подтвердил рациональное расходование средств, чудесным образом преобразив наш плавающий оранжевый ящик если не в океанскую борзую, то в довольно быстрое и удобное маленькое парусное судно.
Я до сих пор понятия не имею, как они это делали. Конечно же, на мой взгляд это совершенно противоречило всем принципам мореплавания, преподаваемым в военно-морских учебных заведениях Европы. Китайцы как муравьи суетливо ползали туда-сюда под аккомпанемент странного китайского уличного шума, своего рода хриплого носового звука «ван-ван-ван». Но на первый взгляд беспорядочные и хаотические движения давали хороший результат. Под командованием Эрлиха джонка шла как любая европейская яхта, и даже на каком-то этапе плыла пять румбов к ветру, что почти подвиг для любого судна с люггерным парусом, а особенно для неуклюжей, плоскодонной шаланды с высокими бортами вроде нашей.
Я заметил однажды, что они кренят судно так, что почти квадратный бортовой стрингер начинает играть роль своеобразного киля, но, не считая этого, все походило на волшебство во всех смыслах, какие только можно представить. Полагаю, как сказал Эрлих, такое возможно, если живешь всю жизнь на борту джонки и чувствуешь любую вибрацию корпуса, как продолжение собственного тела.
К вечеру к удовлетворению линиеншиффскапитана Маковица мы доказали, что с местным экипажем, попутным ветром, темной ночью и с большой долей удачи китайскую джонку можно превратить в эффективный торпедный корабль. Проблема заключалась в том, как этот весьма нетрадиционный проект привести в соответствие со служебными инструкциями. Нанять иностранцев на службу австрийскому императору не стало препятствием: со времен принца Евгения Савойского армия Габсбургов нанимала солдат из всех стран Европы и даже за ее пределами, и в уставе ничего не говорилось о гражданстве.
Что касается самих китайцев, как выяснилось в наших переговорах с ними через двух представителей, входивших, видимо в местный профсоюз моряков, они вовсе не беспокоились о службе в иностранном флоте, при условии достаточно высоких выплат и выдаче красно-белых повязок австро-венгерских кригсмарине для защиты от любых неприятностей в соответствии с Гаагской конвенцией. Нет, проблемы начались только тогда, когда стали искать деньги для оплаты. В конце концов, потребовалось два дня мучительных и сложных переговоров с казначеем «Элизабет», прежде чем он с неохотой согласился признать, что капитану делегированы полномочия от Министерства финансов, и открыл сейф.
Каждому выплатили не менее восьмисот крон золотом — примерно двухлетнее жалование рядового матроса австрийского флота. Я был крайне недоволен оплатой вперед, боясь, что получив деньги, китайские моряки уйдут в открытое море и бесследно исчезнут, но Эрлих меня успокоил.
— Вам нужно понять одну вещь о китайских моряках, — сказал он. — Они не имеют к вам абсолютно никакого уважения ни как к офицеру, ни как к европейцу. Они прекрасные моряки во всех отношениях, за исключением разве что чистоплотности, но и пальцем не пошевелят, если станете требовать от них повиновения, в отличие от наших моряков, которые будут охотно работать на жесткого капитана, даже если с ними плохо обращаются или не доплачивают. Китайцы считают всех европейцев довольно нелепыми и в лучшем случае будут вести себя с ними, как родители со слабоумным ребенком. Но несмотря на все недостатки, на вашем месте я бы хорошо им заплатил, потому что они всегда выполняют работу, за которую получили деньги. А по поводу бегства с деньгами — не стоит беспокоиться на этот счет. Я и сам не могу объяснить, почему. Но они так не поступят, поверьте на слово.
Что касается самой джонки, несмотря на ее очевидные мореходные качества, для европейского глаза она выглядела странно. Если честно, то каждая её часть смотрелась будто сделанной задом наперед или вверх ногами. Взять, например, корпус. Думаю, многие люди, даже плохо разбирающиеся в конструкции корабля, согласятся, что корабль обычно имеет округлое днище и плоскую палубу. Даже тут у нашей джонки все было не так — плоское днище и округлая палуба, будто её начали строить как ящик, а закончили как бочку. Дно в разрезе было плоским, без киля и сконструировано из массивных сосновых досок, скрепленных железными шипами.
Скулы почти квадратной формы, а борта выполнены не в европейской клинкерной манере, когда обшивка начинается от киля и дальше вверх, и каждая последующая доска перекрывает нижестоящую, а в китайском стиле — сверху вниз. Что касается палубы, то она походила на спину кита или палубу подводной лодки и была покрыта сверху бамбуковой платформой, чтобы перемещаться. И если у лодок западного мира острый нос и тупая корма, то у джонки — обрезанный нос, как у небольшой плоскодонной шлюпки, и на нем массивная лебедка, и острая корма с рулем, подвешенным к ахтерштевню на скользящих шарнирах, так что его можно было поднимать и опускать при помощи шкивов.
Обитать приходилось в крохотной (размером с купе поезда) кормовой рубке с бочкообразной крышей, а за кормой располагалось подобие кормовой галереи в виде бамбуковой решетки, подвешенной между двумя выступающими бимсами, похожими на ручки огромной тачки. Что касается мачт, то их имелось аж пять, и на каждой — по укрепленному поперечными бамбуковыми ребрами люггерному парусу из грубой бязи, усиленному циновками и управляемому фантастически сложной системой анапуть-блоков, распорных палок и лееров, столь хрупкой, что, казалось, легкий ветерок повалит все это на палубу, и столь запутанной, что паук сошел бы с ума, пытаясь в ней разобраться. Местом для сна служили ярусы похожих на гробы нар в рубке, а еду готовили на печке, в два слоя обмазанной глиной.
Безопасность обеспечивали якорь в виде камня на бамбуковом канате, пятиметровый сампан — бамбуковая плоскодонка, которая тащилась на буксире за кормой, а также небольшой алтарь богине милосердия Гуань-Инь. Что касается отделки, то забудьте об этом: ни малейшего намека. Кривобокий корпус, кое-как вырезанные доски: я мог ладонь засунуть между некоторыми, да и вообще, все было таким грубым, будто только что с лесопилки.
Вся посудина ужасно воняла. Отчасти из-за протухшей воды в трюме, отчасти из-за экипажа (казалось, они никогда в жизни не мылись), а частично благодаря темно-красным парусам, приобретшим цвет благодаря вымачиванию в свиной крови с добавлением коры мангровых деревьев. Что касается экстерьера, то суденышко было окрашено, точнее обмазано черным дегтем, а чтобы как-то заделать ужасающие щели между досками, обильно использовалась субстанция под названием чу-нам — своего рода замазка из извести, пеньки и бамбуковой стружки, скрепленных воедино маслом какого-то ореха.
Джонка на европейский взгляд была посудиной грубой и весьма ненадежной, но для наших целей годилась как нельзя лучше, поскольку наклонная палуба идеально подходила для того, чтобы подвесить в средней части судна две торпеды, по одной с каждой стороне, и не сильно поднять центр тяжести. Джонки в этих водах, как я заметил, часто перевозили большие связки бамбуковых стволов, перекинутых на обе стороны как корзины на осле, частично, полагаю, для плавучести, а частично в качестве фальшборта. Так что нашим плотникам не составило труда сделать ложные связки, пустые внутри, чтобы спрятать торпеды, подвешенные в бортовых люльках. Когда придет время, мы просто перережем несколько веревок, чтобы сбросить маскировку. В конце концов, говорил я себе, потребовался бы весьма острый глаз, чтобы даже вблизи обнаружить, что наша джонка нечто иное, а не обычное северо-китайское торговое судно.
Примерно через четыре дня подготовки мы под покровом темноты вышли на джонке в залив Цзяочжоу для итоговых испытаний. Бамбуковые канаты перерезали и запустили двигатели двух учебных торпед, затем опустили рычаги капельной шестерни, чтобы открыть замки и с плеском сбросить два шипящих снаряда в воду. Мы наблюдали, как они уносятся в темноту и через некоторое время увидели красный огонек в отдалении. Обе торпеды попали в цель — старую деревянную баркентину, стоящую на якоре в восьмистах метрах. Демонстрация оказалась настолько убедительной, что нам было приказано готовиться к атаке британского линкора в ночь на тридцатое сентября.
Экипаж для этого подвига состоял из меня в качестве капитана, лейтенанта Эрлиха в качестве первого помощника и переводчика и торпедомайстера Кайнделя (который вызвался идти с нами) в качестве специалиста по торпедам и вооружению. Наше вооружение в дополнение к торпедами включало в себя три винтовки и пулемет Шварцлозе (последний не столько для нападения, сколько для защиты, хотя никто об этом не говорил, если наша китайская команда вдруг взбунтуется).
Что касается семнадцати китайцев, то казалось, они совершенно счастливы самоорганизоваться в соответствии со священными традициями предков под руководством двух братьев крайне гнусного вида: недоросликов, что с самого начала вели переговоры от имени всех остальных. Хотя я не и мог общаться с этими двуедиными боцманами, но спросил Эрлиха их имена. Тот сообщил, я попросил их записать, и мы с Кайнделем обрадовались, что их фамилия в немецкой транслитерации походила на нечто вроде «Бей Вьен» Поэтому отныне старшего и младшего братьев мы стали меж собой звать Старший бей из Вены, а другого — Младший бей из Вены.
План атаки состоял в том, что около полуночи нас отбуксируют из гавани Циндао, а затем отцепят, и мы с ночным бризом выйдем в море на поиски цели. Здесь я не ожидал никаких трудностей: уже несколько дней как установился северо-восточный ветер, а метеорологическая станция Циндао уверяла, что он продержится еще какое-то время, хотя может и посвежеть. Если мы будем двигаться по ветру, то малая осадка позволит проплыть прямо над нашими собственными минными полями вдоль берега. Мы надеялись, что в темноте и тишине получится незаметно проскользнуть мимо японских пикетов. Как только мы сблизимся с целью, то не должно возникнуть никаких проблем: «Неумолимый» в последние десять дней на ночь вставал на якорь в одном и том же месте, и я условился, что двумя фонарями с берега нам обозначат позицию для атаки. После этого все будет легко.
Линкор будет затемнен, но даже в этом случае такую громадину невозможно не заметить на расстоянии пятисот метров. Мы собирались запустить торпеды, а затем под прикрытием темноты обойти линкор с кормы в надежде, что из-за суматохи после попадания торпед сможем проскользнуть мимо незамеченными.
А что потом? Мы собирались пройти до Шанхая и там пристать к берегу, где нас интернируют, а китайские моряки растворятся на местности. Для этого среди прочих приготовлений накануне вечером я проверил навигационное оборудование: магнитный компас, секстант, маленький наручный хронометр и набор карт северо-китайского побережья вниз до Янцзы, а также морской астрономический альманах. Проверил средства навигации для ориентирования на материке: кошелек и брезентовый пояс с двумя тысячами австрийских крон золотом. Китайские власти славились чрезвычайной коррумпированностью, и я не сомневался, что если при встрече с местными чиновниками мы помашем у них перед носом наличностью, то надзор над нами будет таким незаметным, что мы сможем добраться до Шанхая и сесть на пароход до Сан-Франциско.
После завершения подготовки осталось решить одну проблему. Если мы собираемся положиться на защиту Гаагской конвенции для военнопленных и не хотим, чтобы нас просто застрелили при захвате, джонка должна быть официально записана как корабль австро-венгерского военно-морского флота. Мы прочесали списки кораблей и в конце концов решили назвать ее «Шварценберг», поскольку это имя больше не использовалось ни одним кораблем. Определенным образом имя вполне соответствовало: паровой фрегат «Шварценберг» был флагманом под командованием капитана Тегетхоффа в сражении у Гельголанда в 1864 году, когда австрийская и датская эскадры столкнулись в последней битве парусных кораблей. Мы решили, что следует почтить запоздалое участие в войне парусного судна, на борт которого мы как раз грузились, этим прославленным именем.
Близилась полночь. Паровой полубаркас с «Элизабет» провел нас мимо маяка к краю минного поля, а потом отпустил трос. Два фонаря на берегу обозначали нам курс, и мы поставили паруса по ветру. С громким скрипом бамбука мы тронулись, подгоняемые легким бризом в сторону ни о чем не подозревающей цели, лежащей на якоре в трех милях от берега. После заката ветер слегка утих, но для нас вполне годился, хотя меня беспокоила липкая и раздражающая жара, пришедшая с ветром после нескольких недель холода из Манчжурии, а также быстрое падение уровня барометра с тех пор как мы отплыли. Но сейчас это уже не имело значения — через полчаса мы подойдем к цели на нужное расстояние.
На первый патруль мы наткнулись сразу за нашими минными полями. Это был японский миноносец. Когда он осветил нас прожектором, мы с Кайнделем скрылись из виду и предоставили переговоры Эрлиху, одетому в национальную китайскую одежду и выглядевшему вполне себе китайцем, чтобы при проверке сойти за местного туповатого шкипера джонки. У японцев имелся переводчик.
— Что он говорит, Эрлих? — прошептал я, присев за фальшборт.
— Их капитан говорит, что мы сборище простофиль, и будь его воля, он бы отрезал всем нам головы, ведь похоже, они нам без надобности. Он приказал держать нынешний курс и побыстрее проваливать к чертям, пока он не вышел из себя и не открыл огонь.
Мы плыли на постоянной скорости в четыре узла, пока миноносец не растворился в темноте за кормой. Мы наверняка уже где-то рядом: два фонаря на берегу теперь выстроились в линию, отмечая направление торпедной атаки. Мы во все глаза всматривались во мрак, пытаясь разглядеть черный силуэт «Неумолимого» на фоне слабого света звезд. Но где же он? Мы убрали парус, потом снова поставили. Ничего. Мишень исчезла, с наступлением ночи подняла якорь и переместилась на другое место или вернулась в Гонконг для ремонта и за новыми боеприпасами. Столько хлопот, и всё без толку. Мы проблуждали еще с полчаса, но море вокруг было пустынно. Цель утекла сквозь пальцы.
За час до рассвета на нас с воем обрушился тайфун с севера Тихого океана, внезапно, как прыжок тигра, и с яростным натиском миллионного стада бизонов. И так он задувал еще девять дней. Я вспомнил тот период многие годы спустя, когда был пленником в Бухенвальде: как легко почти животный страх и лишения становятся обыденными, как быстро в них растворяется личность, как скоро человек забывает, что в мире существует что-либо еще.
Первые пару дней, когда «Шварценберг» по яростным волнам несло на юг, под завывания ветра, я был уверен, что следующая волна станет для нас последней. Мы цеплялись за любой выступ на палубе, промокли, продрогли и пребывали в таком ужасе, что больше не чувствовали истощения, голода или недосыпа, нами владел лишь липкий страх вместе с желанием, чтобы всё это поскорей закончилось. Время, направления и расстояния прекратили существовать, мы просто рвались вперед, и весь мир сузился до безумной качки, уходящей из-под ног палубы, серых брызг, воя ветра и постоянных оглушительных раскатов грома под низким грязным небом со зловеще сверкающими на нем молниями.
Даже дни и ночь исчезли, слившись в одинаковые мрачные сумерки — днем было темно от туч, а ночью светло от молний. В первый же день всё чуть не закончилось, когда над кормой нависла похожая на башню волна и обрушилась на нас. Лишь чудом никого не смыло за борт, джонка вынырнула на поверхность и стряхнула воду, как утка в деревенском пруду. Но большую часть снастей унесло, а хронометр был выведен из строя.
Хотя это мало что меняло: в первобытном хаосе сама идея навигации выглядела совершенно нелепой. Мы лишь могли убрать паруса, оставив необходимый минимум, чтобы держаться поперек волн и нас не захлестнуло с кормы, и надеяться, что не наткнемся на что-нибудь по пути. Я намеревался сбросить торпеды, чтобы облегчить судно, но китайцы меня остановили, заявив, что их вес, похоже, выравнивает джонку. Вскоре мы потеряли представление о том, где находимся и даже какой сегодня день. Примерно на шестой день тайфун ослабел, и мы смогли разглядеть приблизительно в миле по правому борту землю — может быть, Формозу. Но потом погода снова ухудшилась, и мы устремились вперед, как и прежде, в своем ограниченном мирке грохочущих волн, туч и брызг.
И потом вдруг всё кончилось, так же внезапно, как и началось, и наша потрепанная и протекающая посудина поплыла с попутным теплым ветерком по залитому солнцем голубому морю, с тихим скрипом переваливаясь по длинным, мягким волнам вдогонку за далеко ушедшим штормом. Мы недоверчиво оглядывали бородатые, покрытые коркой соли лица, до сих пор не веря, что остались живы. Китайцы суетились с ароматическими палочками перед алтарем богини милосердия Гуань-Инь и разложили на просушку под солнцем хворост и найденную жестянку со спичками. Вскоре в глинобитной печке горели угли, и мы смогли приготовить первую за девять дней горячую пищу. Потом нас свалила с ног чудовищная усталость, словно в банк нашего физического и душевного состояния разом предъявили к погашению все выданные чеки. В сумерках мы легли в дрейф, чтобы несколько часов поспать.
На следующее утро над пустынным морем поднялось солнце. Было тепло, слабый ветер дул с востока. Но где мы? Должен признаться, я не имел ни малейшего представления. Я решил, что, возможно, где-то к северо-востоку от Филиппин, но точнее сказать было трудно. У нас не было карт южнее Шанхая, а хронометр несколько дней назад остановился. Что до определения местоположения с помощью секстанта, то мне лишь удалось установить долготу проверенным временем способом — сделав несколько измерений высоты солнца в зените и высчитав среднее. Проделав это, я от удивления чуть не выронил секстант. Я снова проверил расчеты. Ошибки быть не могло: мы менее чем в десяти градусах севернее экватора. То есть за девять дней мы покрыли примерно полторы тысячи морских миль.
Значит, мы рядом с Филиппинами, но с какой стороны? Если мы к востоку от острова Лусон, то можем высадиться на территории Соединенных Штатов, то есть нейтральной. Если же с западной стороны, то ближайшее побережье — это французский Индокитай. Необходимо выяснить, где мы, от этого зависит, вернемся ли мы в Австрию через США или застрянем в тюрьме как военнопленные.
Однако вскоре вопрос о том, к чьей колонии мы ближе, отошел на второй план. Потому что после полудня, продвигаясь на юг с ветром в левую раковину, мы заметили на горизонте к северо-востоку парус. Я рассмотрел корабль в бинокль, по мере того, как он показывался из-за горизонта. Это было мелкое парусное суденышко из местных, что-то вроде проа [72] — с двумя коричневыми рейковыми парусами, наверху более широкими, чем внизу, и оно быстро нас нагоняло.
Поначалу я обрадовался: кто-нибудь на судне, возможно, говорит по-китайски или на каком-нибудь европейском языке, и мы получим представление о том, где находимся. Но по мере того, как нас догоняли, и я смог как следует рассмотреть судно, на душе стало тревожно. Это и в самом дело оказалось проа, низко сидящее в воде, с двумя массивными балансирами. Но экипаж, похоже, был слишком большим для торгового или рыбацкого судна. По правде говоря, проа было прямо-таки забито людьми от носа до кормы, и вскоре, когда они подошли ближе, мы заметили солнечные блики на стали и услышали окрики. Возможно, они просто хотели продать нам свежих кокосов, а может и нет.
Я приказал команде поставить все паруса до последнего. Состязание на скорость между неуклюжей торговой джонкой и пиратским проа по своей природе не является состязанием равных, но не настолько уж. «Шварценберг» плыл курсом, дававшим ему наибольшую скорость, а плоскодонному бескилевому проа такой курс подходил мало. Они должны были нагнать нас где-то через полчаса, но у нас оставалось еще достаточно времени для подготовки.
Я велел команде наполнить мешки из-под риса камнями балласта из трюма и сложил их на корме, соорудив примитивный бруствер с бойницей посередине. Потом вытащил пулемет из металлического ящика и поднял его из трюма на куске парусины, вместе с пятью сотнями патронов. Мы установили его на треноге, а дуло высунули в бойницу. Мы вместе с торпедомейстером Кайнделем залегли в ожидании. Теперь мы хорошо видели их в сотне метров за кормой: не китайцы, как я ожидал, а люди с более темной кожей, длинными носами и черными кудрями, покрытыми яркими платками.
Довольно пугающее сборище, это уж точно, вооруженное чем-то вроде сабель и кинжалов, а также допотопным огнестрельным оружием, которым они трясли в предвкушении, не подозревая о том, что цивилизованные европейцы лежат в ожидании за бруствером из рисовых мешков. Вскоре мы услышали их радостные крики и завывания. Среди них была и парочка китайцев, так что Эрих сможет с ними переговорить. Хотя вести переговоры особо и не о чем — пока два суденышка качались на волнах, стало ясно, что те жаждут нашей крови и воображаемого груза.
— Лечь в дрейф, жалкие твари, — выкрикнул их переводчик. — Сдавайтесь, и мы помилуем тех, кто к нам присоединится. А попытаетесь сбежать, мы возьмем вас на абордаж, порубим всех до одного в капусту и скормим рыбам кусок за кусочком!
— Пошли вон, ворье поганое, оставьте в покое мирных торговцев!
— С какой стати? Или ты собираешься с нами разделаться, петух навозный?
— Предупреждаю, у нас на борту оружие, стоит мне его использовать, и ни один не избежит расплаты.
Эта угроза вызвала у пиратов приступ веселья.
— О да, император всей вселенной! Спусти портки, чтобы мы могли разглядеть твое оружие и задрожать от страха!
Дистанция между нами снизилась до тридцати метров. Я подал Кайнделю знак, он взвел затвор пулемета и уставился в прицел.
— Получится, Кайндель? — спросил я. — Судно прыгает, как скаковая лошадь.
— Не беспокойтесь, герр командир. Меня не просто так произвели в пулеметчики первого класса. Пусть только эти гнусные дикари ткнутся в нас носом, и обещаю, я в три секунды уложу целую кучу. Только скажите когда.
Я всмотрелся через бойницу на толпу завывающих и размахивающих саблями пиратов, сгрудившихся на носу проа, пока оно вспенивало волны за нашей кормой. На мгновение я представил, какими они станут через несколько секунд: плавающие в луже крови мертвецы и умирающие, дрейфующие в нашем кильватере, кровь стекает через дыры в изрешеченном пулями корпусе. И что-то во мне перевернулось. Возможно, нахлынули воспоминания о бойне на Вороньем перевале несколько недель назад, точно не знаю, но я просто не мог заставить себя это сделать. Эти мерзавцы без сомнения давно заслуживали смерти за свои преступления. Но кто я такой, чтобы быть и судьей, и палачом? Я, свалившийся на них из чуждого мира, словно с другой планеты?
— Нет, Кайндель, — сказал я. — Дадим им шанс, хотя они его и не заслужили. По моему сигналу дайте первую очередь по салингу фок-мачты и постарайтесь сбить парус. После этого, только после этого, стреляйте по ним, но по моему сигналу.
— Но, герр капитан... я могу уложить всю кучку этого отребья одной очередью. Мы только окажем услугу человечеству...
— Кайндель, делайте, как я сказал.
Он разочарованно вздохнул.
— Хорошо, герр капитан.
Пираты пытались заставить нас лечь в дрейф, держа наготове оружие. Блеснуло несколько вспышек, распустились облачка белого дыма, и над головой засвистели пули. Одна попала в борт, и во все стороны разлетелись щепки. Я хлопнул Кайнделя по плечу.
— Огонь!
Кайндель не зря хвастался своим мастерством пулеметчика. Несмотря на качку обоих посудин, вся очередь патронов в пятьдесят уложилась в радиус крышки от мусорного бака, прямо на стыке фок-мачты и реи люггерного паруса. Мачта, рея и парус — все разлетелось в клочья. На палубу посыпался град из бамбуковых щепок и клочков ткани, а сам парус пышной грудой свалился на вопящих пиратов на носу проа. Было ясно, что они никогда раньше не встречались с автоматическим оружием. Даже на таком расстоянии я увидел, как побледнели их смуглые лица, когда они в ужасе молча переводили взгляды с разбитой мачты на нас. Стало совершенно очевидно, что у них нет ни малейшего желания больше нас беспокоить. Через полчаса оставшийся у них парус исчез за горизонтом позади нас.
С нашей точки зрения мы отлично разделались с пиратами, но это никак не решало больной вопрос, где же именно мы очутились. Сейчас, с приближением вечера, мы находились среди архипелага из небольших островов — плотиков густой зелени, окаймленных белым песком и плывущих по ярко-синему морю. Казалось, все они необитаемы. Наконец, наступили короткие тропические сумерки, и солнце погрузилось за горизонт где-то на западе. У меня не было ни малейшего желания плыть в темноте через коралловые рифы без карт, так что на ночь мы легли в дрейф. На этот раз я принял меры предосторожности и на всякий случай выставил часовых, а бодрствующую вахту вооружил винтовками и мачете.
Ночь прошла буднично, и на рассвете мы снова отправились в путь. Вскоре на юге мы увидели землю — на этот раз не острова, а далекую, серо-голубую гряду гор. Потом разглядели низкий лесистый берег и мангровые болота.
Учитывая встречу накануне с местными пиратами, я беспокоился насчет высадки на берег, ведь это вполне могла оказаться их территория. Но всё же понимал, что придется набраться мужества и высадиться, частично чтобы узнать наше местонахождение, частично потому, что запасы провизии и воды заканчивались, а кроме того, после девяти дней тайфуна швы у «Шварценберга» протекали, их нужно было законопатить. Я решил, что мы поищем какое-нибудь поселение, но небольшое, чтобы сумели при необходимости одолеть местных — ведь в более крупной деревне мы могли натолкнуться на пиратов, а кроме того, я понял, что мы наверняка приближаемся к французскому Индокитаю.
Около полудня впередсмотрящие увидели вдалеке местную лодку, двигающуюся вдоль побережья на юго-восток примерно в двух милях от нас. Я не знал, заметил ли нас находящийся в ней человек, поскольку он греб против течения. Вскоре мы увидели, как он свернул в устье широкого залива среди мангровых зарослей. Я осмотрел берег в бинокль и различил чуть дальше вглубь слабую струйку дыма над деревьями.
Наверное, там деревня, но небольшая, решил я. И мы последовали за лодкой в залив. Ветер совсем стих. В полдень, когда мы ввели «Шварценберг» в неторопливые, вязкие воды реки, стало чудовищно жарко. Дюжина человек потели и охали, налегая на десятиметровое кормовое весло из бамбука. Примерно на расстоянии мили вглубь реки я отдал приказ бросить якорь под прикрытием густого леса. Экипаж принялся конопатить швы из тюбиков чу-намом, а Кайндель, Старший бей из Вены и я поднялись вверх по реке в сампане, чтобы поговорить с жителями той деревни, чей дым я разглядел. Эрлих остался на борту джонки с пулеметом и двумя винтовками на случай нападения.
Полуденная жара висела над рекой и лесом густым удушающим покрывалом, приглушая даже крики животных в джунглях и жужжание насекомых. Мы прошли вверх по реке несколько километров, один раз наткнувшись на плывущее бревно, оказавшееся дремлющим в реке крупным аллигатором. Я уже начинал гадать, куда делся хозяин лодки, когда увидел впереди шаткие бамбуковые мостки с привязанными рядом пятью лодками.
Мы пристали к берегу, пришвартовали сампан и двинулись по тропинке, ведущий вглубь берега. Ну и странное же зрелище, должно быть, мы собой представляли, двое потеющих европейцев и китаец в соломенной шляпе. Ободранные, покрытые коркой соли и с отросшими за две недели бородами (у нас не было ни времени, ни пресной воды для бритья), мы с Кайнделем были в рубашках с короткими рукавами, а на фуражки прикрепили носовые платки для защиты от солнца — в стиле Генри Мортона Стенли [73] в черной Африке. Я взял пистолет Штейра, а Кайндель — винтовку, у всех троих на поясах болтались абордажные сабли. Старший бей из Вены нес перед нами австро-венгерский морской флаг на бамбуковом древке в знак того, что мы не просто потерпевшие кораблекрушение моряки или преступники, а вооруженные отряд моряков одной из главных европейских держав. По правде говоря, помимо знамени ничто больше не свидетельствовало о подобном статусе.
Казалось, тропа ведет в никуда. Мы шли по меньшей мере час, было жарко как в бане. Конечно, дым не мог быть миражом... А потом они внезапно оказались вокруг нас, возникнув как туман, как лесные призраки, отрезав путь к наступлению и отступлению.
Их было человек двадцать, небольшого роста, но крепких и смуглых, гладко выбритых и нагих, не считая темно-синих набедренных повязок и похожих на корзины шляп, сплетенных из бамбука. Я заметил, что у всех левое запястье обвивала затейливая синяя татуировка. В руках у них были короткие сабли и щиты, декорированные по краям мехом, а у некоторых имелись также копья и духовые трубки. Они стояли молча и в полной готовности, разглядывая нас безо всякого выражения, как смотрели бы на бурдюки с салом. Наконец их предводитель выступил вперед со скрещенными на груди руками.
Он был на голову выше остальных, лет двадцати и довольно привлекательным, с тонкими чертами лица. Мы находились в крайне деликатной ситуации — эти люди не были настроены враждебно, но могли вскоре таковыми стать, если их не удовлетворят наши объяснения относительно того, что мы здесь делаем. Конечно, у нас имелось огнестрельное оружие, но здравый смысл подсказывал, что в окружении и при численном преимуществе противника после первого же выстрела нас превратят в отбивные.
Теперь всё зависело от моих навыков переговорщика. Лишь бы мне удалось объяснить, что мы не желаем им зла, что мы просто заблудившиеся моряки, пытающиеся узнать дорогу... Сначала я попробовал говорить на английском — разумный выбор в те дни в Китайском море. Безуспешно. Я попробовал французский, потом немецкий, затем то немногое из испанского, что выучил в время плавания к Южной Америке, когда был кадетом. Та же реакция. Я испробовал португальский, итальянский, даже латынь в слабой надежде, что сюда заглядывали католические миссионеры. Всё тот же спокойный немигающий взгляд. Мне было жарко, я ужасно устал и пришел в отчаяние от своей неспособности наладить контакт с этими людьми. В конце концов я потерял терпение, глядя как их предводитель бесстрастно стоит напротив со скрещенными руками и не моргая смотрит на меня.
— Dobře, hnědy dáble, — пробормотал я. — A možná mluvíte česky? [74]
Его ответ, думается, стал самым большим сюрпризом в моей жизни.
— Ano mluvím, ale dábelˇ nejsem. [75]
Глава четырнадцатая
Ночная атака
Мы с молодым воином шли по тропинке через джунгли к деревне его племени и разговаривали. Как только прошло начальное удивление, я понял, что хотя он знает чешскую грамматику далеко не идеально и его словарь ограничен, с учетом обстоятельств он владеет языком довольно хорошо. Также я отметил, что его речь окрашена сильным восточно-богемским акцентом и идиомами.
— Но скажите, — вопрошал я, — как, чёрт возьми, получилось, что вы говорите на чешском?
— А почему бы и нет? Мой отец разговаривает на чешском. Он научил нас ещё в детстве. Он рассказывает, что это язык его племени далеко за морем: великого племени, ещё больше чем дусуны — хотя он утверждает, что там больше не собирают головы врагов.
— Я знаю, сам из того же племени. Но кто ваш отец и как он здесь оказался?
— Мой отец — вождь нашего народа. Он прибыл сюда много лет назад из-за моря в огромном белом проа с огнём в брюхе и дымящейся трубкой посередине. Когда они гребли в маленьком проа по реке, люди из племени тоэвокс сидели в засаде и перебили всех, а моего отца лишь ранили. Наши охотники нашли его в лесу, а дочь прежнего вождя его выходила. Но его братья-воины давно вернулись на свою землю, а он женился на дочери вождя и остался с нами, научив драться как белые люди, затем повел нас сражаться с малайцами с Сулу и работорговцами. Мы победили их в большом сражении и взяли много голов, и они больше никогда нас не беспокоили. Так мой отец стал нашим вождем, когда умер прежний, и правит нами много лет.
— У вас есть братья и сестры?
— Да. Меня зовут Вацлав. Старший брат Иржи сейчас охотится в лесах. Но мои сестры Зденка, Власта и Ярмила с нами, в деревне.
Он произносил эти удивительно простые имена с такой серьёзностью, как будто они необыкновенные и экзотические, так что я еле сдерживал смех.
Мы пришли в деревню минут через десять. Она состояла из деревянного частокола, окружающего длинный навес на сваях и с крышей из пальмовых листьев. Приподнятые бамбуковые мостки соединяли его с меньшими постройками поселения — и очень кстати, так как земля внизу представляла из себя омут зловонной грязи, где копошились куры и черные свиньи в окружении шумной толпы голых детей.
Жители деревни отложили все дела, наблюдая за нашим прибытием, но их лица не выражали особого удивления при виде странной и довольно пестрой группы, появившейся в их владениях. Толстый мужчина средних лет прислонился к перилам балкона в конце длинного навеса. Он уставился на нас, потом что-то крикнул. Прежде чем мы успели понять, что происходит, нас схватили его воины, а вокруг собралась толпа. Пока я боролся в тисках пяти или шести воинов, очень сильных несмотря на небольшой рост, толстяк протолкнулся к нам сквозь толпу. Он вытащил короткую саблю, двинулся на меня и поднес острие к кончику моего носа. Я прямо-таки почуял его остроту.
Он был одет, как и все остальные, но саронг украшал гораздо более сложный узор, а на клинке нанесена искусная золотая инкрустация. Он был, вернее когда-то был европейцем, и заговорил со мной на ломаном немецком, исковерканном из-за десятилетий отсутствия практики.
— Что тебе угодно и кто ты, говори. Если вы пришли за мной, то не проживете и часа! Откуда вы узнали, что я здесь?
Я решил рискнуть и ответил на чешском.
— Велите своим людям меня отпустить, и тогда мы спокойно все обсудим. Не знаю, почему вы считаете, что мы пришли за вами. Уверяю, мы простые моряки, попавшие в беду и сбившиеся с пути, и нуждаемся в пище, если захотите что-нибудь нам продать.
Он с удивлением и пристально смотрел на меня несколько секунд, а потом опустил саблю.
— Почему тогда у вас австрийский военно-морской флаг? Говорите правду: вы пришли арестовать меня и увезти обратно в Полу, ведь так?
Это внесло ясность в ситуацию.
— Мы пришли не для того, чтобы забрать вас в Полу или куда-то еще. Мы понятия не имели, что вы здесь, и я не имею ни малейшего представления о том, кто вы такой. Но если бы мы приехали арестовать вас, полагаю, как дезертира, то вряд ли бы появились группой из трех человек, один из которых китаец, правда? Посудите сами. Но простите мой вопрос, с какого вы корабля?
Он посмотрел с обидой и жестом велел воинам меня отпустить.
— Со старика «Сесана», если хотите знать: два года вокруг света. Вот только мне уже встали поперек горла сухари и унтер-офицеры, и я решил сбежать, как только мы наткнемся на туземцев, но в меня выстрелили дротиком с ядом, и я чуть не умер в джунглях, прежде чем вот эти друзья меня не спасли. Вот, смотрите, — и он показал мне большой, глубокий и сморщенный шрам на тыльной стороне левой ладони. А я копался в закоулках памяти. Да, это было году в 1883-м или 1884-м? Паровая канонерка «Сесан» исследовала Ост-Индию с целью застолбить колонии для Австро-Венгрии, и разведывательный отряд подвергся нападению и был уничтожен местными жителями. Но это же произошло на побережье... Быть не может.
— Означает ли это, — спросил я, — что мы на Борнео?
Он посмотрел на меня с удивлением.
— Конечно. А где ж вы оказались, по-вашему?
Наш обильный ужин состоял из вареного риса и лесной оленины — весьма своевременно, могу вам сказать, после того как почти две недели мы прожили без нормального питания. За едой мы с ним разговаривали. Я узнал, что он — матрос второго класса Яромир Виходил, рекрут 1862 года рождения из деревни близ Пардубице в Чехии.
— Будучи чехом и социалистом, я всегда недолюбливал старика в Хофбурге, — произнес он. — Но скажите, давно ли умер старый дурак и кто теперь император?
— Он ещё вполне живой.
Собеседник слегка поперхнулся и продолжил.
— Конечно, я иногда скучаю по мелочам, время от времени по дому и по доброй кружке Пилзнера. Но невозможно иметь всё сразу, и к тому же мне, сыну безземельного труженика, незачем возвращаться в Австрию. Нет, это хорошие люди, и я счастлив с ними. И у меня пятеро детей, которые позаботятся обо мне в старости... — он указал на трех сестер Зденку, Власту и Ярмилу, красоток с обнаженной грудью, куривших трубки и жевавших орех катеху. Они сидели с каменными лицами, скрестив ноги и пытаясь следить за разговором на отцовском языке. — Нет, могло быть гораздо хуже. И, конечно, я оказал неплохую услугу этому племени, оказавшись у их порога. За несколько лет пираты с Сулу и работорговцы почти уничтожили их, так что им пришлось выживать в джунглях, питаясь кореньями и древесной корой, как пунанам [76] в глубине страны. Тем не менее, мы преподали сволочам пару уроков, как только я немного организовал этот народ. Больше они никогда нас не побеспокоят, хотя я переместил деревню подальше от ручья, чтобы у них не возникало соблазна.
— Но где именно мы находимся?
Он с подозрением взглянул на меня.
— Зачем вам это знать?
— Потому что мы заблудились.
— Заблудились? Австрийский военно-морской десантный отряд заблудился? Как так?
— Сейчас война в Европе. Мы были в Циндао.
— Где это?
— Ну конечно, вы ведь не знаете, да?
— Не очень-то, австрийские газеты в последнее время доставляют с перебоями.
— Это немецкая колония на побережье Китая, в настоящее время в осаде Японии, Англии и Франции. Во всяком случае, мы сбежали на китайской джонке, но нас отнесло на юг тайфуном; мы не имеем ни малейшего представления о том, где находимся, за исключением того, что с ваших слов мы на северном побережье Борнео. Вы можете нам помочь?
— Сколько вас здесь?
— Один австрийский и один немецкий офицер, австрийский унтер-офицер и семнадцать китайцев.
— Ну, я не могу точно сказать, где мы сейчас находимся, потому что сам не совсем уверен. И в любом случае, я не хочу, чтобы вы вернулись позже с большей поисковой партией. Но мы недалеко от северо-восточной оконечности острова Борнео, это точно.
— Значит, это британская территория?
Он засмеялся.
— Спрашиваете. Британская или голландская — не могу сказать. У нас была группа пограничных эмиссаров несколько лет назад.
— И где же они установили границу?
— У них не было такой возможности: мы их схватили, — он показал на черные от дыма стропила длинного дома с закопченной до черноты группой предметов, обернутых в высушенные банановые листья, предметов, которые до этого момента я считал кокосовыми орехами. Неожиданно мне в голову пришла мысль, что относительно архитектурного стиля длинного дома и развлечений эти люди нашли бы общий язык с господарицей Загой.
До окончания вечера я попросил вождя Виходила из племени богемских даяков нарисовать простую схематическую карту побережья, используя огрызок карандаша из моего кармана и кусок гладкой древесной коры. Его пальцы были неуклюжими.
— Лет тридцать прошло с тех пор, как я в последний раз что-либо рисовал, — сказал он.
Но карта оказалась очень кстати, так как на ней было схематически изображено побережье вокруг северо-восточной оконечности Борнео вплоть до первого поселения, которое бесспорно находилось на голландской территории. Деревня в пятидесяти милях называлась Серикпапан, там был маленький полицейский пост. Из полученных в Циндао радиограмм я знал, что по крайней мере в конце сентября Голландия оставалась нейтральной.
Если у нас получится добраться до территории Голландской Ост-Индии и сдаться голландским колониальным властям, то мы, несомненно, сможем избежать интернирования и направимся домой.
Следующим утром мы возвратились на джонку, нагруженные рисовыми шариками и жареной свининой. Вся деревня попрощалась с нами, а три дочери Виходила махали руками и кричали: «Na šhledanou!» [77], пока сампан отдалялся от пристани. Позже мне казалось, будто всё это мне приснилось. Но это на самом деле произошло, и полагаю, вполне возможно, что где-нибудь в джунглях Борнео правнуки дезертира Виходила всё ещё обмениваются парой чешских слов, не имея ни малейшего понятия, почему так делают, приводя в бесконечное замешательство антропологов и, быть может (кто знает?), став темой нескольких глупых докторских диссертаций по лингвистике в американских университетах.
Провизия от охотников за головами пришлась очень кстати, но, безусловно, наибольшую пользу от нашей экскурсии на берег принесла карта побережья на древесной коре от Виходила: примитивная, но при этом довольно точная, как мы поняли за два следующих дня, когда прокладывали путь через пролив Сибуту и далее вдоль восточного побережья Борнео, прижимаясь к берегу и отмечая ориентиры один за другим: скалистый мыс, выступающая группа деревьев, обломки корабля на отмели и так далее. В конце концов, мы приплыли к небольшому заливу, который, по его предположению, считался северо-восточной границей голландской территории. Мы направили джонку в речку и вскоре привязывали ее к пристани крошечного поселка Серикпапан с населением около тридцати человек.
Официальную резиденцию начальника округа от других хижин отличал только развевающийся над крышей голландский флаг, а сама крыша была из гофрированного железа, а не пальмовых листьев. Все окрестные калеки и бродячие собаки столпились вокруг нас с Эрлихом, когда мы поправили фуражки, а потом проделали путь по единственной улице, чтобы вверить себя и корабль в распоряжение королевства Нидерландов.
Представителем королевы Вильгельмины в этих краях (вероятно, самое богом забытое назначение во всей голландской империи) оказалась жизнерадостный молодой ирландец по фамилии Шанахан, примерно моего возраста. В его национальности, разумеется, не было ничего особенного: когда страна с населением в четыре миллиона пытается управлять колониальной империей размером с две Европы, то неизбежно, что белые голландцы на земле встречаются довольно редко, и администрации Голландской Ост-Индии приходится нанимать всех европейцев, каких только можно.
Как и я, Шанахан был обязан своим присутствием здесь, на северном Борнео, опрометчивому приступу блуда: в его случае с женой своего непосредственного руководителя в Батавии. Но я счёл его добродушным, преданным своей приёмной стране и далёким от популярного стереотипа об отупевшем колониальном чиновнике, приговорённом к гибели от жары и скуки на какой-нибудь отвратительной заставе. На самом деле, он, по-видимому, наслаждался пребыванием здесь, на самой дальней голландской границе, где полагался только на себя и шестерых местных полицейских, чтобы претворять в жизнь указания из Гааги территории, по размерам ненамного меньшей самих Нидерландов.
— Сейчас главным образом нам приходится бороться с охотниками за головами и междуплеменными войнами, — сообщил он, когда мы сидели на веранде и пили пиво из его драгоценного запаса, — а еще со шхунами работорговцев, похищающих людей для работ на плантациях копры. Флот положил конец большей части пиратства вдоль побережья, но нам до сих пор доставляют проблемы мерзавцы султана Сулу — то отребье, что преследовало вас. Границы с англичанами и американцами до сих пор не установлены, так что никто не может решить, кто же должен с ними расправиться. Сейчас я в основном воплощаю в жизнь чертову идиотскую директиву из Гааги, чтобы даяки не хранили умерших родственников в гостиной, пока те не сгниют. Вот спрашивается, как бы Вильгельмине понравилось, если бы даяки приплыли в Амстердам на своих каноэ и попытались заставить голландцев прекратить хоронить людей на кладбищах? Но скажите, господа, чем, я могу вам помочь в нашей глуши?
— Мы хотим, чтобы правительство Нидерландов нас интернировало, если это не причинит вам слишком много хлопот. Мы в полутора тысячах миль от нашей ближайшей базы, на протекающей джонке с китайской наемной командой, которая в скором времени может вызвать некоторые проблемы, вода и провизия на исходе, и нет совершенно никакого смысла пытаться вернуться в Циндао, может, город вообще пал. Так что, если бы мы могли сдаться и разоружить корабль, то были бы просто счастливы, если нас возьмут под стражу.
— Хорошо, капитан, — улыбнулся ирландец, — я был бы рад помочь, но вас столько, что это мы будем вашими пленниками, а не наоборот, учитывая, что вас двадцать, а нас только семеро.
— Но, конечно, вы можете связаться с вашим командованием и убедить их послать за нами военный корабль?
— Боюсь, это не так-то просто. Мы тут сами по себе, говорю же вам. К нам раз в три месяца приплывает канонерская лодка, и последний визит она нанесла неделю назад. Что до остального, то здесь нет ни дорог, ни телеграфа. Быстрее всего послать сообщение наместнику в Таракан с бегуном, который будет три дня бежать туда и столько же обратно. Что касается вашего содержания здесь, то наши припасы этого не позволяют. В этих краях еда не в избытке. Нет, капитан, надеюсь, вы не подумаете, что я негостеприимен, мне приятно, что вы нас навестили, но думаю, вам лучше выйти в море и самим доплыть до Таракана. Это всего лишь миль пятьдесят, а я дам вам карту и письмо к комиссару с объяснением, почему мы не могли оставить вас здесь.
Я взвесил сложившееся положение. Конечно, гораздо привлекательнее провести еще день в море, чем сидеть здесь неизвестно сколько в ожидании, пока голландские власти пришлют за нами корабль. В конце концов, может потребоваться больше времени, чем я думал, чтобы избежать интернирования. И сказать по правде, я очень хотел вернуться в Европу, пока еще идет война. Последняя новость до побега из Циндао была о том, что в начале сентября немецкие войска находились вблизи Парижа. Тогда, конечно, война закончится до Рождества, возможно, даже раньше. И в то же время, кто знает, какие грандиозные события я могу пропустить, пока сижу в Батавии под арестом, читая газеты и желая оказаться там, где идут военные действия. Я также чувствовал, что лейтенант Эрлих настроился добраться до своей далекой родины и продолжить борьбу за кайзера. Нет, подумал я, давайте поспешим навстречу цивилизации.
На следующий день ближе к вечеру джонка императорского и королевского флота «Шварценберг» обогнула северную оконечность довольно большого острова приблизительно в десяти милях к северо-востоку от Таракана, отмеченного на карте Шанахана как “остров Секу”. Мы держались со стороны моря, потому что в проливе между островом и материком пряталось много коралловых рифов. Когда мы проползли вокруг мыса, крик Кайнделя вынудил меня помчаться в носовую часть корабля.
На якоре в окаймленном пальмами заливе, примерно в трех милях к югу, стоял большой пассажирский лайнер. Он выглядел до странности знакомым. Я взял бинокль и начал его изучать. Сомнений быть не могло. Для неопытного глаза новая окраска может полностью изменить внешний вид корабля. Но я провел на море слишком много лет, чтобы купиться на такое. Элегантный черный корпус и белые палубные надстройки неровно и кое-как перекрасили в серый цвет как у линкоров, но колпаки на трубах и забавные закругленные аркады вдоль прогулочных палуб ни с чем не спутаешь.
Перед нами был лайнер «Австрийского Ллойда» «Горшковски», на борту которого я прибыл на Дальний Восток три месяца назад, в последний раз я видел его пришвартованным у набережной Вайтань в Шанхае. Но что он делает здесь, в Ост-Индии? Я настроил бинокль и увидел энное количество красноречиво задрапированных брезентом бугров на форкастле и около поручней квартердека. Так что это был он: оснащённый как вспомогательный крейсер для разрушения торговых путей.
Это просто везение, и никакой ошибки. Я знал, что до 1914 года наши германские союзники создали по всему миру сложную сеть станций по снабжению углем и боеприпасами для оказания поддержки в крейсерской войне против огромного британского торгового флота. Как и следовало ожидать, у Австро-Венгрии такое снабжение отсутствовало. Но я знал, что, по крайней мере теоретически, австрийские пассажирские лайнеры могут быть оснащены как вооруженные торговые крейсеры, а их экипажи в основном составляли флотские резервисты. Видимо, когда началась война, капитан Мартинелли проявил весьма несвойственную австрийцам инициативу и вооружил корабль, чтобы заниматься каперством [78]. Что ж, раз дело обстояло таким образом, для нас найдется место на борту.
А что насчет наших китайских моряков? Подумав об этом, я решил, что у меня нет желания вовлекать их в европейскую войну. За две недели они и без того вынесли достаточно, хотя мы так и не поучаствовали в боевом задании той ночью в Циндао. И я чувствовал, даже если они теперь фактически члены австро-венгерских кригсмарине, с них уже хватит.
Разумеется, у меня не было никакого желания видеть, как их мобилизуют для длительной и гораздо менее хорошо оплачиваемой службы императору Францу-Иосифу. Нет, мы оставим им джонку и деньги, чтобы китайцы смогли добраться домой. Эрлих может какое-то время оставаться с ними. После того как мы с Кайнделем доложимся капитану «Горшковски», мы пошлем ему сообщение с предложением присоединиться к нам. Если он захочет, то может выбросить за борт торпеды, загрузить пулемет и винтовки на сампан и попрощаться с обоими Беями из Вены и остальными, заплатив им оставшуюся часть вознаграждения. Эрлих говорил, что как раз в это время года северо-китайские джонки регулярно торгуют в этих водах, поэтому наши китайцы без особых проблем смогут присоединиться к направляющейся домой флотилии.
«Шварценберг» бросил якорь в небольшой бухте, скрытой от посторонних глаз, и мы с Кайнделем отплыли на сампане. К этому времени мы уже изрядно пообтрепались, загорели и обросли. И нам будет нелегко убедить вахтенного офицера, что на самом деле мы моряки австро-венгерского военно-морского флота, особенно если мы приплыли на сампане. Но проблема решилась сама собой. Нам пришлось грести почти час, чтобы приблизиться к «Горшковски» на расстояние оклика. Мы подплывали с кормы, как и в предыдущий раз в Антибари.
Я заметил, что название корабля затерто. С некоторым удивлением я также увидел, что когда-то безупречный корабль теперь выглядел очень потрепанным: не только пятна ржавчины и грязь (что вполне допустимо после трех месяцев войны), но неопрятный во множестве тех мелких деталей, которые и отличают образцовый корабль от плавучего бардака — криво висящие на балках шлюпки, хлопающие открытые иллюминаторы, постиранное белье, небрежно висящее на поручнях. Что-то в его облике меня смущало.
И никаких признаков жизни — только часовой с винтовкой праздно склонился над гакабортом и безо всякого интереса смотрел на наше приближение. Из открытого кормового люка около ватерлинии донесся скорбный плач аккордеона. Неожиданно слабый ветерок с суши всколыхнул полуденную гладь бухты — едва-едва чтобы развернулся флаг на гюйсштоке. Когда я его увидел, у меня перехватило дыхание: белый, с голубым Андреевским крестом. Флаг русского императорского военно-морского флота.
Так вот оно что: русские захватили «Горшковски» в качестве приза и вооружили его как вспомогательный крейсер. Я подал Кайнделю знак проплыть мимо и скрыться. От кучки местных хижин на далеком берегу залива к кораблю приближалось несколько проа, так что наш сампан не слишком выделялся среди них, а что касается нас самих, то я надеялся, что мы достаточно загорели и пообтрепались, чтобы сойти за малайцев. Часовой не проявил к нам никакого интереса, а единственным членом экипажа в поле зрения был еще один человек в белом кителе, только что спустивший к подножию трапа, чтобы опрокинуть в море ведро с пустыми бутылками.
Когда он посмотрел на нас, у меня мурашки пошли по коже. Что отвечать, если нас окликнут? Я посмотрел на него, и мы одновременно узнали друг друга: это был стюард первого класса Фердинанд Вонг, работник линии «Австрийского Ллойда», китаец из Триеста, с которым я подружился во время путешествия в Шанхай. Он смотрел на меня в изумлении, а затем махнул, чтобы мы приблизились. Мы скользнули к подножию трапа.
— Вонг, что вы вообще тут делаете...?
— Сейчас не время для расспросов, герр лейтенант, просто позвольте прыгнуть к вам.
Он осмотрелся, чтобы убедиться, что нас не видят, и прыгнул в сампан. Мы спрятали его под куском брезента и погребли прочь, стараясь, чтобы отплытие не выглядело слишком поспешным. Удалившись на безопасное расстояние, мы засыпали Вонга вопросами.
— Но Вонг, что вы делаете с русскими? Ведь «Горшковски» сейчас военный корабль, а вы гражданский, и вдобавок австриец.
— Я знаю. Герр лейтенант, я им так и сказал, но у меня не было выбора.
— Что случилось?
— Мы грузили уголь в Шанхае для обратного пути, когда получили телеграмму из Триеста с приказом остаться там и ждать инструкций. Потом нам написали, что из-за войны надо плыть в Нагасаки, а не в Гонконг. Мы прождали там неделю, а потом получили другую телеграмму, велевшую возвращаться в Шанхай, поскольку японцы могут вступить в войну против нас. Так что мы снова подняли пары и отплыли — прямо навстречу русскому крейсеру, стоявшему как раз за трёхмильной границей. Нам пришлось следовать за ними во Владивосток в качестве приза.
— Что случилось потом?
— Экипаж интернировали, а пассажиров посадили на поезд до Австрии. Они собирались интернировать и меня, но затем русские сказали, что я буду их стюардом, хотя при этом они красили корабль в серый и устанавливали пушки. Я сказал, что я гражданский и подданный Австрии, но капитан просто ударил меня в челюсть и обозвал грязным китаёзой, и добавил, что если не заткнусь и не стану делать, что говорят, то он меня пристрелит. И вот, пожалуйста, я стал стюардом на борту вспомогательного русского крейсера «Николаев».
— Что они здесь делают?
— Вероятно, ищут «Эмден», так утверждают, — Вонг мрачно улыбнулся. — Хотя, судя по тому, что я видел, флаг им в руки.
— Что, всё так плохо?
— Плохо? Не то слово. Экипаж — только половина того, что нужно для управления кораблём, и большинство из них крестьяне, которые наверняка никогда раньше и моря не видели. Срут в углах, страдают от морской болезни и пьют водку, как минералку. А офицеры — вы в жизни таких не видели: многие едва ли могут отличить нос от кормы. Думаю, мы здесь только потому, что они заблудились. На прошлой неделе наш любимый отец-командир Благодарёв откусил матросу ухо, потому что тот неправильно одет. Вот что я вам скажу, герр лейтенант: если бы не вы, я бы спрыгнул за борт и рискнул быть съеденным акулами, лишь бы добраться до берега. С таким-то сбродом на борту только вопрос времени, когда они порвут задницу на рифах — или, возможно, нас найдет «Эмден».
Когда мы обошли вокруг мыса к заливу, где «Шварценберг» встал на якорь, то увидели плывущее с востока судно. Когда оно приблизилось, мы поняли, что это военный корабль, фактически небольшой крейсер. На какое-то невероятное мгновение мы решили, что это «Эмден». Разочарование наступило потом, когда он развернулся бортом приблизительно в миле от лайнера. Я понял, что это двухтрубный корабль значительно более ранней постройки, чем гладкий, трехтрубный «Эмден».
Сначала я его не опознал, но потом понял, что это голландский крейсер типа «Холланд». Я видел подобный в Йокогаме в году эдак 1905-м, и хотя этот был сильно перестроен (трубы укоротили и нахлобучили странные капюшоны), силуэт оставался по-прежнему узнаваемым. Он остановился, и на мостике замигал сигнальный фонарь, передавая сообщение на французском: «Информируем, что вы находитесь в территориальных голландских водах более суток, определенных международным правом. Просим немедленно покинуть территориальные воды и выйти в море».
Ответа не последовало. Сообщение повторили, получив только абсолютно неразборчивый ответ с российского корабля. Похоже, положение безвыходное. На месте голландского капитана я бы теперь отправил сообщение по радио, чтобы хоть как-то справиться с этим неприятным и дурно воспитанным гостем. Но вдруг меня поразила идея: почему бы не избавить его от хлопот? Торпеды все еще на джонке. Кайндель проверял их только позавчера, в Серикпапане, и посчитал, что те в идеальном состоянии.
А тем временем «Николаев» (бывший «Горшковски») стоял на якоре и, казалось, не выказывал никакого намерения куда-либо двигаться, может даже вообще был не в состоянии двигаться, поскольку Вонг сообщил о проблемах с правым двигателем. Возможно, стоит попробовать, и это, несомненно, послужит лучшей наградой за две недели лишений, чем покорно сдаться, так и не нанеся удара за родину. Почему бы и нет?
Когда мы втроем снова пришвартовались к джонке, уже стемнело. Я обрисовал ситуацию Эрлиху, и мы составили план. Вечерний бриз нам благоприятствовал, что и послужило основным фактором для ночной торпедной атаки под парусом. Теперь дело было за экипажем, поскольку я имел основания полагать, что атака будет рискованной.
Русские вряд ли самые внимательные в мире моряки, по крайней мере, судя по весьма нелестным отзывам Вонга, но с голландским крейсером поблизости они, несомненно, будут нести вахту бдительнее, чем обычно, и не станут спать на боевом посту. Для успешной атаки мы должны приблизиться на пятисот метров, а на этой дистанции в лунную ночь мы представляем из себя хорошую мишень. Поэтому на время этого короткого плавания, которое вполне может оказаться последним, я высадил на берег всю команду кроме самого минимума, необходимого для управления «Шварценбергом».
Конечно, Кайндель, Эрлих и я останемся на борту, и еще Фердинанд Вонг, который технически являлся резервистом (хотя в настоящее время в классе E8) и настойчиво хотел идти с нами, чтобы отомстить за те два злополучных месяца, проведенных с российским имперским военно-морским флотом. Помимо этого мы взяли только Младшего и Старшего беев из Вены и еще шесть китайских моряков, которым пришлось изрядно доплатить золотыми монетами из запаса. Остальных мы отослали на берег в сампане, велев отправляться домой пассажирами следующей отплывающей в Китай джонки.
Около половины одиннадцатого мы подняли якорь и крадучись выползли из залива. Все маскировочные охапки бамбука срезали, и две коричневые торпеды маслянисто поблескивали в лунном свете, все еще на бортовых подвесах, но уже без защитных колпаков на носовых взрывателях.
На носу установили пулемет в надежде на то, что после атаки мы могли бы обстрелять лайнер и сбить прицел артиллеристам. Но пока все было тихо, и мы поскрипывали курсом в открытое море, движимые мягким тропическим бризом. Обогнув мыс, мы стали с напряжением всматриваться в поисках цели. А если корабль поднял пары и отплыл, подчинившись голландцам? Мы страшились повторения безрезультатной атаки в Циндао двухнедельной давности. Но нет, корабль оказался на месте, именно там, где и во второй половине дня, затемненный так небрежно, что пятна света светились вдоль всего корпуса, как кошачьи глаза в темноте. И голландский крейсер находился все там же, по-прежнему ожидая помощи, которая обеспечит соблюдение правил нейтралитета.
Эрлих правил джонкой, Кайндель стоял у пулемета, а я присел в средней части посудины вместе с Вонгом, в готовности запустить двигатели торпед с бросить их с подвесов. А китайцы тем временем ловили последнее дыхание умирающего бриза в потрепанные паруса. Мы медленно приближались к ничего не подозревающему лайнеру. Конечно, они нас видели: луна ярко светила и казалась в два раза больше, чем в северных широтах. Но, полагаю, все их внимание было сосредоточено на голландском крейсере, или, возможно, они видели нас, но считали местным торговым проа, не представляющим никакой опасности.
Во всяком случае, мы приблизились на шестьсот метров или около того, прежде чем раздался первый предупредительный выстрел, а первый луч прожектора начал рыскать в море по правому борту. Эрлих отлично вывел нас на цель — под углом градусов в сто справа от носа лайнера. Теперь, когда часовые открыли огонь, выстрелы трещали в темноте, хотя по какой цели они стреляли — неясно. Я дернул за линь, чтобы поднять на фор-марсе флаг австрийского военного флота. Сейчас или никогда.
— Обе торпеды, запуск! — закричал я и взмахнул молотком, чтобы ударить по рычагу запуска двигателя торпеды.
Двигатель торпеды кашлянул и заработал, злобно зашипев паром, когда внутри корпуса воспламенились воздух и топливо, смешавшись с водой. Как будто огромный железный прут раскалили добела и сунули в воду. Я услышал такой же шум с противоположного борта, а затем дернул рычаг, открывающий подвесы. На мгновение мне показалось, будто что-то застряло, потом рычаг поддался, и меня чуть не сбило с ног, когда джонка качнулась из стороны в сторону, внезапно освободившись от полутора тонн торпед. Прежде чем нас ослепил луч прожектора, нащупавший джонку, я успел увидеть, как два одинаковых пенных следа несутся по направлению к стоящему на якоре лайнеру.
Сейчас я думаю, нас спасло только то, что они отвлеклись на голландцев. А также то, что мы находились уже слишком близко к лайнеру, а так сильно основные орудия не опустишь. Они, конечно, старались, и у меня потом была контузия, а пару дней стоял звон в ушах. Но цель для них оставалась неясной.
Одна из торпед поразила «Николаев» в районе мостика, я точно знал — видел, как столб фосфоресцирующих брызг взметнулся у борта, а потом джонку тряхнуло от взрыва. И тут началась неразбериха, поскольку некоторые русские артиллеристы, очевидно, подумали, что их атаковал голландский крейсер, а другие одновременно отчаянно пытались попасть по джонке, пока ветер проносил нас мимо носа лайнера. Когда мы уже проплыли мимо, я увидел, что корабль кренится на правый борт.
Несколько секунд я думал, что благодаря суматохе нам удастся уйти невредимыми, ведь теперь прожектор нас потерял, голландский крейсер отвечал русским огнем, повсюду летели брызги от взрывов. Но как только мы выглянули из-под правого борта лайнера, кому-то из артиллеристов повезло. Возможно, в нас попал только один снаряд, сложно сказать. Я лишь знаю, что когда поднялся с палубы, наполовину оглохший, то к своему ужасу обнаружил, что большую часть кормы оторвало вместе с рулем и бизань мачтой. Но самое ужасное, джонка загорелась. Когда мы плыли в темноту, в огне и потеряв управление, нас настигла одинокая пулеметная очередь.
Эрлих пропал вместе с кормой, а Вонга тяжело ранило, это я понял. Но времени проверять повреждения не было, я организовал оставшихся на борьбу с пожаром, носил ведра с водой, чтобы погасить пламя, жадно поглощающее просмоленные борта джонки. Пламя охватило расщепленную древесину и порванные паруса. Почти всю ночь нам пришлось носить ведра и качать помпу, прежде чем удалось погасить пламя. Я бы высадился на берег, но грести было нечем. Нам оставалось лишь беспомощно болтаться в темноте по воле ветра, пока наша жертва и голландский крейсер обменивались где-то вдалеке выстрелами.
Рассвет застал вооруженную джонку «Шварценберг» и выживший экипаж в плачевном состоянии: дрейфующую по спокойному морю, это да, но без малейших признаков земли на горизонте и без каких-либо средств определить наше местонахождение, поскольку секстант и компас остались за бортом вместе с Эрлихом. Да, в конце концов нам удалось потушить пожар, но он успел спалить корму почти до ватерлинии. Мы молча стояли, глядя на почерневшие, все еще тлеющие головешки, шипящие, как кошка, всякий раз, когда их накрывало волной.
Да и остальная часть корабля находилась не в лучшем состоянии: осколки снарядов и пули изрешетили надводную часть так, что только постоянная и энергичная откачка воды держала его на плаву, и то не слишком долго, поскольку многочисленные пробоины впускали немного больше воды, чем мы могли откачать, ватерлиния поднималась всё выше, а дыр находилось всё больше. У нас осталось только девять трудоспособных человек, чтобы парами по очереди качать помпу.
Один из китайских матросов пропал вместе с Эрлихом, когда взрывом уничтожило корму, а что касается Фердинанда Вонга, то в дополнение ко многим ранам от шрапнели ему пулей раздробило правый локоть, и лишь несколько артерий, связок и обрывки мышц удерживали воедино две половины его руки. Кайндель затянул жгут, и мы уложили Вонга в тени паруса на форкастле и воспользовались крошечным запасом морфия из корабельной аптечки, но Вонг был плох.
Хотя какая разница, подумалось мне, когда я отдыхал от работы на помпе. Джонка продержится на плаву самое большее час, к тому же помпа — бамбуковый стебель, оснащенный грубо сделанным клапаном из сыромятной кожи, начал рассыпаться. Сампану, который, возможно, дал бы нам последнюю слабую надежду на выживание, пришел конец, и никаких признаков суши в поле зрения.
Мы выкинули весь балласт, чтобы облегчить корабль, но теперь я знал, что все бесполезно. Я также видел (и понимал, что видят и другие, хотя никто не был настолько бестактен, чтобы сказать произнести это вслух), что в последние несколько минут вокруг начали появляться черные треугольные плавники. Они кружили сначала настороженно, а затем все смелее и смелее, пока не стали дерзко выпрыгивать из воды, показывая белое брюхо и мерзкие пасти. Я приказал Кайнделю пристрелить одну из винтовки, чтобы отогнать остальных, но спутники раненой рыбины лишь накинулись на свою товарку и сожрали ее в пенящейся воде, а затем возобновили терпеливое кружение. Отвратительная закуска скорее усилила их аппетит, чем насытила.
Я проверил свой пистолет — не с целью застрелить еще одну, а просто предвосхищая наше ближайшее будущее. Еще кадетом на борту «Виндишгреца» я видел, как акулы пожирают человека: неподалеку от Гуадалканала молодой моряк оказался достаточно глуп, чтобы во время ежедневного купания заплыть за пределы погруженного в воду паруса, создающего импровизированный бассейн.
В тот день я командовал спасательной шлюпкой, а теперь вспомнил, как бешеные твари все еще вырывали из него куски, когда мы уже тащили матроса через планширь. В конце концов, когда мы его подняли, четверти тела уже как ни бывало, и матрос истек кровью, пока я пытался понять его последнее «прости» семье. В любом случае, живыми мы им не достанемся. Десять патронов в магазине. Так что у меня останется сомнительная привилегия капитана уйти последним, сначала застрелив всех, а затем покончив с собой. Жалкий конец, но по крайней мере, мы выполнили свой долг, и выполнили успешно. О нем теперь никогда не узнают — хотя какое это теперь имеет значение.
Внезапно Старший бей из Вены, который тоже отдыхал от помпы, закричал и замахал руками: на юге показался парус. Небольшой бочонок соснового дегтя быстро привязали к шесту, подожгли промасленной тряпкой и подняли в воздух. Мы наблюдали за парусом, пока не заболели глаза, страстно желая, чтобы тот выполз из-за горизонта. Но все бесполезно: через пару минут он пропал из виду. Бочонок, израсходованный на три четверти, макнули в море, и мы утомленно вернулись к безнадежной борьбе с медленно поднимающейся ватерлинией.
— Ну, Кайндель, — произнес я, — похоже, нас посчитали пароходом.
— Похоже, что так, герр командир. Но сколько ещё мы собираемся так качать? У меня руки скоро отвалятся.
— Продолжайте, сколько сможете, — неуверенно ответил я. — Позвольте мне встать за другую рукоятку.
Бессмысленное занятие, это понимал каждый: ватерлиния, которая раньше ползла вверх по миллиметру, теперь уже менялась на сантиметр в минуту. Вскоре последует внезапный крен и погружение, когда волны перекатятся через сгоревшею корму. Тем не менее, самоубийство мне всегда казалось самим крайним случаем, поэтому мы качали помпу еще минут двадцать, пока крик одного из китайских моряков не привлек наше внимание к шлейфу дыма на севере. Он двигался перпендикулярно нашему курсу, но все же мог скрыться за горизонтом, так нас и не увидев. Я решил воспользоваться последним шансом.
Бочонок с дегтем (или то, что от него осталось) снова подожгли, и в ясное утреннее небо еще раз взметнулся жирный столб черного дыма. Мы наблюдали с замиранием сердца. Бочонок выгорел, и угли с шипением упали в море. Когда мы увидели, что корабельная мачта изменила направление в нашу сторону, то разразились торжествующими криками. Через двадцать минут мы уже как можно аккуратней загрузили раненого Вонга в гребной баркас, а затем вскарабкались сами.
Как капитан я последним покинул корабль, унеся лишь сейф с судовым журналом, кассой и парочкой других ценностей. Как только я перевалил через борт, наши спасители заработали веслами. Я оглянулся. Послышался слабый стон, потом шум, как будто кто-то смыл за собой в старомодной уборной — волны перекатывались через палубу доблестной джонки императорского и королевского флота «Шварценберг». Она почти затонула, но потом на мгновение застыла — над водой все еще торчала верхушка фок-мачты. Красно-бело-красный флаг военно-морского флота императорской Австрии еще нескольких секунд браво трепетал, потом джонка снова дернулась, и флаг скрылся в волнах. Насколько я знаю, это последний случай, когда он реял где-либо за пределами Средиземного моря.
Теперь это осталось в прошлом. Ближайшее будущее лежало впереди, как безупречный белый лебедь, только пар с ревом вырывался из казавшейся неким излишеством предохранительной трубки на черно-оранжевой дымовой трубе. Блестящие позолоченные завитки украшали нос судна, а золотая полоска убегала к изящному кормовому подзору, где висел красно-бело-синий триколор Нидерландов. На палубах были натянуты тенты от солнца, а вдоль поручней стояли сотни молчаливых и смуглолицых людей и наблюдали за нами по мере приближения баркаса. Мы собирались сесть на пароход «Самбуран» водоизмещением в тысячу девятьсот шестьдесят три тонны пароходной компании «Реформаторская навигация Голландия-Амбоина», направляющийся в аравийский порт Джидда с тремястами пятьюдесятью паломниками, держащими путь в Мекку.
Глава пятнадцатая
Благодатное спасение
С самого начала стало понятно, что капитан Абрахам Зварт, шкипер судна «Самбуран», совсем без радости принял мою благодарность за недавнее вызволение нас из челюстей смерти в облике полудюжины голодных акул. Когда я забрался по трапу на мостик «Самбурана», он осыпал меня таким градом проклятий, что я чуть было не свалился на второго помощника, поднимающегося следом. Ярость капитана была такой, что он буквально танцевал джигу на досках мостика, проклиная меня на сдавленном, гортанном английском.
— Проклятье, на кой мне стоятт для тебья, грьясный безтьелник?! — ревел он. — Терьятт фрьемья за идиот, фперехлёст тфоя через клюз...
Уловив момент, когда он умолк, чтобы набрать воздуха для новой тирады, я заговорил по-немецки.
— Простите, герр капитан, если проще ругать меня на голландском, пожалуйста, не стесняйтесь. Я не говорю на голландском, но понимаю вполне прилично.
Он на мгновение замолчал и с подозрением покосился на меня, как будто ему предложили отравленную конфету. Потом продолжил минут пять ругаться на голландском, который для австрийского уха звучит так, будто кто-то говорит на средневековом немецком, пытаясь отхаркнуть рыбную кость из горла. Наконец его тирады сошли на нет, и упреки до поры до времени прекратились. А у меня появилась возможность засвидетельствовать свое почтение и попытаться частично объяснить, как получилось, что я, старший лейтенант имперского и королевского австро-венгерского военно-морского флота, оказался в море Целебес на борту продырявленной выстрелами и полусгоревшей китайской джонки в компании австрийского старшины и восьми китайцев, один из которых серьезно ранен.
Он слушал меня с недоверием, иронично фыркнул, потом махнул рукой второму помощнику, которого сопровождали четыре матроса, вооруженные длинными железными трубками:
— Отведите его на корму к остальным. Я должен решить, что с ними делать.
Меня отвели на ют, где уже ждали Кайндель с обоими беями и другими китайцами, присевшими на палубу и наблюдавшими за развитием событий со спокойным безразличием, присущим этому народу. Кайндель и третий помощник «Самбурана», видимо, сведущий в оказании первой помощи, накладывали повязку на раздробленную руку стюарда Вонга.
После того как мы устроили Вонга покомфортнее на соломенном тюфяке под навесом на затененной стороне палубы, я мало чем мог им помочь, и поэтому стоял, опираясь на поручни, и смотрел на море. Я по-прежнему ощущал последствия контузии от вчерашнего взрыва и теперь, когда непосредственная опасность миновала, и до поры до времени мы были в безопасности, чувствовал себя странно опустошенным. Судно снова шло полным ходом и разрезало темно-синие воды, дымя на устойчивых четырнадцати узлах. «Самбуран» относился к числу крепко построенных пассажирских пароходов среднего размера, которые голландцы использовали для сообщения между бесчисленными островами их владений в Ост-Индии. Судно по необходимости быстрое, поскольку голландская Ост-Индия раскинулась почти на три тысячи морских миль, от западного мыса Суматры до восточного края Нидерландской Новой Гвинеи.
Я обернулся, впервые за две недели мельком увидел свое отражение во встроенном зеркале внутри открытой каюты и оглянулся, прежде чем осознал, что это бородатое, чумазое, почерневшее от дыма привидение со спутанными волосами и в рваной одежде на самом деле я. Неудивительно, что капитан Зварт скептически воспринял мою историю. Но может, власти в Батавии будут более склонны принять все за чистую монету?
У меня было не так уж много времени над этим поразмыслить, поскольку появился второй помощник и снова пригласил меня к капитану, на этот раз в его каюту под мостиком. Зварт велел мне закрыть дверь и сесть, прямо как директор школы, перед тем как отругать нашкодившего ученика. Он, видимо, все еще пребывал в дурном настроении и какое-то время стоял спиной ко мне, глядя в иллюминатор и погруженный в свои мысли.
Это был, несомненно, весьма странный человек: примерно моего роста, но все равно на удивление приземистый, как если бы очень высокого человека поместили под пресс и сплющили наподобие пластилина. Брови нависали над узкими глазами, бесформенный нос свешивался поверх широкого лягушачьего рта; шейные складки лежали на воротнике белой тужурки, а руки казались непомерно длинными для коренастого тела. А что касается нижних конечностей, то хотя я их и не видел, у меня сложилось впечатление, что сложенные гармошкой брюки скрывали такие же ноги. Больше всего он походил на моряцкую версию человечка из шин — символ компании Мишлен, но без радостной доброжелательности. Наконец, Зварт повернулся ко мне, какое-то время меня разглядывал, а затем заговорил на немецком с сильным голландским акцентом.
— И в самом деле лейтенант австрийского флота? Ха! — он перегнулся через стол и посмотрел мне в глаза. — Я скажу, что о вас думаю, герр лейтенант. Полагаю, что вы и ваши спутники — самые обычные преступники, сбежавшие из колонии где-то на побережье. В противном случае, каким это образом вы оказались на полусожженной джонке, изрешеченной пулями, а у одного из ваших китайцев перебита рука, а? Вас обстреляли во время побега, не так ли? Ну, герр лейтенант, кто-бы-вы-ни-были, я должен решить, что теперь с вами делать.
— Разумеется, капитан, это ваше право. Вы изменили маршрут, чтобы в соответствии с морским кодексом спасти нас, поэтому, прошу, высадите нас, где и когда вам будет удобно. Со своей стороны обещаю, что как только мы окажемся на берегу, я свяжусь с ближайшим консульством Австро-Венгрии, чтобы вам щедро компенсировали причиненные неудобства.
Я думал, он лопнет от злости, или, возможно, выдвинется вверх как телескоп, пока не пробьет головой палубу.
— Высадить вас? — заорал он. — Что значит высадить? Мы и так уже опаздывали на четыре дня до того как остановились, чтобы спасти вас от идиотского морского приключения! Мы собирались зайти в Батавию, но теперь придется нестись на полной скорости в Джидду, даже если взорвутся котлы. — Он замолчал и снова встал, чтобы посмотреть в иллюминатор. У меня сложилось стойкое впечатление, что он героически борется с острой моральной дилеммой. Наконец, Зварт повернулся ко мне. — Герр лейтенант, если уж вы хотите, чтобы вас так называли, могу я поинтересоваться, вы христианин?
Я слегка удивился такому вопросу, никак не связанному с предыдущей темой разговора, но ответил.
— Что ж, капитан, я крещен в католической вере, как и большинство австрийцев, но не вижу....
Казалось, он почувствовал облегчение.
— Хорошо. Превосходно. Значит, вы не христианин, а всего лишь нечестивый папский идолопоклонник. То есть это не имеет значения.
— Но почему? Боюсь, я не...
— Герр лейтенант, как-там-вас-зовут, хочу сделать вам предложение, поскольку понимаю, что какое бы преступление ни привело вас в колонию для заключенных, вы по меньшей мере когда-то были морским офицером.
— Именно так, но... То есть я и есть морской офицер, но никогда не был заключенным. Прошу вас, продолжайте.
— Предложение заключается в следующем. «Самбуран» плывет с востока Целебеса в Аравию с тремястами пятьюдесятью неверными магометанами на борту, они направляются в Мекку для своих гнусных обрядов. Мы совершаем это путешествие ежегодно, плавая по островам и подбирая их десятками, а потом, собрав всех, идем из Манадо в Джидду. Обычно прибываем к месту назначения дня за три до начала сезона паломничества. Но в этом году опоздали из-за вашей идиотской войны в Европе. Пока мы стояли у Амбоины, мобилизовали флот и со всего острова реквизировали уголь, потом в Манадо мы ссадили пять матросов и первого помощника, затем зашли в Таракан, чтобы подобрать пятерых тупоголовых малайцев, пропустивших предыдущий пароход. Короче говоря, мы должны были добраться до Джидды второго ноября, но успеем к этому сроку, только если в ближайшие три недели будем делать четырнадцать узлов днем и ночью.
— И могу я узнать, в чем же проблема? Пароход быстроходен и в хорошем состоянии, судя по тому, что я видел.
Капитан хмыкнул.
— Проблема вот в чем. На нашем пароходе строго соблюдают каноны реформистской церкви, в том числе воскресный отдых. Каждый год кроме нынешнего с вечера субботы до вечера воскресенья мы ложимся в дрейф, поскольку Господь запретил работать. Но в этому году приходится идти под парами каждый день, если мы хотим вовремя добраться до места назначения. Потому что если прибудем в Джидду хоть на день позже, малайские дикари страшно на нас разозлятся.
— Но капитан, неужели вы не можете просто вернуть пассажирам плату и отвезти их в следующем году?
Он с недоумением уставился на меня.
— Что? Этим магометанам из кампонгов [79] посреди джунглей? Да они порвут нас на куски, причем каждого, вот что я вам скажу.
— Понятно. Но каким образом я... то есть мы имеем к этому отношение?
— Как я и сказал, нам нужно вести судно в день Божий, но не нарушая заповеди воскресенья.
— Могу я узнать, сколько человек обычно требуется, чтобы управлять пароходом?
— Тридцать четыре, но в Манадо мы уже потеряли одного офицера и четырех матросов.
— Что ж, капитан, нас всего девять, причем трудоспособны только восемь, а из этих восьми только я могу выполнять обязанности вахтенного офицера, так что вряд ли этого хватит, чтобы проработать все двадцать четыре часа без остановки. Только в кочегарке понадобятся минимум четверо, чтобы поддерживать необходимое давление пара, и ни один из нас не имеет достаточной квалификации, чтобы присматривать за машинным отделением.
— Это не такая уж большая проблема. Вы сможете отстоять на мостике две вахты, а унтер-офицер — одну между ними, что до машинного отделения, то мой второй механик — китаец-язычник, я нанял его в Малакке, он не из богоизбранного народа, так что ему всё равно.
— Но кочегарка...
— С этим можно справиться. У нас на пароходе сотня тонн топочного мазута, в прошлом году мы внесли усовершенствования, потому что в Индии мазут гораздо дешевле угля. По воскресеньям можем топить мазутом, а для этого понадобится всего два кочегара.
— Ясно. Так вы предлагаете мне и моим людям поработать по воскресеньям вместо вас?
— И не только. Вы также отработаете проезд палубными матросами в остальные шесть дней недели.
— И могу я поинтересоваться, что мы получим взамен?
Он чуть не взорвался еще раз, а когда заговорил, в голосе чувствовалось напряжение.
— Что вы получите? Да кто вы такой, чтобы спрашивать меня об этом? Я человек законопослушный, а также следую законам Божьим. Если бы не нынешние трудности, я бы без колебаний высадил вас в Батавии и вручил представителям юстиции, чтобы вы ответили за свои преступления. Но сейчас, в чем бы вас ни обвиняли, каким бы справедливым ни было ваше наказание, мне придется закрыть глаза и не интересоваться, какого рода убийства и бандитизм привели вас в тюрьму. Я готов один раз нарушить закон и отвезти вас в Аравию с бесплатным питанием и проживанием в обмен на работу. Как только окажемся в Джидде, обещаю, что высажу вас на берег, и можете отправляться к дьяволу или куда пожелаете.
— А если я откажусь?
Он зыркнул на меня из-под нависающих бровей.
— Будете сидеть в кандалах на сухарях и воде. Как только вернемся в Батавию, передам вас властям.
Я попросил десять минут на раздумья над столь щедрым предложением. Он наверняка не врал, когда говорил насчет тяжкой работы в оплату за проезд, это я понял. И должен признаться, я спрашивал себя: что, если он выжмет из нас все соки, а потом все равно передаст властям как сбежавших преступников? Но даже если капитан Абрахам Зварт не был самым щедрым и доброжелательным из смертных, я все же чувствовал, сам не понимаю почему, что пусть он и предлагает тяжелые условия, но нарушать их не станет.
Итак, Джидда к началу ноября. Это казалось слишком хорошей новостью, чтобы быть правдой. До того как покинуть Циндао, мы слышали, что Турция благосклонно относится к Центральным державам и, скорее всего, вступит в войну на нашей стороне. Но даже если и не так, Джидда расположена всего лишь на противоположном берегу Красного моря от итальянской колонии Эритреи, а Италия уж конечно, хотя и по-прежнему сохраняла нейтралитет, была партнером Германии и Австрии по Тройственному союзу.
Если бы нам удалось добраться до Джидды на этом ковре-самолете, который чудесным образом подкинуло провидение, мы оказались бы дома либо через турецкую Аравию, либо на итальянском пароходе по Суэцу. Нет, предложение было слишком хорошим, чтобы от него отказываться, хотя речь и не шла о деньгах. В моем брезентовом поясе по-прежнему оставалось золото, как и в шкатулке с казной «Шварценберга», но я хотел сохранить деньги для тех приключений, что ждали нас на Красном море.
Я постучался в каюту Зварта, вошел и сообщил ему, что от имени своих людей я принимаю его предложение.
— Но я хотел бы добавить одно условие, — сказал я.
— Хмм... Что еще за условие?
— Что вы доставите семерых моих китайских матросов обратно в Ост-Индию и посадите их на борт первой же джонки, направляющейся на север Китая.
Несколько секунд взрыв выглядел неминуемым. Но потом он успокоился достаточно, чтобы ответить:
— Ба! Ну ладно, будь вы прокляты. Мы заключили сделку.
Вот так я должным образом заключил соглашение от имени Кайнделя, Старшего и Младшего беев из Вены и оставшихся пяти китайцев на работу во время всего плавания в качестве неоплачиваемых палубных матросов и кочегаров на пароходе «Самбуран». Что до стюарда Фердинанда Вонга, то Зварт настаивал на том, что даже он должен выполнять легкую работу, как только будет способен.
За первые пару дней плавания надежды на скорое выздоровление Вонга было мало: на самом деле, жуткая рана на его руке стала выглядеть только хуже. Его временно поместили в пустую каюту на верхней палубе, с правого борта, то есть на теневой стороне: там, по крайней мере, светло и можно было дышать. Мы накачивали его морфием из судовой аптечки, но было понятно, что необходимо предпринять серьезные меры, потому что на второй день, когда мы с Кайнделем меняли повязку, каюту наполнил тошнотворный запах разложения.
Началась гангрена. На борту не было врача, а Зварт не соглашался пристать к берегу, чтобы высадить раненого: по-моему, он смотрел на это как на наше личное дело, которое его не касалось. Похоже, предстояла ампутация выше локтя лишь с имеющимися инструментами и скудным опытом. Я посоветовался со вторым помощником, загорелым голландцем по имени Ян Хендрик Силано, куда более приветливым и полезным, чем Зварт. Я спросил у него, нельзя ли узнать, нет ли среди пассажиров доктора или хотя бы человека с опытом работы в больнице, который знает, как выполнить операцию.
Он ответил, что вряд ли: в основном паломники были простыми деревенскими людьми с северного побережья Целебеса и более мелких островов к востоку, да дело даже и не в этом. Они были особо правоверными мусульманами из самого восточного уголка исламского мира. Отсюда на ежегодный хадж отправлялось значительное число женщин и детей, к тому же, паломники придерживались в путешествии особо строгих правил. Как сказал второй помощник, согласно исламским законам, паломничество начинается только с прибытием в Мекку. Но эти люди считали всю поездку длиной в шесть тысяч миль паломничеством и верили, что любой контакт с неверным в это время осквернит священный ритуал и лишит их титула хаджи.
В силу необходимости они добирались до места назначения на голландском пароходе, но помимо этого вели на борту совершенно обособленное существование, пользуясь судном, как вода железными трубами.
С этой стороны бесполезно было ждать помощи. Похоже, мне придется добавить к списку своих умений навыки хирурга-любителя, имея под рукой лишь содержимое судовой аптечки и медицинскую книгу моряка (на голландском), и те инструменты, что мы сумеем раздобыть. Зварт обещал выдать для операции чистый стол и любое количество горячей воды из камбуза для стерилизации, но помимо этого он умывал руки. Я больше ничего не мог поделать, только прочитать все возможное про ампутации, закатать рукава и приступить.
К счастью, в «Scheepvaarders Geneeskundige Handboek» особо тщательно освещались ампутации, с многочисленными пошаговыми иллюстрациями, как отрезать практически любую конечность или орган, начиная с нарывающего пальца на ноге и заканчивая аппендицитом. Как я выяснил, главная задача при ампутации руки выше локтя заключалась в том, чтобы отрезать ее под углом в девяносто градусов, пока не перепилишь кость, а затем повернуть под углом в сорок пять градусов, оставив лоскут кожи, чтобы обернуть культю и зашить. Я запомнил вены и артерии руки и горячо надеялся, что всё окажется именно так, как показано на картинках. До сих пор мой хирургический опыт ограничивался перевязкой раздавленного пальца механику в бытность капитаном миноносца, да и то в качестве временной меры, пока мы не придем в порт.
Что касается медицинских препаратов, то об анестезии можно было не беспокоиться. В хорошо укомплектованной аптечке «Самбурана» имелись две склянки с хлороформом, так что нам с Кайнделем оставалось лишь одолжить на камбузе чайное ситечко и натянуть на него марлю, чтобы соорудить маску. Мы собирались приложить ее к лицу Вонга, и Кайндель выступил бы в роли анестезиолога, капая на маску хлороформ, чтобы пациент оставался под наркозом. С остальным дела обстояли не так хорошо.
В аптечке имелся скальпель, иглы и нити, но что касается пилы, то мы одолжили лишь ножовку из машинного отделения. Вместо зажимов для вен в запасах электриков нашлись только зубчатые прищепки. Второй помощник Силано снабдил нас острейшей бритвой, а также предложил свою помощь в качестве медбрата. По его словам, он служил старшим матросом в голландском ост-индийском флоте во время Ачехской войны на переломе столетий и наблюдал ампутацию на борту канонерки.
С приближением назначенного часа я чувствовал что угодно кроме уверенности. Выражение «бабочки в животе» даже и близко не описывает то бурление, которое я ощущал, перечитывая в медицинском справочнике указания относительно ампутации руки и в очередной раз проверяя, всё ли разложено рядом со столом. Обычно меня трудно вывести из равновесия, но тогда мной овладело тошнотворное предчувствие, будто что-то пойдет не так: то ли разойдутся швы на артериях, как только я зашью культю, то ли скользкая от крови ножовка не распилит кость, то ли подведет анестезия — в общем, случится катастрофа, и несчастный Вонг останется даже в худшем состоянии, чем прежде, а я буду корить себя за то, что взялся за операцию.
Единственное утешение заключалось в том, что если риск проводимой дилетантом операции велик, то перспективы для обладателя раздробленной и гниющей руки, если она по-прежнему у него останется, еще хуже. Сейчас остальные находились на камбузе и кипятили инструменты в котле. Вскоре принесут Вонга и положат на стол. Начнется мое обучение ремеслу хирурга.
Раздался стук в дверь каюты. Я открыл и увидел в коридоре Силано с еще одним человеком, замотанным в платки и с большим саквояжем.
— Скорей впустите нас и закройте дверь.
— Кто это? — спросил я.
— Врач. Не спрашивайте его имя. Он один из пассажиров, сельский доктор из Мандано. Я передал ему сообщение, и он согласился отрезать вашему человеку руку. Но чтобы об этом ни слова, понятно? Он человек небогатый и потратил на паломничество все свои сбережения. Если кто-нибудь узнает, что он контактировал с христианами, то ему в лучшем случае не позволят поехать в Мекку, а то и просто как-нибудь ночью выбросят за борт с кинжалом между лопаток.
— Прошу, поблагодарите его от моего имени, — сказал я, — и передайте, что Господь наверняка отплатит ему за милость к неверным.
Мужчина размотал платок; показалось темное, худое и довольно печальное лицо с высокими скулами и черными малайскими глазами.
— Нет нужды в переводчике, герр лейтенант. Я изучал медицину в Лейдене и неплохо владею немецким.
— Что ж, в любом случае спасибо. Но скажите, чем вам помочь?
— Принесите раненого, чтобы я мог его осмотреть. Судя по тому, что я слышал, действовать нужно быстро.
Привели Вонга, опирающегося на плечо Кайнделя. Он исхудал, глаза запали, и в них явно читался испуг от предстоящего. Когда за ним закрылась дверь каюты, я почувствовал тошнотворную вонь гангрены. Когда Вонга положили на стол, я попытался его приободрить, сказав, что мы нашли настоящего врача, и он проведет операцию. Доктор-паломник осмотрел пациента и дал указания нам. Потом открыл саквояж и стал выкладывать инструменты, чтобы послать их на стерилизацию.
— Хорошо, что я взял всё это с собой, — сказал он. — Но приличный врач всегда должен готовиться к худшему.
Вскоре на марлевую маску начал капать хлороформ, а скальпель разрезал алую плоть покалеченной руки, теперь перетянутой жгутами и прикрытой полотенцами. Настал вечер. В каюте стало жарко от масляных ламп, и через некоторое время от испарений хлороформа все слегка охмелели. Думаю, мне от него стало только лучше; настоящую тошноту я почувствовал лишь тогда, когда ножовка начала вгрызаться в кость.
Моя задача заключалась в том, чтобы перевязывать кровеносные сосуды по мере того, как доктор их разрезал, и полная концентрация на этой работе большую часть времени мешала осознать, что мы режем живую плоть, а не мясо на бойне. От первого разреза до последнего стежка вокруг окровавленного обрубка операция длилась минут двадцать. Потом настало жуткое мгновение, когда сняли жгут над раной. Хлынет ли поток крови, как из плохо построенной плотины? Но нет, швы держались, хотя культя ненадолго угрожающе набухла. Наконец-то всё закончилось.
Я бросил отрезанную руку в ведро и вынес на палубу, чтобы выбросить за борт, отворачиваясь от тошнотворной вони. Потом вернулся в каюту. Доктор уже ушел, собравшись с духом, чтобы присоединиться к остальным паломникам, укладывавшимся спать под навесами. Он оставил нам записку с указаниями, как ухаживать за культей в ближайшую неделю, но попросил звать его только в том случае, если распространится инфекция или возникнет неконтролируемое кровотечение.
Еще спящего Вонга отнесли обратно в каюту. Следующие несколько дней он сильно страдал от обычных болей после ампутации, главным образом, по его словам, от безумного зуда в уже отсутствующей руке. Когда на следующий день я пришел для перевязки, культя выглядела ужасно: пятнистая, похожая на сосиску масса кровавых потеков и воспалений. Но шли дни: отек спал, рана начала заживать. Через неделю Вонг встал и смог заняться «легкой работой» в соответствии с моим соглашением с капитаном Звартом. В основном он махал по палубе шваброй, зажав ее ручку левой подмышкой. Мне было больно на это смотреть, но он заверил, что должен что-то делать, чтобы не думать о потере руки.
Что касается моих собственных занятий в следующие две недели, то легкими их никак не назовешь. Помимо обязанности сиделки мне приходилось весь день работать палубным матросом, часть дня — кочегаром, а по воскресеньям — вахтовым офицером по четыре вахты: восемь часов вахты, четыре часа отдыха, потом еще раз. Для своего возраста пароход «Самбуран» (его спустили на воду в 1905 году во Флиссингене) выглядел весьма ухоженным. Но это обычное дело среди голландских судов — что торговых, что военных.
Я дважды плавал на нефтяном танкере голландской компании «Шелл» в 1920 году, а в тридцатые годы, когда служил на польском флоте (Польша строила подводные лодки на верфи Файенорд в Роттердаме), некоторое время провел с моряками королевского нидерландского флота. Этот более поздний опыт только подтвердил прежнее мнение о том, что из всех кораблей, на которых мне довелось плавать, голландские, несомненно, самые чистые и поддерживаются в идеальном состоянии.
Но на борту «Самбурана» я собственными натертыми коленками и ноющей спиной ощутил, каким образом достигается эта безупречная чистота: от до зари и до глубокой ночи я надрывался с ведром, шваброй и жесткой щеткой, отдраивая палубы проволочной щетиной и одновременно с этим соскребая кожу с ладоней, протирая безукоризненно чистую краску мерзкой субстанцией из едкого щелока, известной под названием «суги-муги». Наверное, я никогда в жизни не трудился так тяжко, как в те две недели.
Хуже всего приходилось в кочегарке. На пароходах кочегары обычно вели жизнь, отдельную от остальной команды, надрываясь где-то в душных недрах судна, как слуги Вулкана, подчинялись собственным законам и несли собственные вахты на дне дьявольской черной ямы между вздымающимися стенами угольного бункера с одной стороны и полыхающей топкой с другой, а пол под их ногами тем временем ходил ходуном.
Даже в умеренном климате для меня всегда оставалось загадкой, как человеческие существа могут выжить в подобных условиях, не говоря уже о том, чтобы махать лопатой, перебрасывая уголь и вытаскивая раскаленный шлак. А в тропиках даже ящерица свернется в трубочку и сдохнет в этом аду. Что ж, теперь я мог на собственной шкуре почувствовать смысл афоризма, бытовавшего среди далматинских моряков кригсмарине, что флот превращает мягкого мужчину в кочегара, когда как следует его прожарит, на манер корабельных сухарей. Первые несколько дней я думал, что умру от усталости и теплового удара. Но постепенно привык до такой степени, что молча перебрасывал уголь, даже не вспоминая о том, что делаю. Что касается китайцев, то они выдерживали это с обычным стоическим терпением.
Так проходили дни. В воскресенье капитан Зварт высоко над нашими головами читал бесконечные проповеди остальному экипажу, а мы, проклятые язычники и воздыхатели Папы римского, надрывались внизу, дабы поддерживать достаточное давление пара, чтобы идти на скорости в четырнадцать узлов, час за часом лопатили уголь, а мазутные форсунки рычали, как драконы с расстройством желудка, и время от времени отплевывались, наполняя кочегарку жирным черным дымом.
Как только заканчивалась моя смена, мне приходилось по-быстрому умываться в ведре на палубе и отправляться на мостик, чтобы отстоять вахту в качестве вахтенного офицера. Из-за обезвоживания я весил, видимо, примерно две трети от утреннего веса, но радовался уже тому, что стою на свежем океанском ветре под солнцем или звездами. Я считал, что мне повезло, если удавалось поспать хотя бы три часа за сутки. Но всё равно был счастлив, ведь каждый день тяжкого труда приближал нас примерно на триста сорок морских миль к Поле и моей офицерской службе императорскому дому Австрии.
Вообще-то со временем, когда покрытая зеленью глыба Кракатау, а за ним и Ява исчезли за кормой и мы вышли в Индийский океан, я понял, как нам повезло оказаться на судне, где строго соблюдают воскресные заповеди, хотя бы одни только Богоизбранные, и что он задержался в Батавии дольше обычного. Наверное, день на шестой, как раз когда миновали Зондский пролив, мы встретили другое судно компании «Голландия-Амбоина» — пароход «Калипуран», шедший из Батавии в Коломбо.
Из-за спешки мы лишь чуть снизили скорость и некоторое время плыли рядом, достаточно для того, чтобы с одного борта на другой перебросили запечатанный в промасленную бумагу пакет с документами компании и газетами. Его принесли мне как вахтенному офицеру, и когда я открыл пакет, то порадовался, что сейчас воскресенье, а Зварт с экипажем слишком тщательно соблюдают ритуалы, чтобы читать газеты в день Господень. Потому что первой же попавшейся на глаза газетой оказался трехдневной давности экземпляр «Батавише телеграф», и даже со своим слабым знанием голландского я смог прочитать заголовки:
Инцидент в Таракане
Загадки множатся
Более полная информация о перестрелке между русским пароходом и голландским военным кораблем
Банджармасин, тринадцатое октября
Вчера появились новые сведения относительно перестрелки в ночь с одиннадцатого на двенадцатое октября между крейсером королевского флота «Оверэйссел» и русским вооруженным лайнером «Николаев» у острова Секу.
Из конторы окружного голландского управляющего в Таракане сегодня сообщили, что на следующее утро на Секу задержали группу китайских моряков. После допроса с переводчиком выяснилось, что предыдущей ночью их высадила вооруженная джонка под командованием двух офицеров-европейцев, держащая путь на юг из осажденного немецкого порта Циндао. Китайцы сообщили, что, оставив их на берегу, джонка, имея на борту две торпеды, поставила паруса с намерением атаковать русский лайнер, стоящий на якоре в бухте Пасар.
Хотя и малоправдоподобная, эта история, однако, могла бы объяснить огромные повреждения от подводного взрыва русского парохода, который выбросило на мель. Капитан «Оверэйссела», капитан-лейтенант Легранж, категорически отрицает, что выпустил торпеду или сделал что-либо в ответ на огонь с русского корабля, в результате которого оказались ранены три человека и повреждена передняя труба. Со своей стороны, русский капитан второго ранга Н.И. Благодарев сообщил местным властям о том, что незадолго до взрыва видел маленькое парусное судно, а позже заметил, как оно полыхает и уходит в темноту.
Русскому послу в Гааге был выражен серьезный протест в связи с нарушением нейтралитета Нидерландов, немецкого представителя также попросили дать объяснения этому инциденту. В то же время, генерал-губернатор Ост-Индии предложил награду в пять тысяч гульденов за любые сведения, которые приведут к задержанию загадочной джонки и ее команды.
Я поскорее уничтожил газету. Капитан Зварт, может, и был упрямым и не слишком смышленым, но я имел все основания подозревать, что за пять тысяч гульденов он развернет судно и направит его обратно в Батавию, несмотря на триста пятьдесят демонов, которых он везет в паломничество прямо в ад.
Как только мы миновали Зондский пролив, остаток пути через Индийский океан прошел спокойно — сезон муссонов уже кончился. Мои обязанности оставляли мало времени для размышлений, но, тем не менее, я начал понимать, насколько уникален этот пароход.
С тех пор как первобытные люди научились плавать на выдолбленном бревне, каждое судно имело собственную экономику. В свое время я побывал на борту многих плохо управляемых, неуверенных в себе автократий, но и на некоторых так же плохо управляемых, неуверенных в себе плавучих демократиях. Я знавал несколько кораблей с жестокой тиранией и совсем мало, но безоговорочно самых приятных, по моему опыту, с деспотией, хотя на самом деле кораблем управляли после тайных консультаций с командой, настолько тайных, что никто даже не понимал, что они имеют место, а если кто-нибудь бы это понял, то исчезла бы магия. «Самбуран», однако, был первым и до сих пор единственным экземпляром, где я обнаружил плавучую теократию: по сверкающим тропическим морям скользила миниатюрная Женева времен Кальвина.
Я уже знал, что капитан Зварт и его экипаж — убежденные протестанты-реформисты. Я также заметил, что лишь сам Зварт, главный механик Преториус и третий помощник были европейцами. Остальные, не считая второго механика, китайца, происходили из Ост-Индии. Они не были яванцами или малайцами с островов, а имели негроидные черты, более темную кожу и кудрявые волосы, как у меланезийцев.
Как я выяснил, это из-за того, что они были с острова Амбоина в Молуккском архипелаге, который иногда называли «двенадцатой провинцией Нидерландов», потому что среди всех народов Ост-Индии его обитатели охотнее прочих приняли голландский язык и христианство кальвинистского толка. Хотя они и родились в хижинах с крышами из пальмовых листьев под раскачивающимися саговниками на краю Южно-Китайского моря, но их преданность Оранскому королевскому дому, шарманкам и закованной в черное строгой морали была безгранична. Но на этом странности не заканчивались, потому что Зварт был необычным голландцем, а команда — необычными амбонцами.
История вышла наружу одним теплым вечером, когда я находился на мостике с рулевым и капитаном Звартом. Последний как раз готовил отчет о первом помощнике и его сотоварищах, которых ссадили в порту, хотя немногословный капитан явно сожалел о том, что пришлось рассказать об этом мне. Сам будучи морским офицером, я понял, что он взывает к сочувствию.
— Причины как всегда обычные, как я полагаю, — заметил я, — выпивка и женщины?
Он с удивлением воззрился на меня.
— Нет, теологические разногласия по поводу предопределения в инфралапсарианстве и супралапсарианстве [80], я их отлучил.
И все оставшиеся три часа вахты он продолжил говорить, дав полный отчет о событиях, приведших к этому расколу, событиях, насколько я мог разобраться, учитывая мои не самые лучшие знания голландского и его скудные познания в немецком, берущих начало в семнадцатом веке.
Суть заключалась в том, что Зварт и его экипаж были членами маленькой ультра-кальвинистской секты голландской реформаторской церкви, появившейся после двух веков всяческих синодов, конклавов и собраний, и в результате большинство безвозвратно отлучило от церкви меньшинство, и оно в конце концов превратилось в концентрированную, безукоризненно чистую сущность этой доктрины. Единственная проблема заключалась в том, что секта также сильно уменьшилась количественно и к 1890 году границы Исключительной голландской реформаторской богоизбранной церкви примерно совпадали с границами рыбацкой деревушки под названием Гурк, стоящей на берегах Зёйдерзе, чуть севернее Энкхёйзена. Эта община была настолько строгой, как мне сказали, что по воскресеньям даже собакам одевали намордники, чтобы не гавкали, а людей наказывали за свист, обмазывая дегтем и посыпая перьями.
Но году эдак в тысяча восемьсот девяносто пятом миссионеру от братства Гурка удалось убедить группу приверженцев голландской реформаторской церкви в Амбоине отколоться от остальных и примкнуть к Богоизбранным из далекой Голландии. Таким образом родилась пароходная компания «Реформаторская навигация Голландия-Амбоина», основанная на религии. Впервые попав на «Самбуран», я решил, что «реформаторская» относится к каким-то изменениям в бизнесе, возможно, это слово появилось после банкротства, но теперь понял, что оно означает религиозную принадлежность компании.
Совет директоров состоял из высших деятелей церкви, а оперативные решения принимались только после молитвы и консультации со Священным Писанием и Богом, как основным акционером, или с загадочным документом под названием «Правила богослужения и веры Дордрехта», который, похоже, являлся краеугольным камнем всего существования церкви.
Захваченный повествованием, я сидел и слушал рассказ Зварта о Богоизбранных из Гурка. Прежде я не проявлял ни малейшего интереса к теологии, но во всем этом было нечто завораживающее, как будто бесконечная вереница святых с мрачными лицами шагала перед моими глазами под тропической луной и ночным сводом цвета индиго, некоторые — с накрахмаленными воротничками и в черных остроконечных шляпах, другие — в париках и с белой полоской на воротнике, но все с толстыми теологическими фолиантами в кожаных обложках под мышками, и все с именами вроде Хуфтиус, Канисиус или Хондиус.
Однако вскоре я выяснил, что удивительный сплав морского и религиозного имеет свои недостатки. Или, точнее сказать, на борту «Самбурана» и других судов компании малейшее расхождение во взглядах относительно будничных задач имело неприятную тенденцию приобретать теологический привкус. На нормальном пароходе споры разрешает первый помощник, несколько раз погоняв боцмана по палубе кочергой, и после этого не остается никаких неприятных чувств, здесь же, как это случилось в Манадо, это вело к отлучению от церкви и изгнанию, при этом раскольники спускались по трапу, декламируя строки из послания Святого Павла: «И потому выйдите из среды их и отделитесь». Всё это было очень, очень странно.
Я был обычным католиком, а потому, по мнению братства из Гурка, создан специально для того, чтобы Бог развлекся, глядя как я (и всё остальное человечество) медленно поджариваюсь на вечном огне. Но это по меньшей мере означало, что никто не требовал и не ожидал, что я приму какое-либо участие в их странных церемониях. Хотя мне всё же пришлось столкнуться с религиозными ритуалами экипажа, когда дело касалось принятия пищи.
Пассажиры готовили себе каждое утро и вечер на медных жаровнях на палубе. Они были мусульманами-паломниками, и уж конечно не желали иметь ничего общего с белыми и их нечистой пищей, опасаясь осквернения. Я подумал, что это очень мудро с их стороны, поскольку когда аппетитные запахи их стряпни проникали сквозь открытые иллюминаторы кают-компании, где столовались офицеры, я сидел перед пищей, которая вызвала бы мятеж в европейской тюрьме. Богоизбранные из Гурка считали, что любое чувственное удовольствие может прогневить Бога и вредит морали, а из всех чувств именно чувство вкуса — самый легкий путь для Сатаны, чтобы добраться до сердца потенциального отступника.
Таким образом, меню офицеров и команды «Самбурана» было пресным, отвратительным и безысходно монотонным, так что даже скудные порции кадетов морской академии по сравнению с этим казались роскошью. Лишь одно можно сказать в пользу этой пищи: по крайней мере, подавали (а скорее впихивали) ее демократично. Офицеры, с которыми мне милостиво разрешили обедать, и низшие чины получали одинаково ужасные порции.
Начиналось это каждое утро в восемь склянок, с завтрака: черная жидкость без сахара, считающаяся кофе, и миска с мерзкой массой под названием свавельнгруттен, «дьявольская овсянка», годной для самого Вельзевула. Обычно мне удавалось проглотить одну ложку. Потом следовал обед. По вторникам и пятницам был гороховый суп — желто-зеленая замазка с консистенцией и вкусом клейстера. По понедельникам, четвергам и субботам давали нечто под названием нази горенг — тарелку с вареным рисом и холодной яичницей сверху.
Это звучит прямо-таки роскошно, я про яичницу, но Богоизбранные тоже об этом подумали и потому хранили яйца в бадьях с известью, вероятно, годами, и это придавало им текстуру целлулоидной пленки и омерзительный запах старой диванной подушки, набитой конским волосом. Главное блюдо реформаторской церкви ставили перед нами по средам и субботам: стоквис. Оно состояло из сероватой соленой трески, сваренной и лежащей на белой тарелке, как старая мочалка.
После того как кадетом я провел несколько неприятных часов в Пернамбуку, я всегда опасался есть в тропиках рыбу. Но одного взгляда на стоквис в сыром виде было достаточно, чтобы убедиться — нет причин бояться инфекции. Треска висела в кладовке, ряд за рядом, и рыба уже мумифицировалась, превратившись из сверкающих серебристых существ, прыгающих по палубе траулера, в реликты из нижних слоев песчаника девонского периода.
Горячая пища или холодная — это едва ли имело значение, поскольку Зварт всегда возносил такую долгую молитву (считалось, что импровизированную, хотя на самом деле молитвы на борту были такими же формальными, как в любом требнике), что и расплавленная лава застыла бы, когда мы наконец приступали к еде. День завершался ужином из сухарей и чашки того же «кофе», что и на завтрак. Позже я выяснил, что кофе готовили путем обжаривания сухарей, оставшихся от предыдущего ужина, а потом угольки размалывали и заливали кипятком. Мое тело требовало калорий после вахты в кочегарке и на палубе, но желудок восставал при одной мысли о том, что именно я собираюсь в него впихнуть, чтобы восполнить эти калории.
Моя принадлежность к нечестивой части человечества, по крайней мере, имела преимущество — не было необходимости присутствовать вместе с остальным экипажем на ежедневных молитвах, изучении Библии и чтении псалмов (музыку Богоизбранные не одобряли, как и почти все прочие виды человеческой деятельности). Вместо этого я мог стоять на мостике и одновременно слушать молитвы, доносящиеся от братьев-кальвинистов из кают-компании, и возносящиеся в небо завывания муэдзина с верхней палубы (в обязанности вахтенного офицера входило каждое утро указывать по компасу направление на Мекку). Религия наполняла «Самбуран» от носа до кормы, как скотовозку навоз. Я часто гадаю, какой прок от этого Богу.
Глава шестнадцатая
Плаванье по плоскости
Возможно, вы заключили из вышесказанного, что на пароходе «Самбуран» находился один из самых странных экипажей, которые когда-либо появлялись на воде, с тех пор как Ноев ковчег пристал к вершине горы Арарат. Но впереди ждал еще более неприятный сюрприз.
Это произошло однажды вечером, спустя пять дней, после того как мы обогнули Яву. Большое серебряное блюдце луны только что поднялось с гладкой, маслянистой воды, ярко сверкали звезды. Судно летело вперед на неизменных четырнадцати узлах, как и всю прошлую неделю, оставляя за кормой прямой как стрела фосфоресцирующий след, словно ползущая по морю гигантская улитка. Я боялся, что корабль не сможет поддерживать эту скорость день за днем, и не обойдется без лопнувшего котла или треснувшего коленвала, но мои опасения пока оставались необоснованными.
Корабль был построен добротно и весьма ухожен, котлы в отличном состоянии, двигатели все еще стучали и шипели где-то внизу без малейших признаков усталости. Прошел примерно час после начала первой вахты. Паломники уже устроились на ночь под навесами, расправили на палубе матрасы и собрали немногочисленные пожитки с довольным жужжанием пчелиного роя, прерываемого то там, то сям плачем ребенка или высокими, музыкальными переливами смеха. Капитан стоял на мостике, а я склонился над столом с картами, сравнивая наше последнее местонахождение с данными механического лага и показаниями оборотов вала. Вошел Зварт.
— Что ж, капитан, — заметил я, — три тысячи миль за девять дней. Значит, мы уже на одну восьмую обогнули землю.
Он остановился. Внезапно повисла мертвая тишина. Я почувствовал, что сказал что-то ужасно неправильное. Через несколько мгновений Зварт заговорил: медленно и обдуманно, будто поправлял ужасную бестактность, но не желал повторять ее вслух.
— Герр лейтенант, вы имели в виду, что мы уже на одну восьмую пересекли землю из одного конца в другой.
— При всем уважении, капитан, я сказал «обогнули»...
— Вы имеете в виду пересекли из конца в конец: мы не могли обогнуть землю, потому что мир плоский, а обогнуть плоскую поверхность невозможно.
Оказалось, я невольно наткнулся на тему, которая распаляла в объемистой груди капитана Зварта столько же жара, сколько кальвинистское предопределение или детали отлучения от церкви. Короче говоря, во время его монолога, продлившегося остаток первой вахты и значительную часть средней, я с растущим ужасом и недоверием осознал, что нахожусь посреди Индийского океана на борту парохода под командованием человека, который, основываясь на непогрешимости Библии, полностью отвергает две гипотезы, на которых основана вся морская навигация с 1500-го года: что Земля более или менее сферической формы и вращается вокруг Солнца. Если бы на его месте был кто-то менее серьёзный, чем шкипер Зварт, я бы заподозрил, что меня разыграли, но этот человек не обладал и крупицей чувства юмора: он явно был неспособен даже уловить шутку. Я попытался возразить.
— Но капитан, если Земля плоская, то почему Солнце поднимается и садится? Если сказанное вами верно, то его все время было бы видно из любой точки земли.
Он терпеливо улыбнулся.
— Земля не идеально плоская, а немного куполообразная, как перевернутое блюдце. А что касается Солнца, оно совершает свой ежедневный путь по небу на высоте около семидесяти километров. Когда оно исчезает за искривлением, мы наблюдаем закат.
— Как же тогда Солнце вращается вокруг Земли?
— Оно вращается вокруг точки в центре Земли, которую географы именуют Северным полюсом, но это на самом деле гигантский магнит. Магнитное притяжение действует на Солнце, которое всего пару километров в окружности, и более или менее удерживает его орбиту выше воображаемой линии, ради удобства мы называем ее экватором.
— А как же времена года?
— Зимнее и весеннее солнцестояние сменяют друг друга, потому что высота подъема Солнца над Землей и радиус этой орбиты меняется в течение года, как будто мальчик раскачивает шар вокруг головы на резинке.
— Скажите мне, капитан, что же тогда с Луной и звёздами?
— Небеса на самом деле - просто ряды концентрических куполов из прозрачного стекловидного вещества, окружённые водой, что ясно из Книги Бытия. То, что мы называем Луной, на самом деле не планета, как полагают те, кто имеет плотские помышления, а нечто вроде находящегося во внутреннем куполе иллюминатора, предусмотренного Богом для ночного освещения. Оба купола независимо вращаются друг у друга внутри, а звёзды — это светильники, висящие внутри второго купола. Мы полагаем, что звёзды находятся где-то в восьмидесяти километрах над нами.
Возможно, в этом была виновата теплая ночь, но я почувствовал, как рубашка прилипла к спине от холодной испарины. Весьма неприятно встретить маньяка, но встреча тревожит вдвойне, когда вместо того, чтобы несвязно бредить, безумец излагает свои сумасшедшие доводы тщательно сформулированными, с размеренной, спокойной уверенностью, как если бы его очень тупой, крайне мало информированный или очень извращенный слушатель не соглашался с чем-то столь ослепляюще очевидным. Я был вынужден обратиться ко встречным доводам, хотя внутри нарастало отчаяние.
— Скажите, пожалуйста, капитан: если земля как перевернутое блюдце, а экватор представляет собой круг около двадцати пяти тысяч морских миль в окружности, — Зварт небрежно кивнул, будто изволил рассматривать это как рабочую гипотезу, — тогда как могло случиться, что внешний край блюдца составляет не около восьмидесяти тысяч миль?
Его ответ прозвучал без малейшего колебания:
— А откуда вы знаете, что это не так?
— Да, но если совершать кругосветные путешествия к югу от экватора, пройденное расстояние уменьшается с каждой параллелью южной широты.
— Откуда вы знаете? Вы его недавно мерили?
— Но те, кто плавают вокруг земли...
— ...на самом деле из одного конца в другой. А вы встречали кого-нибудь, кто плавал вокруг ваших драгоценных параллелей южной широты без отклонений? Как я понимаю, Африка и Южная Америка как раз преграждают путь. Нет, герр лейтенант, этого не происходит. В школах детей учат, если судно плывет вокруг света по параллели, оно возвратится к тому месту, откуда отчалило. Но никто не возвращается, а если и так, то судно придерживается курса по компасу. А стрелка компаса всегда показывает на магнит на Северном полюсе, и команда считает, что плывет вокруг сферы, хотя на самом деле описывает круг на почти плоской поверхности.
— Но измерения... механический лаг... наблюдения долготы...
Он вздохнул, как будто пытаясь терпеливо что-то объяснить туповатому ребёнку.
— Измерения механическим лагом, как вы знаете, ненадежны на больших расстояниях и непостоянны, потому что плотность морской воды уменьшается с приближением к внешнему краю мира. Что касается ваших рассуждений о так называемой долготе, позвольте заметить, они основаны на нарисованных на карте линиях, которые в свою очередь опираются на ложную и дурацкую гипотезу, что Земля — это шар. А вот это ещё сначала нужно доказать.
— Тогда верно, что корабль, плывущий по Южному океану примерно по шестидесятой широте к югу...
— Не знаю никого, кому бы это удалось. Но скажите, герр лейтенант, вот вы моряк. Вам доводилось огибать мыс Горн, который с практической точки зрения является самой южной точкой, куда заплывают корабли?
— Да, дважды, если хотите знать.
— И сколько же времени вам потребовалось, чтобы проплыть, скажем, между тем, что для удобства называют семьюдесятью и восьмьюдесятью градусами западной долготы?
— Примерно четыре недели в одном случае и шесть в другом, но...
Его приплюснутые черты озарились светом слабого удовлетворения, который можно, например, видеть на лице прокурора, только что заставившего обвиняемого сказать, что он не мог оставить отпечатки пальцев на вазе, потому что был тогда в перчатках.
— Понятно, от четырех до шести недель, чтобы проплыть линейное расстояние, которое, в соответствии с вашими теориями, составляет около трехсот морских миль. А почему так долго, скажите?
Я уже слабо трепыхался, как рыба в сетях, прежде чем её крюком подвесят за жабры.
— Из-за встречного ветра и сильного волнения.
— Проклятье! При чем здесь встречный ветер и сильное волнение? Это потому, что реальное расстояние намного больше, чем указано на карте.
Я решился на один последний отчаянный бросок.
— Но если у мира есть край, если Земля имеет край, то почему корабли с него не падают? Не успели слова слететь с моих губ, я уже знал, что проиграл, окончательно и бесповоротно.
— Если вы потрудитесь ознакомиться с регистром Ллойда или чем-то подобным, то увидите, что каждый год десятки кораблей исчезают там, что вы ошибочно называете Южным океаном. Они отплывают из Вальпараисо или Хобарта, затем — бац! Больше никто и никогда о них ничего не слышал: ни выживших, ни обломков, ничего.
— Вы правда полагаете, что они падают с края земли?
— Либо так, либо они до самого Судного дня попадают в ловушку в краю вечного льда, окружающего внешний край мира, который отверженные именуют «континентом Антарктида». Континент, вот уж действительно... — Зварт насмешливо фыркнул. — Еще одно сито, придуманное всезнающим Господом, чтобы испытать веру людскую и отделить зерна от плевел. Вся ваша «Антарктида» — не что иное, как гигантская мистификация, Скотт и Амундсен - тьфу! Оба — безбожные обманщики и шарлатаны: Скотт свалился за край земли, а Амундсен повернул назад, чтобы избежать подобной участи.
На этом я сдался. Нет входа в крепость здравомыслия этого человека, даже малюсенькой трещины в возвышающихся гладких стенах из черного гранита, ни малейшей надежды на получение стремянки для преодоления этих стен, ни единого возражения, которое нельзя объяснить оптической иллюзией или искажениями линз подзорной трубы, или магнитной аномалией. Я покинул поле битвы, разбитый наголову. Но, даже зная, что проиграл спор, любопытства я не утратил.
— Капитан, — спросил я, — простите моё любопытство, если вы полагаете, что земля плоская, как вам тогда удается вести судно из одного места в другое? В конце концов, во всех виденных мною картах и атласах предполагается, что Земля круглая.
— Вовсе нет, герр лейтенант, вовсе нет...
Зварт потянулся к полке над штурманским столом и достал толстый, многостраничный фолиант в кожаном переплете. Положил его передо мной на столе и раскрыл на титульном листе. Книга была на голландском и называлась «Реформаторские протестантские и астрономические исправленные карты для христианских мореплавателей. Год издания 1914 от рождества Христова».
Под этой легендой был подзаголовок более мелким шрифтом: «Собрано отцом Х. К. Ф. ван Зантеном из библейской семинарии Алкмара и засвидетельствовано как соответствующее воистину непогрешимому Слову Божьему и «Правилам богослужения и веры Дордрехта» консисторией Исключительной голландской ре-реформаторской богоизбранной Церкви».
Я полистал книгу. Страница за страницей — солнечные, звёздные, лунные таблицы как в любом другом навигационном справочнике, хотя в данном случае каждая страница содержала соответствующий текст-ссылку, например: «Обозрел ли ты широту земли? (Книга Иова, 38:18)» или «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим (Иешуа 10:13)».
— Видите? — сказал он. — Особая милость божьего провидения обеспечила Богоизбранных пастырем, который достаточно заботится о душах своего народа, посвящая жизнь изучению астрономии для их пользы. Мы могли бы продолжать использовать так называемые альманахи, производимые умами земных людей. Но вместо этого можем привести их карты в соответствие с этой книгой, и вот... — он открыл ящик штурманского стола и вытащил своего рода сложную логарифмическую линейку около метра длиной, выполненную из благородного самшита и латуни, но с четырьмя или пятью ползунками вместо одного. — Чтобы скорректировать расстояние между так называемыми линиями долготы, мы используем вот это, так как по-прежнему вынуждены использовать карты, составленные неверующими. Если обратитесь ко мне как-нибудь вечерком, когда у меня будет больше времени, я объясню, как этим пользоваться. А теперь прошу меня простить. Уже поздно, пора перейти к молитвам перед сном.
— Спасибо, что уделили мне время. Мне было очень интересно.
— Не стоит благодарности. Время потрачено не зря, если мне удалось втолковать вам хоть пару деталей. Когда завтра увидимся, если угодно Богу, я дам вам кое-какие брошюры, которые помогут лучше прояснить вопрос. Спокойной ночи.
Он оставил меня на мостике, только у штурвала еще находился рулевой. Я уставился в небо на яркий диск луны — или это дыра? Нет-нет, если я начну так думать, то полностью потеряю всякое здравомыслие! Палуба под ногами показалась неустойчивой, хотя море было идеально спокойным. Неужели судьба спасла меня у побережья Борнео от голодных акул, чтобы теперь я оказался под опекой опасного психа? А как насчет тех других бедных душ, мирно спящих на палубе? Возможно, их следует разбудить и рассказать обо всем, что я знаю, возможно, мы направляемся на Огненную землю или в Берингов пролив?
Я даже подумал, не лучше ли спустить шлюпку и отдаться на волю океана, чем провести еще одну ночь на борту этого плавучего сумасшедшего дома, полного религиозных маньяков. Но вскоре я немного успокоился и вернулся к штурманскому столу, кое-что вспомнив. Я пробрался обратно в каюту, которую делил с Кайнделем, и порылся в сумке с вещами, спасенными из тонущей джонки. Да, вот оно: Холле и Берндт, навигационные астрономические таблицы, Берлин, 1914 год. Я отнес книгу обратно на мостик, вынул судовой секстант из ящика, и, удостоверившись, что никто не смотрит, замерил высоту парочки звезд.
То же самое я проделывал в последующие три дня, а также тайком выкраивал минутку, чтобы замерить положение солнца в полдень. Я сравнил результаты с приведенными в таблице и к своему удивлению обнаружил, что данные, приведенные Звартом и его офицерами, почти точно совпадают с моими в отношении долготы. Однако широта сильно отличалась, просто удручающе, как бы тщательно я ни проверял и перепроверял свои расчеты. Но через пару дней я начал замечать, что разница составляет одну и ту же величину.
В конце концов, после нескольких одновременных солнечных и лунных наблюдений ранним утром, я пришел к единственному заключению, что хронометр «Самбурана» спешит на пять минут: безусловно, крайне маловероятная случайность на борту такого вышколенного судна. Я не находил этому объяснений, пока однажды случайно не взглянул на крошечный шрифт возле нижнего края карты и увидел, что там написано: «Градусы к востоку от Амстердама». Так вот в чем дело: все моряки остальных стран (даже французы) давно ориентировались на нулевой меридиан по Гринвичу, но голландские составители таблиц (по крайней мере, те, которыми пользовалась пароходная компания «Голландия-Амбоина») упрямо цеплялись за нулевой меридиан у Амстердама. Много лет спустя я где-то прочитал, что кое-кто использовал его и в 1940 в году, пока не вторглись немцы и не заставили всех перейти ко времени по Гринвичу.
Оглядываясь назад, полагаю, в любом случае, навигационное чудачество Зварта не имело большого практического значения. «Самбуран» и суда подобного типа компании «Голландия-Амбоина» большую часть своей жизни плавали в тропиках, а в этих широтах (до двадцати градусов в каждую сторону от экватора) считать линию долготы в таблице прямой или слегка изогнутой настолько несущественно, что едва ли стоит беспокоиться. Это были широты, которые мы называли «плавание по плоскости». Так что я полагаю, книга теологических таблиц Ван Зантена и таинственное смещение шкалы в действительности оказывали незначительное влияние на движение судна из точки А в точку Б. Я подозреваю, что также как и в вопросе плавания парохода в субботу, доктринальную чистоту вполне могли разбавить толикой здравого смысла.
Так или иначе, с одного конца света в другой или вокруг света, рано утром двадцать девятого октября мы увидели землю, впервые за двенадцать дней. Это был остров Сокотра, в непосредственной близости от Африканского Рога и входа в Красное море. Мы сдержанно поздравили себя: в этом случае мы прибудем в Джидду поздним вечером первого ноября, но останется еще достаточно времени для высадки пассажиров и начала последнего этапа их паломничества в Мекку.
Что касается меня, были причины чувствовать себя вполне довольным. Я понятия не имел, какие тяготы и опасности могут подстерегать у нас с Кайнделем и Вонгом на следующем этапе утомительного путешествия, но знал, что мы на пять тысяч миль ближе к дому, чем три недели назад. И эта мысль смягчила многое — боль покрытых мозолями рук, ноющую спину и ободранные колени. Через два дня мы причалим к берегам Оcманской империи.
Я знал, что из Дамаска в священный город Медину уже проложена железная дорога. Раньше у меня были довольно расплывчатые знания о внутренней географии Аравийского полуострова. А интенсивная ветхозаветная религиозность капитана и экипажа «Самбурана» по крайней мере позволили провести несколько свободных минут, изучая и схематично перерисовывая карты из голландского атласа Святой Земли и Ближнего Востока. Кое-какая информация мало относилась к теме, например, точный маршрут странствий израильтян за сорок лет в пустыне, или местонахождение Эдемского сада, но по большей части была исчерпывающей. Трудным этапом станет путешествие в Медину, если мы не получим помощь от турок. Как только мы туда прибудем, во всяком случае, в теории, нам останется лишь купить три железнодорожных билета в Вену через Константинополь.
Но все оказалось не так просто. Около полудня двадцать девятого числа, когда мы входили в Аденский залив, мы встретили другой пароход, идущий параллельным курсом. Сначала мы приняли его за торговое судно, но потом он изменил курс и сблизился с нами. Мы увидели, что это небольшой крейсер: безобразный уродливый корабль с невероятно длинным таранным носом и тремя короткими, неравномерно разнесенными и расширяющимися книзу трубами. Корабль шел под французским триколором. Это был колониальный крейсер «Вильнев». Когда крейсер сблизился с нами, капитан обратился через рупор.
— Кто вы такие?
Зварт проревел в ответ на французском, так громко, что рупор не понадобился:
— Голландский пароход «Самбуран» на пути из Ост-Индии.
— Куда вы направляетесь?
— В Джидду!
— Остановитесь немедленно: мы поднимемся на борт!
— Идите к дьяволу! Мы судно нейтрального государства и торопимся!
Ответ французов был простым и однозначным: носовая пушка угрожающе развернулась и нацелилась на наш мостик. Зварт быстро заговорил, брызгая слюной, но мы остановили двигатели и покачивались на мелких волнах. «Вильнев» спустил шлюпку, и через пять минут группа вооруженных матросов в тропических шлемах карабкалась через наши поручни. Возглавлял отряд молодой и довольно неприятный хладнокровный капитан-лейтенант. Зварт обрушился на него целым потоком ругательств на французском, но офицер лишь улыбнулся.
— Ах, нейтрального? Возможно и так в случае с Голландией, не могу сказать. Но Турция разорвала дипломатические отношения с Францией и Великобританией. Французский морской флот теперь останавливает и при необходимости задерживает все суда, направляющиеся в турецкие порты.
— А что мне делать с пассажирами? У нас на борту триста пятьдесят малайских мусульман, направляющих в Мекку, а хадж начнется через три дня. Нам нужно продолжить путь в Джидду.
Лейтенант пожал плечами.
— Сожалею, но это невозможно. Вы должны следовать за нами в Джибути. Там мы проверим судно на предмет контрабанды и подданных враждебного государства, затем вам придется развернуться и возвратиться в Ост-Индию.
На мгновение я подумал, что Зварта хватит удар.
— Что? Обыскать судно? Разворачиваете нас обратно? Это беззаконие! Вы самые обычные пираты! Нидерланды — нейтральное государство...
— Ах, месье, что вы? Франция с Голландией не воюют, это правда. А что касается вашего нейтралитета, возможно, вы хотели бы послать радиограмму в Батавию и вызвать сюда броненосец, чтобы обсудить этот вопрос? Ему потребуется недели три, чтобы сюда добраться. Мы можем подождать.
Вот так мы сдались и понуро поплелись за «Вильневом» в Джибути, где бросили якорь. Уже наступил вечер, и солнце потонуло за африканскими горами. Утром на борт поднимется группа для обыска и проверки списков команды и пассажиров, без сомнения обратит внимание на то, что на «Самбуране» оказалось девять дополнительных членов команды с тех пор, как он покинул Мандано, и ни у одного из них нет документов.
Я обдумывал, как добраться до берега под покровом темноты, но чем больше размышлял об этом, тем менее привлекательной выглядела сама идея. С одной стороны, французы пристально наблюдали за нами и за немецким пароходом, который привели накануне, и освещали воду прожекторами чуть ли не каждые полминуты. С другой, мы находились более чем в миле от берега, а залив, как считалось, кишит акулами. Таким образом, плавание к земле едва ли обещало спасение, даже если бы у Вонга уцелели обе руки. Нет, нам нужно пересидеть сегодняшнюю ночь и посмотреть, какие возможности предоставятся утром.
Взошла луна, точнее узкий светящийся полумесяц. Завтрашняя и послезавтрашняя ночи будут безлунными. Потом новолуние возвестит о начале мусульманского месяца Зуль-хиджа и начале сезона хаджа. Если восход луны мы встретим не в Джидде, значит наши пассажиры пропустят паломничество, к которому большинство из них готовилось всю жизнь, преодолевая бог знает какие препятствия — и всё из-за войны белых людей в христианской Европе.
Паломники были в основном простыми и неграмотными обитателями малайских кампонгов, совершенно неосведомленными об остальном мире. Но даже весьма недалекие среди них заметили нашу встречу с французским крейсером и отход в Джибути. Даже если они не учили географию, то фазы луны знали получше любого читателя газет и наверняка поняли, что место, где мы бросили на ночь якорь, точно не Джидда. Стоя на мостике, я отметил в темноте, как обычный, мягкий гул готовящихся ко сну паломников перерос в озлобленное, раздражительное гудение, когда они собрались группами под навесами.
Наступила непростая ночь для всех нас. Солнце наконец появилось на горизонте на востоке, со стороны моря, осветив бесплодные горы, и муэдзин призвал к утренней молитве. «Вильнев» стоял на якоре примерно в полутора километрах от порта, в то время как маленькая французская канонерка находилась неподалеку от нашего правого борта. Казалось, что их вооруженные матросы полностью заняты немецкой добычей и норвежским парусным судном, которое подошло ночью.
Большую часть дня мы пролежали, жарясь под африканским солнцем, молчаливые и раздраженные от разочарования. Когда из-за остановки судна больше ветер больше не гулял по палубам, стало нестерпимо жарко. Пассажиры переносили это особенно болезненно. Дети беспокойно кричали. Женщины слабели в пульсирующей жаре. Группы мужчин сидели со скрещенными ногами на палубе и вели оживленные споры. Я не понимал ни слова, но догадывался, что пожилые деревенские жители с седыми усами и в фетровых шляпах без полей настаивали на осторожности, а молодые люди призывали действовать.
К полудню жара стала такой невыносимой, что почти все, пассажиры и команда, искали хоть какую-то тень. Я находился под навесом мостика, но когда посмотрел сверху вниз на носовую часть, куда не доходили навесы, то увидел к своему удивлению, как группа из пяти-шести молодых малайцев сидит на палубе на самом солнцепеке, совершенно равнодушная к его лучам.
Заинтересовавшись, я стал незаметно за ними наблюдать. Это напоминало некую игру, но я никак не мог разглядеть ни кубика, ни доски, ни каких-либо других атрибутов. И все же малайцы выглядели чрезвычайно сосредоточенными, как игроки в покер со ставкой в тысячи долларов. Наконец один наклонился вперед и медленно, уверенно и с равномерным нажимом описал кончиком пальца круг на раскаленных досках палубы. Другие завороженно смотрели, сидя как истуканы. Я упомянул об этом капитану Зварту, который беспокойно вышагивал по мостику, шепотом проклиная французский военно-морской флот. Он много лет прожил в Индии, поэтому, возможно, знал эту игру. Когда я описал ему происходящее, он вытаращил глаза, а с обычно румяного лица внезапно схлынули все краски.
— Что он сделал?
— Нарисовал пальцем круг на палубе, вот так. Они все, казалось, поглощены этим занятием.
Капельки пота выступили у него на лбу, хотя и без этого из-за ужасной жары его можно было выжимать.
— Быстро, Силано! Ради бога, спускайте шлюпку и пошлите на французский корабль за помощью. Попросите их немедленно прислать сюда вооруженный отряд. Вот, — он обернулся ко мне, — вот ключ от сейфа с оружием в моей каюте. Там найдёте шесть револьверов под замком. Быстро принесите сюда, чтобы я мог их раздать, потом собирайте своих людей. Мы будем удерживать мостик, а вы — корму и машинное отделение. Возьмите два револьвера и вооружите своих людей кофель-нагелями, затем велите Преториусу задраить люки машинного отделения. Если мы оттесним дикарей на нос и квартердек, то сможем хотя бы их разделить.
Я побежал вниз в каюту Зварта и вытащил револьверы из сейфа, взял две коробки с патронами и вернулся назад к мостику их раздать, затем поторопился на нижние палубы, чтобы предупредить главного механика. Вонга послали передать Старшему и Младшему беям из Вены и другим китайцам, чтобы спускались в машинное отделение и помогли команде забаррикадировать сходные трапы. Тем временем Кайндель с третьим помощником и я воздвигли баррикады из коробок, мебели и ящиков для защиты кормовой части палубы.
Только что спустили шлюпку, и Ян Хендрик Силано с двумя матросами на максимальной скорости гребли в сторону «Вильнева», чтобы попросить подмогу. Помощь пришла, но весьма ограниченная: всего лишь отделение морских пехотинцев, состоящее из сержанта и десяти рядовых. Они со скучающим видом заняли позицию на мостике в центре судна, очевидно, недоумевая, к чему такая суета из-за нескольких сотен невооруженных малайцев, половина из которых — женщины с детьми и старики. В тоскливом, изматывающем пекле корабль накрыла тревожная тишина.
Буря грянула внезапно, как только солнце коснулось горизонта на западе. Я понятия не имею, был ли выстрел преднамеренным, может, возбужденный французский морской пехотинец случайно задел спусковой крючок, или, как говорят в армии, произошел по «небрежной неосторожности», когда снятая с предохранителя винтовка упала на палубу. Как бы то ни было, выстрел прогремел, на мостике мелькнула вспышка. Последовало секундная тишина, а затем злобный, неземной крик сотен глоток, когда масса пассажиров перед мостиком и позади него начала бурлить, как закипающий котел. Послышались хриплые выкрики на французском и голландском.
Смуглые фигуры стали карабкаться вверх по трапу, чтобы попытаться захватить мостик. Гаснущий закат мерцал на стали вынутых из ножен малайских кинжалах. Прозвучал приказ, и громыхнул залп, направленный в середину колышущейся внизу массы: молодых и стариков, матерей с детьми на руках, безымянного врача, спасшего Вонга. Их крики потонули в оглушительном гневном реве, когда толпа набросилась на нас, взбираясь по трапам и перелезая через перила. Я видел, как третий помощник выстрелил из револьвера в молодого человека с красным платком на голове, который набросился на него с ножом. Нападающий упал, а сверху на него свалился помощник с кинжалом в спине. Голландский моряк пару раз успел взмахнуть подпоркой для тента, уложив троих или четверых, прежде чем его тоже изрубили на куски.
— Живее! — прокричал я сквозь шум Кайнделю и Вонгу. — На корму!
Я помнил, что там привязана шлюпка, на которой плавали на «Вильнев» за помощью. В конце концов мы соскользнули вниз по ее носовому фалиню и приземлились, как раз когда волна смуглых тел достигла гакаборта. Пока я перерезал фалинь, в воду рядом с лодкой шлепнулось тело, и я успел заметить, что это второй помощник Силано. Мы отчаянно погребли от «Самбурана», пытаясь разглядеть наших китайцев среди бурлящей и дерущейся толпы, борющейся за контроль над пароходом, но безуспешно: все они находились внизу, в машинном отделении, и я никогда так и не узнал, что с ними стало.
Когда малайцы захватили винтовки у мертвецов, рядом с нами в воду стали врезаться пули. Мы могли лишь попытаться отплыть как можно дальше. Шлюпки с вооруженными матросами уже направлялись к пароходу от «Вильнева» и канонерки. Но когда они доплыли до борта судна, мы увидели внезапную вспышку под правым крылом мостика — керосиновая лампа упала на палубу, полыхнул керосин. Пламя коснулось высушенного на солнце навеса и начало лизать лакированные деревянные борта штурманской каюты. Через несколько секунд весь мостик уже оказался объят пламенем, плотный столб дыма и искр взвихрился в потемневшее небо. К тому времени как мы потеряли «Самбуран» из виду, он полыхал целиком — от носа до кормы.
Глава семнадцатая
Благословенная Аравия
Наступил последний день ноября 1914 года. Мы почти месяц находились в жарком, влажном и вонючем маленьком порту Массауа, воротах итальянской колонии Эритрея. Прошло четыре недели и четыре наших безуспешных попытки сесть на борт судна, направляющегося в Италию через Суэцкий канал.
Я лежал на кровати в нашей душной комнатушке пансиона «Гримальди», разглядывая порт, прислушивался к ужасному блеянию и реву из скотобойни неподалеку и с благодарностью думал, что сегодня ветер хотя бы уносит прочь зловоние. Да, размышлял я с сожалением, у итальянских колониальных чиновников и местной полиции, может, и расслабленное отношение к порядку и инструкциям по сравнению с нами, тевтонами, но они определенно очень наблюдательны и почти ничего не упускают.
По правде говоря, наши бывшие партнёры по Тройственному союзу вопреки ожиданиям оказались совсем не расположены к своим номинальным союзникам, хоть и в виде трех невооруженных австрийских беглецов, прибывших в дау из Джибути. Кайнделя, Вонга и меня вроде бы не интернировали, но и свободными мы себя не чувствовали. Нам запретили покидать пределы города, а при попытках получить разрешение на передвижения от представителей итальянского губернатора мы постоянно сталкивались с уклончивостью и задержками. Четыре раза мы пытались сесть на борт итальянских нейтральных судов, даже выдавая себя за абиссинских купцов. И четыре раза нас задерживала жандармерия и чиновники порта у подножия трапа и возвращали в наше жилище, вежливо, но твердо.
Все дело было в том, хотя тогда мы этого не знали, что итальянские эмиссары тайно носились из Берлина в Париж и Лондон и обратно, чтобы оценить, какая сторона предложит самую привлекательную взятку для вступления Италии в войну. И при этом я не мог знать, лежа в душной комнатушке в Массауа, что стрелка решительно качнулась в противоположную от Центральных держав сторону и показывала на Антанту. В далекой Эритрее мы ничего об этом не знали, но чувствовали, что итальянцы не вполне уверены, как с нами поступить. Они не хотели заключать нас в тюрьму. Но и освобождать тоже не хотели на тот случай, если через несколько недель Италия вступит в войну с Австрией.
Шло время, и пока мы были не в тюрьме, нас переселили в жилье немного получше - дешевые и запущенные меблированные комнаты на береговой линии, зажатые между скотобойней с одной стороны и публичным домом с другой, с прекрасным видом на чудовищно грязную гавань Массауа: настоящий суп из мертвой рыбы, сточных вод, пятен мазута и плавающего мусора, а еще вдобавок непонятно откуда взявшегося верблюжьего трупа и нескольких кораблей, играющих роль гренок. Дни были отвратительны из-за шума скотобойни, которая сваливала потроха прямо в гавань. А ночью не давал заснуть не менее шумный бордель с другой стороны.
Когда мы прибыли, я увидел, что Кайндель поглядывает на это учреждение и перебирает несколько лир карманных денег, выданных ему немецким консулом. Но потом он заметил «девушек», перегнувшихся через балкон: потасканных эритрейских гарпий со спутанными волосами, провалившимися носами и гнилыми зубами, достойных стать моделями для галереи восковых фигур, когда-то столь популярного развлечения на венском Пратере, «Типы и стадии венерических заболеваний». Я прямо-таки видел, как дрогнуло крепкое сердце моряка, когда он давал себе молчаливую клятву еще на некоторое время сохранять целибат. Что касается Фердинанда Вонга, он оставался внешне веселым и надеялся оказаться со своей семьей в Триесте на Рождество.
Но я знал, что его беспокоит боль в культе, а также понятная озабоченность относительно того, как стюард первого класса на океанских лайнерах станет зарабатывать на жизнь, когда отсутствует половина правой руки. Аналогичным образом я ощутил, что, хотя никто ничего такого не говорил, он упрекал себя в наших неудачных попытках попасть на борт судна. В конце концов, в порту на северо-восточном побережье Африки даже самый тупой полицейский вряд ли не узнает по описанию китайца с отсутствующей ниже локтя правой рукой. Нам помог выжить немецкий консул, герр Шульц.
Итальянские колониальные власти могли обеспечить нам только полуголодное существование, полагающееся для потерпевших кораблекрушение моряков, а не для интернированных военнослужащих. Разницу возместил консул, хотя, поскольку мы были австрийскими подданными, он не нес за нас ответственность. Всё, что он мог, имея в своем распоряжении ограниченные средства, это предоставить нам чуть больше, чем жизнь на грани выживания, включающую крышу над головой и макароны один раз в день.
Мадам Гримальди, наша хозяйка, была на самом деле француженкой из Прованса — достаточно веселой женщиной, одетой с головы до пят в черную бумазею, несмотря на чудовищную жару, и соблюдающая статус вдовы. Лишь случайно я узнал, что она стала вдовой, потому что где-то году в 1890-м, в Марселе, подсыпала крысиный яд мужу и семи или восьми своим родственникам. Исполнение приговора отложили в двух шагах от гильотины, несколько лет спустя ее выпустили по президентской амнистии, она уехала в итальянскую колонию и начала новую жизнь как владелица пансиона.
После всех волнений и опасностей предыдущих трех месяцев, нынешние дни угнетающе походили один на другой: прогулка к немецкому консульству, узнать, нет ли каких-нибудь новостей, потом отметиться в полиции, затем в правительственные учреждения, чтобы провести еще одно утро, потягивая мятный чай и наблюдая за мягкой, улыбчивой уклончивостью итальянских бюрократов с небольшими острыми бородками.
Сегодня утром это опять был синьор Рабальяти: сама вежливость, нахваливал мой превосходный итальянский, но не сделал никаких предложений, как обычно. Билет в Неаполь на борту «Чивитавеккьи», оплаченный немецким консульством? Нет, это невозможно: британские власти в Порт-Саиде требуют списки пассажиров, прежде чем дают разрешение на проход по каналу. Нет, наняться матросами на борт «Ливорно» тоже невозможно, как и сесть на борт шведского грузового парохода, направляющегося в португальскую Восточную Африку: власти порта подчиняются итальянскому военно-морскому флоту и не разрешат этого. К сожалению, отправиться в Могадишо и найти приют там тоже невозможно: власти Эритреи и Сомали разделяют желание сохранять нейтралитет. Что касается поездки в Асмэру, чтобы лично поговорить с его превосходительством губернатором, нет, это бесполезно: он не может отвечать за жандармерию, которая подчиняется местному военачальнику (а тот в отпуске в Италии), к тому же Рабальяти сомневался, дадут ли мне разрешение покинуть город. Что касается моего запроса его превосходительству губернатору, ответ еще не прибыл: почта до Эритреи идёт не быстро.
Я покинул контору и направился прямо к герру Шульцу. У него имелись новости. В соседнем кафе мы выпили по кофе со льдом (великодушно оплаченному герром Шульцем, так как в середине недели я уже оказался без средств), и он посвятил меня в детали.
— Рад сообщить, мне кое-что удалось для вас организовать. Мой друг-судовладелец зафрахтовал самбук [81], чтобы доставить вас сегодня же вечером в Аравию. Вам придется лишь добраться до побережья в нескольких километрах к югу отсюда. Я нанял проводника и мулов — и еще подкупил местных, они продолжают за вами следить.
— Герр Шульц, мы будем вечно вам обязаны, если сможете вытащить нас из этой гнилой дыры. Но что нам делать, как только мы достигнем аравийского берега?
— Я сожалею, но это все, за что в сложившейся ситуации я могу поручиться и предложить вам. Как вы уже выяснили, сейчас нет ни малейшей надежды пройти через Суэцкий канал, даже если итальянцы и надумают дать разрешение. Британцы не только требуют списки пассажиров от нейтральных судов, но и производят обыски. Турция хотя бы воюет на нашей стороне.
— Но куда нам направиться? Как я понимаю, Аравийский полуостров довольно большой.
— Шкипер самбука высадит вас на берег у места с названием Аль-Кунфуда. Британцы и французы блокируют побережье довольно плотно, но он уже совершил несколько поездок и всякий раз сумел их обойти. Как только окажетесь там, вступите в контакт с турецкими властями — я дам вам письмо, двигайтесь на северо-запад, лучше всего в Медину. Как только окажетесь там, остальное будет легко.
— А как далеко от Аль-как-там-ее до Медины?
— Приблизительно четыреста пятьдесят километров по пустыне, хотя есть караванный маршрут, как я понимаю.
— Мы сможем рассчитывать на помощь от турок, которых вы знаете на том берегу Красного моря? Насколько мне известно, османских чиновников в Аравии встретишь не всюду, это еще мягко сказано.
— Трудно сказать, — поджал губы консул, — я бы оказал вам дурную услугу, если бы дал понять, что все будет легко. Как вы и говорите, турецкая власть в Хиджазе всегда была лишь номинальной даже в лучшие времена, а из отчетов, что мы сейчас получаем, у них, похоже, что-то вроде мятежа. Я понимаю, что бросаю вас в змеиное гнездо. Но что еще вам остается? Итальянцы вскоре собираются вступить в войну на стороне наших противников, и когда это произойдёт, то просто схватят вас и засадят в тюрьму до конца войны.
Соображения герра Шульца относительно нарушений законности и правопорядка в Хиджазе подтвердились сразу же, как только мы через двое суток выбрались на берег на пустынном пляже к северу от Аль-Кунфуды и по колено в воде с ботинками на шее побрели к берегу.
Капитан самбуки, одноглазый эпилептик, прошляпил порт в темноте, и за нами увязался паровой баркас, пока начавшийся очень кстати шквальный дождь не позволил нам скрыться. У каждого из нас было по маузеру, любезно предоставленному герром Шульцем. У меня также имелся дешевый карманный компас, небольшая карта западной Аравии и холщовый пояс с австрийскими золотыми монетами по двадцать крон, который был на мне всю дорогу от Циндао. Вот и вся подготовка к последней стадии путешествия домой, не считая одежды. И всё же приятно было чувствовать прибрежный песок под ногами и знать, что впервые с тех пор, как мы покинули Циндао, мы вернулись на дружественную территорию.
Нужно сказать, это дружелюбие проявилось не сразу. Когда мы пересекали линию дюн, вдалеке на берегу появился отряд из шести всадников. Они собрались в кучку и некоторое время совещались, затем легким галопом поскакали к нам. Считая их турецкими разведчиками, посланными нам навстречу, я ринулся к ним, с криками и размахивая руками, пока пуля не взметнула фонтанчик песка у моей ноги. Мы нырнули в ложбину между дюнами, а я замешкался, доставая деревянную кобуру, которая служила своего рода прикладом для пистолета.
Некоторое время всадники кружили вокруг нас, иногда стреляли, а мы сделали пару ответных выстрелов. Это продолжалось около часа, наездники становились наглее и подбирались ближе, копыта лошадей проваливались в песок — пока они внезапно не умчались прочь быстрым галопом. Озадаченный, я привстал и увидел большую группу всадников, подтягивающихся к нам с противоположного направления. Когда они подъехали ближе, я насчитал около двадцати солдат.
Первым порывом стало желание поприветствовать их как наших спасителей, но после предыдущего столкновения я проявил большую осторожность. Они походили больше на регулярную конницу, а не простых грабителей, но какой национальности — не совсем понятно. Они носили темно-синие кители и красные шаровары, и насколько я мог разобрать, белый головной убор, покрывающий шею. Внезапно мне пришло в голову, что они могут быть частью французского десанта, алжирских спагов [82] или подобной экзотической колониальной конницы. Вот будет забавно, подумал я, если, не успели мы высадиться на османскую территорию и пройти сотню метров, как нас захватит французская армия.
Но кем бы они ни были, нам придется с ними столкнуться. Трое вооруженных пистолетами мужчин, вероятно, могли задержать шестерых нерешительных арабских воров хотя бы на час; но у них нет ни единого шанса противостоять регулярным войскам с карабинами и саблями. Я двинулся к ним, и старший офицер осадил коня перед остальными. Некоторое время мы рассматривали друг друга. Головной убор, как я заметил, был не белой фуражкой с козырьком, а своего рода разновидностью арабского головного платка. Судя по чертам лица, офицер совершенно точно был арабом. Он небрежно отдал мне честь.
— Entschuldigen Sie bitte, sprechen Sie Deutsch? [83]
Он покачал головой.
— Parlez-vous français? [84]
Он опять покачал головой.
— Вы говорите по-английски?
— Немного.
— Могу я узнать, в какой армии вы служите?
— В турецкой, разумеется, четвертая бригада дивизии «Хиджаз» четырнадцатого армейского корпуса. Я лейтенант Нассим аль Хазри-бей, к вашим услугам. А вы кто такие?
— Моё имя Оттокар Прохазка, старший лейтенант австро-венгерского флота. Мы сейчас союзники, как я надеюсь.
— И как же вы здесь оказались?
Я рассказал ему, как мы прибыли из Массауа, и, по возможности кратко, как мы там оказались. Мой рассказ впечатлил его не больше, чем если бы я по-соседски попросил чашку сахара. Он немного поразмыслил и заговорил.
— Прекрасно. Вам лучше идти с нами.
Нашей целью являлся город Эт-Таиф высоко в гранитных горах над знойным берегом Красного моря: штаб турецкой дивизии Хиджаза, а также летняя резиденция шарифа Хусейна, наследного эмира Мекки и хранителя священных городов. Когда мы втроем поднимались в горы в сопровождении арабских всадников, я едва мог поверить своему счастью. Помимо мелких неприятностей с грабителями на берегу все шло отлично. Нас переправили в штаб-квартиру турецкого правительства в Хиджазе, а как только мы оказались там, кто бы сомневался, что нас под конвоем посадят на поезд в Медину? К нашей радости прибытие в Вену к Рождеству стало выглядеть реальной возможностью, а не смутной надеждой.
Мы ещё раз разочаровались. Правда, застрять в Эт-Таифе было несколько приятнее, чем в невыносимо жаркой и грязной дыре вроде Массауи. Небольшой, окруженный стеной город расположился на гранитном плато на высоте около двух тысяч метров над душным побережьем Красного моря, необыкновенно живописное место, элегантная группа домиков с плоскими крышами, куполами и минаретами, как на иллюстрации из «Тысячи и одной ночи» или изображении Вифлеема в австрийском рождественском календаре. Его уходящие вглубь узкие улицы дурно пахли так же, как в большинстве ближневосточных городов, но здания привлекали хорошей архитектурой, замысловато украшенными балконами и резными ставнями из кедра и тика, чей маслянистый запах наполнял переулки сладким ароматом.
И после отвратительных испарений эритрейского побережья воздух в это время года походил на шампанское — холодный, но бодрящий и настолько ясный, что находящиеся за много километров объекты выглядели четкими, будто лаковые миниатюры, когда их рассматривают через перевернутый бинокль. Что касается нас, то нас разместили с комфортом, хотя и без изысков, благодаря любезности турецкого военного губернатора, и вверили заботам австрийского инженера, некоего герра Полтенбаха, который приехал сюда в 1912 году, построил и управлял маслобойным заводом. Он обеспечил нас новой одеждой, карманными деньгами и даже литературой, чтобы коротать дни, как только мы осмотрели все достопримечательности города. Сидя в Эт-Таифе в те последние недели 1914 года, я прочитал почти всего Томаса Манна. Под моим окном топали верблюды и блеяли козы, а муэдзин произносил нараспев свои молитвы из соседней мечети.
Без одного напоминания о родине мы вполне могли бы обойтись — военного духового оркестра турецкого губернатора. Этих мерзавцев посылали время от времени играть под нашим балконом в знак особого расположения, так как у губернатора, который когда-то побывал в Берлине, сложилось впечатление, что все говорящие по-немецки обожают громкую военную музыку. Будучи чехом, я сдержанно относился к духовым оркестрам: старая австро-венгерская военная музыка имела высочайшее качество, кроме того, в те времена в оркестрах проходили военную службу множество музыкантов и капельмейстеров уровня Легара, Миллёкера и Фучика.
Но турецкие музыканты играли отвратительно; вообще-то настолько плохо, что редко можно было разобрать, какую музыкальную пьесу они безжалостно молотят. Возникла даже неловкая ситуация, когда я не встал навытяжку при исполнении императорского гимна «Боже, храни», просто потому что не признал его. Помнится, единственным австрийским маршем, который они смогли исполнить хотя бы приблизительно верно, был «Принц Ойген дер Эдле Риттер», что достаточно иронично, поскольку это произведение написали в честь большой победы австрийской армии над турками при Белграде в 1717 году. Возможно, с ним возникло меньше проблем, чем с остальной частью репертуара, потому что там содержался отрывок в стиле янычарской музыки — мода, которой позже наряду с другими подражал Моцарт. Я слышал лишь отвратительный рев под своим окном и пришел к заключению, что стандарт турецкой военной музыки с тех пор скатился дальше некуда.
По крайней мере, некоторым утешением в Эт-Таифе стало терпимое жилье. Во всех других отношениях это было повторением Массауа, за исключением того, что мы проживали не в колониальном владении западноевропейской державы, а в сильно отсталой и удаленной области Османской империи, державы, которая за века возвела промедление, откладывание в долгий ящик и уклончивость, не говоря уже об откровенной лености, в принципы государства.
Турецкие военные и гражданские власти оказались достаточно вежливыми — еще бы, ведь теперь мы сражались на одной стороне, но как я убедился, вести с ними дела — это как пытаться выбраться из чана с патокой, в который высыпали перья из матраса. Моя жизнь в Эт-Таифе скоро превратилась в утомительную, раздражающе однообразную череду посещений турецких чиновников в попытках организовать нашу поездку по железной дороге Маан-Медина.
Мы выпили бесконечное число крошечных чашечек густого кофе, пока они раздували кальяны и стыдливо перечисляли унылый список жалобных оправданий. Они действительно хотят сделать все, что в их власти, дабы облегчить будущую поездку австрийского эфенди [85] и его компаньонов, но я должен понять — такие вещи невозможно устроить быстро. В стране беспорядки, и нас должна сопровождать группа жандармов. И возник вопрос о разрешениях, которые выдает шариф Мекки, прежде чем мы, неверные христиане, сможем войти даже в предместья второго по святости города для мусульман. Однако я вскоре вычислил, что, вероятно, имелись другие причины для нашей задержки в Эт-Таифе.
Двумя центрами власти в городе были резиденция турецкого губернатора и одновременно военного командующего Галиба-паши и летний дворец шарифа Мекки, современное здание в западном стиле выдающейся вульгарности на главной площади города. Когда мы прибыли, шарифа не было в резиденции, с началом хаджа в предыдущем месяце он переехал в свой зимний дворец в Мекке и не собирался возвращаться в Эт-Таиф примерно до марта, когда в этом расположенном в низине городе станет теплее и начнется сезон чумы. Вместо него нас принял его сын, эмир Абдулла, приветливый круглолицый человек, который на французском языке подробно расспросил о наших приключениях, с тех пор как мы покинули Циндао.
Он узнал, что я был авиатором, и несколько часов расспрашивал об аэронавтике за многочисленными стаканами мятного чая. В целом, должен сказать, что для человека из такой отдаленной части света он на удивление хорошо знал современные технологии. Я вынужден был объяснить ему принципы беспроводного телеграфа и субмарины, а также кое-что из аэродинамики, и он всё схватывал на лету. Он справился о здоровье нашего почтенного султана Франси-Юсуфа и попросил объяснить ему текущее политическое состояние австро-венгерской империи или «Аль-Немсы», как называли её в тех краях. Я попытался, но увидел, что его глаза потускнели от непонимания минут через пять. Аудиенция закончилась, и нас направили к турецкому губернатору.
Как нам сообщили, Галиб-паша говорил только по-турецки, так что мы встретились с его адъютантом, Набил-беем, элегантно одетым, стройным молодым человеком лет тридцати из левантийских греков. Он говорил со мной на изысканном левантийском варианте французского, который пользовался популярностью среди самых разных турецких офицеров. Еще раз, сидя за чашкой кофе, мне пришлось пересказывать наши приключения. Бей очень впечатлился, постоянно кивая и комментируя: «вот это здорово!» и «какой ужас!» в самых захватывающих местах.
Наконец, выждав некоторое время, мне удалось ввернуть вежливой вопрос, когда нам могут разрешить проехать в Медину, чтобы сесть на поезд до Дамаска и Константинополя. Бей выразил сожаление, потому что у нас больше нет возможности уехать в Медину. Почему это, спросил я. Потому что поезда уже туда не ходят, а только до Аль-Улы, это чуть больше двухсот километров к северо-западу.
Набил-бей объяснил, что хоть железную дорогу до Хиджаза и завершили в 1909 году, после пересадочной станции в Маане она пользуется дурной славой у местного населения. Города и деревни вдоль линии лишились и без того скудного ежегодного дохода от караванов с паломниками, проходящих из Дамаска в Мекку и обратно, теперь из-за железной дороги они вконец обнищали.
Племена бедуинов также привыкли веками получать мзду от паши в Дамаске за то, что позволяют паломникам проходить по их землям невредимыми, и у них тоже отняли этот доход. Арабы-горожане и бедуины позабыли о вечной вражде, объединившись в общей ненависти к железной дороге. Вдобавок секта фанатиков-ваххабитов яро восставала против того, чтобы во второй по значимости для мусульман святой город пришла технология неверных французов. В результате этого сложного альянса редкий день проходил без нападений на проклятую железку, дошло даже до того, что теперь в Медину рисковал отправиться только бронепоезд.
— А потому, mon cher лейтенант, — заключил бей, приподняв тонкую бровь, — вряд ли вы сможете так скоро нас покинуть. Разве вам не нравится в Эт-Таифе? Разве в этой беднейшей и отдаленной части Аравии с вами не обращаются со всем возможным гостеприимством?
— Безусловно. Могу вас заверить, что со дня прибытия с нами чрезвычайно любезны, и мы искренне благодарны губернатору за такую заботу. Но все же мы жаждем вернуться на родину, чтобы снова сражаться за свою страну. Вы и сами военный и наверняка можете меня понять.
— Да-да, дорогой лейтенант. Я прекрасно понимаю ваше благородное желание вернуться на родину и драться за своего императора. Но Турция тоже воюет, а Австрия и Германия — наши союзники. Почему бы вам не остаться в Аравии и не продолжить борьбу с врагами османского султана? Судя по всему, вы отличный солдат. Как я понимаю, помимо безусловной храбрости, вы обладаете многими навыками, которые могли бы здесь пригодиться.
— Его превосходительство губернатор знает, что я — офицер императора Франца-Иосифа, и если его величество мне прикажет, я останусь здесь и буду до последнего вздоха сражаться вместе с турецкой армией. Но пока я не получил подобных указаний, мой первейший долг — как можно скорее вернуться на войну в Европе. А о каких навыках вы говорите, уважаемый бей? Я морской офицер, а мы далеко от моря.
— Да, разумеется. Но вы также опытный авиатор, а ваш подчиненный Кайндель разбирается в технике. Он уже починил мясорубку на губернаторской кухне, и теперь местные смотрят на него с благоговением, как на франкского мага.
— Но, дорогой бей, во всей Аравии не найдется ни единого аэроплана. Какой от меня прок как от пилота?
— Ага, лейтенант, так ведь теперь у нас есть аэроплан, его привезут завтра. Нам бы хотелось, чтобы вы привели его в порядок и летали на нем, сражаясь с нашими общими врагами.
Конечно, мне пришлось согласиться, ведь это была вежливая просьба от облаченного властью лица. Но сделал я это скрепя сердце, с тоской понимая, что моя служба на загадочном аэроплане задержит нас на многие месяцы. После аудиенции я поговорил с герром Полтенбахом по пути в свое жилище. Над пустыней дул холодный ветер, присыпая узкие улочки снегом.
— Скажите, герр Полтенбах, почему губернатор так хочет заполучить меня на службу и поднять в воздух этот чертов аэроплан? Неужели я могу что-то изменить в местном театре военных действий? Насколько я вижу, до сих пор турки здесь сражаются лишь с грабителями, а что до полетов, то, уж конечно, в турецкой армии имеются собственные пилоты и механики.
— Да, но, боюсь, вы заметили не всё. Я прожил здесь уже два года, и поверьте, многое происходит незаметно для глаз.
— Вы о чем?
— Вот взять старого шарифа Хусейна. Говорят, некоторое время назад он встречался с британцами в Египте и просил поддержать восстание против турок. Губернатор, конечно же, не может ничего доказать, но и не смеет бросить шарифа Мекки и потомка пророка Мухаммеда в тюрьму, иначе против него поднимется вся страна. Да, пока что Хусейн и его сыновья — верные вассалы султана. Но подозреваю, что это ненадолго. Вас хотят задержать здесь, потому что думают, будто смогут убедить вас встать на их сторону, когда придет время сражаться.
— Но неужели они не понимают, что я австрийский офицер и буду драться, только если получу приказы от командования?
— Не понимают. Ведь они мыслят совсем по-другому. Вся турецкая армия в Аравии пронизана предательством. Половина офицеров и большая часть солдат при первой же возможности перебегут к Хусейну. А как же иначе? Ведь половина из них — арабы, как наш приятель Набил-бей. Они узнали, что вы чех, а не немец, и потому решили, что вы тоже готовы перейти на другую сторону.
— Вы что, хотите сказать, в этом замешан адъютант самого губернатора?
— Именно так. Он сириец и очень хитер. Подозреваю, что он уже тайно встречается с эмиром Абдуллой. Вот почему он хочет задержать вас здесь. Аэроплан — это его идея, а не губернаторская. Тот, кто владеет летательным аппаратом, получит грозное преимущество, когда начнется восстание, помимо прочего это еще и вопрос престижа. Если хотите узнать мое мнение, то бей присматривается, на чью сторону встать.
— Так что это за аэроплан, который нужно починить? Наверное, немецкий «Альбатрос»?
— Боюсь, что нет. Думаю, это захваченный французский аэроплан. Его везут с побережья на верблюде. Прибудет завтра. Меня тоже попросили над ним поработать.
Как и было обещано, аэроплан прибыл на следующее утро — по частям. Насколько я смог разобраться, это оказался французский гидросамолет «Ньюпор-бебе». Точнее, когда был им, потому что к тому времени, как он достиг Эт-Таифа, от него остались одни развалины, более менее полный набор деталей, но все по отдельности после падения и небрежной перевозки. Как выяснилось, пару недель назад аэроплан рухнул в результате поломки двигателя около острова Кишран, совершая разведывательный полет с французского крейсера.
Пилота спасли, спустив с корабля шлюпку, но ему не удалось подпалить аэроплан, и машину вытащили на берег. Аэроплан опрокинулся на носовую часть, и неудивительно, учитывая, что пилот пытался посадить его на воду глубиной в несколько сантиметров. Пропеллер разлетелся в щепки, крылья отвалились при ударе, а роторный двигатель Клерже выскочил из пазов. В общем, осмотр произвел удручающее впечатление, к тому же я понимал, что наш отъезд из Эт-Таифа (если мы вообще сможем покинуть город) будет зависеть от того, сумеем ли мы восстановить эти руины, поставить их на обычные шасси и заставить аэроплан взлететь к удовольствию хозяев.
А еще я чувствовал, что престиж альянса Австрии и Германии в этой части света зависит от наших технических навыков. По городу уже разнеслась молва о квалификации Кайнделя как механика, что до меня, то как только местные жители узнали, что я пилот, то чуть ли не кланялись на улицах, как кудеснику и пророку вроде Илии. Меня называли «колдун из Насарани Бир-Хазаки». По базарам Эт-Таифа ходили слухи, что я не только способен подняться в воздух, но так же могу вызвать из пустыни песчаные бури и поражать врагов геморроем.
И мы принялись за работу, прибегнув к помощи мастерской герра Полтенбаха и его советам по технической части, к нам также приставили шестерых сирийских плотников и автомеханика, позаимствованного из турецкого гарнизона. В ближайшие две недели нам хотя бы будет, чем заняться. Мне всегда нравилось делать что-то собственноручно, и приятно иметь для такого занятия законный предлог, не потеряв при этом офицерское достоинство, как произошло бы в Австрии. Но задача была безнадежной.
Мы восстановили корпус как могли, связав сломанные во время крушения части проволокой и веревками, а в качестве клея использовали какую-то местную смолу. Шасси соорудили из бамбука и колес велосипеда, когда-то принадлежащего визирю шарифа. Но пропеллер оставался проблемой. В конце концов пришлось склеить рейки из тика, хотя они получились слишком тяжелыми, а потом совершенно наугад вырезать пропеллер подходящего для двигателя мощностью восемьдесят лошадиных сил диаметра и формы, хотя даже в те дни достижение нужного баланса было делом, требующим опытной руки.
Аналогичным образом и двигатель оказался далеко не в идеальном виде, когда попал к нам в руки: все детали на месте, но засорен песком, а при падении повредился коленвал. Мы сделали что могли, и в конце концов он заработал. К счастью, не было проблем со смазкой. Врач из турецкого гарнизона — чумазый одноглазый албанец, которому я бы не доверил и больную корову, не говоря уже о людях — с радостью продал нам весь свой запас касторки.
Вообще-то, больше в его аптечке ничего и не осталось, поскольку он уже продал все остальные лекарства горожанам, не считая медицинского спирта, который выпил сам. Однако ткань для фюзеляжа оставалась неразрешимой проблемой. Оригинальная ткань «Ньюпора» из усиленного льна была слишком сильно изодрана, чтобы можно было ее зашить, пришлось полностью заново изготовить покрытие для крыльев, купив на базаре ситец, а его было очень тяжело сделать прочнее. Предстояло еще как-то его укрепить, и в отсутствие пасты из целлюлозы мы смогли раздобыть лишь какую-то французскую полировку из растворенной в метиловом спирте смолы. Короче говоря, в целом ремонт трудно было назвать мастерским, хотя и Набил-бей, и эмир Абдулла выражали свое восхищение по мере того, как аэроплан обретал форму.
На двадцать восьмое декабря назначили первый испытательный полет «парового сокола», как обыватели окрестили маленький аэроплан. В качестве взлетной полосы выбрали ровный участок пустыни за пределами городских стен, и восстановленный «Ньюпорт» выкатили через ворота по дороге, вдоль которой выстроились турецкие солдаты, сдерживая восхищенную толпу. Я бы дорого дал, чтобы испытательные полеты прошли вдали от посторонних глаз, но в это утро подобному желанию не суждено было осуществиться: никогда прежде не видевшие самолет горожане выстроились на стенах и толпились на крышах и даже минаретах, чтобы увидеть чудеса, которые будут творить неверные чародеи.
Воздвигли помост, и эмир Абдулла расположился там с офицерами турецкого гарнизона, явившись посмотреть представление. У меня душа ушла в пятки, когда я увидел, как выстраивается оркестр губернатора. Последовал краткий музыкальный концерт: «Боже, храни» к настоящему времени улучшился настолько, что можно было хотя бы узнать мелодию, затем снова «Принц Ойген», потом что-то (как мне кажется) из «Пиратов Пензанса», наконец (когда мы уже собирались запустить двигатель) «Наш Господь — нерушимая крепость».
Мечтая о том, чтобы последняя мелодия не звучала настолько похоже на «Марш мертвецов», я велел Кайнделю крутануть пропеллер. Потребовалось повторить три или четыре раза, прежде чем двигатель застучал, отрыгивая дым от низкосортного топлива. Многочисленные собравшиеся разразились приветственными криками — они никогда в жизни не видели подобного шоу. Я толкнул вперед ручку дросселя. Планер начал яростно дрожать из-за комбинации перекошенного двигателя и несбалансированного пропеллера. Кайндель лежал на крыле рядом со мной, а сквозь грохот пробивались едва узнаваемые звуки «Марша Радецкого», крики, стук копыт и выстрелы в воздух всадников шарифа.
— Все в порядке, герр лейтенант? Сказать, чтоб начинали?
— Бога ради, Кайндель, эта штуковина сейчас сама развалится от тряски!
— Тогда надо хоть немного проехаться: наши арабские друзья сильно расстроятся, если мы не обеспечим им хоть какое-то зрелище.
Я оглядел толпу и понял, о чем он говорит: на кону престиж всего австро-германского альянса.
— Хорошо, тогда давайте начнем. Найдете мое последнее письмо у меня комнате.
Я толкнул рукоятку дросселя на полную мощность. Дрожание увеличилось до бешеной конвульсии, и самолет запрыгал по каменистой равнине. Если бы я смог просто пролететь по воздуху хоть несколько метров, а потом снова приземлиться, то конечно, этого было бы достаточно...
Как мне потом сказали, «Ньюпор» ненадолго оторвался от земли, прежде чем снова упал в облако пыли и развалился на равнине позорной кучей. Помню лишь, меня вытаскивали из-под обломков Кайндель и пара турецких солдат, когда несчастная штуковина начала гореть. Лишь вмешательство войск гарнизона спасло нас обоих, иначе нас как самозванцев разорвала бы на куски толпа.
Тем не менее, как гласит пословица, нет худа без добра, и, поскольку общественность сочла нас шарлатанами, это означало, что внезапно и чудесным образом вдруг появилось разрешение на поездку в Аль-Улу, поскольку теперь как эмир Абдулла, так и губернатор хотели избежать потери престижа. Мы отправились в путь на рассвете последнего дня 1914 года, выехав через боковые ворота Таифы как можно незаметнее — на верблюдах, под конвоем из тридцати турецких жандармов, необходимых, чтобы защитить нас от повстанцев, бандитов, религиозных фанатиков и просто честных убийц, коими кишела эта часть Аравии.
Наше путешествие до железнодорожной станции в Аль-Уле, полагаю, составляло около семи сотен километров, хотя показалось гораздо длиннее. Первые пару дней выдались не столь уж плохими, за исключением резкого зимнего ветра с гор. Но как только мы спустились на караванный путь в низины к востоку от Мекки, каждый последующий день стал еще один взносом по дороге в чистилище.
Если бы обитателям ада предложили отправиться на однодневную экскурсию в Харрат-Кишиб, то думаю, большинство, взглянув разок, решило бы, что в аду не так уж плохо. Даже посреди арабской зимы полуденный зной и яркий свет поражали интенсивностью, а их отражение от песка, похожего на грубо измельченную слюду, только ухудшало ситуацию.
Вскоре караванный путь, направляющийся к Медине — старая дорога хаджа — исчез, так что в те дни, когда на небе отсутствовали звезды, чтобы руководствоваться ими, я страдал от постоянного опасения, что в результате предательства или некомпетентности наш эскорт (состоящий в основном из городских арабов) бросит нас умирать в пустыне от жажды и теплового удара. Разумеется, по пути не было недостатка в напоминаниях, что именно такая судьба может нас ожидать. Каждые несколько километров грустная кучка костей — обычно животных, но иногда и человеческих, служила молчаливым свидетелем судьбы каравана, закончившего свой путь прямо здесь.
Я никогда прежде не думал, что простое слово «пустыня» может включать в себя так много градаций сухости, так много типов грунта или так много типов погоды: иногда своего рода скудное степное пастбище, иногда бесплодная каменистая гладь или голые скалы, иногда запутанные поля черного базальта, похожие на окаменевшую шоколадную глазурь, иногда переносимые ветром песчаные дюны, напоминающие нескончаемый морской берег.
Но где бы мы ни были, песок скрипел на зубах, забивался в рот и ноздри, проникал под одежду. И всегда ветер: горячий и иссушающий в низинах, холодный и смешанный с мелким дождем или даже колким снегом, когда мы еще раз поднялись на горное плато к северу от Медины. Да и езда на верблюде — то еще удовольствие.
Мы трое — моряки с большим стажем, но все равно раскачивающаяся походка этих зверюг постоянно вызывала у нас приступы тошноты, которую никак не облегчал отвратительный запах самих верблюдов. У каждого имелся свой постоянный и назойливый рой мух, вьющихся вокруг выделительных отверстий животного, а когда им это надоедало, роившихся над нами и нашей пищей. Так что из-за мух, песка, постоянно потрескавшейся кожи, солнечных бликов и невозможности помыться мы вскоре все обзавелись прекрасной коллекцией фурункулов и язв.
Каждый день походил на предыдущий: подъем за час до рассвета, когда холод и острые камни делали дальнейший сон невозможным, затем разминка ноющих конечностей, завтрак, состоящий из получашки солоноватой воды и горсти грязноватых фиников, затем тряска верхом до темноты с коротким перерывом в полдень, ужин из вареного ячменя или риса с толикой топленого масла, затем попытка поспать, пока сияние короткого рассвета не разрывало темноту над усталым маленьким отрядом, готовя к тяготам нового дня.
Примерно десятого января мы наткнулись на посыльного, который сообщил, что Медина находится в состоянии, близком к восстанию. Нам пришлось сделать большой крюк к востоку, чтобы ее обойти. Если мы попытаемся войти в город, предупредил он, ни христиане, ни турки скорее всего не выйдут живыми. На прошлой неделе три германских моряка торгового флота уже попытались, сказал он, опробовав тот же маршрут после побега с парохода компании «ГАПАГ» [86], захваченного в качестве добычи в Адене. Однажды утром их голые изуродованные трупы нашли сброшенными со стен. Несколько раз на нашем пути встречались группы вооруженных всадников, которые сопровождали нас в течение нескольких часов, но не стреляли, очевидно, взвешивая наши силы и решая, можно ли на нас напасть и ограбить. Но несмотря на все трудности и опасности, я прикинул, что мы проходили по сорок-пятьдесят километров в день по направлению к Аль-Уле и железной дороге.
То есть к семнадцатому января, по моим подсчетам, мы находились менее чем в восьмидесяти километрах к югу от железнодорожной станции. Время близилось к полудню, и мы пересекали область низких дюн в неглубоком бассейне между холмами из песчаника. Мы были между Вади аль Джизл на западе и трассой железной дороги Хиджаз в нескольких километрах от холмов к востоку. Мы могли бы просто двигаться вдоль железнодорожной линии, но проводники отговорили. Они утверждали, что бедуины так часто устраивают набеги на железную дорогу, что следуя вдоль неё, можно подвергнуться нападению. Неожиданно среди наших провожатых началась какая-то суматоха и раздались крики, а затем в сухом, чистом воздухе затрещали выстрелы.
Мы спешились и залегли в неглубокую ямку в верхней части дюны, предоставив проводникам забрать верблюдов после того, как мы сняли седельные сумки и винтовки. Как будто из-под земли появилась первая волна нападавших верхом на верблюдах и лошадях и стрелявших из седла, они кружили вокруг метрах в четырехстах. Их было около сотни. Вокруг нас гремели выстрелы, и один из проводников упал. Я взял его винтовку и патронташ и передал свой пистолет Вонгу, который при необходимости мог стрелять одной рукой.
Потом я начал ответный огонь, как мог, учитывая, что нападающие были неуловимы, словно мухи. Я вполне оправился от первоначального удивления, задаваясь вопросом, что бы все это значило, и тут услышал окрик Кайнделя. Я огляделся. Наши проводники не спешились, а врассыпную поскакали прочь, увлекая за собой остальных верблюдов! Я крикнул им, чтобы вернулись, но уже через минуту они словно облако пыли исчезли на дороге в сторону Медины.
Теперь мы оказались одни в аравийской пустыне, в окружении врагов: трое мужчин, один из которых однорукий. С двумя винтовками, пистолетом и шестьюдесятью патронами; с седельными сумками, кожаной флягой с водой и мёртвым турецким жандармом для компании. С помощью котелка мы выкопали углубление в гребне дюны и наполнили седельные сумки песком, чтобы построить небольшое защитное укрепление. Потом устроились под палящим солнцем в ожидании противников.
К счастью для нас, бедуины были плохими стрелками и предпочитали стрелять не вылезая из седел, даже когда нас окружили. По сей день не могу объяснить, почему они просто не схватили и не покончили с нами. Возможно, они считали, что нас больше. Во всяком случае, к сумеркам мы обошлись без жертв, а на их стороне одного человека выбил из седла выстрел Кайнделя, а другого ранил я.
Хотя мы вряд ли протянули бы долго. Полуденное солнце поджаривало нас, как рыбу на сковородке, пока мы лежали в небольшом песчаном окопе. Зимняя холодная ночь пробирала до костей, а во фляге из козьей кожи замерзла вода. И все же мы, скрипя зубами, вынесли не только ночь, но и следующий ужасный солнечный день, пока не кончилась вода, и мы чуть не обезумели от солнечного удара. А они кружили, иногда приближаясь, иногда отступая, когда мы стреляли. Их целью, по-видимому, было измотать нас, чтобы убить и ограбить.
Снова наступила ночь. Мы допили остаток воды и пожевали финики, пока еще могли глотать, а потом приготовились провести возможно последнюю ночь в жизни. Незадолго до рассвета стало так холодно, что нас охватило какое-то безумие. Зачем лежать здесь, мерзнуть и ждать, пока нас прикончат голод и жажда? Давайте сами найдем свою смерть. Мы пожали друг другу руки и попрощались.
Потом мы взяли оружие (всего по одной обойме на каждого) и ринулись вниз по склону дюны, с криком, или вернее с хрипом, мы предпочли бы встретиться лицом к лицу с самой изощренной смертью, какую только может изобрести жестокий тиран, чем провести еще час, свернувшись как куропатки в неглубоком песчаном окопе. Мы прошли добрые полкилометра и несколько раз выстрелили наугад, прежде чем нас осенило: нападающие ушли. На земле мы обнаружили еще теплый лошадиный и верблюжий помет.
Потом Вонг обо что-то споткнулся. Это был труп человека, которого застрелил Кайндель в предыдущий день. Он уже раздулся и почернел на солнце. Он смотрел на нас с ухмылкой, оскалив зубы при свете луны. Куда ушли остальные и почему? Может, они посчитали, что к нам приближается подмога. А может, устали и отказались от своих намерений, нерешительно и непоследовательно, что так типично для военных действий в этих краях.
Во всяком случае, куда бы они не исчезли и по каким причинам, перед нами теперь встал вопрос — что делать дальше, пока мы не умерли от жажды. Нужно ждать спасения, где нас покинул конвой или продолжать путь? Последний колодец около крепости на старой дороге паломников остался далеко позади, полдня пути даже на верблюдах. Чего нам точно не хотелось, так это возвращаться в песчаный окоп, который мы занимали эти последние два дня.
Мы настроились двигаться вперед столько, сколько позволят силы, пробиваясь к железной дороге. Оставалось по крайней мере четыре-пять часов до рассвета. Мы тащились по равнине, затем взобрались в темноте на невысокие холмы. Но было тяжело идти по зыбучим пескам, а потом по скалистым утесам. Сразу после рассвета мы сидели, истощенные и подавленные последним подъемом на холмы. Вопреки моим ожиданиям, мы не нашли железную дорогу. Бремя лидерства начало на меня давить. Я чувствовал, что больше не могу поддерживать моральный дух.
— Кайндель, Вонг, — спросил я, — скажите мне честно, это стоит того? Вы хотите попробовать еще, или мы сдадимся? Я больше не могу идти.
— Я тоже, — прохрипел Кайндель, как пара старых кожаных мехов. — С меня хватит, вполне хватит. — Он облизнул потрескавшиеся губы, потом поднял голову и растянул их в высушенной, невеселой улыбке, как у египетской мумии в музее. — Эх! Забавно, никогда не думал, что здесь есть и слуховые миражи.
— О чем это вы?
— Прислушайтесь, вы тоже это слышите, герр командир, или у меня крыша поехала?
Мы внимательно прислушались. Потом я услышал где-то вдали жалобный и слабый звук. На мгновение я удивился. Но, конечно же, галлюцинации от жажды не могут быть у всех сразу... Вдалеке явно слышались звуки горна. На самом деле, я даже разобрал мелодию: нечто похожее на немецкую версию побудки.
— Идемте, я думаю, что звук с той стороны.
С бесконечным трудом мы заставили ноющие конечности перебраться через низкий горный хребет. И вот он перед нами, примерно в пяти километрах по равнине, хотя казался гораздо ближе в чистом, холодном утреннем воздухе. Это был небольшой каменный форт с башнями на каждом углу. Высунув языки, с безумными глазами, мечтая лишь о том, чтобы он не растворился в воздухе, мы, пошатываясь, шли к форту. Он никуда не делся и по мере приближения выглядел все более мощным. Теперь я смог разглядеть флаг, водруженный на шесте одной из башен. Красный, с полумесяцем и звездой в центре. Мы были спасены.
Глава восемнадцатая
Гости султана
Я размял ноги на устланном соломой полу темницы. Сколько времени мы уже здесь провели? Восемь дней? Девять? По ощущениям это едва ли длилось дольше, но так или иначе, время можно было оценить только по появляющимся и исчезающим проблескам тусклого света у основания каменной вентиляционной шахты, ведущей вниз, в нашу тюрьму. Кайндель почесался, а Вонг пошевелился во сне и тихо застонал, звякнув цепями.
Турки очень грубо с ним обошлись, когда вели нас сюда, очевидно, считая, что если у него будет заковано только одно запястье, это станет серьёзным нарушением воинской дисциплины. После перебранки и избиений они решили эту проблему, заковав одно запястье в две пары наручников. Я возмущался и угрожал, что за такое обращение с союзниками все они предстанут перед пашой Дамаска, но командир гарнизона, Тарган-бей, оказался непреклонен: мы — британские шпионы, и всё тут.
Я был их лидером и говорил по-английски, и на этом вопрос исчерпан: лучше нам признаться по-хорошему, чтобы он мог покончить с этим и казнить нас Я потребовал, чтобы они телеграфировали в Аль-Улу, дабы там подтвердили мою историю о том, что мы австрийские моряки, заблудившиеся в пустыне. Тарган-бей лишь рассмеялся и сказал, что даже если бы у них был телеграф, он не стал бы тратить электричество османского правительства на отбросы вроде нас.
Я снова возмутился — и пожалел об этом, ведь в предыдущий день нас вывели перед выстроившимся гарнизоном и принялись бить палками бедного Кайнделя, пока он не стал выть о пощаде. Несомненно, я был шпионом-офицером, следовательно (по мнению турок), меня нельзя пытать; но это не относилось к моим слугам.
Наступила очередь Вонга, и Тарган-бей мрачно намекнул, что если они не вытянут из него признание, то используют «другие меры». Во время своего пребывания в Эт-Таифе я наслышался о применяемых в Османской империи методах, и представил, какими могут оказаться эти другие меры. Там же, на плацу, я посоветовался с Кайнделем и Вонгом. Кайндель, лежащий в грязи, связанный по рукам и ногам, был за то, чтобы продержаться как можно дольше, но мы в конце концов решили, что всё это бессмысленно. Мы были пленниками уже больше недели, и никто не пришёл на помощь. Так что, похоже, никто не знал, что мы здесь, нас сочли погибшими в пустыне.
— Нет, герр командир, — сказал наконец Кайндель, корчась на земле, — эти турецкие ублюдки хотят нас убить, ну так и пусть. Говорите что хотите, и давайте уже покончим с этим.
Я повернулся к Тарган-бею, курившему манильскую сигару.
— Ладно, чёрт вас дери, запишите нас как британских шпионов, или зулусских, мне всё равно.
Он улыбнулся и поблагодарил меня.
— Как это хорошо, герр англичанин, что вы образумились. Вы умны, но недостаточно для Тарган-бея. Таким образом, вы все приговариваетесь к смертной казни за шпионаж. Приговор приведут в исполнение завтра утром на рассвете.
Я знал, что за нами скоро придут. У меня ныл каждый сустав, замучили вши, кожа, казалось, висела на мне, как старая рубашка, и мыслями я возвращался к предыдущему полугодию: встречам с пани Боженой на острове и побегу от её мужа и его наемных головорезов; «Черная рука», стрельба на ферме и безумный побег с господарицей Загой по Черногории; потом Циндао и смерть японского офицера, которого я заколол; и тайфун, и нападение на «Горшковски», и вспышка насилия в Джибути.
А теперь это: турецкое подземелье в ожидании казни, когда осталась лишь пара дней пути до спасения. Все это казалось таким бессмысленным, ужасно глупой и нелепой шуткой — погибнуть от руки наших собственных союзников по той причине, что молодой, тщеславный и довольно недалёкий турецкий офицер, потеряв голову от скуки на этой пустынной заставе и устав терроризировать своих людей, прочитал в газете статью о британских секретных агентах и решил на досуге развлечься, казнив парочку.
Конечно, как я понял во время наших долгих “допросов” за предыдущую неделю, пытаться вложить хоть толику здравого смысла в голову Тарган-бея — бесполезная задача. Он немного говорил по-немецки, но настолько плохо, что я вообще не был уверен, что сказанное до него дошло и должным образом понято, как бы медленно и отчётливо я ни говорил. Он просто улыбался доводившей меня до бешенства довольной ухмылкой, пыхтел сигарой и снова, как стрелка компаса, возвращался к тому же самому вопросу.
— Да, но если вы не английский шпион, то почему вы говорили на английском с моим часовым у ворот, а?
И я закатывал глаза, считал до десяти, пытался сдержать желание засветить ему кулаком прямо в физиономию и повторял в сотый раз:
— Я говорил с ним по-английски, Тарган-бей, потому что почти не говорю на турецком, а он не понимает по-немецки. Я подумал, что он может знать английский, поэтому и попробовал.
Бей некоторое время пытался обдумывать эту идею, как собака пытается схватить футбольный мяч зубами, а затем выдал неизменный ответ:
— Ах да, но если вы не английский шпион, почему вы говорите по-английски?
И я устало повторял:
— Я говорю на английском, бей, но я австриец, а не англичанин. Вы говорите по-немецки, но это не превращает вас в немецкого шпиона, я надеюсь.
— Германия - союзник Турции, но Англия - наш враг. Я не говорю по-английски, потому что не английский шпион.
И опять по новой. Я понимал, что мы никуда не продвинемся. Теперь нас не спасет даже коррупция или разгильдяйство: Тарган и его люди не проявляли недовольства местными арабскими поборами, как гарнизон в Эт-Таифе, а были настоящими анатолийскими турецкими солдатами: голова из сплошной кости и сердце из камня.
Я страдал от легкой лихорадки, которая удручала меня как никогда. Той ночью через мою ноющую голову прошли все они — наследник, кайзер и остальные. Я танцевал с герцогиней Гогенберг, пока она не превратилась в майора Драганича, и с пани Боженой — она пришла, чтобы отрезать ему голову.
Я проснулся и потом урывками дремал, слишком измотанный, чтобы о чём-то волноваться. Ладно, пусть меня убьют. Я — офицер королевского австрийского флота, и у меня хотя бы имелось слабое утешение, что я до конца выполнял свой долг. Я вспомнил слова Драганича об обманутых юных патриотах: «Они вызвались отдать свои жизни за родину, так какая разница, произойдёт это на поле боя или на виселице?» Полагаю, он был в какой-то степени прав: в последние месяцы я сталкивался со смертью десятки раз — от пули, от огня, от акул и стихии. Расстанусь ли я с жизнью на палубе тонущего корабля или во внутреннем дворе турецкого форта в арабской пустыне, в конце концов я просто буду мёртв.
Наверное, уже светает. Я задался вопросом, каков будет мой конец: может, расстрельный взвод? Это был испытанный способ казни для шпиона-офицера; но всё же, вспомнив последние недели и удручающую меткость турок, я имел основания ожидать, что смерть от их рук будет делом долгим и некрасивым. Вскоре я услышал постукивание молотка плотника во внутреннем дворе. Виселица? А какая к дьяволу разница? Пусть придушат нас всех хоть собачьим поводком, если покончат с этим быстро.
В массивном замке загрохотал ключ, и дверь медленно открылась. Вошли тюремщики и разомкнули наши наручники, пинками заставляя Вонга и Кайнделя подняться. Потом мы прошли по каменной лестнице в сопровождении взвода вооруженных солдат, и нас, щурившихся после темноты, вывели на яркий утренний свет. Кайндель едва мог идти после вчерашнего избиения палками, и мы с Вонгом его поддерживали. Тарган-бей ожидал нас, удовлетворенно улыбаясь. Посреди площади установили хлипкую конструкцию вроде самодельных качелей, которые как будто построили дети. С поперечной балки свисали три петли, а под ними стояли три табурета. Значит, удушение будет медленным. Просто повесить и сломать нам шеи им показалось мало.
Но до исполнения приговора нас ждало кое-что еще. Нас повели мимо виселицы к дальней стороне двора и дали каждому по лопате. В конце концов большую часть работы пришлось выполнить мне — я выкопал в песке три неглубоких могилы. Затем нас отвели назад к виселице, где Тарган-бей прочитал по-турецки какой-то длинный документ. Несмотря на обстоятельства, я счел этот язык мелодичным и приятным на слух, скорее похожим на мадьярский. Тарган-бей закончил и повернулся к нам.
— Доброе утро, мистер англичанин, как поживаете?
— Вполне сносно, спасибо, — проворчал я по-немецки.
— Отлично, тогда начнем?
— Как вам будет угодно.
— Благодарю. — Он что-то сказал сержанту, и длинной веревкой нам связали руки за спиной (а Вонгу — одну руку). — Отлично. У вас есть какие-нибудь просьбы?
— Да, — сказал я. — Если вам все равно, я бы хотел умереть последним, чтобы моим людям не пришлось видеть мою смерть.
Он засмеялся.
— Значит, мужество наконец покинуло английского шпиона. Позор вам: вы их лидер, так что должны умереть первым. У вас есть другая просьба?
— В таком случае, сигарету, если не возражаете.
Сигарету вставили мне в рот и зажгли. Помню, это был на редкость хороший табак, такого я не пробовал уже много недель. Похоже, курение меня слегка успокоило. Я докурил; моя жизнь улетала вместе с сигаретным дымом.
— Продолжайте!
Меня водрузили на табурет, и палач с лестницы накинул мне петлю на шею. Тарган-бей обнажил саблю, принесли фотоаппарат на штативе. Несомненно, когда мы, бездыханные, будем дергаться со сломанными шеями, он станет позировать на нашем фоне с самодовольной усмешкой на лице и запечатлеет эту сцену для потомков в доказательство для комиссии по присвоению воинских званий, какое рвение он проявил в погоне за иностранными шпионами.
Он поднял саблю, и я неожиданно улыбнулся, вспомнив, как отец, когда мне было двенадцать и я впервые объявил о намерении стать морским офицером, поклялся, что охотнее увидел бы меня повешенным. Скорее всего, старик никогда не узнает, что я добился и того, и другого.
Иногда я задумывался, является ли повешение мучительный смертью. Так или иначе, достаточно сказать, что когда через несколько секунд табурет выбили из-под моих ног, это на всю жизнь превратило меня в противника смертной казни. Сначала я в агонии дернулся, когда на шею пришёлся вес всего тела, потом перед глазами взорвался красный туман в сопровождении рева тысячи водопадов, когда петля сдавила артерии. Я сам захотел умереть, потерять сознание, все что угодно, лишь бы прекратить эти мучения. И все же к своему ужасу я осознавал мир, вращавшийся передо мной.
И вдруг я уже смотрел в голубое небо, судорожно глотая и задыхаясь, слишком ошеломленный, чтобы понять, что петля развязалась. Кашляя и дрожа всем телом, я кое-как поднялся на ноги и, пошатываясь, отошел в сторону, а бей в это время хлестал палача, который пытался еще раз завязать узел. Наконец, все было готово. Меня подняли обратно на стул, с руганью и криками петлю снова надели на шею.
«Ради бога, заканчивайте уже», — подумал я про себя. Через какое-то время сабля снова взлетела вверх и, блеснув в солнечном свете, опустилась. Еще раз шею мне стиснули могучие тиски. Но на этот раз мне не довелось и трех раз дрыгнуть ногами, потому что я немедленно рухнул на землю, а сверху повалились руины виселицы. С меня оттащили обломки поперечной балки, и я опять кое-как поднялся на ноги.
Произошло нечто странное: страх и покорность уступили место убийственной ярости по отношению к этим никчемным болванам и их безответственности и полной непригодности. Тарган-бей подошёл ко мне, взъерошенный и задыхающийся после того, как несколько кругов гонял по двору незадачливого палача, пиная его и колотя плашмя саблей. Он явно был смущён.
— Приношу тысячу извинений... Прошу прощения, но этот дурак...
— Хватит с меня ваших извинений, — прохрипел я, наполовину задушенный, с царапинами от верёвки на шее. — Вы жалкий кретин, Тарган-бей, и ваши люди — такие же болваны. За все годы службы морским офицером я никогда не встречался с таким гнусным, безалаберным образцом некомпетентности, которую я лицезрел здесь последние пятнадцать минут. Бога ради, если собираетесь повесить невинного, то хотя бы сделайте это нормально!
— Я очень сожалею — мы в Османской армии не...
— Ну разумеется. Ладно, клоун, развяжите мне руки и принесите бумагу и карандаш. Я покажу, как это правильно делать, раз уж вы сами не в состоянии. На вашей виселице и кота не повесишь, не то что троих взрослых мужчин.
Принесли бумагу и блокнот, и пока Тарган-бей выглядывал через моё плечо и восхищенно вскрикивал, я начертил нечто вроде мачтового крана, из которого выйдет прочная виселица из доступных материалов для трёх человек. Затем, когда турки взялись за строительство, я потребовал показать мне верёвку с петлёй. Жалкие верёвки, едва подходящие для сушки белья. Я послал сержанта на поиски чего-нибудь посущественней.
Подали кофе, а я тем временем я взялся за работу над тремя канатами, которые принес сержант. За десять минут я сделал три петли для повешения, столь аккуратные, что даже мелкий мрачный старик унтер-офицер, обучавший нас узлам, петлям и плетениям в Военно-морской академии, не смог бы найти в них изъян. Какое-то время их передавали из рук в руки, так что Тарган-бей и его солдаты могли вдоволь наудивляться и похвалить меня за мастерство. Затем их прикрепили к перекладине, и на этом приготовления завершились.
Снова настала моя очередь. Я встал на табурет, теперь довольно спокойно, и смотрел, как поднимается сабля. Всё будет кончено где-то через минуту, подумал я: потеряю сознание, даже если продолжу биться и дергаться ещё какое-то время. Только бы в эту минуту было не очень больно... Сабля бея поднялась в воздух… и осталась там. Приблизился унтер-офицер, отдал честь и о чем-то доложил Тарган-бею. После их короткого разговора я услышал отдалённый гул.
И тут из-за холмов появился аэроплан и пролетел над самым фортом. Пока он ревел над головой, я разглядел, что это биплан «Альбатрос» немецкого производства с турецкими опознавательными знаками — чёрными квадратами под крыльями. Когда аэроплан пролетал над плацем, с него что-то упало. Солдаты побежали вперёд, чтобы поднять алюминиевую канистру и принести ее бею. Он с подозрением покосился на меня, вогнал саблю в землю, открутил крышку и вытащил лист бумаги. Какое-то время он в недоумении и хмуро изучал его, а потом показал унтер-офицеру.
Они совещались шепотом минут пять. Стоя на табурете с петлей вокруг шеи и мучительно стягивающим запястья шнуром, я вскоре устал. Первоначальная безумная надежда с появлением самолета уступила место более реалистичной оценке. Поскольку форт стоит вдали от железной дороги и телеграфа, во враждебной стране, турки, вероятно, используют самолет для доставки в отдаленные гарнизоны самых обычных приказов. В конце концов терпение у меня кончилось.
— Тарган-бей, уделите мне минутку, пожалуйста...
— Да, англичанин, что вам нужно? — поднял взгляд бей.
— Простите за беспокойство, но, полагаю, вы привели нас сюда, чтобы повесить. Давайте уж закончим с этим, а с адъютантом вы поговорите позже. У меня уже ноги затекли.
— Хорошо, секундочку, если позволите, один момент... — он вернулся к загадочному посланию и в замешательстве почесал голову.
Думаю, я простоял еще минут десять, прежде чем из караулки вдруг донесся звук горна. Еще прежде, чем Тарган-бей понял, что происходит, выстроившиеся в каре солдаты смешали ряды и поспешили на свои места на стенах. Атака? Нет. Другие бежали отпирать ворота. Те распахнулись и впустили облако пыли и колонну примерно из пятидесяти кавалеристов с пиками.
Во главе колонны ехал толстяк с седыми усами и в феске из овечьей шкуры и худой европеец в пыльном сером мундире, тропическом шлеме и с моноклем. Они спешились и подошли к нам. Тарган-бей с побелевшим от ужаса лицом застыл как статуя, отдав честь вновь прибывшим. Толстяк заговорил с ним по-турецки, его лицо побагровело от гнева, а затем он с силой ударил бея в висок, и тот как мешок повалился в пыль, а толстяк начал его пинать с такой свирепостью, что грубое обращение бея с несчастным палачом показалось просто детской забавой. Выпустив свой гнев, он обратился ко мне, оставив скулящего бея пресмыкаться на земле. Седоусый говорил на довольно сносном немецком.
— Миллион извинений, герр лейтенант. Можете ли вы простить нас за этот произвол? Мои смиреннейшие, самые искренние и сердечные извинения. Ужасная ошибка, совершённая этим жалким идиотом. Но позвольте представиться: Йылдырым-паша, начальник штаба четвёртого армейского корпуса в Маане, а это мой немецкий адъютант, генерал-полковник барон Готц фон Штульпиц. — Барон чопорно поклонился в прусской манере. — Мы получили информацию из Медины, что жалкие собаки жандармы бросили вас в пустыне. Выслали поисковые группы, даже аэроплан, но только вчера узнали от курьера, что двух так называемых австрийцев и однорукого китайца повесят сегодня как британских шпионов. К счастью для вас, этот кретин так хотел выслужиться, что написал отчёт о вашей казни и заранее отправил его к нам с курьером. Мы доехали поездом в Аль-Улу, затем скакали верхом всю ночь, чтобы добраться сюда, даже выслали вперёд аэроплан. Но милосердный Аллах помог нам не опоздать. Если вам что-либо нужно, дорогой герр лейтенант, в качестве компенсации за страдания, только попросите.
Меня спустили вниз и развязали, а затем пригласили позавтракать с генералом и его адъютантом. Когда мы покинули место казни, Йылдырым-паша отдал приказы на турецком. Прежде чем я понял, что происходит, несчастного и потрепанного Тарган-бея подтащили ближе, связали руки и поставили на табурет, который только что занимал я. Когда над головой бея опустили петлю, я крикнул, чтобы прекратили. Йылдырым-паша обернулся ко мне.
— Хотите посмотреть, как вздёрнут эту собаку после завтрака, а не сейчас? Наверное, так даже лучше: это может испортить вам аппетит, а у собаки будет время поразмыслить...
— Нет-нет, уважаемый паша, не вешайте его...
— Да? Почему же?
— Он просто идиот, а не преступник, и воображал, что исполняет свой долг. Прошу, не вешайте его.
Паша размышлял, задумчиво поглаживая усы.
— Но воинская дисциплина этого требует. Я даже не знаю...
— Вы пообещали мне все, чего я пожелаю.
— Ох, ну ладно. Снимите его. Но, герр лейтенант, вы должны позволить нам побить его палками и разжаловать в рядовые: это самое меньшее, что может предпринять турецкая армия для поддержания дисциплины.
Я уже собрался попросить его пощадить, но затем подумал, а почему бы нет? Удары палкой страшно болезненны, но, насколько я знал, не наносят непоправимого вреда. Блаженны милостивые, но немного мстительности придаёт жизни пикантность. И так или иначе, подумал я, битье по ступням вместо сломанной шеи — довольно неплохая замена.
— Да, паша, — согласился я, — ради бога — и посильнее. За прошедшую неделю я обнаружил, что невозможно что-то вколотить бею через уши, так что, может, вы добьётесь большего успеха через ноги.
Так что, пока мы позавтракали, пронзительные крики бея отдавались эхом по плацу к явному удовлетворению Кайнделя. Затем мы обменяли рваное тряпье на новые германские мундиры, привезённые для нас из Маана, и наконец простились со злополучным маленьким фортом. Мы ехали до вечера следующего дня. Когда солнце садилось за горы Хиджаза в причудливом блеске пурпура и золота, я услышал где-то вдали слабый звук: полагаю, самый прозаичный и блаженный звук, который я когда-либо слышал в жизни. Свист железнодорожного локомотива.
Когда мы сошли на железнодорожную платформу на восточном берегу Босфора, напротив Константинополя, мы всё ещё были в новых германских мундирах. Нас встречал духовой оркестр, цветы, речи, фотографы и журналисты, а также австрийская и немецкая общины турецкой столицы. Это было утром восемнадцатого февраля 1915 года. Я лихо подошел к военно-морскому атташе, отдал честь и доложил о прибытии в полном составе: один офицер, один унтер-офицер и один морской резервист, спасшиеся с «Кайзерин Элизабет» в Циндао — весь выживший экипаж вооружённой джонки «Шварценберг».
Мы узнали, что еще второго ноября Циндао сдался, и японцы взяли в плен весь экипаж «Элизабет», кроме небольшой группы, которой удалось добраться до Соединённых Штатов с поддельными швейцарскими паспортами и вернуться в Вену через Португалию. Наше же путешествие из Аль-Улы длилось десять дней и оказалось относительно бедным на события: и рассказать-то не о чем, разве что около Алеппо поезд сошел с рельсов, а в центральной Анатолии попал в бандитскую засаду.
Последняя часть нашего путешествия из Константинополя в Вену заняла три дня, но когда вечером двадцать первого февраля мы прибыли на вокзал, всё прошло очень тихо. Оказалось, что правительство Нидерландов узнало о нашем прибытии в Константинополь и выразило желание допросить линиеншиффслейтенанта Прохазку в связи с серьёзными нарушениями голландского нейтралитета несколькими месяцами ранее.
Австрийского посла в Гааге вызвали в Министерство иностранных дел для дачи объяснений, и в итоге решили всё замять по-тихому. Голландия теперь была единственным окном Германии в мир, и не стоило рисковать, вызывая недовольство голландского правительства. Меня отвезли в Военное министерство, допросили, неофициально похвалили и отдали чемодан с моими вещами с «Тисы», включая сложенную и оставленную в тот день на берегу одежду, когда я отправился в заплыв вокруг половины земного шара и обратно.
Затем мне дали месяц отпуска для выздоровления, с указаниями провести его тихо в родном городе Хиршендорфе, избегая интервью газетам. Прежде чем уйти, я направил запрос верховному командованию кригсмарине для назначения на лётную должность, когда вернусь в Полу. Вместо этого я стал капитаном подводной лодки, но это уже другая история.
Мне припоминается только одно происшествие во время того путешествия домой. Это произошло однажды утром, когда поезд гремел по замерзшей и пыльной Анатолии по направлению к Константинополю. Я ехал в вагоне первого класса, коротая бесконечную поездку за чтением каких-то старых немецких газет, которыми нас снабдили в Адане.
Поезд в очередной раз остановился и перешел на боковой путь, чтобы дать проехать воинскому эшелону, везущему турецких солдат в Палестину. Я читал берлинскую газету за конец ноября. Она содержала обширный отчёт о выслеживании и уничтожении германского крейсера «Эмден» у западного берега Австралии, а также интервью американского журналиста с его капитаном фон Мюллером, названным «джентльменом-пиратом», которого британцы взяли в плен после сражения.
По его словам, больше всего он гордился тем, что за три месяца в Индийском океане потопил множество кораблей Антанты общим водоизмещением в четверть миллиона тонн, не тронув и волоска с головы мирных граждан. Я взглянул из-за газеты в окно вагона на объятый ветром и скованный морозом пейзаж и к своему ужасу увидел, что группа из нескольких сотен похожих на скелеты оборванцев — мужчин, женщин и даже маленьких детей — трудится на насыпи под надзором турецких солдат с кнутами. Один мальчик лет четырнадцати бросил кирку, с мольбой протягивая ко мне обмороженные пальцы и указывая на свой рот.
Я быстро выхватил несколько булок из ранца и начал опускать окно, чтобы бросить их мальчику. Но прежде чем я смог это сделать, к нему подошел турецкий часовой, взметнул приклад винтовки и вышиб мозги мальчику с тем же спокойствием, с каким мы бы убили муху, а потом стал пинками подбадривать остальных рабочих. С тяжёлым сердцем я снова сел. Позже я узнал, что эти несчастные создания были армянами, согнанными турками «для их же защиты» во время великой бойни в конце 1914 года, и теперь использовались османским правительством для разных работ по всей Турецкой империи.
Поезд снова покатился, и они остались позади. Затем в купе зашел Кайндель, с посеревшим лицом и непривычно молчаливый. Лишь спустя несколько дней он смог рассказать, как вышел из поезда на той остановке, чтобы немного размять ноги, и увидел армянку, рожавшую в жалком укрытии из одеял с подветренной стороны насыпи. Когда родился ребёнок и перерезали пуповину, отец утопил его в ведре воды — он был слишком добр, чтобы позволить ему жить.
Таков был новый мир, к которому мы приближались — эти голодающие, тифозные призраки, авангард безликих легионов, предвестники жертв века прогресса и рациональности; предшественники десятков миллионов безымянных невинных за следующие полвека, которых поработят и сведут в могилу непосильным трудом: рытьем каналов в арктической тундре или строительством железнодорожных путей через джунгли Азии; они станут жертвами смертоносного оружия и даже еще более убийственных идеологий, которые вводили это оружие в действие, или общего приступа ярости, по сравнению с которой волнения на борту «Самбурана» в Джибути выглядят доисторическими. Хотя тогда мы этого и не знали, фон Мюллер, «Эмден» и наши собственные приключения последних шести месяцев были последними судорогами рыцарской эпохи.
Я прибыл в Хиршендорф, чтобы провести месячный отпуск — и меня встретили мрачные новости, что в прошлом августе мой брат Антон пропал без вести в Сербии, после того как двадцать шестой егерский полк был полностью уничтожен во время сражения при Шабаце. Но за месяц мне предстояло решить и другие проблемы.
Первым делом я постарался связаться с Рихардом Зейфертом из Дунайской флотилии. Как я выяснил, «Тисы» больше не существовало. Во время мобилизации корабль присоединился к группе мониторов в Броде-на-Саве и удостоился сомнительной чести сделать первый выстрел этой войны — на сербском пограничном посту возле Кленака, на рассвете двадцать девятого июля. Но последующий ход событий сербской кампании оказался неблагоприятным для Австрии. После двухнедельного жестокого сражения истерзанные ужасающими зверствами с обоих сторон сербы не только выгнали карательную армию генерала Потиорека, но и сами пересекли Саву и вторглись в Венгрию.
«Тиса» и несколько кораблей поменьше оказались отрезанными в рукаве реки выше Шабаца, и в конце концов их взорвали свои же экипажи, чтобы избежать захвата. Зейферта перевели на другой монитор, так что моё письмо дошло до него только в середине 1915 года. Он ответил, что в день моего исчезновения в Нойградитце разразился страшный скандал, пани Божена уехала в Польшу — к счастью, только с синяком под глазом, а Грбич начал бракоразводный процесс на основании ее постоянных измен. Как оказалось, он мог бы и не трудиться.
Прошло всего несколько недель с начала войны, когда венгерские власти в Банате с отвратительным удовольствием взялись сводить счёты с местным сербским населением. Гонведскому полку перед отправкой на сербский фронт из Сегеда торжественно вручили тысячу метров верёвки с указанием её не возвращать. Ее и не вернули, напротив, уже через неделю полк послал телеграмму с просьбой прислать ещё тысячу метров. Как владелец фабрики, Грбич был очевидной мишенью, и когда сербские армии пробивались через Дунай в южную Венгрию в последние дни августа 1914 года, они нашли его тело висящим на дубе на окраине Нойградитца, вместе с несколькими десятками других жертв скорого военно-полевого суда.
Что до Зейферта, он тоже не пережил войну. В 1918 году его вместе с отрядом моряков направили на Украину, чтобы восстановить порядок в той разорённой стране. Нужно отметить, что не из-за беспокойства за её жителей, а чтобы обезопасить железные дороги и реки, вывезти украинскую пшеницу из страны и накормить голодающие австрийские города. Его убили в перестрелке с партизанами около Херсона в августе 1918 года: печальная потеря многообещающей юной жизни.
Я не знал, что стало с пани Боженой. Люди, с которыми я разговаривал в последующие годы, сказали, что помнят Божену-Карпинску, певшую в провинциальном оперном театре в Лемберге — тогда польском Львове — в начале 20-х, но потом след её теряется. Мы с ней ровесники, так что в 1939 году, когда начался кошмар в Польше, ей исполнилось пятьдесят три.
Надеюсь, к тому времени она умерла: Львов находился в советской зоне оккупации по пакту Молотова-Риббентропа, а зрелый возраст — не лучшее время для женщины, чтобы отправиться в трёхнедельное путешествие в Сибирь в промерзшей скотовозке или выносить ужасы трудового лагеря НКВД. Но что бы с ней ни произошло, её неукротимый дух выживет.
В 1968 году или около того одним воскресным утром я забирал наручные часы после ремонта из ювелирного магазина на лондонской станции Илинг-бродвей. Я услышал звон дверного колокольчика, обернулся, и тут кровь внезапно отхлынула с лица. Это была она, пани Божена — точно такая же, какой я её знал, только носила она одну из тех мини-юбок, столь популярных в те дни (стиль, который, должен сказать, не выставлял её мускулистые ноги в лучшем свете), и пару солнцезащитных очков размером с корабельные иллюминаторы, поднятых на великолепную гриву золотых волос. У неё было отчётливо мрачное выражение лица, а сопровождал её запуганного вида молодой англичанин на полголовы ниже. Оказалось, они пришли выбрать обручальное кольцо — и самое дешёвое, на которое она согласилась, стоило в четыре раза дороже, чем готов был заплатить жених.
Когда я уходил, то услышал её голос:
— Шшшто?.. Ты не любишь свою маленькую Иренку? Я сейчас заплачу-у-у-у...
И тогда я увидел, как молодой человек с мученическим выражением лица роется в заднем кармане. Что до меня, мне пришлось зайти в кафе «Кардоум» и заказать чашку кофе, дабы прийти в себя. Руки тряслись так сильно, что официантка спросила, всё ли у меня в порядке и не вызвать ли скорую. Но я мог хотя бы утешаться тем, что несмотря на войны и развал империй, кое-что в мире не меняется никогда.
А господарица Зага? Я понятия не имею, что с ней стало после того утра на черногорском берегу, когда она плыла к ялику. Единственный намек появился много лет спустя благодаря книге о французских художниках, которую читала моя английская жена Эдит году эдак в 1963. Это была краткая заметка с манящим примечанием.
«Одна из любовниц Сутина [87] в Париже в 1924-25 годах была любопытной личностью, называвшей себя югославской принцессой Загой: женщиной с простыми чертами лица, но сильным характером. Она переехала с ним в Сен-Жан-Кап-Ферру, но позднее он её бросил, и она пристрастилась к абсенту, а затем несколько лет спустя умерла от туберкулёза в Антибе».
Я подумал, проблема наших мечтаний в том, что они могут исполниться. Что до двух моих спутников по путешествию, штабсторпедомайстера Кайнделя и стюарда первого класса Фердинанда Вонга, обоих секретно наградили за храбрость и мужество. Кайнделю вручили серебряную медаль «За храбрость» за «отвагу на действительной службе», а затем он ушёл в отставку с флота, его снова призвали в 1916 году из-за острой нехватки старших унтер-офицеров и поставили во главе отдела снабжения военно-морских сил в Поле. Эта должность и растущая военная нищета по всей Дунайской монархии позволили ему скопить приличное состояние от распродажи государственного имущества, но он не успел им насладиться. Он умер в октябре 1918-го, став одной из несчётного числа жертв страшной эпидемии испанки, положившей конец войне.
Стюард Вонг, как гражданский, доставил проблемы властям, когда дело дошло до признания его храбрости и потери руки в боевых действиях. В конце концов он удостоился личной аудиенции у императора в Шённбруне и был награждён небольшим пособием из личного императорского бюджета. Ему предлагали или ежегодный доход, или всю сумму целиком. Вонг мудро выбрал последнее и вложил деньги в маленькое семейное кафе в Триесте, где остался местной знаменитостью даже после перехода города в границы Италии в 1918 году, знакомя всех посетителей с историей своих странствий. Я собирался навестить его в 1934 году, когда морские дела Польши привели меня на Адриатику, но не удалось, поскольку он умер от инсульта за несколько дней до моего приезда.
В начале 1918 года из-за отчаянного дефицита офицеров линиеншиффскапитана Блазиуса Ловранича фон Ловраница, педантичного капитана «Эрцгерцога Альбрехта» в начале моих приключений, перевели на берег командовать пехотным батальоном кригсмарине на итальянском фронте, несмотря на то, что он был слишком стар для активной службы.
В те ужасные последние дни октября 1918 года он оказался в окопах изрытого снарядами хребта Монте-Томба чуть севернее Тревизо, пока голодающие и охваченные гриппом остатки габсбургской армии сражались, удерживая линию фронта, а всё вокруг них беспорядочно рушилось. При угрозе мощной атаки Антанты, с венгерскими полками по обоим флангам, старый Ловранич собрал роту боснийских мусульман и половину польского батальона и повёл их вместе с выжившими матросами в жестокую контратаку, которая временно заставила врага отступить от вершины хребта, а сам погиб при взрыве гранаты.
Возможно, и к лучшему, что он не увидел окончательный крах империи и династии, которым он и его предки столько веков служили со столь меднолобной преданностью. Я могу только надеяться, что во время последней атаки через колючую проволоку и по воронкам от снарядов на этом злополучном хребте, души Радецкого, Шварценберга, Евгения Савойского и всех императорских фельдмаршалов смотрели на него и храбрую горстку воинов, сражавшихся и умиравших (хотя они не могли этого знать) за государство, уже прекратившее существование.
Но что же, спросите вы, насчет профессора Алоиза Фибича, недавно умершего американского экономиста, с которого и началось это повествование? При чем тут он? Что ж, вот как было дело. Поздним вечером в феврале 1915 года я находился в Военно-морском департаменте на Цолльамтштрассе, закончив серию допросов, заполнив отчёты и получив поздравления по поводу побега из Циндао.
О приключениях на Балканах меня внимательно допросили все, от начальника военно-морского штаба и ниже, и я рассказал всю неприкрытую правду, веря (как я думаю, оглядываясь назад, наивно), что я лишь как мог исполнял свой долг и мне не причинят вреда. Всё было подробно записано и теперь печаталось в трех экземплярах, прежде чем их навсегда упрячут в запутанные архивы Военного министерства. Последним меня допрашивал перед отъездом в Хиршендорф и месячным отпуском начальник Военно-морского Эвиденцбюро, австро-венгерской морской разведки.
— Что ж, Прохазка, — сказал он, — ну и осиное гнездо вы разворошили, должен признаться: не только в высшей степени возмутительная некомпетентность, но также большая вероятность, что и наши люди замешаны в заговоре с целью убийства наследника. Лишь бы мы смогли это распутать.
— Но, герр шиффскапитан, почему бы не допросить гауптмана Белькреди? Уверен, что это он был их «Прохазкой». Тем вечером я видел его в Черногории, и он узнал меня, по сути, разоблачив перед Драганичем и его головорезами. Если вы допросите его, то сможете найти след того загадочного «Сокола», которого они постоянно упоминали.
Прежде чем заговорить, линиеншиффскапитан перетасовал какие-то бумаги на столе.
— Поверьте, мы были бы этому крайне рады. Но теперь, боюсь, такой возможности не представится. Гауптмана Белькреди убили около Лимановы четырнадцатого сентября: как сообщали, его застрелили его же солдаты, когда он пытался помешать им перейти к русским. Неважно, что он знал, он унёс это с собой в могилу. Что до вашего «Сокола»... — он замолчал на мгновение, — у нас есть идея, кто это может быть. Только идея. Но мы едва ли можем спросить об этом Конрада фон Гетцендорфа, не так ли? Доверие общественности к имперской и королевской армии и без того довольно непрочно, не хватало еще тащить начальника штаба на допрос в связи с возможным обвинением в государственной измене. Нет, Прохазка, иногда нужно попридержать лошадей. Дело в том, что мы теперь увязли в мировой войне, и как именно мы в нее влезли, вопрос по большей части исторический. Наш долг как австрийских офицеров — смотреть в будущее и изо всех сил сражаться за монархию и отечество. И этот долг зовет меня скорее приступить к последнему делу, которое я попрошу вас закончить до ухода в отпуск.
— К какому, герр шиффскапитан?
— Вот, — он протянул мне через стол отпечатанный на листе текст. — Торжественная клятва хранить тайну, которую начальство велело дать вам на подпись, прежде чем вы покинете это здание. Не спрашивайте меня, почему. Я знаю только, что Военное министерство и политики до смерти боятся, что история про Сараево просочится в газеты.
Я взглянул на документ.
«Я, линиеншиффслейтенант Оттокар Прохазка, торжественно клянусь перед лицом всемогущего Господа и своей честью офицера императорского дома Австрии, и так далее, и тому подобное... никогда не разглашать и не обнародовать в любой форме вышеуказанные сведения на протяжении всей жизни засвидетельствовавших этот документ лиц... Подписано двадцать первого февраля 1915 года в Вене».
— Я должен это подписать, герр шиффскапитан? Моего слова недостаточно?
— По всей видимости, нет. Кстати, сколько вам лет, Прохазка?
— Почти двадцать девять, я 1886 года рождения.
— Ясно. А мне пятьдесят восемь, так что... Нет, все же лучше наверняка.
Он поднялся из-за стола, шагнул к двери и прокричал в приемную:
— Фибич, черт побери, хватит ковырять в носу, подойдите-ка сюда на минуточку.
Шаркающей от смущения походкой прыщавый Фибич, юнец лет восемнадцати, подошел к двери.
— Да, герр шиффскапитан?
— Фибич, в последние недели у меня частенько были причины подумать, что от вас нет проку ни людям, ни Господу, и самая большая катастрофа, которая погубит в этой войне монархию, произошла в тот день, когда вас произвели в мичманы. Но сегодня вы могли бы сделать хоть что-то полезное, дабы оправдать свое существование. Сколько вам лет, Фибич?
— Имею честь доложить, в марте исполнится восемнадцать, герр шиффскапитан.
— Великолепно. Как раз то, что нужно. Хочу, чтобы вы засвидетельствовали подпись герра шиффслейтенанта. Содержание документа не имеет значения и вас не касается. Он подпишет первым, затем я, а потом вы нацарапаете свои кошмарные каракули, которые имеете наглость называть подписью. Всё ясно?
— Имею честь доложить, да, герр шиффскапитан.
Вот так мы подписали обязательство, и Фибич вернулся в свой кабинет, с тех пор я его больше не видел и до недавнего времени о нем не слышал. Что ж, главе морской разведки в 1915 году было пятьдесят восемь, значит теперь около ста тридцати, если он еще жив, что маловероятно (уверен, вы с этим согласитесь), и после смерти профессора Фибича я освобожден от клятвы хранить тайну.
Да и какая теперь разница? Думаю, что никакой. История о моем косвенном отношении к убийству в Сараево может вас развлечь, но вряд ли что-то добавит к пониманию событий, разве что откроет, что в тот день в Сараево на самом деле было восемь убийц, а не шесть, позднее обнаруженных австрийской полицией.
Могу лишь предположить, что Дусич и Карджежев сбежали и помалкивали о своей деятельности, или их слова никто не принимал всерьез. Может, у них были сообщники в высших кругах Австрии, а может, и нет. Мы все равно не узнаем. Что касается моего мнения, то, оглядываясь назад, я думаю, что всё дело лишь в неумелости и ограниченности бюрократии, совпавшей с театральной кровожадностью балканских политиков-фантазеров. Эти двое встретились, как айсберг с «Титаником» на пару лет раньше. В конце концов, теперь это уже не имеет значения.
Мне бы следовало чуть раньше отправить доклад в Вену, но тогда его отбросили бы, как прежде все иные предупреждения о том, что сербы что-то замышляют. Скорее всего, просто не обратили бы внимания, потому что в официальных реестрах правительства не было досье на организации «Звяз о смрт» или «Чрна рука», а значит, невозможно было и зарегистрировать отчет об их деятельности.
Конечно, не буду себе льстить, утверждая, что мог бы предотвратить Первую мировую войну и самоуничтожение целой цивилизации. Много лет спустя в Праге я повстречал школьного приятеля, фтизиатра, посещавшего убийцу наследника престола Гаврилу Принципа в тюрьме-крепости «Терезиенштадт», где юноша, слишком молодой для того, чтобы отправиться на виселицу вместе с сообщниками по заговору, угасал от костного туберкулеза, отбывая пожизненное наказание. Мой знакомый как-то спросил его, чувствует ли он угрызения совести за ту резню, которую устроил. Парень немного подумал и ответил:
— Нет, никаких сожалений. Они хотели мировую войну, и если бы не начали ее из-за того, что совершил я, то нашли бы другой предлог.
Думаю, эти слова прекрасно подведут итог. Ну вот, я снова злоупотребил вашим терпением и снисходительностью к стариковской болтовне. Надеюсь, мои рассказы вас развлекли. Потому что они правдивы, насколько могут быть точны воспоминания о событиях почти семидесятипятилетней давности. Я рассказал вам, каким был в молодости, в расцвете сил — достаточно крепким, чтобы вынести все эти приключения. Но все же я рад, что испытал их на службе императору и родине, хотя они уже давно превратились в пыль. Возможно, мне удалось обрисовать вам этот навсегда исчезнувший мир; я остался, наверное, его последним живым свидетелем.
Потому что он уже тогда умирал — не только старая Австрия, но и вся великолепная и гордая европейская цивилизация, пока я дрался за нее на китайских равнинах или на островах Ост-Индии. Оборона Циндао была последним затихающим эхом эпохи, в которой я родился, и, вероятно, последними месяцами в мировой истории, когда война считалась опасным видом спорта для благородных господ. Я бы предпочел, чтобы события, прошедшие перед моими глазами в 1914 году, никогда не случились. Но раз уж они все-таки произошли, я рад, что стал очевидцем и прожил достаточно долго, чтобы рассказать о них вам.
Примечания
1
«Диана» — утренняя вахта (с 4 до 8 часов)
(обратно)2
Рейхсрат — двухпалатный законодательный орган, парламент «австрийской» части Австро-Венгерской монархии.
(обратно)3
«Alte Grenzer» (нем.) — старые пограничники
(обратно)4
Ихэтуаньское восстание (Боксёрское восстание) — восстание ихэтуаней (буквально — «отрядов гармонии и справедливости») против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая с 1898 года по 1901 год. Сначала пользовалось поддержкой властей Китая, но через некоторое время императрица Цыси перешла на сторону Альянса восьми держав, который и подавил восстание.¶В результате восстания Китай попал в ещё бо́льшую зависимость от иностранных государств, что сказалось на его политическом и экономическом развитии в первой половине XX века.
(обратно)5
Signum Laudis — медаль Австро-Венгрии за военные заслуги
(обратно)6
Марине оберкоммандо — главное командование ВМС Австро-Венгрии.
(обратно)7
Расчалка — тонкий трос, стальная проволока, оттянутая в каком-либо направлении для соединения частей конструкции в определенном положении. В авиации применяются для придания жёсткости крылу, ферме.Наиболее распространены в конструкции бипланов и трипланов.
(обратно)8
Du Lieber Gott! (нем.) — Боже правый!
(обратно)9
Пикельхельм, пикельхаубе (нем. Pickelhaube (инф.)) — шлем с пикой (нем. Helm mit Spitze) — остроконечный кожаный шлем, носившийся в XIX и XX веке военнослужащими русских, германских и английских вооруженных сил, пожарными и полицейскими.
(обратно)10
Кригсмарине (нем.) — военно-морские силы.
(обратно)11
Бургтеатер (нем. Burgtheater) — придворный театр в венском Хофбурге.
(обратно)12
Архитрав — прямолинейная перекладина, перекрывающая промежуток над колоннами, столбами или оконными и дверными проёмами.
(обратно)13
Карл I Филипп цу Шварценберг (15 апреля 1771 — 15 октября 1820) — князь Шварценберг, австрийский фельдмаршал, главнокомандующий союзными войсками, сражавшимися с Наполеоном I в Битве народов под Лейпцигом в 1813г.
(обратно)14
Евгений Савойский — Принц Евгений Савойский (18 октября 1663 — 21 апреля 1736) — полководец Священной Римской империи франко-итальянского происхождения, генералиссимус.
(обратно)15
Auf wiederschauen (нем. диал.) — до свидания.
(обратно)16
Карл Михаэль Цирер — австрийский композитор и дирижёр. Автор нескольких оперетт, многочисленных (более 600) вальсов, полек и маршей.
(обратно)17
«Wiener Bürger» — «Венские граждане» (Wiener Bürger, op. 419), вальс К.М.Цирера
(обратно)18
Франц- Конрад фон Гетцендорф — австро-венгерский генерал-фельдмаршал и начальник генерального штаба австро-венгерских войск накануне и во время Первой мировой войны, военный теоретик.
(обратно)19
Теодор Бильрот — выдающийся немецкий (австрийский) хирург, основоположник современной абдоминальной хирургии. Т. Бильрот известен также как одарённый музыкант и близкий друг Иоганна Брамса.
(обратно)20
«Мельница на Флоссе» (англ. «The Mill on the Floss») — роман английской писательницы Джордж Элиот, впервые опубликованный в трёх томах в 1860 г.
(обратно)21
Банат — историческая область в Юго-Восточной Европе, между Трансильванскими Альпами на востоке, реками Тиса на западе, Муреш на севере, Дунай на юге.
(обратно)22
Meine Damen und Herren (нем.) — уважаемые дамы и господа.
(обратно)23
Градо — город в итальянской провинции Гориция, между Венецией и Триестом, в живописных лагунах устья реки Изонцо.
(обратно)24
Река Сан (укр. Сян, польск. San) — река, протекающая по территории Украины и Польши, правый приток Вислы.
(обратно)25
Abtreten sofort! (нем.) — Немедленно разойтись!
(обратно)26
Dobar dan gospodja (хорв.) — Здравствуйте, госпожа.
(обратно)27
Юлиус Якоб фон Гайнау (14 октября 1786 — 14 марта 1853) — австрийский фельдцейхмейстер (1849), участник подавления Венгерского восстания 1848—1849 годов.
(обратно)28
Au revoir (фр.) — до свидания.
(обратно)29
Гайдуки, хайдуты — пешие легко вооруженные воины, ранее вооружённые повстанцы (иногда и просто разбойники), боровшиеся против османского национального гнёта на Балканах и в Западной Армении.
(обратно)30
Бетяр (или бетиар) — разбойник, персонаж венгерского фольклора.
(обратно)31
Was bedeutet... bist du ganz verrückt oder so? (нем.) — Что значит... Ты совсем ненормальный или как?
(обратно)32
Джозеф Конрад (псевдоним Теодора Юзефа Конрада Коженёвского) — английский писатель, поляк по происхождению, получил признание как классик английской литературы.
(обратно)33
Калемегдан (серб. Калемегдáн) — Белградская крепость.
(обратно)34
Призрен — город на Балканском полуострове в Южной Метохии.
(обратно)35
Никола П. Пашич — сербский и югославский политик и дипломат, наиболее влиятельный из сербских политиков в конце XIX — начале XX века, идеолог «Великой Сербии».
(обратно)36
Пётр I Карагеоргиевич — первый сербский король из династии Карагеоргиевичей (с 1903); в 1918 стал первым королём королём сербов, хорватов и словенцев.
(обратно)37
Александр Обренович — король Сербии с 1889 по 1903 год, последний представитель династии Обреновичей. Убит группой офицеров-заговорщиков вместе с супругой, королевой Драгой, в ходе так называемого Майского переворота.
(обратно)38
«Чёрная рука» (серб. Црна рука, другое название «Единство или смерть», серб. Уједињење или смрт) — южнославянская тайная националистическая организация, имевшая своей целью объединение различных южнославянских народов в одно государство.
(обратно)39
Имеются в виду волнения в Ирландии в связи с её стремлением к независимости. Позднее, в 1919 году, это обернулось войной за независимость, а также гражданской войной.
(обратно)40
Никола I Петрович — второй князь Черногории с 1860 по 1910, а затем первый король Черногории с 1910 по 1918 из династии Петровичей-Негошей.
(обратно)41
Четники (от серб. četa — рота) — сербское национальное движение, боровшееся за независимость Сербии от Османской империи, а затем от Австро-Венгрии и Болгарии.
(обратно)42
Оскар Потиорек — австро-венгерский полководец, в 1911-1914 годах австро-венгерский наместник Боснии и Герцеговины
(обратно)43
Драгутин Димитриевич — начальник разведывательного отдела Генерального штаба Сербии, сооснователь и лидер тайного общества «Чёрная рука».
(обратно)44
Chef d’oeuvre (фр.) — шедевр.
(обратно)45
Konditorei (нем.) — кондитерская
(обратно)46
Стефан Урош IV Душан — сербский король (с 1331 года) из рода Неманичей, с 1346 года — царь сербов и греков (до смерти в 1355 году), создатель Сербского царства.
(обратно)47
Шёнбрунн — основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко. Расположен в западной части Вены, в 5 км от центра города, в районе Хитцинг.
(обратно)48
Adieu (фр.) — прощайте.
(обратно)49
Ятаган — клинковое колюще-режущее и рубяще-режущее холодное оружие с длинным однолезвийным клинком, имеющим двойной изгиб; нечто среднее между саблей и тесаком.
(обратно)50
Рота (серб. četa ) — вероятно, здесь имеется в виду кровная месть. От этого слова произошло также название движения четников.
(обратно)51
Здесь говорится о Первой Балканской войне Балканского союза (Болгария, Греция, Сербия, Черногория) против Османской империи. Закончилась в том числе потерей последней всех европейских владений, кроме Стамбула и небольшой части Восточной Фракии.
(обратно)52
Вторая Балканская война между Болгарией с одной стороны и Черногорией, Сербией, Грецией, Османской империей и Румынией с другой за раздел Македонии. Закончилась поражением Болгарии и разделом Македонии, а также других небольших территорий в пользу стран-победительниц.
(обратно)53
Dobro spavate (серб.) — хороших снов.
(обратно)54
Морача — река в Черногории, впадает в Скадарское озеро с запада, образуя заболоченную дельту и образует известный каньон Морача, местами достигающий высоты 1000 метров.
(обратно)55
Феска — шапочка в виде усечённого конуса с кисточкой, обычно красная.
(обратно)56
Битва при Цере — одно из первых сражений Первой мировой войны, стало первой победой союзников над Австро-Венгрией. В результате победы сербы стали рассматриваться как решающая сила в войне на Балканах.
(обратно)57
das ist mir tout égal — мне абсолютно все равно. (нем.,фр.)
(обратно)58
Ah m’sieur, donc vous parlez français? Mais quel plaisir! (фр.) — Ах, месье, так вы говорите по-французски? Как это приятно!
(обратно)59
Carte de la Ville de Paris et ses Environs, Editions Hachette, 1906 (фр.) — карта Парижа и окрестностей, издательство «Ашетт», 1906 г.
(обратно)60
Жан-Эдуард Равель — швейцарский художник, родной дядя композитора Мориса Равеля и автомобилестроителя, своего тёзки — Эдуарда Равеля (1878-1960).
(обратно)61
Жан-Никола-Артюр Рембо — французский поэт, один из ранних представителей символизма.
(обратно)62
«Панар-Левассор» — основанная в 1866 году компания, одна из первых в мире, выпускающих автомобили на продажу, в том числе гоночные и спортивные машины, частные автомобили и лимузины, а также военные автомобили.
(обратно)63
Буна (алб. Buna, Bunë) или Бояна (черногор. Бојана, Bojana) — река на западе Балканского полуострова, протекает по территории Албании и Черногории, соединяет Скадарское озеро с Адриатическим морем.
(обратно)64
«Австрийский Ллойд» — самая крупная австро-венгерская судоходная компания, основанная в 1833 году в порту Триеста в Австрийском Приморье, главном порту австрийской половины двуединой Австро-Венгрии.
(обратно)65
Румия (с арабск. — христианка) — гора в южной Черногории, разделяющая Адриатическое море и Скадарское озеро. Румией мусульмане называли Византию, и эта гора с древним храмом Пресвятой Троицы на ее вершине издавна была символом православия.
(обратно)66
Брач (хорв. Brač, итал. Brazza, лат. Brattia) — остров в Адриатическом море, в южной части Хорватии, возле далматинского побережья.
(обратно)67
Кофель-нагель— металлический или деревянный болт, служащий для навертывания на него снастей.
(обратно)68
Народная оборона (серб. Народна одбрана) — сербская националистическая группа, созданная в 1908 году Йованом Дучичем и Браниславом Нушичем как реакция на австро-венгерскую аннексию Боснии и Герцеговины.
(обратно)69
Меттерних — князь Клеменс Венцель Лотар фон Ме́ттерних-Виннебург-Бейльштейн (15 мая 1773 — 11 июня 1859) — австрийский дипломат из рода Меттернихов, министр иностранных дел в 1809—1848 годах, главный организатор Венского конгресса 1815 года. Руководил политическим переустройством Европы после Наполеоновских войн.
(обратно)70
Тирпиц — Альфред фон Тирпиц (нем. Alfred von Tirpitz) германский военно-морской деятель, в 1897-1916 статс-секретарь военно-морского ведомства (нем. Staatssecretär des Reichsmarineamtes – морской министр), гросс-адмирал (27 января 1911).
(обратно)71
Требака (от итал. trabaccolo), браццера — парусные двухмачтовые грузовые, торговые или рыболовецкие суда.
(обратно)72
Проа — специфический тип многокорпусного парусного судна, характерного в первую очередь для Малайского архипелага и островов Южного Тихого океана. Узкое длинное судно, имеющее на одном из бортов балансир в виде бревна и парус в форме низкого треугольника, трапеции или прямоугольника.
(обратно)73
Генри Мортон Стэнли — британский журналист, знаменитый путешественник, исследователь Африки.
(обратно)74
Dobře, hnědy dáble, A možná mluvíte česky? — Хорошо, коричневый дьявол. А может быть, ты говоришь по-чешски?
(обратно)75
Ano mluvím, ale dábelˇ nejsem. — Да, говорю, но я не дьявол.
(обратно)76
Пунаны — группа племён (собственно пунаны, букиты, букитаны, басапы и др.) в составе даяков. Живут преимущественно в Индонезии на острове Калимантан, во внутренних областях. Название происходит от двух рек, вдоль берегов которых они жили с незапамятных времен.
(обратно)77
Na šhledanou! (чеш.) — До свидания!
(обратно)78
Каперы (корсары, приватиры) (нем. Kaper, фр. corsaire, англ. privateer) — частные лица, которые с разрешения верховной власти воюющего государства использовали вооруженное судно с целью захватывать торговые корабли неприятеля, а в известных случаях — и нейтральных держав. То же название применяется к членам их команд.
(обратно)79
Кампонг (гампонг, кампунг) — (кампонг означает «берег») сельская община в Индонезии.
(обратно)80
Инфралапсарианство и супралапсарианство — кальвинистические течения, согласно которым еще до грехопадения Бог предопределил одних людей к избранничеству, других — к вечному осуждению. В супралапсарианстве Бог выбрал людей, кто будет спасен, до грехопадения, а в инфралапсарианстве — после.
(обратно)81
Самбук — тип торгового парусного судна, использовавшегося арабскими моряками для торговли между африканским побережьем и берегами Красного моря, а также для торговли между арабскими гаванями и Индией или Занзибаром.
(обратно)82
Спаги (фр. Spahi) — род лёгкой кавалерии, входивший в состав французской армии. Комплектование происходило в основном из местного населения Алжира, Туниса и Марокко.
(обратно)83
Entschuldigen Sie bitte, sprechen Sie Deutsch? (нем.) — Пожалуйста извините, Вы говорите по-немецки?
(обратно)84
Parlez-vous français? (фр.) — Вы говорите по-французски?
(обратно)85
Эфенди — господин, повелитель (от новогреч. αφθέντες — правитель, начальник) форма вежливого обращения к знатным особам вплоть до султана.
(обратно)86
HAPAG (транслит.: Гамбург—Американише Пакетфарт Акциен-Гезельшафт, известная также как Гамбург — Америка Лайн или на английский лад англ. Hamburg-America Line) — предприятие (акционерное общество), основанное в Гамбурге, Германия в 1847 году для совершения рейсов через Атлантический океан.
(обратно)87
Хаим Сутин — французский художник «Парижской школы».
(обратно)





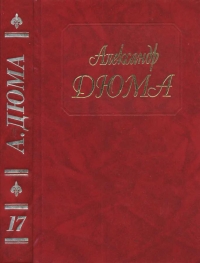

Комментарии к книге «Под стягом Габсбургской империи», Джон Биггинс
Всего 0 комментариев