Орхан Памук Белая крепость
Хорошему человеку, хорошей сестре Нильгюн Дарвыноглу (1961–1980) посвящается
Когда нам кажется, что человек, пробуждающий в нас интерес, живет какой-то неведомой нам, загадочной, но оттого исполненной очарования жизнью, когда мы думаем, что сможем по-настоящему начать жить лишь благодаря этому человеку, – что это, если не начало любви?
Марсель Пруст в переводе Я. К. КараосманоглуOrhan Pamuk
BEYAZ KALE
Copyright © 1979, Can Yayin Lari Ltd.
All rights reserved
© М. Шаров, перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство АЗБУКА®
Введение
Эту рукописную книгу я нашел в 1982 году, когда летом, как это было у меня заведено, неделю рылся в запущенном «архиве» городских властей Гебзе[1]. Она лежала на дне пыльного сундука, до отказа набитого султанскими указами, купчими на земельные участки, судебными актами и прочими документами. Я сразу обратил на нее внимание: она была в аккуратном переплете из синей мраморной бумаги, напоминающей о сонных грезах, написана четким, разборчивым почерком – среди блеклых официальных документов она прямо-таки сияла. Чьей-то рукой – не той, что написала саму книгу, – на первой странице, словно бы для того, чтобы еще больше заинтриговать меня, было выведено единственное заглавие: «Пасынок одеяльщика». Поля и пустые места заполнялись детскими рисунками – человечками с маленькими головами, одетыми в испещренные пуговицами кафтаны. Не отрываясь, с большим удовольствием прочитал я книгу до самого конца, а затем, поскольку переписывать ее мне было лень, воспользовался доверием служителя, который из большого почтения не следил за мной, и быстро засунул ее в портфель – иными словами, просто украл из этой свалки, которую даже молодой каймакам[2] стеснялся называть архивом.
Поначалу я не очень хорошо представлял себе, что делать с книгой, – только снова и снова ее перечитывал. К истории как к науке я все еще относился с недоверием, и потому в рукописи меня интересовала не столько ее научная, культурная, антропологическая или историческая ценность, сколько само повествование. А это заставляло меня задуматься об авторе. Поскольку в то время мы с некоторыми моими коллегами были вынуждены уйти из университета, я обратился к делу, которым когда-то занимался мой дед, – к составлению энциклопедий. Не вставить ли, подумал я, статью об авторе книги в «Энциклопедию знаменитых людей», в которой я отвечал за историческую часть?
Этой задаче я стал уделять все время, свободное от работы над энциклопедией и застолий. Обратившись к основным историческим источникам той эпохи, я сразу заметил, что некоторые события, описанные в книге, не вполне соответствуют действительности. Скажем, во время пятилетнего пребывания Кёпрюлю[3] на посту великого визиря в Стамбуле и в самом деле случился большой пожар – но нет никаких свидетельств о сколько-нибудь серьезной эпидемии, тем более о такой опасной вспышке чумы, какая описана в книге. Имена некоторых визирей были написаны неправильно, другие перепутаны, а третьи и вовсе изменены. Имена главных астрологов не совпадали с указанными в дворцовых документах, но я подумал, что у автора были на то причины, и не стал на этом останавливаться. С другой стороны, события, о которых идет речь в книге, как правило, соответствуют нашим «знаниям» о той эпохе, и порой я подмечал это даже в мелких деталях: скажем, убийство главного астролога Хусейна-эфенди или охота Мехмеда IV на зайцев в окрестностях дворца Мирахор очень похоже описаны у Наимы[4]. Я подумал, что автор книги, который, похоже, любил читать и обладал хорошим воображением, изучил, должно быть, немало подобных источников и кое-что из них позаимствовал для своего рассказа; он говорит, что был знаком с Эвлией Челеби[5], но, скорее всего, на самом деле только читал его сочинения. Впрочем, некоторые другие примеры наводили меня на мысли о том, что могло быть иначе, и я не терял надежды напасть на след моего автора, но упорные поиски в стамбульских библиотеках лишь делали ее все более призрачной. Мне не удалось отыскать ни одной книги, ни одного трактата из тех, что были преподнесены султану Мехмеду IV с 1652 по 1680 год, ни в библиотеке дворца Топкапы, ни в других библиотеках, куда, как мне представлялось, эти сочинения могли попасть из дворцового собрания. Я напал лишь на один-единственный след: в этих библиотеках были книги, переписанные каллиграфом-левшой, которого упоминает мой автор. Некоторое время я пытался идти по этому следу, но безрезультатно: из итальянских университетов, которые я завалил запросами, приходили неутешительные ответы; попытки найти имя автора, не названное в книге, но подсказанное самим ее текстом, на кладбищах Гебзе, Дженнетхисара и Ускюдара окончились ничем. Я бросил поиски и написал статью для энциклопедии на материале самой книги. Как я и боялся, статью не напечатали – не потому, что она была недостоверна с научной точки зрения, а потому, что человека, о котором в ней шла речь, признали недостаточно знаменитым.
Может быть, именно оттого моя одержимость этой историей еще больше усилилась. Я даже подумывал уволиться, но я любил свою работу и своих коллег. Одно время я рассказывал о книге всем и каждому – с таким волнением, будто не нашел ее, а сам написал. Чтобы возбудить любопытство собеседника, я говорил о ее символическом значении, о том, как она перекликается с современной действительностью, о том, что, прочитав ее, я лучше понял наши дни, и прочее в том же духе. Мои речи вызывали интерес у молодых людей, мысли которых были куда больше заняты политикой, социальной напряженностью, вопросами отношений Востока и Запада и проблемами демократии, однако и они, подобно моим приятелям по застольям, вскоре забыли о ней. Один мой друг, профессор, прочитавший книгу по моей просьбе, сказал, возвращая ее мне, что в деревянных домах стамбульских переулков хранятся десятки тысяч рукописей, в которых подобного рода историй пруд пруди, и если обитатели дома не прячут эти книги куда-нибудь на верхнюю полку шкафа, приняв за Коран, то страница за страницей расходуют на растопку печки.
В конце концов я решил, что эту историю, к которой я возвращался снова и снова, нужно опубликовать – и в этом меня поддержала одна девушка, не выпускавшая из рук сигарету. Читатель увидит, что, когда я переводил книгу на современный турецкий язык, меня совершенно не волновали вопросы стиля. Работа шла так: прочитав несколько строк рукописи, лежащей на столе, я шел в другую комнату, где на другом столе лежал лист бумаги, и пытался передать содержание прочитанного современными словами. Заглавие книге дал не я, а издательство, согласившееся ее напечатать. Возможно, увидев посвящение на первой странице, читатель спросит, не скрывается ли в нем некий подтекст. Мне кажется, это болезнь нашего времени – во всем видеть какие-то связи. Не устоял перед этим недугом и я, потому и публикую эту историю.
Фарук Дарвыноглу
1
Мы шли из Венеции в Неаполь, когда турецкие корабли преградили нам путь. У нас было всего три суденышка, а их галеры выходили из тумана бесконечной чередой. Наш корабль мгновенно охватила паника, начался переполох; среди гребцов, большинство которых были турками и уроженцами Магриба, послышались радостные возгласы, и мы пали духом. Наше судно, как и два других, повернуло в сторону суши, на запад, но плыло не так быстро, как те. Капитан, опасаясь, что, попав в плен, будет подвергнут жестокой казни, все никак не решался пустить в ход плети, чтобы подгонять рабов-гребцов. Впоследствии я не раз задумывался о том, что трусость капитана изменила всю мою жизнь.
А сейчас я думаю, что моя жизнь изменилась бы именно в том случае, если бы капитан на краткий миг не поддался трусости. Многие знают, что жизнь не предопределена изначально и все, что происходит с людьми, представляет собой, по сути, цепочку случайностей. И все-таки даже те, кому ведома эта истина, в определенный период своей жизни, обернувшись на прожитое, понимают, что события, которые они в свое время воспринимали как случайность, на самом деле были предопределены. Пришла такая пора и для меня, и сейчас, когда я пишу книгу, сидя за своим старым столом и вспоминая цвета турецких кораблей, выступающих из тумана словно призраки, я думаю, что эта пора – самое лучшее время для того, чтобы начать какую-нибудь историю и рассказать ее до конца.
Два других корабля, проскользнув между турецкими галерами, скрылись в тумане; увидев это, наш капитан почувствовал надежду на спасение и набрался наконец смелости применить плети – но было уже поздно, да и на рабов, почуявших близость свободы, удары не действовали. Разорвав пугающую пелену тумана, перед нами разом возникли разноцветные турецкие галеры, их было больше десяти. Капитан, желая, как мне кажется, справиться не столько с противником, сколько с собственной трусостью и растерянностью, принял решение драться. Он приказал нещадно бить гребцов и готовить к бою пушки, но воинственный дух, вспыхнувший столь поздно, быстро угас. На нас обрушились яростные залпы бортового огня, и, если бы мы не сдались немедля, наш корабль утонул бы; так что мы решили поднять белый флаг.
Пока мы ждали, когда к нам по безмятежному морю подойдут турецкие корабли, я спустился в свою каюту, навел там порядок, словно ожидал не врагов, которые перевернут мою жизнь, а друзей, пообещавших зайти в гости; потом открыл свой дорожный сундучок и рассеянно перебрал книги. Когда я листал том, который купил во Флоренции за большие деньги, к моим глазам подступили слезы; я слышал доносящийся снаружи шум, крики и топот, думал, что скоро мне предстоит расстаться с книгой, которую я держу в руках, но хотелось мне думать не об этом, а о том, что написано на страницах книги, словно изложенные в ней мысли, фразы ее и уравнения таили в себе все мое прошлое, которое я не хотел терять. Я бормотал вслух первые попавшиеся строчки, словно читал молитву; мне хотелось сохранить всю книгу в своей голове, чтобы после прихода врагов не думать о них и о тех мучениях, которым они меня подвергнут, а вызывать в памяти краски прошлого, мысленно повторяя милые, с любовью заученные наизусть слова книги.
В те времена я был другим человеком, которого мать, невеста и друзья называли другим именем. Мне и сейчас иногда снится тот, кто был мной, – или тот, о ком я сейчас так думаю, – и я просыпаюсь в холодном поту. Этот человек двадцати трех лет, чей образ является мне в поблекших красках, похожих на неясные, словно увиденные во сне цвета всех тех небывалых стран, неведомых зверей и невероятного оружия, что мы выдумывали в последующие годы, изучил во Флоренции и Венеции «науки и искусства», полагал, что хорошо знает астрономию, математику и физику, был, разумеется, весьма доволен собой, усвоил бóльшую часть того, что было сделано до него, смотрел на все это свысока и не сомневался, что сделает лучше, считал себя умнее и талантливее всех; словом, это был самый обыкновенный молодой человек. Впоследствии, когда мне раз за разом приходилось придумывать свое прошлое, меня злило то, что я был тем молодым человеком, который рассказывал любимой о своих мечтах и планах, делился мыслями о науке и устройстве мира и восхищение своей невесты воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Однако я утешаю себя мыслью, что те, кому достанет терпения дочитать однажды до конца эти мои записки, поймут – тот молодой человек был не я. Возможно, эти терпеливые читатели подумают, как думаю сейчас я, что однажды этот молодой человек, прервавший свой рассказ, чтобы почитать любимые книги, продолжил его с того места, на котором остановился.
Когда турки взяли наш корабль на абордаж, я сложил книги в сундучок и поднялся на палубу. Там было настоящее светопреставление. Всех согнали в кучу и заставили раздеться донага. Я подумал, не прыгнуть ли, пользуясь суматохой, в море, но побоялся, что за мной пустятся в погоню и, поймав, сразу убьют; к тому же я не знал, далеко ли берег. Меня тем временем как будто не замечали. Освобожденные от цепей рабы-мусульмане радостно гомонили, некоторые уже собирались на месте расправиться со своими надсмотрщиками-кнутобоями. Я вернулся к себе. Вскоре меня нашли, стали обыскивать каюту, тащить из нее мои вещи, рыться в сундуках в поисках золота, попутно прихватывая и некоторые мои книги. Затем появился еще один человек, взглянул, как я рассеянно листаю одну из оставшихся книг, и отвел к турецкому капитану.
Капитан, о котором впоследствии я узнал, что был он генуэзцем-вероотступником, отнесся ко мне хорошо, спросил, что я знаю и умею. Чтобы меня не отдали в гребцы, я сразу выпалил, что знаю астрономию и могу находить ночью путь по звездам, но это не вызвало у них интереса. Тогда, надеясь подтвердить свои слова книгой по анатомии, которую у меня не забрали, я назвался врачом. Вскоре ко мне подвели раненого, которому оторвало руку, но я заявил, что не силен в хирургии. Это вызвало гнев, и меня уже собирались посадить на весла, как вдруг капитан, взглянув на мои книги, спросил, могу ли я определять болезни по пульсу и цвету мочи. Я ответил утвердительно; так мне удалось спастись от участи гребца и уберечь несколько своих книг.
Однако это привилегированное положение дорого мне обошлось. Другие христиане, посаженные на весла, сразу же меня возненавидели. Была б их воля, они убили бы меня в трюме, куда нас всех запирали по ночам, но убивать меня они поостереглись, увидев, как быстро я столковался с турками. Нашего трусливого капитана посадили на кол, надсмотрщикам отрезали уши, вырвали ноздри и пустили на плоту в море – для устрашения прочих. Когда у некоторых турок, которых я лечил, опираясь не столько на знания анатомии, сколько на здравый смысл, сами собой затянулись раны, все поверили, что я и в самом деле лекарь. Даже некоторые мои враги из числа завистников, говорившие туркам, что я не врач, стали по ночам в трюме показывать мне свои раны.
В Стамбуле нас ожидал пышный прием. Говорили, что сам малолетний султан наблюдал за нами. На всех мачтах были подняты турецкие знамена, а ниже висели взятые на христианских кораблях флаги, изображения Мадонны и перевернутые кресты, в которые юные сорванцы стреляли из луков. Тем временем начали палить пушки, сотрясая небо и землю. Торжества, подобные которым я впоследствии то с грустью, то со скукой, то с радостью не раз наблюдал с суши, все никак не кончались; некоторые зеваки, перегревшись на солнце, падали в обморок. Под вечер мы встали на якорь в Касым-Паша[6].
Нас сковали цепями, чтобы показать султану; на военных смеха ради надели задом наперед доспехи, капитанам и офицерам на шеи повесили железные обручи и под издевательски-веселую музыку, извлекаемую из взятых на нашем корабле труб и барабанов, всех нас с ликованием повели во дворец. Выстроившийся вдоль дороги народ глазел на нас с веселым любопытством. Султан, которого нам увидеть не удалось, отобрал свою долю пленников, а остальных, среди которых был и я, отправили в Галату, в зиндан[7] Садык-паши.
Зиндан этот был ужасным местом, где в маленьких сырых клетушках заживо гнили в грязи сотни пленников. Я нашел там множество страждущих, на которых мог упражняться в своем новом ремесле, кое-кому даже сумел помочь. Прописывал я лекарства и стражникам, мучающимся от боли в спине и в ногах. Поэтому меня снова отделили от остальных, предоставили закуток получше, куда хотя бы проникал солнечный свет. Глядя на ужасное положение других пленников, я пытался заставить себя благодарить судьбу, но однажды утром меня подняли вместе со всеми и велели идти работать. Я заикнулся было о том, что я лекарь, сведущий в медицине, в науке, но надо мной лишь посмеялись: паша велел надстроить стену вокруг своего сада, нужны были люди. По утрам, еще до восхода солнца, нас сковывали цепями и вели за город. Весь день мы собирали камни, а вечером, когда нас, снова сковав, гнали назад, в зиндан, я думал о том, что Стамбул – прекрасный город, но жить здесь нужно не рабом, а господином.
Впрочем, я все же не был простым рабом. Я уже пользовал не только своих гниющих в зиндане товарищей по несчастью, но и свободных людей, прослышавших, что я врач. Бóльшую часть добываемых врачеванием денег я был вынужден отдавать надзирателям и стражникам, которые тайком выпускали меня из зиндана. Деньги, которые мне удавалось от них утаить, я тратил на уроки турецкого языка. Учил меня пожилой добросердечный человек, выполнявший различные мелкие поручения паши. Он радовался, видя, как быстро я овладеваю турецким, и говорил, что скоро я стану мусульманином. Когда я отдавал ему деньги за урок, он каждый раз принимал их с великим смущением. Кроме того, я платил ему за то, что он приносил мне поесть: я решил, что буду хорошо заботиться о себе в плену.
Однажды вечером, когда на город опустился туман, в мою каморку вошел надзиратель и сказал, что меня желает видеть паша. Я удивился, пришел в волнение, собрался в мгновение ока. На ум мне взбрело, что кто-нибудь из моих предприимчивых родственников – может, отец, а может быть, будущий тесть – уже прислал за меня выкуп. Когда мы шли по окутанным туманом кривым, узким улочкам, я представлял себе, как тут же отправляюсь домой или встречаю своих родных прямо здесь, словно очнувшись от страшного сна. Ведь иногда, думал я, остающиеся в Европе родные всеми правдами и неправдами находят способ прислать кого-нибудь, чтобы договориться об освобождении пленника; вдруг меня прямо сейчас, пока даже туман еще не рассеялся, посадят на корабль и отправят на родину? Но, едва войдя в особняк паши, я понял, что так легко не отделаюсь. Люди ходили здесь на цыпочках.
Сначала меня оставили ждать в прихожей, потом провели в покои. Там на скромной постели лежал, натянув на себя одеяло, небольшого роста благообразный человек; рядом сидел другой, высокий здоровяк. Лежавший на постели и была паша. Он велел мне подойти поближе и завел со мной разговор. Отвечая на его вопросы, я поведал, что изучал астрономию, математику и немного – инженерное дело, но разбираюсь также в медицине и многих уже вылечил. Я бы рассказал ему еще что-нибудь, но он прервал меня, сказав, что я, похоже, человек умный, раз так быстро выучил турецкий, и прибавил: он болен, другие лекари не смогли ему помочь, и он, услышав обо мне, желает испытать мои умения.
И паша начал расписывать свою болезнь, причем так, будто во всем мире от нее страдал только он один, потому что враги оговорили его перед Аллахом. А между тем у него была известная нам астма. Я хорошенько расспросил его, послушал кашель, потом прошел на кухню и из того, что там отыскалось, приготовил зеленые мятные пилюли и микстуру от кашля. Поскольку паша опасался, что его могут отравить, я у него на глазах отпил немного микстуры и проглотил одну пилюлю. Паша велел, чтобы меня незаметно вывели из особняка и вернули в зиндан. Ему не хотелось (как объяснил мне позже надзиратель) вызывать зависть у других лекарей. На следующий день я снова отправился к паше, послушал его кашель и дал те же лекарства. Разноцветные пилюли, которые я положил ему на ладонь, обрадовали его, как ребенка. Вернувшись в свою каморку, я стал молиться, чтобы ему полегчало. Наутро подул северо-восточный ветерок. В такую отличную погоду, думал я, и не захочешь, а выздоровеешь, но за мной никто не пришел.
Минул месяц, и меня снова отвели к паше посреди ночи. Паша был на ногах и весьма бодр. Я обрадовался, услышав, как он распекает кого-то, явно не испытывая трудностей с дыханием. Меня он принял ласково, сказал, что я его вылечил, что я хороший лекарь. Чего бы мне хотелось у него попросить? Мне было ясно, что на волю он меня сразу не отпустит, так что я стал жаловаться на свою темницу и на цепи; сказал, что принесу больше пользы, если буду заниматься медициной, астрономией, наукой, а не выбиваться из сил на тяжелых работах. Уж не знаю, насколько внимательно он меня слушал. Бóльшую часть денег из мешочка, который он мне дал, отобрали стражники.
Еще через неделю ночью ко мне пришел надсмотрщик, велел поклясться, что не сбегу, и снял цепи. Меня по-прежнему водили на работы, но теперь стражники стали относиться ко мне снисходительно. Когда три дня спустя мне принесли новую одежду, я понял, что паша обо мне заботится.
Меня продолжали звать в особняк по ночам. Я давал лекарства старым морским разбойникам, страдающим ревматизмом, и молодым воинам, которые мучились животом; отворял кровь чесоточным и тем, кому не давала покоя головная боль. Однажды мои снадобья за неделю излечили от заикания сына одного из слуг, и он прочел мне стихотворение.
Так прошла зима. Затем меня несколько месяцев не звали в особняк, и я выяснил, что в начале весны паша с флотом отплыл в Средиземное море. Тянулись жаркие летние дни. Некоторые из тех, кто видел охватившие меня отчаяние и злость, говорили, что мне грех жаловаться на мое положение, что врачебное искусство приносит мне хорошие деньги. Один бывший раб, много лет назад перешедший в ислам и обзаведшийся семьей, убеждал меня бежать. Полезному им рабу, говорил он, турки никогда не позволят вернуться на родину, так и будут морочить голову. Единственный способ обрести свободу – стать, подобно ему, мусульманином. Заподозрив, что все это он говорит, дабы выведать мои намерения, я сказал, что о побеге даже не помышляю. На самом деле мне просто не хватало смелости. Беглые рабы не успевали уйти далеко. Их быстро ловили и подвергали побоям, и потом я по ночам обрабатывал целебной мазью раны этих несчастных.
Ближе к осени паша вернулся с флотом из похода. Он отсалютовал султану пушечными залпами и постарался, как и в прошлом году, устроить городу праздник, но было совершенно очевидно, что на этот раз удача отвернулась от флота. Вот и в зиндан доставили очень мало новых рабов. Потом мы узнали, что венецианцы сожгли шесть турецких кораблей. Я попытался, пользуясь случаем, переговорить с новыми пленниками в надежде получить какие-нибудь известия из родного края, но большинство из них были испанцами, молчаливыми, невежественными и испуганными. Говорить они ни о чем не могли, лишь просили помощи и еды. Только один из них привлек мое внимание: он остался без руки, но не падал духом и утверждал, что ровно то же самое произошло с неким его предком, который, освободившись, уцелевшей рукой стал писать рыцарские романы; мой новый знакомый верил, что его ждет такая же судьба. Впоследствии, в те годы, когда мне приходилось сочинять истории, чтобы жить, я вспоминал этого человека, который мечтал жить, чтобы сочинять истории. Вскоре в зиндане возникло моровое поветрие, погубившее более половины рабов; я спасся благодаря тому, что щедрыми подношениями умолил стражников оградить меня от встреч с заболевшими.
Тех, кто выжил, стали водить на новые работы – но не меня. По вечерам рабы рассказывали, что ходили в самый дальний конец Золотого Рога, где их отдавали в распоряжение плотников, портных и маляров, которые делали из картона корабли, крепости и башни. Затем нам стало известно, что паша собирается женить своего сына на дочери великого визиря и готовит грандиозные свадебные торжества.
Однажды утром меня вызвали в особняк паши. По дороге я думал, что у него опять начались приступы астмы. Паша был занят, меня посадили в одну из комнат особняка и велели ждать. Вскоре открылась другая дверь и вошел человек лет на пять-шесть старше меня. Я взглянул ему в лицо и внезапно похолодел от страха!
2
Человек, вошедший в комнату, был поразительно, невероятно похож на меня. Да это я и был! Такая мысль промелькнула у меня, едва я его увидел. Словно бы некто, желая сыграть со мной шутку, снова ввел меня в комнату через дверь прямо напротив той, в которую я недавно вошел, и сказал мне: посмотри, вот каким ты должен быть на самом деле, вот как ты должен был войти в дверь, вот какие у тебя должны быть жесты, вот как должен был смотреть на тебя сидящий в комнате человек. Мы встретились взглядами и поздоровались. Он, однако, не выказал ни малейшего удивления. Тогда я решил, что не так уж мы и похожи: у него была борода, к тому же я ведь, должно быть, и сам уже забыл, как выглядит мое лицо. Когда он усаживался напротив меня, я вспомнил, что целый год не смотрелся в зеркало.
Вскоре та дверь, в которую вошел я, отворилась, его позвали, а я снова остался ждать. Подумав, я решил, что это все-таки была не мастерски сыгранная шутка, а игра воображения, порожденная моим тоскующим разумом. Дело в том, что в те дни мне постоянно являлись видения: вот я вернулся домой, все встречают меня – и вдруг исчезают, и я понимаю, что сплю в своей каюте на корабле, а все события последних месяцев мне приснились; и другие утешительные сказки в том же духе мерещились мне. Когда дверь открылась и меня позвали, я готов уже был утвердиться в мысли, будто увидел одну из этих сказок, только увидел наяву, и это знак, что скоро все чудесным образом переменится и будет как раньше.
Паша стоял рядом с человеком, похожим на меня. Он велел мне поцеловать край одежды этого человека, потом спросил, как у меня дела, но, когда я заговорил о тяготах жизни в неволе и своем желании вернуться домой, он и слушать не стал. Паша сказал, что помнит: я рассказывал ему, будто разбираюсь в науке, астрономии и инженерном деле, а как насчет пороха и фейерверков? Я сразу же ответил, что и в этом знаю толк, но, поймав на мгновение взгляд того, другого человека, испугался: уж не готовят ли мне какую-то ловушку?
Паша тем временем заговорил о грядущей свадьбе: она будет такой, какой никогда не бывало, и фейерверк на ней должен быть непохожим на другие, каким-то совершенно невиданным. В прошлый раз, когда фейерверк устраивали по случаю рождения султана, человек, похожий на меня (паша называл его просто Ходжой[8]), готовил огненную потеху вместе с одним мальтийцем, мастером этого дела, но тот с тех пор умер, и паша подумал, не смогу ли я оказаться полезным Ходже. Мы должны друг друга дополнить. Если представление будет хорошим, он, паша, в долгу не останется. Я решил, что настал благоприятный миг, и заговорил о том, что единственное мое желание – вернуться на родину, но паша спросил, ложился ли я с женщинами с тех пор, как оказался здесь, и, когда я сказал, что нет, объявил, что свобода мне не нужна, ибо на что нужна свобода без этого дела? Он говорил грубыми словами, которые употребляли стражники; видимо, я смотрел на него с преглупым видом, потому что он рассмеялся. Затем паша повернулся к схожему со мной человеку и сказал, что Ходжа будет за меня отвечать. Мы вышли.
Пока мы шли тем утром к дому Ходжи, я размышлял о том, что не знаю абсолютно ничего такого, чему мог бы его научить. Но и он, как оказалось, знал не больше меня. А имеющиеся у нас знания подсказывали нам одно и то же: самое главное – приготовить хорошую камфорную смесь. Поэтому занялись мы тем, что, тщательно взвешивая составляющие, готовили горючие смеси, испытывали их по ночам под городскими стенами и сравнивали результаты. Пока наши помощники под восхищенными взглядами собравшихся детей запускали ракеты, мы сидели в темноте под деревьями, с любопытством и волнением ожидая вспышки, – точно так же, как много лет спустя, только уже при свете дня, будем ждать исхода испытаний нашего чудо-оружия. Затем – иногда при свете луны, а порой и в полной темноте – я пытался записать увиденное в маленькую тетрадь. Возвращаясь под покровом темноты в дом Ходжи, окна которого выходили на Золотой Рог, мы долго обсуждали, чего добились.
Дом этот был маленький, невзрачный и неуютный. Стоял он на кривой улочке, по которой непонятно откуда текла грязная вода, отчего земля вечно была раскисшей. В самом доме не имелось почти никаких вещей, но каждый раз, когда я входил в него, мне становилось тесно и как-то тоскливо. Может быть, это чувство вселял в меня хозяин дома, который велел называть его Ходжой, поскольку не любил имя, данное ему в честь деда: он наблюдал за мной, словно чему-то хотел от меня научиться, но еще не знал, чему именно. Поскольку мне было непривычно сидеть на тюфяках, которые он клал у стены, то я оставался стоять, когда мы обсуждали наши опыты, а иногда принимался возбужденно расхаживать по комнате. Мне кажется, Ходже это нравилось: сам-то он сидел и мог вдоволь наблюдать за мной, пусть и в тусклом свете лампы.
Ощущая на себе его взгляд, я чувствовал беспокойство из-за того, что он не замечает сходства между нами. Несколько раз мне казалось, что он все же сходство заметил, но постарался не подать виду. Он словно играл со мной: ставил на мне маленькие опыты и что-то неведомое для себя отмечал. В первые дни он смотрел на меня так, будто узнаёт что-то новое и ему становится все интереснее, однако он словно бы не решался сделать еще один шаг, чтобы углубить это странное знание. Именно эта неопределенность угнетала меня, из-за нее мне было так душно в его доме! Конечно, нерешительность Ходжи придавала мне смелости, но не успокаивала. Дважды он пытался вызвать меня на спор: первый раз, когда мы обсуждали наши опыты, и второй – когда он спросил, почему я до сих пор не принял ислам. Сообразив, чего он хочет, я отвечал осторожно. Он почувствовал это; я понял, что он презирает меня, и разозлился. Возможно, в те дни общим между нами было лишь то, что каждый из нас считал другого достойным презрения. Я старался не показывать этого, поскольку надеялся, что, если фейерверк удастся и все пройдет благополучно, мне разрешат вернуться на родину.
Как-то ночью, когда одна из наших ракет взлетела необычайно высоко, обрадованный успехом Ходжа сказал, что когда-нибудь сможет сделать ракету, которая долетит до самой Луны; дело лишь за тем, чтобы отыскать нужную пороховую смесь и отлить корпус, который можно было бы начинить этим порохом. Я начал говорить, что до Луны очень далеко, но он прервал меня: ему и без того известно, что Луна очень далеко, но разве это не самая близкая к Земле звезда? Я согласился, но он, в противоположность моим ожиданиям, не успокоился и даже еще пуще разволновался, но ничего больше не сказал.
Два дня спустя в полночь Ходжа спросил, почему я так уверен, что Луна – самое близкое к нам небесное тело. Что, если это обман зрения? Тогда я впервые рассказал ему, что изучал астрономию, и вкратце изложил основные законы птолемеевой космографии. Я видел, что он слушает с любопытством, но молчит, потому что не хочет обнаруживать свой интерес. Через некоторое время, когда я замолчал, он сказал, что и сам знаком с учением Батламиуса[9], но это не мешает ему подозревать, что существует небесное тело, которое ближе к Земле, чем Луна. Под утро он говорил об этом теле так, будто уже добыл доказательства его существования.
На следующий день он сунул мне в руки написанную скверным почерком книгу. Моих скудных знаний турецкого хватило, чтобы понять: это краткое изложение «Альмагеста»[10], причем, похоже, не собственно оригинала, а пересказа. Меня заинтересовали только арабские названия планет, да и то не слишком: в то время я не был расположен интересоваться подобными вещами. Увидев, что книга оставила меня равнодушным и я отложил ее в сторону, Ходжа рассердился и сказал: с моей стороны было бы правильнее переступить через свое самодовольство и повнимательнее ознакомиться с книгой, за которую он отдал семь золотых монет. Как послушный ученик, я снова открыл книгу, начал терпеливо перелистывать страницы и наткнулся на примитивную схему небесной сферы. Планеты были расположены вокруг Земли на безыскусно начерченных орбитах, причем если порядок орбит художник обозначил верно, то о расстояниях между ними не имел ни малейшего представления. Затем я заметил маленькую звездочку, изображенную между Землей и Луной; приглядевшись, я понял, что ее пририсовали позднее – чернила были совсем свежие. Пролистав книгу до конца, я отдал ее Ходже. Он заявил, что найдет эту маленькую звездочку, и было ясно, что говорит он совершенно серьезно. Я промолчал, и наступила тишина, раздражавшая его не меньше, чем меня. Поскольку ни одна из наших ракет так и не взлетела настолько высоко, чтобы навести нас на разговор об астрономии, этой темы мы больше не касались. Наш маленький успех оказался случайностью, чьей тайны мы так и не раскрыли.
Но вот в том, что касалось яркости и блеска огней, мы изрядно преуспели, и секрет этого достижения нам был известен: обходя одну за другой стамбульские лавки, Ходжа нашел у кого-то из торговцев желтоватый порошок, названия которого купец и сам не знал (мы решили, что это смесь серы и медного купороса); порошок этот придавал пламени великолепный блеск. Затем, желая, чтобы пламя сияло разными цветами, мы добавляли к нашему порошку все, что только могли придумать, но всего-то и получили, что едва отличимые друг от друга светло-коричневый и бледно-зеленый. Ходжа, впрочем, говорил, что ничего лучше этого Стамбул все равно никогда прежде не видел.
Так оно и было. После нашего представления, устроенного на вторую ночь свадебных торжеств, все лишь о нем и говорили – даже наши враги, которые строили козни, чтобы порученное нам дело передали им. Когда я услышал, что на противоположный берег Золотого Рога теперь придет посмотреть на фейерверк сам султан, мне стало не по себе; я перепугался: вдруг что-нибудь пойдет не так и я еще долгие годы не смогу вернуться на родину? Когда велели начинать, я забормотал слова молитвы. Сначала, чтобы поприветствовать гостей и подготовить их к представлению, мы запустили вертикально вверх ракеты с бесцветным пламенем, а сразу за ними привели в действие машину с большим железным ободом, которую мы с Ходжой называли «мельницей». Небо мгновенно окрасилось в красный, желтый и зеленый; раздался ужасный грохот, еще более внушительный, чем мы ожидали. Взлетали ракеты, обод крутился все быстрее и быстрее и вдруг остановился, осветив все вокруг как днем. Мне на мгновение показалось, что я в Венеции; впервые в жизни подобное представление я увидел восьмилетним мальчком и тогда, как и сейчас, был несчастен, потому что мой новый красный кафтан надели не на меня, а на моего старшего брата, чья одежда порвалась, когда мы подрались накануне. Пламя, вылетавшее из ракет, было таким же красным, как насилу напяленный на брата кафтанчик с множеством пуговиц (пуговицы тоже отливали красным) – мой кафтанчик, который я не смог надеть в ту ночь и поклялся не надевать уже никогда.
Затем пришел черед устройства, которое мы называли «источник»: из-под крыши на высоте в пять человеческих ростов потек вниз огонь, который лучше всего было видно людям на противоположном берегу; а когда следом из «источника» начали вылетать ракеты, зрители наверняка восхитились не меньше нашего, но мы хотели поразить их еще сильнее. На воде Золотого Рога уже покачивались плоты. Сначала загорелись картонные крепости и замки, испуская из башен ракеты; это зрелище символизировало победы минувших лет. Проплыли парусники, захваченные в год моего пленения, и другие корабли обрушили на них дождь из ракет; так я снова пережил день, когда потерял свободу. Картонные корабли загорелись и начали тонуть, и с обоих берегов понеслись восторженные крики: «Аллах! Аллах!» Тогда мы привели в движение драконов, из ушей и ртов которых вырывались языки пламени. По нашей воле драконы сцепились друг с другом в яростной схватке; как мы и задумали, поначалу ни один не мог победить; мы еще больше накалили атмосферу, пуская с берега ракеты, а потом, когда они отгремели и стало чуть темнее, наши люди на плотах принялись крутить колеса, и драконы начали медленно подниматься к небу. Зрители завопили от восторга, смешанного со страхом; когда драконы снова с грохотом обрушились друг на друга, с плотов разом запустили все оставшиеся ракеты; прикрепленные к туловищам драконов фитили вспыхнули именно в тот момент, когда было нужно, и все вокруг, как мы и замышляли, превратилось в геенну огненную. Я понял, что мы добились успеха, когда услышал, как рядом рыдает маленький мальчик; его отец, забыв про ребенка, с открытым ртом таращился в пылающее страшным огнем небо. Теперь-то мне будет позволено вернуться домой, думал я. Тем временем в самое сердце пылающего ада, никем не замеченный, вплыл маленький черный плот, везущий на себе создание, которое я прозвал шайтаном; он был увешан таким количеством ракет, что мы боялись, как бы плот вместе с нашими людьми не взлетел на воздух. Но все прошло как по маслу. Когда дерущиеся драконы, израсходовав свой огонь, начали исчезать из виду, ракеты, прикрепленные к шайтану, одновременно вспыхнули и он взвился в небо; затем из его тулова посыпались огненные шары, с треском взрывающиеся в воздухе. Подумав о том, что сейчас весь Стамбул замер в страхе и ужасе, я почувствовал сильное волнение, словно мне тоже стало страшно, словно я наконец отважно приступил к тому, чем хотел заниматься всю жизнь, словно мне сделалось уже совершенно не важно, в каком городе я нахожусь. Мне хотелось, чтобы шайтан всю ночь висел там, над городом, разбрасывая во все стороны пламя. Но он, поколыхавшись немного из стороны в сторону и не причинив никому вреда, под восторженные крики, летевшие с обоих берегов, погрузился в залив. Уходя под воду, он продолжал разбрасывать пламя.
На следующее утро паша, словно в сказке, передал мне через Ходжу мешочек с золотыми монетами. Он сказал, что остался очень доволен зрелищем, но победа шайтана его немного напугала.
Мы устраивали свое представление еще десять ночей. Днем мы приводили в порядок обгоревшие сооружения и придумывали, каким бы еще зрелищем поразить народ, пока пригнанные из зиндана пленники начиняли ракеты порохом. Один раб подорвал десять мешочков пороха, обжег себе лицо и ослеп.
Когда свадебные торжества закончились, наши встречи с Ходжой прекратились. Избавившись от общества этого беспокойного человека, чей завистливый взгляд не отпускал меня с утра до вечера, я почувствовал облегчение, но должен признаться, что мои мысли постоянно возвращались к тем напряженным дням, что мы провели вместе. Когда вернусь на родину, думал я, всем расскажу об этом турке, который был так похож на меня и при этом ни разу не заговорил о нашем сходстве.
Теперь я снова жил в своей каморке, ухаживая за больными, чтобы как-то скоротать время; услышав, что меня зовет к себе паша, я обрадовался и поспешил к нему едва ли не бегом. Паша встретил меня похвалой: фейерверк всем понравился, всех очень развлек, я человек весьма способный. Объявив все это поспешной скороговоркой, он вдруг заявил: если я приму ислам, он немедленно отпустит меня на свободу. Я так растерялся, что все мысли вылетели у меня из головы; я сказал, что хочу вернуться в свою страну, и унизился даже до того, что принялся бормотать, заикаясь, о своей матери и невесте. Паша, словно не слыша меня, повторил свои слова. На этот раз я не сразу ответил. В голову почему-то лезли воспоминания о друзьях моего детства, отвратительных лентяях и лоботрясах, которые не задумываясь могли поднять руку даже на своих отцов. Когда я сказал, что веру менять не буду, паша рассердился. Я вернулся в свою каморку.
Через три дня паша позвал меня снова. На сей раз он был в хорошем расположении духа. Я между тем никак не мог сообразить, поможет ли смена религии моему побегу, и потому никакого определенного решения еще не принял. Паша спросил, чтó я надумал, и прибавил, что собирается выдать за меня красивую девушку. Набравшись храбрости, я сказал, что веру не сменю. Паша слегка удивился и обозвал меня глупцом: ведь здесь нет никого, перед кем мне можно было бы стыдиться своего вероотступничества. Затем он немного рассказал мне об исламском вероучении, а когда замолчал, меня снова отправили в темницу.
На третий раз к самому паше меня уже не повели. Один из его слуг спросил, чтó я надумал. Может быть, я и переменил бы свое решение, но не слуге же об этом говорить! И я сказал, что пока не готов менять религию. Слуга схватил меня за руку, отвел вниз и передал какому-то другому человеку.
Этот человек был такого хрупкого телосложения, что напоминал видение из сна; он взял меня под руку и с участливым видом, будто помогая больному, повел в укромный уголок сада. По пути к нам присоединился еще один – детина огромного роста, настолько грубо-реальный, что во сне такого никогда не увидишь. Когда мы дошли до стены, они связали мне руки, и я увидел у одного из них топор – не очень большой. По приказу паши, услышал я, мне отрубят голову, если я не стану мусульманином. Я оцепенел.
Не так быстро, только не так быстро, думал я. В их глазах читалась жалость. Я молчал. Хоть бы больше не спрашивали! Не успел я так подумать, как они спросили еще раз. Так религия вдруг превратилась для меня в нечто такое, во имя чего можно с легкостью отдать жизнь; я преисполнился уважения к себе – и в то же время жалел себя, как и эти двое, что принуждали меня отречься от моей веры своими вопросами. Пытаясь заставить себя думать о чем-нибудь другом, я вообразил, что смотрю из окна в сад позади нашего дома: я вижу стол, на котором стоит инкрустированный перламутром поднос с персиками и черешней; за ним – широкое плетеное кресло, обложенное изнутри пуховыми подушками того же зеленого цвета, что и оконная рама; а еще дальше – колодезь, на краешек которого присел воробей, оливы, черешни и ореховое дерево. К одной из могучих ветвей ореха на длинных веревках подвешены качели, слегка покачивающиеся на едва заметном ветерке. Мне снова задали вопрос, и я ответил, что веру не поменяю. Рядом стояла деревянная колода; меня поставили перед ней на колени и положили на нее мою голову. Я закрыл глаза, но тут же открыл их. Один из палачей взялся за топор, но другой остановил его, сказав, что я, возможно, передумал. Меня подняли на ноги и велели еще немного подумать.
Пока я думал, прямо тут же, рядом с колодой, начали рыть яму. Я решил, что меня собираются в ней похоронить и ужаснулся, подумав, что буду зарыт в землю живым. Я полагал, что волен размышлять, пока мои палачи не выроют могилу, но они, выкопав лишь небольшую ямку, снова подступили ко мне. В этот миг я подумал, как глупо будет умереть здесь и сейчас. Может статься, я и надумал бы перейти в мусульманство, но не имел для этого времени. Вот если бы я вернулся в зиндан, в свою каморку, к которой привык, которую успел полюбить, если бы я провел там в размышлениях ночь, может быть, к утру я и решился бы поменять религию. Но не сейчас.
Меня снова схватили и поставили на колени. Перед тем как голова моя опустилась на плаху, я успел заметить среди деревьев легкое движение и изумился: там, не касаясь ногами земли, бесшумно шел я сам, только обросший бородой. Я хотел окликнуть эту свою тень, мелькнувшую за деревьями, но не смог издать ни звука: мое горло было прижато к колоде. Тогда я подумал, что смерть, приближающаяся с каждым мигом, все равно что сон, смирился со своей участью и стал ждать. По спине и затылку пробегал холодок. Я не хотел ни о чем думать, но не получалось. И тут палачи подняли меня на ноги и, ворча, что паша сильно разгневается, развязали мне руки. Затем они обругали меня врагом Аллаха и Пророка и повели наверх, к паше.
Паша позволил мне поцеловать край его одежды и заговорил со мной поначалу ласково: ему понравилось, что я не пожелал отречься от своей веры, даже когда речь шла о моей жизни и смерти. Затем, впрочем, он начал горячиться; мое упрямство, говорил он, глупо, в том числе и потому, что ислам как религия выше христианства. Чем дальше, тем сильнее он гневался и заявил в конце концов, что намерен меня наказать. Потом он заговорил о данном им кому-то обещании, и я понял, что это обещание уберегло меня от серьезных неприятностей, а чуть позже догадался, что человек, о котором идет речь (из слов паши выходило, что человек этот весьма странный), – Ходжа. Тут и сам паша сказал наконец, что подарил меня Ходже.
Я смотрел на пашу, не понимая, чтó он хочет сказать, и паша пояснил: теперь я – раб Ходжи, и он, паша, выдал Ходже на то соответствующую бумагу; мое освобождение зависит теперь от воли Ходжи, который может делать со мной все, что ему угодно. Объявив это, паша вышел из комнаты.
Ходжа, оказывается, тоже был в доме паши – ждал меня внизу. Я понял, что именно его видел в саду среди деревьев. Мы пошли к нему домой. Ходжа сказал, что с самого начала понял: я не отрекусь от своей веры. Он даже успел подготовить для меня одну из комнат своего дома. Не голоден ли я? Я еще не успел отойти от страха смерти, и есть мне совсем не хотелось. И все же я съел немного йогурта, который Ходжа поставил передо мной, и пару кусков хлеба. Ходжа с довольным видом наблюдал за тем, как я жую хлеб. Он смотрел на меня, словно крестьянин, который купил на базаре отличную лошадь, кормит ее и размышляет, для какой работы ее лучше использовать. Впоследствии я часто вспоминал этот взгляд. Ходжа, впрочем, смотрел на меня недолго и вскоре увлекся рассуждениями о часах, которые собирался преподнести паше, и о космографии.
Затем он заявил, что я должен научить его всему; для этого-то он и попросил меня у паши и только после этого сможет отпустить меня на волю. Лишь через несколько месяцев я уразумел, чтó значит «всему». Он хотел знать все, чему я научился в школе и университете, перенять все сведения по астрономии, медицине, инженерному делу и прочим наукам, которые преподают у меня на родине! Далее он желал ознакомиться с содержанием книг, оставшихся в моей каморке, – на следующий день их доставили ему из зиндана, – желал выяснить все, что я видел и слышал, что я думаю о реках, озерах, морях и облаках, о причинах землетрясений и грома… Ближе к полуночи он прибавил, что больше всего его интересуют звезды и планеты. В открытое окно лился лунный свет; Ходжа сказал, что нам непременно нужно будет отыскать доказательства существования той звезды между Луной и Землей – или же доказать, что ее нет. Пока я, еще не изживший потрясений этого дня, когда был на волосок от смерти, вновь невольно отмечал жутковатое сходство между нами, Ходжа постепенно перестал употреблять слово «научить» – теперь он говорил «мы изучим», «мы откроем», «мы достигнем».
И мы начали работать, словно два дружных брата, словно два прилежных ученика, которые продолжают зубрить урок, даже когда дома нет взрослых и некому следить за ними в приоткрытую дверь. На первых порах я по большей части чувствовал себя добрым и снисходительным старшим братом, согласившимся повторить уже пройденное, чтобы ленивый братишка смог его догнать; Ходжа же вел себя так, словно хотел, умничая, доказать, что знания старшего брата ничего особенного собой не представляют. По его мнению, разница в знаниях между нами определялась количеством прочтенных и запомненных мною книг, которые он принес из моей каморки и расставил на полочке. Он обладал огромным прилежанием и острым умом; овладев итальянским, в котором впоследствии усовершенствуется еще больше, он за полгода прочитал все мои книги, и, когда он просил меня повторить кое-что из того, что я знал, становилось понятно, что от моего превосходства не осталось и следа. При этом он держал себя так, словно обладает знанием, превосходящим то, что содержалось в книгах, многие из которых, если не большинство, он считал бесполезными, – знанием подлинным, глубже проникающим в суть вещей. Через полгода после начала занятий мы были уже не двумя соучениками, вместе добивающимися успехов. Ходжа размышлял, а я лишь помогал ему, напоминая кое-какие упущенные им подробности.
Поиском «идей», которые я сейчас по большей части уже забыл, он обычно занимался по ночам, через несколько часов после нашего скромного ужина, когда в квартале давно уже не горело ни огонька и улицы накрывала тишина. По утрам он ходил преподавать в начальную школу при мечети через два квартала, а два раза в неделю – в муваккитхане[11] при другой мечети, в дальнем квартале, где я ни разу не бывал. Все оставшееся время мы либо готовились к ночному поиску идей, либо развивали уже найденные. В то время я еще не терял надежды и верил, что в скором времени смогу вернуться на родину. Мне казалось, что, если я буду опровергать идеи Ходжи, не вызывавшие у меня особого интереса, это может задержать мое возвращение, так что я никогда ему не перечил.
Итак, первый год мы провели, с головой погрузившись в астрономию, дабы найти доказательства того, что воображаемая звезда существует или же ее нет вовсе. Работая с телескопами, стекла для которых за большие деньги были выписаны из Фландрии, с астрономическими приборами и таблицами, Ходжа вскоре забыл о воображаемой звезде; он сказал, что его ум занимает теперь более важная задача: он собирается оспорить систему Батламиуса. До споров, впрочем, у нас не доходило: он говорил, а я слушал. Ходжа называл нелепицей представление о прозрачных сферах, к коим прикреплены звезды: вероятно, их удерживает в небесах что-то другое, например какая-то невидимая сила, может быть сила притяжения; потом он предположил, что Земля – да и Солнце – вращаются вокруг какого-то другого тела, не исключено, что и все звезды вращаются вокруг некоего неведомого нам центра. Далее он заявил, что собирается создать космографическую систему более совершенную, чем у Батламиуса; что он исследовал огромное количество звезд и выдвинет новые теории: возможно, Луна вращается вокруг Земли, а Земля – вокруг Солнца; возможно, центр мироздания – Венера. Однако и это все ему вскоре надоело. Он провозгласил, что сейчас самое важное – не выдвигать новые идеи, а познакомить людей со звездами и их движением, и начнет он с паши. Но тут мы узнали, что Садык-пашу сослали в Эрзурум. Говорили, что он был замешан в неудавшемся заговоре.
Возвращения паши из изгнания мы ждали несколько лет; в это время Ходжа вознамерился написать трактат о природе босфорских течений, и мы месяц за месяцем бродили вдоль пролива, наблюдая течения со склонов холмов под пронизывающим до костей ветром или же спускаясь в долины, где оценивали теплоту и скорость впадающих в Босфор речек.
Выполняя одно поручение паши, мы на три месяца отправились в Гебзе. Там, обратив внимание на то, что в разных мечетях в разное время призывают правоверных к молитве, Ходжа замыслил новое дело: нужно создать часы, которые определяли бы время намаза с безупречной точностью. Тогда же я рассказал ему, что такое стол. Когда этот сколоченный плотником по моим указаниям предмет обстановки принесли в дом Ходжи, стол поначалу ему не понравился; он решил, что стол, неприятно поразивший его своим сходством с плитой, на которую кладут покойника во время погребального намаза, принесет в дом несчастье; но потом Ходжа привык и к столу, и к стульям и даже говорил, что за столом ему лучше думается и пишется. Когда мы возвращались в Стамбул, чтобы изготовить для наших часов эллиптическую систему зубчатых колесиков, соответствующую солнечной орбите, стол следовал за нами на спине осла.
В те первые месяцы наших ученых трудов, когда мы сидели за столом друг против друга, Ходжа пытался сообразить, как лучше определять часы намаза и поста в холодных странах, где по причине круглой формы Земли продолжительность дня и ночи совершенно иная. Другой занимавший его вопрос заключался в том, существует ли еще такое место, кроме Мекки, где правоверный, как бы он ни встал на молитву, всегда обращает свое лицо в сторону Каабы. Замечая, что я в глубине души считаю эти вопросы совершенно неважными, Ходжа бросал на меня презрительный взгляд, но я в такие моменты утешал себя мыслью, что он ощущает мое превосходство; а он, наверное, злился, понимая, что я догадываюсь об этом, и пускался в рассуждения о разуме, пространностью не уступавшие его рассуждениям о науке. По возвращении паши в Стамбул Ходжа собирался произвести на него впечатление своими замыслами, новыми часами и новой космографической теорией, которую намеревался усовершенствовать и сделать понятной с помощью механической модели Вселенной; так он посеет в Стамбуле семена Возрождения и заразит всех своей любознательностью. Итак, мы оба пребывали в ожидании.
3
В те дни Ходжа размышлял о том, как создать еще более крупный механизм, который позволил бы заводить и отлаживать часы не раз в неделю, а по меньшей мере раз в месяц; впоследствии он надеялся усовершенствовать этот механизм так, чтобы часы для определения времени намаза достаточно было отлаживать всего раз в год, и выход видел в том, чтобы найти силу, позволяющую приводить в движение механизм, который становился бы все больше и тяжелее по мере увеличения промежутков между заводом часов. Тут он узнал от своих друзей из муваккитхане, что паша вернулся из Эрзурума.
На следующее утро Ходжа отправился к паше с поздравлениями. Тот заметил его в толпе гостей, проявил интерес к его изобретениям и даже спросил обо мне. Ночью мы разобрали часы и собрали их заново, добавили кое-что в модель Вселенной, раскрасили звезды. Ходжа прочитал мне на память отрывки из выученной им речи о логике движения небесных тел, которую усыпал пышными поэтическими оборотами, чтобы произвести впечатление на слушателей. Под утро, пытаясь справиться с волнением, он отбарабанил эту речь еще и задом наперед, затем погрузил в нанятую телегу наши механизмы и отправился в дом паши. Я удивился, увидев, какими маленькими кажутся в одноконной повозке часы и модель Вселенной, составные части которых несколько месяцев загромождали наш дом. Вернулся Ходжа очень поздно.
Когда механизмы выгрузили из телеги и принесли в сад, паша осмотрел эти странные предметы с неприятной холодностью старика, не расположенного смеяться над шутками. Ходжа тут же произнес свою вытверженную наизусть речь, а паша вспомнил обо мне и изрек слова, которые через несколько лет скажет султан: «Это он тебя всему научил?» – и только. «Кто?» – ответил Ходжа, чем сильно удивил пашу, но тут же сообразил, что речь идет обо мне. Паша назвал меня ученым дураком. Пересказывая все это, Ходжа думал не обо мне – мыслями он был еще в доме паши. Он упрямо повторил, что все это его собственные открытия, но паша ему не поверил; паше словно бы хотелось изобличить преступника, и он никак не желал согласиться с тем, что преступник – его любимец Ходжа.
Итак, вместо того чтобы повести беседу о звездах, они говорили обо мне. Разумеется, подобный оборот дела Ходже никак не мог понравиться. Он замолчал, паша отвлекся, заговорил с другими гостями. За ужином, когда Ходжа снова попытался рассказать о звездах и своих открытиях, паша сказал, что пытается вспомнить мое лицо, но в памяти всплывает только лицо Ходжи. В разговор вступили другие гости и пошли болтать о том, что у каждого человека есть двойник. Приводили самые разные, порой неправдоподобные примеры, вспоминали о близнецах, которых путали их собственные матери; о людях, до того похожих друг на друга, что при встрече их охватывал страх, но они, словно околдованные, уже не могли друг с другом расстаться; о разбойниках, которые занимали место порядочных людей. После ужина, когда гости стали расходиться, паша велел Ходже задержаться.
Ходжа снова заговорил о своем, паша поначалу скучал и даже, казалось, был недоволен тем, что его пичкают какими-то непонятными и запутанными сведениями, но потом, выслушав речь Ходжи в третий раз и понаблюдав, как стремительно вращаются Земля и звезды в нашей модели, он вроде бы что-то понял – по крайней мере, принял немного более благосклонный вид и сделался внимательнее. Тогда Ходжа в очередной раз с жаром повторил, что звезды вращаются не так, как все думают, а вот так – как показано в модели. «Ну и хорошо, – в конце концов промолвил паша, – я понял. Очень может быть, что так оно и есть. Почему бы и нет?» Ходжа замолк.
Я подумал, что они, должно быть, долго молчали. «Почему он остановился, почему не продолжил?» – пробормотал Ходжа, глядя в окно на погруженный во тьму Золотой Рог. Если это был вопрос ко мне, то ответа на него у меня тоже не имелось. Я, правда, подозревал, что у Ходжи есть соображения насчет того, каким могло быть продолжение беседы, но вслух он ничего не сказал.
Потом паша проявил интерес к часам, попросил открыть их и стал расспрашивать о назначении зубчатых колесиков, механизмов и гирек. Затем он опасливо, словно в темную и страшную змеиную нору, сунул палец в тикающее нутро часов и сразу его отдернул. Ходжа тем временем говорил об особых башнях для часов и о том, какой силой будет обладать намаз, совершаемый всеми в одно и то же безупречно отмеренное время. И тут паша вдруг выпалил: «Избавься от него! Хочешь – отрави, хочешь – отпусти на волю. Тебе же легче будет!» Должно быть, я бросил на Ходжу исполненный страха и надежды взгляд, поскольку он сказал, что не освободит меня, пока «они» кое-чего не поймут.
Я не стал спрашивать, чтó он подразумевал, может быть, боялся убедиться, что он и сам этого не знает. Затем они заговорили о других вещах, паша хмурился и презрительно посматривал на стоящие перед ним механизмы. Ходжа, продолжавший надеяться, что в паше снова проснется интерес, засиделся до позднего вечера, хотя и понимал уже, что его не очень рады видеть. Наконец он сложил механизмы в телегу. Воображение нарисовало мне человека, ворочающегося с боку на бок в своей постели в одном из домов на темных безмолвных улицах, по которым возвращался Ходжа: как человек этот, должно быть, дивился, слушая тиканье огромных часов, пробивающееся сквозь скрип телеги.
Ходжа шагал из угла в угол до самого рассвета. Свеча догорела, и я хотел зажечь новую, но он не разрешил. Я понимал, что он ожидает какого-то отклика от меня, и проговорил:
– Паша поймет!
Было еще темно, но Ходжа, наверное, понял, что я сам себе не верю. Немного погодя он все же ответил:
– Главное – понять, почему паша тогда замолчал.
И при первой же возможности он снова отправился к паше, желая разгадать эту тайну. На сей раз паша встретил его в хорошем расположении духа, сказал, что понимает, к чему он стремится. Обрадовав Ходжу такими словами, паша посоветовал ему заняться изготовлением оружия: «Такого, что сможет превратить весь мир в зиндан для наших врагов!» Каким должно быть это оружие, паша, правда, не сказал. Если Ходжа направит свои ученые занятия в этом направлении, паша ему поможет. Конечно же, он и словом не обмолвился о вознаграждении, на которое мы надеялись, – только дал Ходже мешочек с акче[12]. Дома Ходжа развязал мешочек и пересчитал монеты: семнадцать, какая странная цифра! Вручив мешочек, паша пообещал уговорить султана принять Ходжу и выслушать его. Мальчик, сказал он, интересуется «подобными вещами». Ни я, ни даже обычно легко загоравшийся надеждой Ходжа не приняли эти слова всерьез, но уже через неделю нам передали, что паша представит нас – да-да, и меня тоже! – султану после ифтара[13].
Готовясь к приему, Ходжа переделал речь, написанную для паши, так, чтобы она была понятна девятилетнему мальчику, и выучил ее наизусть. Но мысли его были заняты почему-то не султаном, а пашой, то есть все тем же вопросом: почему паша тогда замолчал? Когда-нибудь он раскроет эту тайну! Каким может быть оружие, которое поручил ему сделать паша? Ничего нового я об этом сказать не мог, да Ходжа меня и не просил. До поздней ночи он работал, закрывшись в своей комнате, а я, уже и не думая о том, когда вернусь в родные края, сидел без дела, смотрел в окно, словно глупый ребенок, и мечтал: человек, работающий за столом, – не Ходжа, а я, и в любое время я могу встать и пойти куда захочу!
Под вечер мы сложили механизмы в телегу и отправились во дворец. Я уже успел полюбить стамбульские улицы и мечтал стать невидимкой, чтобы гулять по ним никем не замеченным, проникать, словно призрак, в сады и бродить среди огромных чинар, каштанов и багрянников. Механизмы наши мы сгрузили с телеги с помощью дворцовых слуг и установили там, где нам сказали, – во втором дворе.
Султан оказался миловидным румяным мальчиком, невысоким даже для своего возраста. Он трогал механизмы, словно свои игрушки. Сейчас я уже не могу точно вспомнить, тогда ли мне захотелось быть его сверстником и другом или много позже, через пятнадцать лет, когда мы встретились снова, но, во всяком случае, я сразу почувствовал, что он заслуживает хорошего отношения. Тем временем Ходжа от волнения никак не мог начать свою речь, а султан и столпившиеся вокруг придворные с любопытством ждали. Наконец Ходжа заговорил. В свой рассказ он вставил кое-что совершенно новое: говорил о звездах как о живых существах, разумных и прекрасных, которые знают геометрию и арифметику и, пользуясь этими знаниями, вращаются в гармонии друг с другом. Видя, что мальчик увлеченно слушает, время от времени бросая восхищенный взгляд на небо, Ходжа все больше воодушевлялся. Вот, говорил он, указывая на модель Вселенной, вращающиеся прозрачные сферы, на которых расположены звезды; вот Венера, вот так она вращается, а эта огромная штука – Луна, которая движется иначе. Ходжа вращал звезды; колокольчики, подвешенные к модели, мелодично звенели; маленький султан опасливо отступал на шаг назад, потом, собравшись с духом, снова подходил к позвякивающей модели, заглядывал в нее, словно в волшебный ящик фокусника, и старался понять, что там к чему.
Сейчас, когда я навожу порядок в своих воспоминаниях, пытаясь заново придумать собственное прошлое, оно представляется мне картиной счастья, похожей на картинки к сказкам, которые я слушал в детстве. Не хватало только похожих на пирожные домиков с красными крышами и стеклянных шаров, внутри которых, если их перевернуть, начинал идти снег. Потом мальчик начал задавать вопросы, а Ходжа – отвечать на них.
Как звезды держатся в воздухе? Они укреплены на прозрачных сферах. Из чего сделаны эти сферы? Из прозрачного вещества, потому-то они и сами прозрачные. А они не могут столкнуться друг с другом? Нет, они расположены на разных уровнях, как в этой модели. Звезд так много, почему же сфер в модели меньше? Потому что звезды очень далеко. Насколько далеко? Очень-очень далеко. А у тех, других звезд тоже есть колокольчики? Нет, колокольчики подвесили мы, чтобы отмечать, когда звезда совершает полный круг. А гром как-нибудь с этим связан? Нет. А с чем тогда? С дождем. Завтра будет дождь? Судя по небу, нет. А что говорит небо о больном льве султана? Он выздоровеет, но надо набраться терпения. И так далее и тому подобное.
Говоря про льва, Ходжа поглядывал на небо, как и во время рассказа о звездах. По дороге домой он вспомнил об этом с усмешкой. То, что ребенок не отличает науку от пустых небылиц, не страшно; главное, он кое-что понял! Снова Ходжа произнес эти слова, причем с таким видом, будто не сомневался: мне доподлинно известно, какой смысл скрывается за этим «кое-что». А я тем временем думал, что мне уже все равно, становиться мусульманином или нет. В мешочке, который вручили Ходже, когда мы выходили из дворца, оказалось пять золотых монет. Султан теперь знает, сказал Ходжа, что в движении звезд есть логика и порядок. Ах, султан! Не скоро, очень не скоро мне довелось узнать его ближе. Так удивительно было видеть в нашем окне все ту же луну. Мне хотелось снова стать ребенком. Ходжа не удержался и опять завел прежнюю песню: вопрос про льва был не так уж важен, просто мальчик любит животных, вот и все.
Наутро он заперся в комнате и принялся за работу, а через несколько дней снова погрузил часы и звездную модель на телегу, но на этот раз, провожаемый любопытными взглядами из-за оконных решеток, отправился в свою начальную школу. Вечером он вернулся в плохом настроении, впрочем, не настолько плохом, чтобы молчать. «Я думал, дети окажутся такими же понятливыми, как султан, но ошибся», – промолвил он. Дети просто испугались, а когда Ходжа, рассказав про звезды, начал задавать вопросы, один из мальчиков сказал, что по ту сторону неба находится ад, и разревелся.
Всю следующую неделю Ходжа старался укрепиться в мысли, что султан правильно понял его объяснения; в разговорах со мной он перебирал все подробности нашего пребывания во втором дворе, желая, чтобы я соглашался с его доводами: да, ребенок сообразительный; да, он уже сейчас умеет размышлять; да, это уже сейчас самостоятельная личность, способная противостоять влиянию своего окружения! Затем, еще до того, как султану начали сниться сны про нас, он начал сниться нам. Ходжа продолжал работать над часами; размышлял он, как мне представлялось, и об оружии; по крайней мере, заверил в этом пашу, когда тот вызвал его к себе. Но я догадывался, что паша его уже разочаровал. «Он стал таким же, как все, – говорил Ходжа. – Больше не желает ничего узнавать о незнакомых ему предметах!» Через неделю султан позвал его снова.
По словам Ходжи, султан встретил его приветливо. «Мой лев поправился, – сказал он. – Как ты говорил, так и вышло». Затем султан вместе с приближенными вышел во двор, где показал Ходже плавающих в пруду рыбок и спросил, что тот о них думает. «Они были красные, – говорил мне Ходжа, – а больше на ум ничего не приходило». Но потом он уловил в движении рыбок некий порядок, и они словно бы сговаривались между собой, чтобы этот порядок не нарушить. Ходжа сказал, что рыбки кажутся ему умными. Услышав это, рыжий карлик, стоявший рядом с гаремным евнухом, который то и дело напоминал султану о наставлениях его матери, громко рассмеялся, но султан отругал его и позже, когда они отправились на прогулку, в наказание не взял этого карлика в свою карету.
Они поехали на площадь Ат-Мейдан, туда, где содержали хищных зверей. Султан провел Ходжу по зверинцу, показывая ему львов, леопардов и тигров, прикованных цепями к колоннам бывшей христианской церкви. Дойдя до льва, чье выздоровление предсказал Ходжа, мальчик остановился, заговорил со зверем и представил ему Ходжу. Затем они подошли к лежащей в углу львице; от нее не исходил, как от других животных, неприятный запах, и она была беременна. Глаза у султана загорелись, и он спросил, сколько львят родит эта львица и сколько среди них будет самцов, а сколько самочек.
В ответ Ходжа, как он потом, досадливо морщась, сознался мне, сморозил глупость – сказал, что разбирается в астрономии, но не в астрологии. «Но ты знаешь будущее лучше, чем главный астролог Хусейн-эфенди!» – воскликнул мальчик. На это Ходжа ничего не ответил, потому что боялся, как бы кто-нибудь из челяди не подслушал и не передал его слова Хусейну-эфенди. А расстроенный султан продолжал спрашивать: неужели Ходжа ничего не знает? Зачем же он тогда смотрит на звезды?
И Ходже пришлось повести разговор, который он намеревался начать много позже. Он сказал, что звезды многому его научили и благодаря этому он немало чего полезного добился в своей работе. Султан слушал, глядя на него во все глаза; Ходжа истолковал его молчание в свою пользу и продолжил: чтобы наблюдать за звездами, нужно построить обсерваторию, вроде той, которую девяносто лет назад повелел возвести Мурад III, дед Ахмеда I, деда нашего султана, для Такиюддина-эфенди[14] и которая, увы, от небрежения пришла в ветхость и разрушилась. Нужно создать новую обсерваторию и даже нечто большее – дом наук, где будут бок о бок трудиться ученые, исследующие не только звезды, но все, что есть в этом мире: моря и реки, облака и горы, цветы и, конечно же, животных; обсуждая друг с другом свои наблюдения, ученые мужи будут обретать новое знание и развивать наш разум.
Султан слушал изложение этого замысла, о котором и я прежде ничего не знал, как увлекательную сказку. В карете на обратном пути он снова спросил про львицу: «Так какой же приплод она даст?» Ходжа успел все обдумать и на сей раз уверенно заявил: «Самцов и самок будет поровну!» Дома он сказал мне, что в его ответе не было ничего опасного. «Я приберу к рукам этого глупого мальчишку, – говорил он. – Я похитрее буду, чем главный астролог Хусейн-эфенди!» Меня удивило и даже почему-то расстроило, что Ходжа назвал султана глупым, и я, как обычно, когда мне бывало грустно, занялся делами по дому.
Слово «глупый» вскоре стало для Ходжи подобием волшебного ключа, отмыкающего любой замóк: они глупы, и потому им даже не приходит в голову поднять глаза и посмотреть на звезды; они глупы, и потому, прежде чем научиться чему-то новому, они спрашивают, пригодится ли им это и для чего; они глупы и потому не хотят входить в подробности, а требуют изложить им все вкратце; они глупы и потому похожи друг на друга и так далее и тому подобное.
Я ничего не отвечал Ходже, хотя и сам несколько лет назад, еще на родине, любил произносить подобные речи. Впрочем, я его не слишком занимал – все мысли Ходжи были заняты глупцами. Моя же глупость, по его словам, была иного рода. По свойственной мне в те дни болтливости я рассказал ему один свой сон: мне снилось, будто он поменялся со мной местами, приехал в мою страну и женится на моей невесте. Во время свадьбы никто не замечает, что он – это не я; я же, одетый в турецкий наряд, сначала стою в сторонке и наблюдаю за свадьбой, а потом, в самый разгар торжеств, подхожу к своей матери и счастливой невесте, но они, несмотря на мои рыдания, от которых я чуть позже проснулся, не узнают меня, отворачиваются и уходят прочь.
В те дни Ходжа дважды побывал у паши. Тому, по всей видимости, пришлось не по душе, что Ходжа в обход него пытается приобрести расположение султана, и он подверг Ходжу настоящему допросу. Расспрашивал он и про меня, даже велел своим людям собрать обо мне сведения, но об этом Ходжа поведал много позже, когда пашу снова выслали из Стамбула, иначе я трясся бы от страха быть отравленным. И все же я догадывался, что интересую пашу больше, нежели Ходжа; мое самолюбие тешило, что сходство между мной и Ходжой беспокоит пашу куда больше, чем меня самого. В то время это сходство оставалось словно бы тайной, о которой Ходжа не желал ничего знать, а в меня знание о ней вселяло странную смелость. Иногда мне казалось, что из-за этого сходства, и только из-за него, мне не угрожает никакая опасность, пока жив Ходжа. Возможно, по этой причине я возражал ему, когда он говорил, что паша тоже из породы глупцов, чем изрядно сердил Ходжу. Сознание того, что он не может от меня отделаться, хоть я и в тягость ему, толкало меня на несвойственную мне дерзость: я то и дело спрашивал его о паше, осведомлялся, чтó тот говорит о нас двоих. Это вызывало у Ходжи приступы гнева, причины которого, вероятно, не были ведомы и ему самому. Он принимался твердить, что у паши есть враги, что янычары неспокойны и могут взбунтоваться, что он нутром чует: во дворце что-то затевается. Так что если он и возьмется за работу над оружием, как предложил ему паша, то не для визиря, который сегодня есть, а завтра нет его, а для того, чтобы преподнести это оружие султану.
Некоторое время я думал, что Ходжа сосредоточился на этом расплывчатом замысле, что он пытается изобрести новое оружие, но из этого ничего не получается: ведь если бы получалось, он наверняка рассказал бы мне об этом и поинтересовался бы моим мнением – пусть и лишь для того, чтобы меня унизить. Однажды вечером мы возвращались из одного дома в Аксарае[15], куда ходили раз в две-три недели, чтобы послушать музыку и вкусить женских ласк. Ходжа сказал мне, что будет работать до самого утра, потом заговорил о женщинах (а у нас не было заведено говорить на такие темы), затем пробормотал: «Я вот думаю…», но не закончил фразу, а придя домой, тотчас закрылся у себя в комнате. Я остался наедине с книгами, которые мне теперь было лень даже перелистывать, и стал думать о Ходже: о его оружии, работа над которым, я не сомневался, не движется с места; о том, как он сидит час за часом в своей комнате за столом, к которому так пока толком и не привык, смотрит на пустые листы бумаги и мучается от стыда и гнева…
Было уже далеко за полночь, когда он вышел из комнаты и, смущаясь, словно прилежный ученик, который не может справиться с пустячной задачей и просит помощи, позвал меня к столу.
– Помоги мне, – сказал он напрямик. – Давай думать о них вместе, один я никак не могу продвинуться.
На какое-то мгновение я вообразил, будто он подразумевает нечто имеющее отношение к женщинам и замешкался с ответом. Встретив мой недоуменный взгляд, он очень серьезно проговорил:
– Я думаю о глупцах. Почему их так много? – А потом прибавил, не дожидаясь ответа, как будто и так знал, чтó я скажу: – Ладно, может быть, они и не глупы, но в головах у них чего-то не хватает.
Я не стал спрашивать, кто такие «они».
– Неужто у них в головах нет такого места, где они могли бы удержать знания? – продолжил Ходжа и обвел комнату взглядом, будто подыскивал слово. – В голове у человека должна быть коробочка, точнее, несколько коробочек, вот как ящички у комода, какой-то уголок, чтобы хранить всякие разные вещи… У них ничего такого как будто нет. Понимаешь?
Я попытался убедить себя, будто что-то понимаю, но без особого успеха. Мы надолго замолчали.
– Впрочем, кому дано знать, отчего человек бывает таким или другим? – проговорил наконец Ходжа. – Эх, был бы ты настоящим врачом, рассказал бы мне, как устроено наше тело и что у нас внутри головы…
Он словно бы немного смутился и с подчеркнуто бесстрастным видом (чтобы меня не пугать, подумал я) заявил: он не собирается сдаваться, он пойдет до конца, – во-первых, оттого, что ему интересно, чем это закончится, а во-вторых, потому, что делать все равно больше ничего не остается. Я не понимал, что он хочет этим сказать, но мне нравилось думать, что всему этому он научился от меня.
Впоследствии он часто повторял эти слова – так, будто мы оба знаем, о чем идет речь. Однако сквозь его решительность нередко проглядывало мечтательное выражение ученика, задающего вопрос учителю; каждый раз, когда он говорил, что пойдет до конца, мне казалось, что я слышу жалобы безнадежно влюбленного, вопрошающего, за что ему ниспослано такое несчастье. В те времена он повторял эти слова то и дело: когда узнавал, что янычары готовят бунт, и когда рассказывал мне о том, что ученикам начальной школы интереснее слушать про ангелов, чем про звезды; когда отбрасывал в сторону, не дочитав, рукописную книгу, за которую отдал большие деньги, и когда возвращался после бесед с друзьями из муваккитхане, куда продолжал ходить уже только по привычке; когда, замерзнув в плохо протопленной бане, забирался под расшитое цветами одеяло и обкладывался со всех сторон любимыми книгами, и когда слышал, какие глупости говорят во дворе мечети люди, совершая омовение; когда узнавал, что флот снова потерпел поражение от венецианцев, и после того, как терпеливо выслушивал соседей, пришедших потолковать о том, что возраст у него солидный и пора бы ему жениться, – снова и снова Ходжа твердил одно: он пойдет до конца.
Сегодня я думаю: сможет ли кто из читателей, добравшихся до конца этих записок и терпеливо следивших за ходом событий, подлинных или выдуманных мною, сказать, что Ходжа не сдержал слова?
4
Однажды в конце лета мы услышали, что главный астролог Хусейн-эфенди найден мертвым на берегу Босфора, в Истинье[16]. Садык-паша в конце концов добился фетвы[17] о его казни, а тот, вместо того чтобы затаиться, стал распускать направо и налево предсказания о том, что паша скоро умрет. Так и стало известно, где прячется астролог, и, когда он уже садился в лодку, чтобы бежать в Анатолию, на берег подоспели палачи и удушили его. Узнав, что имущество Хусейна-эфенди отошло казне, Ходжа начал хлопотать, чтобы все бумаги, книги и тетради покойного достались ему; для этого он истратил на взятки все свои сбережения. Однажды вечером он принес домой огромный сундук с бумагами, за одну неделю проглотил тысячи страниц и раздраженно сказал, что сможет написать кое-что получше.
Я помогал ему в трудах, которые он имел в виду. Когда он работал над трактатами «Жизнь животных» и «Удивительные создания», предполагая преподнести их султану, я рассказывал ему о великолепных скакунах и о самых обычных ослах, о зайцах и ящерицах, которых видел в просторных садах и на лугах вокруг нашего дома в Эмполи. В ответ на упреки Ходжи, укорившего меня за скудное воображение, я напряг память и поведал ему об усатых европейских лягушках, сидевших в нашем пруду с кувшинками, о голубых попугаях, болтающих на сицилийском диалекте, и о белках, которые, перед тем как спариться, сидели рядышком и чистили друг другу шерстку. Весьма долго и с большим тщанием мы трудились над главой о муравьях: султана очень занимала их жизнь, но он не имел возможности наблюдать за ней, поскольку в первом дворе его дворца муравьев не было – такая безукоризненная там поддерживалась чистота.
Описывая подчиненную строгому порядку и логике жизнь муравьев, Ходжа мечтал о том, что мы заберем в свои руки воспитание юного султана. Держа в уме эту цель, он счел недостаточным живописать только повадки хорошо знакомых нам черных муравьев и присовокупил описание жизни американских красных муравьев. Это навело его на мысль написать книгу о печальной и поучительной судьбе глупых и ленивых туземцев, которые населяли кишащую змеями землю, называемую Америкой, и ничего не желали менять в своей жизни. Подробно излагая мне свой замысел, Ходжа говорил, что напишет и о мальчике-короле, который увлекался животными и обожал охоту, но пренебрегал науками, отчего в конце концов испанские гяуры посадили его на кол. Думаю, у Ходжи просто не хватило смелости закончить эту книгу. Чтобы сделать более наглядными истории о крылатых буйволах, шестиногих быках и двухголовых змеях, мы пригласили мастера-миниатюриста, но его рисунки нам обоим не понравились. «Да, раньше рисовали так, – признал Ходжа. – Но теперь всё изображают объемным, с настоящей тенью. Вот посмотри: даже самый обычный муравей терпеливо волочит за собой свою тень, словно брата-близнеца».
Поскольку султан не посылал за Ходжой, тот решил передать свои трактаты через пашу, но после очень пожалел об этом. Паша заявил ему, что считает науку о звездах чепухой, что главный астролог Хусейн-эфенди не по чину взял, впутался в придворные интриги и что он, паша, подозревает, будто Ходжа метит на освободившееся место; что он верит в пользу науки, но не той, что о звездах, а той, что помогает создавать оружие; что должность главного астролога не приносит счастья и все, кто ее занимал, рано или поздно погибали от рук убийц или, того хуже, бесследно исчезали, и потому он, паша, не желает, чтобы Ходжа, которого он так любит и чьим знаниям так доверяет, получил эту должность, – тем более что уже известно: ее займет Сыткы-эфенди, который отлично для нее подходит, поскольку глуп и простодушен; что он, паша, слышал, будто книги бывшего главного астролога попали к Ходже, и не желает, чтобы тот занимался подобными предметами. Ходжа в ответ сказал, что его не занимает ничего, кроме науки, и вручил паше трактаты, которые просил передать султану. Вечером, первым делом обругав пашу последними словами, он поклялся, что не будет входить ни во что, кроме науки, но сделает все необходимое, дабы иметь возможность ею заниматься.
Следующий месяц Ходжа провел, гадая, какое впечатление произведут на мальчика красочные животные, созданные нашим воображением, и размышляя о том, почему его все не зовут и не зовут во дворец. Наконец его пригласили на султанскую охоту, и мы отправились ко дворцу Мирахор, что стоит на берегу речки Кагытхане. Ходжу провели к султану, а я остался смотреть издалека. Народу собралось великое множество. Главный ловчий все подготовил: выпустили зайцев и лис, за ними бросились гончие; потом мы увидели, как один заяц метнулся в сторону и прыгнул в воду. Когда он переплыл на другой берег, ловчие хотели отправить следом собак, но даже мы, стоявшие в отдалении, услышали, как султан остановил их, сказав: «Пусть этот заяц спасется!» Однако на том берегу, как оказалось, зайца поджидала другая собака, приблудная, не из дворцовой псарни. Заяц снова прыгнул в воду, но собака настигла его и схватила. Тут подоспели ловчие, отняли зайца у собаки и принесли султану. Мальчик велел осмотреть зверька, обрадовался, увидев, что собачьи клыки не нанесли ему серьезных ран, и приказал выпустить его на волю у склона холма. Затем вокруг султана собралась толпа, в которой я заметил Ходжу и рыжего карлика.
Вечером Ходжа рассказал, что султан спросил, как можно истолковать этот случай. Когда настала очередь Ходжи говорить, тот возвестил, что султану грозит нежданная опасность, враги будут против него злоумышлять, но он выйдет из испытаний целым и невредимым. Недоброжелатели Ходжи, среди которых был и новый главный астролог Сыткы-эфенди, стали было порицать его за такое толкование: мало того что он предсказал султану смертельную опасность, так еще и уподобил его зайцу, но султан велел им всем замолчать и объявил, что хорошенько запомнит слова Ходжи. Затем, наблюдая, как яростно борется за жизнь орел, на которого напустили стаю соколов, и как разъяренные гончие рвут на кусочки несчастную лису, султан сообщил, что львица родила двух детенышей, самца и самочку, и что ему очень понравилась книга о животных, а потом стал расспрашивать о синекрылых быках и розовых кошках, что водятся в лугах у берегов Нила. Ходжа ощущал странное опьянение победой, смешанное со страхом.
Лишь много позже мы узнали о событиях, произошедших вскоре во дворце: старая Кёсем-султан, сговорившись с агой янычар, замыслила убить своего внука и его мать, а на трон посадить шехзаде[18] Сулеймана, но у них ничего не вышло. Кёсем-султан лишилась жизни: ее душили, пока из горла и носа у нее не пошла кровь. Ходжа узнал об этом в муваккитхане, где его глупые приятели передавали друг другу ходившие по городу слухи; еще он бывал в медресе, а больше никуда не ходил.
Осенью он некоторое время думал, не заняться ли ему снова космографией, но вскоре впал в уныние: для этого требовалась обсерватория, да и к тому же глупцам нет дела до звезд, а звездам – до глупцов. Пришла зима, и в один из ее пасмурных дней мы узнали, что паша впал в немилость. Его тоже собирались удушить, но валиде-султан[19] не дала на это согласия, так что пашу, лишив имущества, сослали в Эрзинджан. Больше мы о паше ничего не слышали, пока не получили весть о его смерти. Ходжа заявил, что отныне никого не боится и никому ничем не обязан; не знаю, думал ли он при этом, что чему-то научился у меня. Теперь, твердил Ходжа, он не страшится ни султана, ни его матери. Вид у него был очень решительный, но дальше этого не шло: мы смирно сидели дома, беседовали о красных американских муравьях и делали наброски нового трактата о них и об их родичах.
Эту зиму, как и предыдущую, а также многие из последующих, мы провели в четырех стенах; не происходило ровным счетом ничего заслуживающего внимания. В холодные ночи, сидя на первом этаже продуваемого северо-восточным ветром дома, мы говорили до самого утра. К тому времени Ходжа отказался от пренебрежительного отношения ко мне – или ему надоело делать вид, будто он меня презирает. Думаю, это объяснялось тем, что никто не посылал за ним ни из дворца, ни из близких к дворцу кругов. Иногда мне казалось, что он теперь не хуже моего сознает наше сходство и, глядя мне в лицо, видит себя. Я гадал, о чем он думает в такие мгновения. Мы закончили новый длинный трактат о животных, но паша был в ссылке, а Ходжа, по его словам, не собирался унижаться перед вхожими во дворец знакомыми, так что трактат пока оставался лежать на столе. Время от времени, маясь от скуки в дни, когда мне совершенно нечего было делать, я перелистывал его страницы, разглядывал нарисованных мной фиолетовых кузнечиков и летучих рыб и пытался представить себе, чтó будет думать султан, читая написанные под ними строки.
За Ходжой послали только в начале весны. Увидев его, султан очень обрадовался; если верить Ходже, каждый жест, каждое сказанное султаном слово свидетельствовали, что мальчик давно думал о нем и не позвал раньше только потому, что этого не желали глупцы из его окружения. Султан сразу повел речь о заговоре своей бабки и о том, что Ходжа предвидел и саму эту опасность, и счастливое от нее избавление. Той ночью, услышав раздающиеся во дворце крики тех, кто задумал покуситься на его жизнь, мальчик ничуть не испугался, потому что вспомнил, как напала на зайца злая собака и как ей не удалось загрызть зверька. Осыпав Ходжу похвалами, султан распорядился выделить ему земельный надел в подходящем месте. До новых предсказаний дело не дошло, прием закончился, и когда Ходжа покидал дворец, ему сказали, что выдачи бумаги на право владения наделом придется подождать до конца лета.
Пока тянулось ожидание, Ходжа, надеясь на доход с надела, замыслил построить у себя в саду небольшую обсерваторию; он определил размеры колодца, который нужно будет вырыть, и подсчитал стоимость приборов, которыми оснастит обсерваторию. Вскоре, правда, ему надоело заниматься расчетами. В лавке одного книготорговца он наткнулся на переписанную скверным почерком книгу Такиюддина с изложением итогов астрономических наблюдений. Два месяца Ходжа провел в попытках проверить точность этих сведений, но в конце концов, раздраженный, бросил это дело, убедившись, что не может определить, где ошибался Такиюддин, а где – он сам, из-за того что использовал дешевые приборы; к тому же какие-то ошибки могли вкрасться в книгу и вследствие небрежности переписчика. Еще больше раздражало его то, что предыдущий хозяин книги вписал в шестидесятеричные тригонометрические таблицы стихотворные рифмованные строки. Наблюдая движение небесных тел, этот человек смиренно пытался предсказывать будущее мира: рано или поздно после четырех дочерей у него родится сын; разразится чумное поветрие, которое отделит грешных от праведных; умрет его сосед Бахаттин-эфенди. Сначала Ходжа потешался, читая эти предсказания, но потом впал в уныние. Теперь он со странной и пугающей убежденностью рассуждал о содержимом наших голов, словно говорил о сундуках или шкафах, внутрь которых можно заглянуть, открыв их крышки и дверцы.
Бумага на обещанный султаном земельный надел не пришла ни к концу лета, ни к началу зимы. Весной Ходже сказали, что ведется новая перепись земель; нужно еще подождать. А пока его, пусть и нечасто, приглашали во дворец, где султан задавал ему вопросы о том, что предвещает треснувшее зеркало, или зеленая молния, ударившая в море вблизи острова Яссы, или разбившийся вдребезги сосуд с кроваво-красным вишневым соком. Отвечал Ходжа и на вопросы о животных из нашего последнего трактата. Вернувшись домой, он твердил, что мальчик вступает в пору юности, когда человек легче всего поддается влиянию, и что он, Ходжа, приберет его к рукам.
С этой целью он приступил к работе над новой книгой. Из моих рассказов он знал о Кортесе и о том, какой конец постиг империю ацтеков, так что история юного короля, который не придавал значения науке и оттого был посажен на кол, уже давно была у него на уме. В те дни он то и дело принимался говорить о негодяях, которые смогли победить и подчинить своим порядкам хороших людей с помощью хитроумных изобретений, оружия и сказок только потому, что хорошие люди слишком долго предавались дреме. Но о чем он пишет, запершись, Ходжа долгое время мне не рассказывал. Поначалу, подозреваю, он ждал, что я сам захочу об этом узнать, но в те дни я чувствовал себя особенно несчастным: на меня вдруг сильнее прежнего навалилась тоска по родине, а вместе с ней – и враждебность, которую я испытывал к Ходже, так что я подавил свое любопытство и успешно делал вид, будто мне дела нет до того, к каким выводам пришел его творческий ум, основываясь на историях, вычитанных из купленных дешевизны ради скверных, порванных книг, и на моих рассказах. С удовольствием наблюдал я, как день ото дня потихоньку тает его самоуверенность, а потом и вера в важность того, что он пытается написать.
Ходжа уединялся в маленькой комнатке на втором этаже, которую сделал местом своих ученых занятий, садился за стол, сработанный по моему чертежу, и даже начинал размышлять, но не писал. Я догадывался об этом; более того, я знал, что он не пишет, что ему не хватает смелости писать, не узнав моего мнения о плодах его раздумий. И дело было даже не в моих немудреных соображениях, которые он, казалось, презирает; в действительности ему хотелось знать, чтó думают другие, подобные мне, – те самые «они», которые вложили в меня все эти сведения, заполнили все эти коробочки и ящички для знаний. Что бы «они» подумали на его месте? Вот о чем он жаждал у меня спросить, но не мог! Как же я ждал, что он переступит через свою гордость и наберется храбрости задать мне этот вопрос! Но он так и не сделал этого. Книгой он через некоторое время заниматься перестал – уж и не знаю, закончил он ее или нет, – и вернулся к старой песне о глупцах. Ведь нет ничего важнее науки, а он все никак не может уразуметь, почему они так глупы, почему у них так по-дурацки устроены головы! Я подозревал, что он твердит это от отчаяния: из дворца не последовало никаких знаков, подтверждающих основательность его надежд на высочайшие милости. Время уходило впустую, порой юности султана воспользоваться не удавалось.
Однако за год до того, как великим визирем стал Мехмед-паша Кёпрюлю, летом, Ходжа получил-таки свой надел, к тому же сам смог выбрать место. Теперь ему причитались доходы с двух мельниц вблизи Гебзе и двух деревень в часе пути оттуда. Когда пришло время жатвы, мы отправились в Гебзе и по случайности сняли тот же пустой дом, что и в прошлый раз: правда, те месяцы, что мы здесь провели, те дни, когда мой хозяин с отвращением смотрел на стол, который я привез из мастерской плотника, уже стерлись из памяти Ходжи. Воспоминания словно бы обветшали вместе с домом; да и в любом случае Ходжа был охвачен нетерпением, которое не оставляло места любопытству к чему-либо в прошлом. Он несколько раз съездил в деревни, проверил, как там и что, выяснил, какой доход они приносили в предыдущие годы; затем объявил, что изобрел новый, более простой и удобный способ вести приходно-расходные книги (здесь не обошлось без влияния рассказов об Ахмед-паше Тархунджу[20], которые Ходжа слышал от своих приятелей в муваккитхане). Однако этим изобретением, в оригинальность и полезность которого он и сам не мог поверить, Ходжа не удовольствовался; сидя по ночам в саду старого дома, маясь от безделья и глядя в небо, он вновь ощутил тягу к астрономии. Я тоже пытался его раззадорить, надеясь, что он продвинется вперед в своих размышлениях, однако он, оказывается, не собирался вести наблюдения или выдвигать новые теории. Он велел мне съездить в Стамбул за моделью Вселенной, смазал ее, отладил, чтобы все колокольчики звенели, и установил в саду за домом. Затем однажды вечером он созвал в этот сад самых умных мальчиков и юношей из Гебзе и из деревни, заявил, что будет преподавать им высшую из наук, и с невесть откуда взявшимися воодушевлением и энергией прочел им, как когда-то паше, а потом султану, лекцию о небесных сферах, ни капли ее не упростив. В полночь слушатели его, так и не задав ни единого вопроса, разошлись по домам, а наутро мы обнаружили у себя на пороге овечье сердце, сочащееся еще теплой кровью. Этого оказалось достаточно, чтобы Ходжа окончательно потерял надежду наставить людей на путь истинный с помощью астрономии.
Однако неудача не слишком его расстроила. Конечно, говорил он, куда им понять, как вращается мир и движутся звезды! Да им пока и не нужно этого понимать; а тот, кому нужно, уже вот-вот простится с порой юности. Может быть, он посылал за нами, пока нас не было, а мы попусту теряем здесь время, чтобы после сбора урожая нам перепало несколько лишних курушей[21]. Уладив дела и назначив управляющим одного из умных молодых людей (того, который казался самым умным), мы сразу же вернулись в Стамбул.
Следующие три года были самыми скверными из тех, что я провел вместе с Ходжой. Каждый день, месяц, время года казались все более тягостным и унылым повторением предыдущего дня, месяца и времени года. Мы с горечью и отчаянием наблюдали, как вновь и вновь происходит одно и то же, и словно бы ждали – увы, впустую – какого-то неведомого несчастья. Ходжу, как и раньше, время от времени приглашали во дворец ради очередного предсказания по какому-нибудь пустячному поводу; по-прежнему каждый четверг после обеда он встречался и беседовал с друзьями в муваккитхане, а по утрам, хотя и не с прежним усердием и постоянством, учил и порол детей; по-прежнему к нему время от времени являлись сваты, и он снова и снова противился их увещеваниям, хотя в его голосе и проскальзывала теперь еле слышная неуверенность; по-прежнему он ходил к женщинам и поневоле слушал музыку, которая, как он говорил, ему уже прискучила; порой его вновь душила ненависть к глупцам, и тогда он запирался в своей комнате, валился на постель и, раздраженно порывшись в разбросанных вокруг заурядных рукописях и книгах, часами смотрел в потолок.
Уныние Ходжи только возрастало от известий о победах Мехмед-паши Кёпрюлю, подробности которых он узнавал от приятелей из муваккитхане. Рассказывая мне о торжестве над венецианским флотом, о том, что турки вернули себе острова Бозджаада и Лемнос, или о подавлении мятежа Хасан-паши Абазы, он всякий раз прибавлял, что успехи эти непрочны и преходящи, что больше их не будет: это последние судороги старого калеки, глупость и бездарность которого скоро его погубят. Он словно бы ждал какой-то беды, которая положит конец так измотавшей нас череде неотличимых один от другого дней. К тому же у него не получалось надолго отвлекаться на то, что он называл наукой; для этого ему уже не хватало терпения и надежды. Любая новая идея занимала его не более недели; вскоре он вспоминал о своих глупцах и забывал обо всем остальном. Но разве недостаточно он о них думал, не хватит ли с них? Достойны ли они того, чтобы так ломать голову, так гневаться? Он только-только научился воспринимать себя отдельно от них, и, возможно, поэтому ему недоставало сил и желания размышлять над этим. Но теперь Ходжа верил, что он другой, не такой, как они.
Причиной, породившей новое увлечение, стали просто-напросто тоска и скука. В те дни, потеряв способность надолго сосредотачиваться на каком бы то ни было предмете, Ходжа напоминал не умеющего чем-то себя занять эгоистичного и глупого ребенка, бродил из комнаты в комнату, то поднимался на второй этаж, то спускался вниз, пустым взглядом смотрел в окна. Деревянный пол скрипел и стонал под его шагами; бывало, что во время этих бесконечных, раздражающих меня прогулок он заглядывал и ко мне в очевидной для меня надежде, что я чем-нибудь его развлеку, поделюсь какой-нибудь мыслью или скажу утешительное слово. Однако я хоть и боялся его, но молчал, потому что гнев и ненависть, которые он во мне будил, ничуть не ослабли. И даже когда он, надеясь получить ответ, наступал на гордость и со смиренным видом произносил несколько фраз, я не говорил тех слов, что он от меня ждал; когда он сообщал мне полученное из дворца известие, которое можно было счесть благим, или рассказывал о родившейся у него новой идее, которая, если ее не бросить и хорошенько развить, может принести стоящие плоды, я или притворялся, что не слышу, или немедленно находил в сказанном что-нибудь банальное и тем гасил его порыв. Мне нравилось смотреть, как он страдает в пустоте и отчаянии.
Однако впоследствии он нашел новую увлекшую его идею именно в этой пустоте; может быть, оттого, что смог наконец удовольствоваться собственным обществом, или потому, что его ум, неспособный ни на чем сосредоточиться, не мог выйти за свои пределы. В тот раз я ему ответил, дабы вдохнуть в него смелости. Мысль, пришедшая ему на ум, воодушевила и меня; может быть, думал я, он теперь уделит мне внимание, которого я достоин. Однажды вечером скрип половиц под ногами Ходжи затих у моей комнаты, и он спросил меня самым обычным, будничным тоном:
– Почему я – это я?
Мне захотелось придать ему смелости, и я ответил – сказал, что не знаю, почему он – это он, а потом прибавил, что этим вопросом часто – с каждым днем все чаще – задаются «там», среди «них». Когда я говорил это, у меня в голове не было ничего, чем я мог бы подтвердить свои слова, никакого примера, никакой идеи, ничего; просто я хотел дать такой ответ, который Ходже хотелось услышать; может быть, потому, что немудреным инстинктом почувствовал: ему понравится эта игра. Ходжа удивился. Он с интересом смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я молчал, и он, не утерпев, переспросил: так, стало быть, «они» задаются этим вопросом? Я кивнул, а Ходжа, увидев улыбку на моем лице, сразу вскипел: он задает этот вопрос не потому, что его задают «они»; он не знал, что «они» его задают, и сам, без посторонней помощи пришел к нему, а что там делают «они», его нисколько не волнует!
– У меня в ушах словно бы звучит голос, который постоянно напевает мне песню, – помолчав, продолжал он с каким-то странным видом.
Этот невидимый певец напомнил ему об отце: тот тоже незадолго до смерти начал слышать похожий голос, только песня была другая.
– У моего припев всегда один и тот же, – сообщил Ходжа, немного смутился, но продолжил: – «Я – это я, я – это я, ах!»
Я чуть было не рассмеялся, но удержал себя. Если бы это была шутка, Ходжа сам бы улыбнулся, а он не улыбался, но явно понимал, что может показаться смешным. Мне хотелось, чтобы он продолжал, а значит, следовало показать ему, что я вижу смешную сторону дела, но в то же время понимаю, в чем смысл припева. Я сказал, что эти слова нужно принимать всерьез и что, разумеется, голос, звучащий в его ушах, принадлежит не кому иному, как ему самому. Должно быть, он услышал в моих словах насмешку, потому что тут же вспылил: он и сам это знает, но хочет понять, зачем этот голос постоянно поет свою песню!
Я, конечно, даже не заикнулся о том, что причиной всему скука, но, по правде сказать, именно так и думал: я не только по себе, но и по своим братьям знал, что скука, мучающая эгоистичных детей, оказывает на них подобное воздействие, как плодотворное, так и совершенно пустое. Я заметил ему, что поразмыслить нужно не над причиной, по которой голос поет, а над смыслом песни. Тут у меня мелькнула мысль, что пустота жизни может довести его и до сумасшествия, а я, наблюдая за ним, избавлюсь от тоски, порожденной безнадежностью моего положения и трусостью. Может быть, тогда я действительно проникнусь к нему уважением, а в нашей жизни наконец действительно что-то произойдет.
– Что же мне делать? – после долгого молчания спросил Ходжа.
Думать, почему он – это он, подсказал я, но постарался, чтобы это не звучало как назидание, потому что ничем не мог ему помочь.
– Так что же мне, в зеркало смотреться? – с усмешкой спросил Ходжа, но по нему не было заметно, что он успокоился.
Я молчал, давая ему возможность поразмыслить.
Он повторил:
– В зеркало смотреться, да?
Я вдруг разозлился и подумал, что Ходжа ничего не сможет добиться сам. Мне захотелось, чтобы он это заметил, захотелось сказать ему в лицо, что без моей помощи его размышления ни к чему не приведут, но мне не хватило смелости, и я лишь пробормотал: да, пусть смотрит в зеркало. Хотя нет, дело не в том, что мне не хватило смелости; просто настроения не было. Ходжа разозлился, обозвал меня глупцом и выскочил из комнаты, хлопнув дверью.
Через три дня я вернулся к этому разговору, заметив, что ему снова хочется поговорить о «них», и решив продолжить игру: ведь уже одно то, что он размышляет на эту тему, в то время вселяло в меня надежду. Я сказал, что «они» часто смотрятся в зеркало – гораздо чаще, чем принято здесь. «Там» не только во дворцах королей, принцесс и знати, но и в домах простых людей полным-полно зеркал, заключенных в тщательно подобранные рамы и с любовью развешанных по стенам; однако не только по сей причине «они» так далеко продвинулись по этому пути, но и потому, что постоянно размышляют сами о себе.
– По какому пути? – спросил Ходжа с удивившими меня любопытством и наивностью.
Я уже подумал было, что он поверил каждому моему слову, но тут он улыбнулся:
– Стало быть, «они» с утра до вечера смотрятся в зеркала?
Впервые он насмехался над тем, что я оставил на родине. От обиды мне захотелось сказать ему что-нибудь такое, что его уязвит, и я, не задумываясь и сам не веря в то, что говорю, выпалил: о том, кто он есть, человек может размышлять только сам, наедине с собой, но Ходже для этого не хватает смелости. Увидев по его лицу, что он, как мне и хотелось, задет за живое, я обрадовался.
Но эта радость дорого мне обошлась. И дело не в том, что он пригрозил отравить меня. Через несколько дней он потребовал, чтобы я проявил ту самую смелость, которой, по моему мнению, не хватало ему. Сначала я попытался обратить все в шутку – сказал, что о необходимости смотреться в зеркало и размышлять над тем, кто ты такой, говорил не всерьез, что те мои слова подсказаны гневом и желанием его разозлить. Однако по лицу Ходжи было видно, что он мне не верит. Он клялся, что, если я не докажу свою смелость, станет давать мне меньше еды и посадит меня под замок. Я должен размышлять о том, кто я такой, и записывать свои мысли, а он посмотрит, как это делается, и проверит, насколько я смел.
5
Сначала я написал несколько страниц о тех прекрасных днях, что провел с моими братьями, мамой и бабушкой в нашем поместье близ Эмполи. По правде говоря, я не знал, отчего выбрал именно этот предмет для того, чтобы понять, почему я – это я; возможно, причиной послужила тоска о том чудесном, навсегда потерянном времени. К тому же после сказанных мною в горячке гнева опрометчивых слов Ходжа стал так на меня наседать, что мне пришлось писать, вспоминая и отчасти придумывая убедительные подробности, чтобы мой будущий читатель поверил мне и чтобы написанное ему понравилось (точно так же я пишу и сейчас). Однако поначалу Ходже мои записи пришлись не по вкусу; такое, говорил он, мог бы написать всякий, немного подумав; не о таком, уверен он, требуется размышлять, глядя в зеркало; не может быть, чтобы именно здесь заключалась та смелость, которой, по моему мнению, не хватает ему, Ходже. Прочитав, как однажды, когда я отправился на охоту с отцом и братьями, мне навстречу вдруг вышел медведь и мы долго смотрели друг другу в глаза, и о том, чтó я чувствовал, когда наш любимый кучер умер, затоптанный собственными конями у нас на глазах, Ходжа вынес тот же приговор: такое может написать каждый.
Тогда я ответил, что так там живут все и ничего более необычного с ними не случается; что те мои слова были вызваны гневом и я сильно преувеличил, а потому Ходжа не должен ожидать от меня ничего большего. Но он и слушать не хотел, и я, страшась оказаться под замком, продолжал записывать свои воспоминания. За два месяца я с наслаждением и болью воссоздал великое множество моментов своей жизни, незначительных, но с удовольствием извлекаемых из копилки памяти; я размышлял о радостях и печалях, которые мне довелось испытать до того, как я попал в плен и пережил их заново. В конце концов я заметил, что это занятие мне нравится. Теперь я писал уже и без понуканий Ходжи; каждый раз, когда он говорил, что ожидал не того, что ему нужно совсем иное, я приступал к изложению какого-нибудь другого, заранее заготовленного воспоминания.
Прошло немало времени, прежде чем я заметил, что и Ходжа получает удовольствие от чтения моих записок. Тогда я стал выжидать удобного случая, чтобы и его вовлечь в это занятие. Дабы подготовить его, я стал описывать детские свои переживания: как я боялся нескончаемой ночи, когда не получалось уснуть; какой ужас испытывал после смерти сверстника, с которым меня связывала такая крепкая дружба, что мы научились думать об одном и том же одновременно; как я боялся, что мертвым сочтут меня и похоронят заживо. Я знал, что Ходже это понравится. Вскоре я осмелился рассказать ему свой сон: мое собственное тело, порвав со мной, в темноте встречается с моим двойником, лица которого, однако, не видно, и они сговариваются против меня. Ходжа в те дни говорил, что в его ушах снова начала звучать та смешная песня, и еще чаще, чем прежде. Увидев, что мой сон, как я и надеялся, произвел на него впечатление, я сказал, что ему тоже непременно нужно попробовать вести записи. Так он сможет и скрасить свое бесконечное ожидание, и отыскать, где именно проходит граница между ним и глупцами. Его по-прежнему время от времени приглашали во дворец, но никаких обнадеживающих событий не происходило. Сначала Ходжа немного поупирался, но, когда я стал настаивать, смущенно сказал, что попробует. Боясь показаться смешным, он даже отпустил шутку: может быть, раз уж мы будем вместе писать, нам теперь и в зеркало смотреться вместе?
«Вместе писать»… Я и не думал в тот момент, что он захочет сидеть со мной за одним столом. Я-то полагал, что, когда он начнет писать, я смогу вернуться к праздной жизни ленивого раба. Я ошибался. Ходжа сказал, что мы будем садиться за стол друг против друга и писать одновременно: только так можно заставить трудиться наши мозги, которые, столкнувшись с опасными предметами, становятся крайне ленивыми; только так мы сможем вселить друг в друга стремление к упорядоченной работе. Но я знал, что это лишь предлог. На самом деле он боялся остаться один, боялся, что, начав размышлять, почувствует себя одиноким. Я понял это, когда услышал, как он, оказавшись перед пустым листом бумаги, начинает бормотать, причем так, чтобы было слышно мне; ему хотелось, чтобы я заранее одобрил то, что он собирается написать. Нацарапав несколько строчек, он с любопытством и каким-то детским смущением показывал их мне: достойно ли это того, чтобы быть записанным? Разумеется, я высказывал ему свое одобрение.
Так и вышло, что за два месяца я выведал о его жизни столько, сколько не узнал за предыдущие одиннадцать лет. Его семья жила в Эдирне[22], куда впоследствии мы отправимся в свите султана. Отец его умер очень рано, Ходжа даже сомневался, что помнит его лицо. Мать была женщиной трудолюбивой. После смерти отца Ходжи она еще раз вышла замуж. От первого мужа у нее имелось двое детей, сын и дочь, от второго – четверо сыновей. Этот второй муж, ремесленник, шил одеяла. Из братьев самым охочим к учебе оказался, конечно же, Ходжа. Я узнал, что он был среди них самым умным, самым способным, самым трудолюбивым и самым сильным; ну и самым честным тоже. С сестрой его связывали хорошие отношения, а братьев он вспоминал с отвращением и вообще не видел нужды о них писать. Я старался его приободрить – может быть, потому, что уже тогда почувствовал: когда-нибудь его манера письма, история его жизни станут моими. Было что-то особенное в том, как он вел рассказ, что-то пришедшееся мне по душе, такое, что я хотел усвоить. Человек должен полюбить жизнь, которую себе выбрал, настолько, чтобы впоследствии сделать ее целиком и полностью своей; и я ее полюбил. Разумеется, Ходжа считал всех своих братьев дураками; они вспоминали про него, только когда нуждались в деньгах. А он посвятил всего себя учебе. Его приняли в медресе при мечети Селимийе; когда до окончания учебы оставалось совсем немного, он пал жертвой клеветы. Этого предмета он больше ни разу не касался, ничего не говорил и о женщинах. В самом начале он написал, что однажды чуть не женился, но потом в гневе порвал этот лист на клочки. В ту ночь на улице стояла отвратительная погода, лил дождь. Это была первая из ужасных ночей, которых впоследствии мне пришлось пережить немало. Он осыпáл меня оскорблениями, потом заявил, что все им написанное – ложь, и начал писать заново; а поскольку он желал, чтобы я сидел напротив него и тоже писал, мне пришлось два дня подряд провести без сна, и на минуту не сомкнув глаз. На мои записки Ходжа не глядел теперь даже мельком, так что я, сидя с ним за одним столом, снова и снова писал одно и то же, не напрягая свой ум, и наблюдал за ним краем глаза.
Через несколько дней Ходжа завел новый обычай: каждое утро он брал чистый лист дорогой белоснежной бумаги, которую привозили с Востока, и выводил на нем: «Почему я – это я». Однако после заглавия дело у него шло туго, не выходило ничего, кроме сетований на то, как низки и глупы окружающие его люди. Тем не менее я узнал, что после смерти матери с ним обошлись несправедливо, что на унаследованные деньги он перебрался в Стамбул, где на некоторое время прибился к текке – обители дервишей, но покинул ее, когда увидел, что весь тамошний люд – мерзавцы и лжецы. Мне хотелось, чтобы Ходжа побольше рассказал о своей жизни в текке; то обстоятельство, что он сумел вырваться оттуда, я считал большим успехом: ведь он смог противопоставить себя другим. Когда я сказал это Ходже, он разозлился и закричал, что я хочу выведать грязные подробности, чтобы когда-нибудь использовать их против него; я и так уже слишком много узнал, а мое желание узнать еще больше о таких (тут он употребил грубое слово) подробностях наводит его на подозрения. Затем он долго рассказывал о своей сестре (ее звали Семра), о том, какая она хорошая женщина и какой скверный человек ее муж, и о том, как ему грустно, что они уже много лет не могут увидеться; но когда я спросил почему, он насторожился и перевел разговор на другое: стал рассказывать, как потратил последние деньги на книги и долгое время не мог заниматься ничем, кроме чтения, потом стал то тут, то там подрабатывать писарем, но у людей, с которыми он имел дело, не было ни стыда ни совести. Тут он вспомнил и о Садык-паше, известие о смерти которого мы только что получили из Эрзинджана. Познакомившись с Ходжой, паша сразу оценил его тягу к науке; он же устроил Ходжу учителем в школу, но, по правде говоря, и паша тоже был глупцом. Ходжа вел записи месяц, а потом однажды ночью в порыве раскаяния порвал все написанное. Поэтому сейчас, воссоздавая с помощью воображения содержание тех записок и свое прошлое, я ничуть не боюсь увлечься подробностями, которые мне нравятся больше всего. Ходжа еще написал несколько страниц под заглавием «Глупцы, с которыми я был близко знаком», что-то вроде классификации дураков, но потом впал в ярость: вся эта писанина ни к чему не приводит, он не выяснил ничего нового и по-прежнему не знает, почему он – это он. Я обманул его, заставил попусту вспоминать то, чего ему вспоминать не хотелось. Он меня накажет.
Эта угроза напомнила мне о первых днях, проведенных в его доме; уж не знаю, что на него нашло. Порой я думал, что сам толкаю его на крайности, поскольку веду себя как покорный, смирный трус. И все же, когда он заговорил о наказании, я решил, что буду сопротивляться. Устав от воспоминаний, Ходжа некоторое время расхаживал по дому, затем снова подошел ко мне и сказал, что записывать нам нужно в первую очередь мысли: ведь если, смотрясь в зеркало, человек видит свою наружность, то, заглядывая в глубину собственных мыслей, он может узреть самую сокровенную свою суть.
Это блестящее сравнение воодушевило и меня. Мы сразу сели за стол друг напротив друга. На сей раз я тоже, пусть и усмехнувшись про себя, написал вверху страницы: «Почему я – это я». Вспомнив, что одна из черт моего характера – застенчивость, я начал в подтверждение тому описывать случай из моего детства. Когда я прочитал написанное Ходжой (а он опять жаловался на то, какие все вокруг плохие), мне пришла в голову мысль, которую я в тот момент счел очень важной, и я произнес вслух: Ходже тоже нужно писать об отрицательных чертах своего характера. Ходжа, читавший мои писания, ответил, что он не трус. Я начал спорить: да, он не трус, но наверняка в нем, как и во всяком человеке, есть что-то плохое, и если он попытается в этом разобраться, то найдет истинного себя. Я так сделал, а ведь он хочет уподобиться мне. Услышав это, Ходжа рассердился, но сдержал свой гнев и, стараясь оставаться спокойным, сказал, что плох не он, а другие; да, конечно, плохи не все, но именно из-за того, что у большинства людей есть недостатки, мир и устроен так неправильно. Я возразил: у него есть плохие, очень плохие качества, и необходимо, чтобы он это осознал. Ведь он, Ходжа, дерзко прибавил я, еще хуже меня.
Так и начались те злые дни, страшные и смешные одновременно. Ходжа привязывал меня к стулу, придвигал к столу, сам садился напротив и приказывал мне писать то, что он хочет; одна беда: он уже и сам не знал, чего именно хочет. В голове у него прочно засело это сравнение: подобно тому как человек, глядя в зеркало, видит свою внешность, размышляя, он познает свою внутреннюю суть. Ты, говорил он, это умеешь, но утаиваешь от меня свою способность. Пока Ходжа сидел напротив, ожидая, когда же ему удастся выпытать мою тайну, я, всячески преувеличивая, заполнял лист за листом историями, доказывающими, какой скверный я человек: с наслаждением рассказывал о мелких кражах, совершенных в детстве; о том, как врал из зависти; на какие уловки шел, чтобы меня любили больше, чем братьев; о плотских грехах моих юных лет. Ходжа читал эти истории с увлечением и удивлявшим меня пугливым удовольствием, а прочитав, еще больше злился и сильнее мучился, отчего совсем терял голову. Возможно, он предчувствовал, что ему предстоит сделать это прошлое своим, и бунтовал, не в силах смириться с его порочностью. Потом он начал меня просто-напросто бить. Прочитав об очередном моем грехе, он восклицал: «Ах ты, негодяй!» – и вроде бы в шутку, но совсем не беззлобно отвешивал удар кулаком по моей спине. Порой он мог, не сдержавшись, влепить мне пощечину. Возможно, он поколачивал меня просто от уныния и скуки: во дворец его приглашали всё реже, и он, наверное, уже отчаялся найти иной предмет для занятий, кроме меня и себя самого. Однако чем больше он читал о моих грехах и чем чаще применял ко мне свои несерьезные, детские наказания, тем сильнее крепла во мне странная уверенность: впервые я почувствовал, что держу его в руках.
Однажды, когда Ходжа изрядно измучил меня, я заметил в его глазах жалость. Скверное это было чувство, смешанное с презрением к человеку, которого он не соглашался признать равным себе, – я понимал это еще и потому, что теперь он мог смотреть на меня без отвращения.
«Не будем больше ничего писать, – сказал он и сразу поправился: – Я не хочу, чтобы ты писал».
И то правда, уже несколько недель он только наблюдал за мной, пока я описывал свои пороки. Потом Ходжа объявил, что нам надо выбраться из дома, в котором с каждым днем становится все тоскливее, и съездить куда-нибудь – да вот хоть в Гебзе. Он снова вернется к астрономическим наблюдениям, и хорошо бы написать новый, более обстоятельный трактат о жизни муравьев. Я испугался, увидев, что он вот-вот потеряет остатки уважения ко мне, и, чтобы поддержать его любопытство, придумал новую историю, выставляющую меня в самом неприглядном свете. Жадно и с удовольствием прочитав написанное, Ходжа даже не рассердился; я только чувствовал, что ему любопытно, как это мне удается мириться с таким своим несовершенством. Наверное, в тот момент он был согласен всегда оставаться самим собой. Конечно же, он понимал и то, что во всем этом есть доля игры. В тот день я разговаривал с ним как придворный шут, знающий, что его не считают за человека; старался сильнее разжечь постепенно растущее любопытство хозяина: ну что он потеряет, если до отъезда в Гебзе последний раз напишет о себе и о своих недостатках, чтобы понять, как я могу быть плохим? К тому же совершенно не обязательно, чтобы написанное было правдой или чтобы кто-то ему поверил. Если он сделает это, то поймет, каково это – быть подобным мне человеком, и когда-нибудь это знание может ему пригодиться. В конце концов Ходжа поддался любопытству и моим уговорам и сказал, что на следующий день попробует, – не забыв, разумеется, прибавить, что сделает это не потому, что купился на мои глупые уловки, а потому, что сам так хочет.
Следующий день был самым веселым из всех проведенных мной в рабстве. Ходжа не стал привязывать меня к стулу, но я все равно до самого вечера просидел напротив него, чтобы не упустить увлекательное зрелище того, как Ходжа потихоньку становится другим человеком. Ему так не терпелось приступить к работе, что он даже не стал выводить вверху страницы свое смешное заглавие «Почему я – это я». Он походил на маленького мальчика, придумывающего безобидную ложь и уверенного, что ему ничего за это не будет; поглядывая на него краем глаза, я видел, что он все еще чувствует себя в безопасности. Но эта напрасная уверенность продлилась недолго, да и наигранно-виноватое выражение, явно рассчитанное на то, чтобы я его заметил, исчезло с лица Ходжи довольно быстро. Вскоре насмешка сменилась беспокойством, а игра превратилась в реальность; просто удивительно, как пугала Ходжу перспектива обвинить себя хоть в чем-то – даже в невинной, маленькой лжи, даже не всерьез! Он быстро зачеркнул написанное, не дав мне ничего прочитать. Но любопытство не отпускало, к тому же, думаю, ему было стыдно передо мной, так что он продолжил писать. А ведь если бы он поддался первому порыву и встал из-за стола, то мог бы спастись, сохранив душевное спокойствие.
В последующие часы я наблюдал, как медленно приближается развязка. Ходжа писал что-то плохое о себе, потом, не показав мне, рвал написанное, с каждым разом все больше теряя уверенность в себе и самоуважение, но, надеясь вновь обрести потерянное, начинал все сначала. Он собирался показать мне свою, так сказать, исповедь грешника, но к тому времени, когда за окном стемнело, а у Ходжи иссякли силы, я так и не увидел ни одного слова из признаний, которые мне отчаянно хотелось прочитать, – он все порвал и выкинул. Осыпая меня проклятиями и вопя, что все это грязная гяурская игра, он выглядел настолько неуверенным, что я даже позволил себе дерзость. Не нужно так расстраиваться, сказал я, ты еще привыкнешь быть плохим. Он выбежал из дома – возможно, отчасти потому, что не мог вынести моего взгляда, – и вернулся поздно ночью. Учуяв запах благовоний, я понял, что он, как я и думал, ходил к тем женщинам.
На следующий день после полудня, желая растормошить Ходжу и подбить на новые откровения, я сказал, что он достаточно сильный человек, чтобы такие безобидные игры могли причинить ему какой-нибудь вред. К тому же мы предаемся им не из желания убить время, а в надежде узнать что-то новое, и в первую очередь – понять, почему те, кого он называет глупцами, так устроены. Разве узнать друг друга до конца не интересно? Узнавая другого человека до мельчайших подробностей, ты невольно подпадаешь под его чары – так бывает, когда тебе нравится страшный сон.
И Ходжа снова сел за стол, но не потому, что прислушался к моим словам – он отнесся к ним не серьезнее, чем к болтовне придворного шута, – а оттого, что солнечный свет снова придал ему смелости. Однако вечером, поднимаясь из-за стола, он выглядел еще менее уверенным в себе, чем накануне. Когда я увидел, что он снова пошел к женщинам, мне стало его жалко.
И вот так каждое утро Ходжа садился за стол, надеясь оправдать свои недостатки, о которых сейчас напишет, и вернуть себе то, что утратил накануне, но каждый вечер он вставал, оставляя на столе еще чуть-чуть веры в себя. Поскольку теперь он презирал себя, то уже не мог презирать меня; мне казалось, что равенство между нами, которое я ощущал в первые дни, проведенные с Ходжой, и которое оказалось обманчивым, теперь наконец стало подлинным, и очень этому радовался. Мое присутствие ввергало Ходжу в беспокойство, так что мне уже не требовалось сидеть вместе с ним за столом. Это был хороший знак, но годами копившаяся обида заставила меня закусить удила. Мне хотелось отомстить ему, перейти в наступление, и я, как и он, потерял чувство меры. Мне казалось, что если заставить Ходжу еще сильнее усомниться в себе, если прочитать что-нибудь из тех признаний, которые он так тщательно от меня скрывал, и немного унизить его, то уже не я, а он будет рабом, самым плохим человеком в доме. Собственно говоря, первые признаки этого уже проявлялись: порой я видел, как он хочет убедиться в том, что я над ним не насмехаюсь; подобно всем неуверенным в себе, слабым людям, он жаждал слов одобрения и все чаще спрашивал моего мнения по всяким мелким, повседневным делам: хорошо ли он одет, правильно ли ответил на чей-то вопрос, красив ли его почерк? Чтобы ему было полегче, чтобы он не отчаялся окончательно и не вышел из игры, я иногда сообщал ему что-нибудь унизительное о себе. «Ах ты, негодник!» – говорил его взгляд, но ударить меня он уже не мог: ведь теперь его, несомненно, глодала мысль, что он и сам заслуживает побоев.
Меня разбирало любопытство: что же за признания заставили Ходжу столь сильно себя презирать? Привыкнув унижать его, пусть и мысленно, в те дни я думал, будто он признаётся в каких-нибудь простеньких, пустяковых недостатках. Сейчас, собравшись придумать и расписать в подробностях, чтобы мое прошлое выглядело правдоподобным, парочку его грехов, о которых в свое время ни строчки не сумел прочесть, я вдруг понял, что не могу, как ни стараюсь, приписать Ходже ни одного проступка, который не нарушил бы внутренней гармонии этого рассказа и той жизни, которую я создаю своим воображением. Впрочем, могу предположить, что человек в моем положении должен был вновь почувствовать уверенность в себе. Мне нужно было сказать ему, что я заставил его незаметно для него самого открыться мне, что теперь я узнал слабые стороны и его, и ему подобных, пусть и не до конца! Должно быть, я полагал, что недалек уже тот день, когда я возьму верх не только над Ходжой, но и над другими, когда я докажу им, насколько они дурны, и сокрушу их. Думаю, читатели уже понимают, что я должен был узнать от Ходжи не меньше, чем он узнал от меня. Видимо, я оттого сейчас так думаю, что с возрастом человек начинает гораздо больше ценить симметрию и гармонию, даже в рассказах. Должно быть, меня подстегивала годами копившаяся злоба. Заставив Ходжу хорошенько унизиться, я вынудил бы его признать если не мое превосходство, то право на свободу, а затем дерзко потребовал бы у него вольную. Я представлял себе, как он, не в силах перечить мне, отпускает меня восвояси, и уже в подробностях обдумывал, как, вернувшись на родину, буду писать книги о своих злоключениях и о турках. До чего же легко я увлекся мечтами, приняв их за действительность! Однажды утром Ходжа сообщил мне новость, которая все изменила.
В городе началась чума! Сначала я не поверил, потому что Ходжа сказал об этом с таким видом, будто речь шла не о Стамбуле, а о каком-то далеком городе; я спросил его, где он услышал про чуму, захотел узнать подробности. Да вот, оказывается, люди всё умирали да умирали ни с того ни с сего, с каждым днем всё больше, и стало ясно, что причиной тому – заразная болезнь. Может быть, это и не чума, подумал я, и спросил о симптомах. Ходжа усмехнулся: я, дескать, могу не сомневаться; когда подхвачу заразу, все станет ясно за три дня. Перво-наперво появляются припухлости, бубоны: у одних – за ушами, у других – под мышками или на животе; потом начинается жар; иногда бубоны лопаются, а бывает, что у людей кровоточат легкие и они умирают, кашляя кровью, как чахоточные. Сказав это, Ходжа прибавил, что умершие есть в каждом квартале: где – трое, где – пятеро. Я с тревогой спросил о нашей округе. А разве я не слышал, что сварливый каменщик, перессорившийся со всеми соседями (то соседские ребятишки яблоки из его сада воруют, то чужие куры через ограду перебираются), неделю назад умер, мучаясь так, что кричал в голос? Только теперь все поняли, что скончался он от чумы.
И тем не менее я не хотел верить. На улице все было как обычно; люди, проходившие под окнами, выглядели совершенно спокойными, а мне словно бы требовалось с кем-то разделить свой страх, чтобы поверить в чуму. На следующее утро, едва Ходжа ушел в школу, я выскочил на улицу и отправился искать итальянцев-вероотступников, с которыми успел познакомиться за одиннадцать лет. Один из них, которого здесь звали капитан Мустафа, ушел на верфь; другой, Осман-эфенди, сначала не пускал меня в дом, хотя я колотил в дверь кулаками; он велел даже слуге сказать, что его нет дома, но потом, когда я пошел прочь, все же не выдержал и окликнул меня. Как я могу спрашивать, в самом ли деле началась чума? Неужто я не вижу, как несут покойников? Потом он сказал мне, что видит по моему лицу, как мне страшно, а все потому, что я все еще упорствую в своем христианстве! Он стал ругать меня, говоря, что здесь быть счастливым может только мусульманин; и прежде чем запереть дверь и укрыться во влажном сумраке своего жилища, он не пожал мне руки и вообще ни разу ко мне не притронулся. Было время намаза; увидев во дворах мечетей толпы народа, я в страхе поспешил домой. Я никак не мог собраться с мыслями и чувствовал себя совершенно растерянным, как это часто бывает с людьми в дни бедствий. Я словно бы окаменел, забыл свое прошлое; из памяти стерлись краски. Увидев в нашем квартале людей, несущих носилки с покойником, я впал в настоящую панику.
Ходжа уже вернулся домой. Было заметно, что он обрадовался, застав меня в таком состоянии. Я понял, что он считает меня трусом и оттого набирается прежней веры в себя, а потому обеспокоился. Мне захотелось сбить с него это глупое упоение собственным бесстрашием; попытавшись унять беспокойство, я выплеснул на него все свои медицинские и литературные познания: пересказал все встречающиеся у Гиппократа, Фукидида и Боккаччо истории о чуме, какие только смог вспомнить; предупредил, что эта болезнь, как принято думать, передается от человека к человеку, но тем самым лишь укрепил его презрение ко мне. Чумы он не боится, потому что болезнь настигает нас по воле Аллаха, и, если человеку суждено умереть, он умрет; поэтому нет никакого смысла в том, чтобы затвориться в доме, прервав все связи с миром, или бежать из Стамбула, как лепечет мой заплетающийся от страха язык. Если так предначертано, смерть найдет нас повсюду. Так отчего же я трушу? Не оттого ли, что на совести у меня полно грехов, о которых я столько дней писал? Говоря это, он улыбался, глаза его сияли надеждой.
Верил ли он в то, что говорил, я так и не понял до тех самых пор, пока мы не расстались навсегда. Сначала я оторопел от его бесстрашия, но потом вспомнил о наших беседах за столом, о наших страшных играх и засомневался. Ходжа снова и снова заводил речь о том, как мы записывали свои недостатки, и с бесившим меня самодовольством твердил: судя по страху смерти, владеющему мной, я вовсе не справился с дурными сторонами своей натуры, о которых писал, казалось бы, столь смело. Храбрость, с которой я расписывал свои грехи, объяснялась просто-напросто обыкновенным бесстыдством! А вот его, Ходжу, нерешительность охватила в те дни оттого, что каждый, даже самый мелкий свой недостаток он подвергал тщательному разбору. Теперь он наконец вздохнул с облегчением: не обнаружив в себе страха перед чумой, он убедился, что совесть его чиста, что он безгрешен.
С отвращением слушая эти утверждения, в искренность которых, как дурак, поверил, я решил дать ему отпор. Его бесстрашие, простодушно сказал я, объясняется не чистой совестью, а тем, что он не осознаёт всей близости смерти. Мы можем уберечься от нее; нужно только не прикасаться к заразившимся, хоронить умерших в ямах с известью и как можно меньше общаться с другими людьми; иными словами, Ходже нельзя ходить в школу, где так много народу.
Эти мои слова повлекли за собой ужасные последствия. Сказав, что в школе он прикасался к каждому ребенку, Ходжа потянулся ко мне и, увидев, как я страшусь его прикосновений, с довольным видом обнял меня. Мне хотелось закричать, но не получалось, словно в ночном кошмаре. А Ходжа тем временем с насмешкой, которой я тогда не заметил, говорил, что научит меня бесстрашию.
6
Чума быстро распространялась, но я все никак не мог научиться бесстрашию, о котором говорил Ходжа. Правда, я уже не берегся так, как в первые дни. Мне надоело сидеть день за днем в четырех стенах, словно больная женщина, и смотреть в окно. Время от времени я выскальзывал из дома и шатался, как пьяный, по улицам, глазел на торгующихся с рыночными продавцами женщин, на ремесленников, работающих в своих мастерских, на людей, зашедших в кофейню после похорон близкого человека, и пытался свыкнуться с чумой. Может быть, мне это и удалось бы, если бы не Ходжа.
По вечерам он протягивал ко мне руки, приговаривая, что весь день касался ими других людей. Я замирал на месте и ждал. Так цепенеет человек, который, проснувшись, видит, что по нему ползает скорпион. Трогая меня ледяными пальцами, непохожими на мои, Ходжа спрашивал: «Боишься?» Я не шевелился. «Боишься. Почему?» Иногда мне хотелось оттолкнуть руку Ходжи, ударить его, но я понимал, что это только еще сильнее раззадорит его. «Я скажу почему. Потому, что ты грешник. Потому, что ты по горло погряз в грехах. Потому, что ты веришь мне больше, чем я тебе».
Однажды он сказал, что нам нужно сесть за стол и что-нибудь написать. Именно сейчас нам нужно писать о том, почему мы – это мы. Но кончилось все тем, что он опять рассуждал лишь о чужих пороках. Впервые он показал мне написанное с гордостью. Уж не надеется ли он устыдить меня своими записками, подумал я и не сдержался – заявил Ходже, что он уравнял себя с глупцами и умрет раньше меня.
Тут я решил, что нащупал его слабое место. Я напомнил ему о десяти годах труда, о времени, которое он потратил на разработку теории мироздания; о том, как он, рискуя испортить зрение, часами вглядывался в ночное небо; о днях, которые он проводил, не отрываясь от книг. Чувствуя, что на сей раз мне удастся задеть его за живое, я сказал, что это будет очень глупо – взять и умереть понапрасну, когда можно спастись от чумы и выжить. Мои речи заставили его засомневаться. Прочитав написанное им, я почувствовал, что в нем против его воли вновь растет потерянное было уважение ко мне.
В те дни, желая забыть о своих несчастьях и обо всем на свете, я записывал счастливые сны, которые видел не только по ночам, но и днем, когда мне случалось вздремнуть. Эти сны, в которых смысл и действие были единым целым, я, проснувшись, старательно переносил на бумагу, страница за страницей, излагая их поэтическим языком. В лесу за нашим домом, среди деревьев, живут люди, владеющие тайнами, которые нам многие годы отчаянно хотелось узнать, и, если набраться храбрости и войти в лесной сумрак, с ними можно подружиться; наши тени не исчезают с заходом солнца, и мы, предаваясь сладкому сну в своих чистых и прохладных постелях, изучаем все, что нам нужно узнать и пережить, и это ничуть нас не утомляет; человечки, которых я рисую во сне, не только превращаются в красивых, отлично изображенных людей, но и, сойдя с бумаги, начинают жить среди нас; мы с отцом и матерью мастерим в саду металлические механизмы, которые будут работать вместо нас…
Нельзя сказать, будто Ходжа не догадывался, что эти сны – дьявольская ловушка, которая увлечет его во тьму бессмертного знания, и все же, сознавая, что с каждым разом теряет частичку уверенности в себе, он спрашивал меня, чтó означают мои сновидения и в самом ли деле я их вижу. Так что проделанное нами годы спустя с султаном впервые я проделал с Ходжой. Из этих видений я вывел наше будущее: понятно, что если человек заразился, например, той же чумой, то он заболеет; и также очевидно, что нельзя избыть зароненное в тебя знание; можно с уверенностью утверждать, что Ходжа заразился этой болезнью, и все же любопытно, какие он видит сны. Ходжа слушал меня, не скрывая усмешки, но, поскольку он уже переступил через свою гордость, задавая мне вопросы, ему не с руки было со мной спорить. К тому же я замечал, что мои слова вызывают у него интерес. Наблюдая, как тает спокойствие, которое Ходжа напустил на себя с началом чумы, я сознавал, что мой страх перед смертью не уменьшился, но, по крайней мере, теперь я не был в нем одинок. Конечно, я расплачивался за это мучениями по вечерам, но уже уверился, что веду свою борьбу не напрасно. Когда Ходжа протягивал ко мне руки, я говорил ему, что он умрет раньше меня, напоминал о невежестве тех, кто не боится чумы, о его незавершенных трудах и о моих счастливых видениях, про которые он читал в тот день.
Однако не мои уговоры стали последней каплей. Как-то к нам домой пришел отец одного из учеников школы, где преподавал Ходжа. Мужчина этот жил в нашем квартале и производил впечатление человека тихого и незлобивого. Я, примостившись в уголке, словно ленивый домашний кот, долго слушал, как они с Ходжой беседуют о том о сем. Наконец гость перешел к делу: дочь его тетки осталась вдовой после того, как ее муж прошлым летом упал с крыши, перекладывая черепицу. Сейчас многие к ней сватаются, но наш гость подумал о Ходже, потому как знает от соседей, что тот благосклонно относится к сватам. Ответ Ходжи был неожиданно грубым: он не хочет жениться, но, если бы даже захотел, не стал бы брать в жены вдову. На это гость возразил, что Пророк Мухаммед женился на Хадидже, не посмотрев на то, что она вдова, да к тому же она стала его первой женой. Он слышал, сказал Ходжа, что за женщина эта вдова: она не стоит и мизинца святой Хадиджи. Тогда наш носатый гость дал понять Ходже, что и тот не подарок; сам-то он не верит, но соседи говорят, будто Ходжа просто-напросто довольствуется козами; все думают, что не к добру он смотрит на звезды, возится с линзами и мастерит странные часы. С запальчивостью торговца, пытающегося сбить цену прельстившего его товара, гость вывалил еще пригоршню слухов, ходящих в квартале: за едой Ходжа не сидит по-турецки, а устраивается за столом, как гяуры; он выкладывает немереные деньжищи за книжки, а потом эти самые книжки швыряет на землю и топчет ногами страницы, на которых написано имя пророка; часами таращась на звезды, он просто пытается усмирить в себе шайтана, но тщетно, поэтому день-деньской валяется в постели и пялится в грязный потолок своей комнаты; женщины ему не по нраву, поскольку он падок до мальчиков; я не кто иной, как его брат-близнец; он не держит пост в священный месяц Рамазан, и, наконец, чуму Всевышний наслал тоже из-за него.
Выставив гостя за порог, Ходжа вернулся вне себя от ярости. Ну вот и пришел конец, решил я, его душевному спокойствию, которое зиждется на том, что он разделяет (или делает вид, будто разделяет) всеобщие настроения. Чтобы нанести последний удар, я сказал: те, кто не боится чумы, так же глупы, как этот тип. Ходжа забеспокоился, но заявил, что чумы не боится. Почему-то мне показалось, что говорит он искренне. Ходжа выглядел очень встревоженным, не знал, куда девать руки, и снова завел позабытую было песню про глупцов. Когда стемнело, он зажег лампу, поставил стол посреди комнаты и сказал, что нам нужно сесть и что-нибудь написать.
Словно два холостяка, проводящих бесконечные зимние ночи за гаданием, мы сидели за столом и что-то царапали на лежащих перед нами листах бумаги. Как же мы смешны, думал я. Утром, прочитав написанное Ходжой, я решил, что он, пожалуй, смешнее меня. Ходжа, подражая мне, тоже записал свой сон, но по всему ясно было, что это выдумка и никакого сна он не видел. Снилось ему якобы, что мы с ним братья и он наставляет меня, как положено старшему брату, а я смиренно внимаю его мудрым речам. На следующее утро за завтраком Ходжа спросил, что я думаю о распространившемся в нашем квартале слухе, будто мы – братья-близнецы. Вопрос мне понравился, но не слишком польстил моему самолюбию, и я промолчал. Через два дня Ходжа растолкал меня среди ночи, чтобы сказать: он только что на самом деле увидел сон, о котором писал. Может, так оно и было, но я почему-то не поверил. Следующей ночью он признался, что боится умереть от чумы.
Устав сидеть в четырех стенах, я под вечер вышел на улицу. Вот в саду мальчишки забрались на деревья, оставив на земле разноцветную обувь; вот у источника собрались болтливые женщины (теперь они уже не замолкали, когда я проходил мимо); вот на рынке покупатели торгуются с продавцами, тут же какие-то люди дерутся, что-то не поделив, их пытаются разнять, за этим увлеченно наблюдают зеваки. Я пытался убедить себя, что моровое поветрие пошло на убыль, но, увидев, как со двора мечети Беязыт выносят одного покойника за другим, покрылся холодным потом и поспешно вернулся домой. Услышав, как я вхожу, Ходжа окликнул меня:
– Подойди-ка сюда!
Расстегнув рубаху, он показал мне красное припухлое пятнышко пониже пупка.
– Спасения нет от этих насекомых!
Я внимательно посмотрел на пятнышко. Должно быть, укус довольно большого насекомого, но зачем его показывать мне? Присмотреться получше я побоялся.
– Насекомое какое-то укусило, – продолжал Ходжа. – Да? – Он притронулся к припухлости пальцем. – Может, блоха?
Я промолчал, предпочтя не говорить, что такого блошиного укуса никогда в жизни не видел.
Остаток дня я под благовидным предлогом провел в саду. Я понимал, что оставаться в доме нельзя, – но куда мне было деться? К тому же пятнышко и в самом деле напоминало укус насекомого, слишком маленькое для чумного бубона. Однако вскоре – возможно, оттого, что я прогуливался по зеленой весенней траве, – мной завладела другая мысль: через два дня покраснение набухнет, как бутон, и лопнет, а Ходжа умрет в муках. По-видимому, это было огромное ночное насекомое из жарких стран… Но как называлась сия воображаемая тварь?
За ужином Ходжа пытался выглядеть веселым, шутил, поддразнивал меня, но надолго его не хватило. Ужин завершился в молчании. Наступил тихий, безветренный вечер.
– Что-то тоскливо мне, – признался Ходжа. – Мысли всякие одолевают… Давай сядем за стол и напишем что-нибудь.
Только так он и мог отвлечься.
Но писать он был не в силах. Пока я преспокойно записывал все, что приходило мне в голову, он просто сидел и поглядывал на меня краем глаза.
– О чем ты пишешь?
Я прочитал ему о том, как после первого года обучения инженерному делу ехал домой на каникулы в коляске, запряженной одной лошадью, и как не терпелось мне поскорее доехать. Нет, я очень любил и университет, и своих однокашников; я написал и о том, как вспоминал их и скучал по ним, когда сидел в одиночестве у ручья и читал взятые с собой на каникулы книги. Выслушав меня и помолчав немного, Ходжа вдруг прошептал с таким видом, будто делился тайной:
– И там все так счастливо живут?
Я подумал, что он сразу пожалеет о сказанном, но он продолжал смотреть на меня с детским любопытством.
– Я был счастлив, – ответил я, тоже шепотом.
По лицу Ходжи пробежала легкая, нестрашная тень зависти, и он немного смущенно начал рассказывать.
Когда ему было двенадцать лет и его семья жила в Эдирне, одно время они с матерью и сестрой ходили в лечебницу при мечети Беязыт навещать деда, маминого отца, который страдал какой-то желудочной хворью. Утром, оставив младшего брата, который еще не умел ходить, под присмотром соседей, мать брала крынку спозаранок приготовленного мухаллеби[23], и они отправлялись в короткий, но увлекательный путь в тени тополей. Дед рассказывал им занятные истории. Ходже нравилось их слушать, но лечебница ему нравилась еще больше, так что он иногда убегал и разгуливал по ней. Однажды он слушал, как под широким куполом в свете фонаря играют музыку для душевнобольных и журчит вода; потом заглянул в другие помещения, где сияли чистотой загадочные разноцветные бутылочки и баночки. В другой раз он заблудился, начал плакать, и его провели по всем палатам лечебницы, пока не отыскали ту, где лежал Абдуллах-эфенди. Мать иногда плакала, иногда вместе с дочкой слушала рассказы деда. Потом они уходили, взяв пустую крынку, но прежде чем вернуться домой, мама покупала им халву и говорила: «Поедим, пока никто не видит». У них было любимое местечко на берегу реки под тополями, где они сидели втроем, опустив ноги в воду, ели халву, и никто их не видел.
Ходжа замолчал, и наступила тишина, тревожившая нас ощущением странной братской близости. Ходжа терпел эту тревожную тишину довольно долго. Потом в соседнем доме с грохотом хлопнули дверью, и он снова заговорил. Именно в то время, сказал он, в нем пробудился интерес к науке – когда он смотрел на бутылочки, баночки и весы, с помощью которых исцеляли больных. Но дед умер, и больше они в лечебницу не ходили. Ходжа все мечтал о том, как снова придет туда, когда вырастет, но однажды река Тунджа разлилась и затопила здание. Больных перевезли в другое место. Мутная вода долго стояла в палатах, а когда ушла – оставила прекрасную лечебницу в мерзкой вонючей грязи, которую долгие годы потом не могли счистить со стен.
Ходжа снова замолчал, но ощущения близости между нами уже не было. Он встал из-за стола. Я краем глаза наблюдал за его бродящей по комнате тенью. Потом он взял со стола лампу и зашел мне за спину. Теперь я не видел ни самого Ходжи, ни его тени. Мне хотелось повернуться и посмотреть на него, но я не мог: я был охвачен беспокойством, словно ждал какой-то беды. Вскоре я услышал шелест снимаемой одежды и в страхе обернулся. Ходжа, раздетый по пояс, стоял у зеркала, освещал себя лампой и внимательно рассматривал свой живот и грудь.
– Господи, – сказал он, – что же это за нарыв такой?
Я молчал.
– Подойди сюда, посмотри!
Я не шелохнулся, и Ходжа закричал:
– Подойди сюда, говорю!
Я подошел, словно страшащийся наказания ученик, но не вплотную. Близость его голого тела мне совсем не нравилась, и сначала я почти поверил, что именно из-за этого не хочу к нему подходить. В действительности я знал, в чем дело: меня страшил нарыв. Ходжа тоже понял это. Однако я все-таки попытался его обмануть: наклонился и стал со знающим видом рассматривать красную припухлость, что-то бормоча себе под нос.
– Боишься, да? – спросил наконец Ходжа.
Желая показать, что мне не страшно, я наклонил голову еще ниже.
– Боишься, что это чумной бубон!
Я притворился, будто не расслышал, и хотел сказать, что это укус насекомого, должно быть, того же странного насекомого, которое когда-то укусило и меня, вот только я никак не могу вспомнить название этой твари.
– Потрогай! – велел Ходжа. – Как же ты поймешь, что это такое, если не потрогаешь? Прикоснись ко мне!
Увидев, что я не могу заставить себя до него дотронуться, Ходжа повеселел, провел по нарыву пальцами и потянулся ими к моему лицу. Я с отвращением отпрянул, а он стал смеяться надо мной: разве можно так трусить из-за простого укуса насекомого? Но его веселье скоро угасло.
– Я боюсь умереть, – вдруг произнес он таким тоном, будто говорил не о смерти, а о чем-то другом. Выглядел он не столько смущенным, сколько разгневанным; это был гнев человека, столкнувшегося с несправедливостью. – А ты уверен, что у тебя нет такого нарыва? Ну-ка раздевайся!
Он настаивал, и я неохотно, словно ненавидящий мытье мальчишка, снял с себя рубашку. В комнате было жарко, окно закрыто, и все же откуда-то потянуло сквозняком, и я вздрогнул. Не знаю, может быть, это повеяло холодом от зеркала? Застеснявшись своего отражения, я сделал шаг в сторону. Теперь я видел в зеркале только профиль Ходжи, склонившего ко мне свою большую голову, так похожую, по всеобщему мнению, на мою. Он хочет отравить мою душу, вдруг подумалось мне; а ведь я многие годы гордился тем, что все обстоит как раз наоборот, тем, что это я учу его. Смешно подумать, но на какой-то миг мне показалось, будто эта бородатая голова, потерявшая при свете лампы всякий стыд, тянется ко мне, чтобы пить мою кровь! Вот как, оказывается, мне нравились те страшные рассказы, которых я наслушался в детстве. Размышляя об этом, я вдруг почувствовал, как Ходжа прикасается пальцами к моему животу; мне хотелось броситься прочь, хотелось ударить его чем-нибудь по голове.
– На тебе нет, – заключил он, потом зашел мне за спину, ощупал подмышки, шею, посмотрел за ушами. – Здесь тоже нет. Не кусали тебя, выходит.
Он положил мне руку на плечо, словно я был другом детства, которому он хотел пожаловаться на свои горести. Затем сжал пальцами мою шею сзади и подтолкнул вперед:
– Давай вместе посмотримся в зеркало.
Взглянув в зеркало при свете лампы, я снова поразился тому, как сильно мы похожи. Вспомнил, как испытал такое же чувство при первой встрече с ним в доме паши. Тогда я видел перед собой человека, которым должен был стать; теперь же подумал, что это он должен стать таким, как я. Мы – единое целое! Сейчас это казалось мне очевидной истиной. Я застыл на месте, как будто мне связали руки и ноги. Я пошевелился, провел рукой по волосам, чтобы стряхнуть с себя это ощущение и словно бы убедиться, что я – это я. Но он сделал то же самое движение, причем очень ловко, ничем не нарушив царящей в зеркале симметрии. Он в точности подражал моему взгляду, наклону головы и застывшему на моем лице выражению ужаса, видеть которое в зеркале было невыносимо – но я не мог отвести взгляд. А Ходжа вскоре развеселился, словно мальчишка, который дразнит приятеля, повторяя его слова и жесты.
– Мы умрем вместе! – крикнул он.
Какая чушь, подумал я. Но мне все равно стало еще страшнее. Это была самая страшная ночь из проведенных мной в доме Ходжи.
Потом он сказал мне, что с самого начала боялся чумы и только делал вид, что не боится, чтобы испытать меня, как палачи Садык-паши, грозившие мне казнью, или люди, толковавшие о нашем сходстве. Он, сказал Ходжа, овладел моей душой и может подражать не только моим движениям, как делал только что, – теперь он знает, о чем я думаю, и думает о том, о чем мне должно быть известно! Правда, затем он спросил меня, о чем же я думаю. Думать я мог только о нем, но соврал, что ни о чем не думаю; впрочем, Ходжа меня не слушал; он спрашивал не потому, что желал знать ответ, а только чтобы меня напугать, чтобы справиться с собственным страхом, разделить его со мной. Я догадывался, что чем острее он ощущает свое одиночество, тем больше ему хочется причинить мне зло; он водил рукой близ наших лиц, пытался повергнуть меня в ужас магией нашего странного сходства, волнуясь и нервничая еще больше моего, и я чувствовал, что ему хочется сделать что-то дурное, – но другая часть его души восставала против этого. Потому-то, говорил я себе, он и держит меня за загривок, не давая отойти от зеркала. При этом Ходжа не казался мне таким уж глупым и беспомощным. Он был прав: мне действительно хотелось говорить и делать то, что он говорит и делает, и я завидовал ему, потому что он раньше меня смог превратить в игру страх перед чумой и перед зеркалом.
И несмотря на весь свой страх и догадку, будто во мне появилось нечто такое, чего я и в мыслях не допускал, я никак не мог избавиться от ощущения, что меня вовлекли в игру. Ходжа ослабил хватку, но я не отходил от зеркала.
– Я стал как ты, – проговорил Ходжа. – Теперь я знаю, как ты боишься. Я стал тобой!
Я понял, чтó он хочет сказать, но постарался убедить себя в том, что его слова (которые сегодня я считаю пророческими, не сомневаясь, что пророчество это наполовину сбылось) глупы и по-детски наивны. Ходжа заявил, что может видеть мир моими глазами; теперь он, дескать, понимает, как «они» думают и чтó чувствуют. Он отвел глаза от зеркала и говорил, глядя на погруженные в полумрак стол, стулья, стаканы и прочие предметы. Он уверял, что теперь может рассуждать о вещах, ранее его разумению недоступных из-за неспособности их увидеть, но я думал, что он ошибается: и слова, и вещи были те же самые. Новым был только страх, и даже не он сам, а способ, которым Ходжа справлялся с ним; но этот способ, о котором я и сегодня не смогу написать открыто, мне представлялся притворством, которое Ходжа напускал на себя, стоя у зеркала, не более чем новой игрой. И он словно бы время от времени помимо воли забывал об игре, возвращаясь мыслями к нарыву, спрашивая себя, что это такое – укус насекомого или чумной бубон.
Потом (мы еще стояли, полуголые, перед зеркалом) Ходжа сказал, что хотел бы заново начать с того, на чем остановился я. Он займет мое место, а я – его; для этого нам достаточно будет поменяться одеждой, ему сбрить бороду, а мне – отпустить. От этих слов сходство наших отражений в зеркале устрашило меня еще более. Мои нервы были на пределе. А Ходжа взахлеб говорил о том, чтó будет делать, когда не он меня, а я его отпущу на свободу и он, став мной, вернется на мою родину. Я с удивлением понял, что он запомнил все мои рассказы о детстве и юности, запомнил до мельчайших подробностей, но эти подробности осмыслил по-своему и создал в воображении странную, небывалую страну. Моя жизнь словно бы мне больше не принадлежала; она оказалась в руках Ходжи, и он направлял ее куда хотел, а мне оставалось только со стороны, будто во сне, наблюдать за тем, что со мной происходит. Однако рассказ Ходжи о том, как он, став мной, поедет в мою страну и станет там жить, звучал настолько наивно и забавно, что я не мог полностью ему поверить. С другой стороны, я дивился стройности рисуемой им подробной картины: и такое, выходит, могло бы статься, думал я, и вот так я тоже, оказывается, мог бы жить. Тогда я понял, что впервые ощущаю присутствие в жизни Ходжи чего-то более глубокого, чем виделось мне раньше, но чего – этого я сказать не мог. Так или иначе, удивленно внимая его рассказам о моей жизни в том далеком мире, тоска по которому мучила меня столько лет, я забыл свой страх перед чумой.
Но продолжалось это недолго. Ходжа захотел, чтобы теперь я рассказал, что буду делать, когда займу его место. Однако после долгого стояния перед зеркалом, когда я пытался убедить себя в том, что не так уж мы и похожи, а нарыв на теле Ходжи – всего лишь след от укуса насекомого, мои нервы вконец расстроились, и ничего путного в голову мне не приходило. Но Ходжа настаивал, и я, вспомнив, что когда-то собирался по возвращении на родину доверить свои впечатления бумаге, сказал, что, может быть, напишу однажды хорошую книгу о его жизни. Услышав это, Ходжа преисполнился злобой и презрением. Я, заявил он, не знаю его жизни так, как он знает мою! Оттолкнув меня от зеркала, он остался перед ним один и продолжал говорить. Он сейчас расскажет о том, что случится со мной, когда займет мое место. Прежде всего, сказал он, нарыв окажется чумным бубоном, и я умру. И Ходжа принялся описывать, как я буду корчиться в муках, прежде чем испущу дух; меня будет терзать страх, которому я не смогу противостоять, потому что не готов к нему, и этот страх окажется хуже самой смерти. Живописуя мои страдания на смертном одре, Ходжа отошел от зеркала; вскоре я обернулся и увидел, что он улегся на неубранную постель и оттуда продолжает рассказывать об ожидающих меня боли и мучениях. Он положил руку на живот – как на источник боли, о которой говорит, подумал я. Тут он подозвал меня, я в страхе подошел и сразу пожалел об этом: он снова вздумал меня ощупать. Я почему-то уже не сомневался, что его просто-напросто укусило насекомое, но мне все равно было страшно.
Так продолжалось всю ночь. Пытаясь заразить меня своей болезнью и своим страхом, Ходжа твердил и твердил, что я – это он, а он – это я. А все оттого, что ему нравится смотреть на себя со стороны, думал я и, словно стараясь очнуться от ночного кошмара, мысленно повторял: это такая игра. Он же сам сказал, что это игра. Но Ходжа покрылся обильным потом, и непохоже было, что причиной тому – стоявшая в комнате жара или его удушливые слова; этот пот походил на испарину больного.
Когда забрезжил рассвет, он продолжал говорить: о звездах и смерти, о своих придуманных прорицаниях, о глупости султана и его неблагодарности, о своих любимых глупцах, о «нас» и о «них», о том, что ему хочется стать кем-то другим. Я уже не слушал – вышел в сад. В памяти у меня почему-то всплыли суждения о бессмертии, вычитанные в одной старой книге. На улице все было неподвижно, только воробьи скакали по ветвям лип и чирикали. Удивительный покой! Я подумал о том, что сейчас происходит в других стамбульских домах, о больных. У Ходжи чума, и он будет продолжать в том же духе, пока не умрет, а если нет – то до тех пор, пока не исчезнет эта красная припухлость. Я понимал, что не могу больше здесь оставаться. Возвращаясь в дом, я еще понятия не имел, куда убегу, где буду скрываться. Мечталось мне о месте, далеком от Ходжи и от чумы. Запихивая в мешок кое-какие мои пожитки, я решил, что на дальние края нацеливаться не стоит, чтобы меня не успели поймать по дороге. Больше я ни о чем не думал.
7
Я успел скопить немного денег, по мелочи приворовывая у Ходжи и порой кое-где подрабатывая. Уходя из дома, я достал их из своего тайника – из чулка, лежавшего в сундуке с книгами, которые я уже давно перестал читать. Потом мне стало любопытно, как там Ходжа, и я прошел в его комнату. Лампа горела, Ходжа спал, весь в поту. Я поразился, до чего маленьким было зеркало, всю ночь пугавшее меня нашим таинственным сходством, в которое я полностью никогда не верил. Ни к чему не притрагиваясь, я вышел из дома и зашагал по пустым улицам нашего квартала. Дул легкий ветерок. Мне хотелось вымыть руки; я знал, куда отправлюсь, и на душе было спокойно. Мне нравилось идти в утреннем безмолвии по улицам, спускавшимся к морю, мыть руки у источников, любоваться Золотым Рогом.
Про остров Хейбели я впервые услышал, встретившись однажды в Галате с молодым монахом, приехавшим оттуда в Стамбул на время; он взахлеб рассказывал о красотах Принцевых островов. Должно быть, этот рассказ запал мне в душу, потому что, выходя из нашего квартала, я уже знал, что поеду именно туда. Но лодочники и рыбаки, с которыми я заговаривал, требовали за перевоз на остров огромные деньги. Я испугался: они поняли, что перед ними беглый раб, и расскажут отправленным по моему следу людям, где я прячусь! Потом я решил, что они просто хотят запугать христианина, которого презирают за то, что он, как все его единоверцы, боится чумы. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я сговорился с одним из лодочников. Это был человек не слишком сильный. К тому же, вместо того чтобы налегать на весла, он все болтал и болтал о том, за какие грехи послана чума; под конец он прибавил, что пытаться сбежать от нее на остров совершенно бессмысленно. Слушая его, я догадался, что он боится чумы не меньше меня. Путь занял шесть часов.
Я оценил впоследствии, какими счастливыми были проведенные на острове дни. За небольшие деньги я поселился в доме одинокого рыбака-грека и жил там в постоянной тревоге, стараясь не показываться никому на глаза. Иногда я думал, что Ходжа умер, а иногда – что он выжил и послал людей меня искать. На острове было много христиан, которые, подобно мне, бежали от чумы, но я не хотел, чтобы они меня видели.
По утрам я вместе с рыбаками выходил в море до самого вечера. Одно время увлекся охотой на омаров и крабов с острогой. Когда непогода не позволяла рыбачить, я бродил по острову, забирался в монастырский сад, где, случалось, сладко спал под виноградными лозами. Была там и смоковница, а возле нее – решетка, увитая плющом; в ясную погоду с этого места удавалось разглядеть даже Айя-Софию. Я усаживался под деревом и, глядя на Стамбул, часами предавался мечтам. Однажды я увидел во сне Ходжу, который плыл к острову на лодке в сопровождении дельфинов; он был с ними дружен и расспрашивал их обо мне; стало быть, он меня разыскивал. В другой раз я увидел рядом с Ходжой свою мать; они ругали меня за то, что я опоздал. Когда я просыпался в поту от бьющего в лицо солнца, мне хотелось вернуться назад в эти сны, а если не получалось, я принуждал себя думать. Иногда я думал о том, что Ходжа умер; о его теле, лежащем в покинутом мной пустом доме; о людях, пришедших его забрать, и о безмолвии похорон, на которые никто не явился. Потом я начинал думать о его предсказаниях; об увлекательных выдумках, приходивших ему в голову, когда он бывал в хорошем настроении, и о том, что он измышлял, когда им завладевали гнев и ненависть; о султане и животных в султанском зверинце. Омары и крабы, проткнутые насквозь моей острогой, медленно шевелили клешнями в такт моим дневным грезам.
Я пытался убедить себя, что сумею бежать на родину. Деньги для этого можно было украсть запросто: двери на острове никто не запирал. Но сначала требовалось забыть Ходжу. Дело в том, что я никак не мог освободиться от манящих воспоминаний об удивительных событиях, произошедших со мной, и чуть ли не винил себя за то, что оставил умирать в одиночестве человека, так похожего на меня. Я тосковал по нему, как тоскую сегодня; размышлял о том, действительно ли мы были так похожи, как говорила мне память, или я сам себя обманываю; потом внушал себе, что за одиннадцать лет ни разу не всмотрелся как следует в его лицо, хотя на самом деле занимался этим множество раз. Однажды меня даже посетило желание поехать в Стамбул, чтобы успеть в последний раз посмотреть на покойника. И я понял, что не смогу освободиться, если не уверюсь, что сходство между нами – ложное воспоминание, неприятная ошибка, которую нужно вычеркнуть из памяти.
Хорошо, что из этого ничего не получилось, ибо пришел день, когда я увидел перед собой Ходжу! Я лежал растянувшись в саду за домом рыбака; закрыв глаза и подставив лицо солнцу, я предавался мечтам, когда вдруг почувствовал, что на меня упала тень. Это был он, и он улыбался, но не улыбкой победителя, взявшего верх в игре, а так, словно любил меня! Я нисколько не встревожился, даже сам несколько устрашенный этим своим спокойствием. Наверное, втайне я ждал, что этим все и закончится, потому что сразу ощутил чувство вины, словно ленивый раб, словно оступившийся слуга. Собирая вещи, я не испытывал ненависти к Ходже, а презирал сам себя. Он заплатил рыбаку мой долг. С ним было два гребца, и на четырех веслах мы быстро добрались до Стамбула. Домой мы пришли еще засветло. Я понял, что соскучился по запаху этого дома. Зеркала на стене не было.
На следующее утро Ходжа позвал меня к себе и сказал, что моя вина очень велика, и не только потому, что я сбежал, а потому, что бросил его умирать, приняв укус насекомого за чумной бубон; надо бы меня наказать, но сейчас не время. Оказывается, неделю назад его наконец-то призвал к себе султан и спросил, когда кончится чума, сколько жизней она еще унесет и грозит ли опасность ему, султану. Поскольку от волнения Ходжа не смог придумать ничего дельного, он дал уклончивые ответы и отговорился тем, что ему нужно время, чтобы посоветоваться со звездами. Домой он вернулся, не помня себя от счастья, и все не мог сообразить, как использовать интерес султана с пользой, а потом решил съездить за мной.
Оказывается, он уже давно знал, что я на острове. Когда я сбежал, он три дня провалялся в постели с простудой, а потом начал поиски и вскоре напал на след: хватило пары монеток, чтобы болтливый лодочник рассказал, как отвез меня на Хейбели. Ходжа не поехал за мной, потому что знал: я все равно никуда не денусь с острова. Он сказал, что теперь ему выпала самая большая удача в его жизни, и я с ним согласился. Тогда Ходжа без обиняков объявил, что нуждается в моих знаниях.
Мы сразу приступили к работе. Ходжа был полон решительности, свойственной людям, которые знают, чего они хотят; мне нравилась эта твердость, которой прежде я в нем почти никогда не замечал. Зная, что на следующий день Ходжу снова вызовут во дворец, мы задались целью выиграть время. Принцип, на котором мы сразу сошлись, заключался в том, чтобы сообщать не очень многое, но все свои слова немедленно подтверждать доказательствами. Все с той же понравившейся мне твердостью Ходжа заявил, что прорицания – это шутовство, но их можно замечательно использовать для борьбы с глупостью. Выслушав мои объяснения, он, похоже, согласился с тем, что чуму удастся остановить только санитарными мерами. Он, как и я, не отрицал, что чума пришла по воле Аллаха, но Его воля в данном случае проявлялась опосредованно, так что если мы, смертные, засучив рукава начнем бороться с этим бедствием, то ни в коей мере не нанесем оскорбления Всевышнему. В конце концов, разве праведный халиф Омар[24] не отозвал своего полководца Абу Убайду из Сирии в Медину, дабы уберечь войско от чумы? Ходжа должен был сказать, что из соображений безопасности султану нужно по возможности избегать общения с другими людьми. У нас, конечно, мелькнула мысль, что для пущей убедительности надо бы заронить в душу султана страх смерти, но это представлялось опасным. Да, возможно, его удастся устрашить поэтическим описанием смерти, но надолго ли? Даже если бы речи Ходжи убедили султана, толпа окружавших властителя глупцов постаралась бы развеять его страх, а потом эти бессовестные дураки в любой момент смогли бы обвинить Ходжу в безбожии. Поэтому мы сочинили рассказ, основываясь на моем знании литературы.
Больше всего Ходжу пугала необходимость предсказать, когда кончится чума. Я полагал, что нам нужно выяснить, сколько человек умирает каждый день, и поработать с этими цифрами. Ходжа принял мою идею без особого воодушевления; он сказал, что попросит султана, чтобы нам помогли собрать эти сведения, но просьбу нужно скрыть под личиной еще одной притчи. Не то чтобы я так уж сильно верил в математику, но мы были связаны по рукам и ногам.
На следующее утро Ходжа отправился во дворец, а я – в город, во владения чумы. Я боялся ее, как и прежде, но стремительное движение жизни и желание хоть немного насладиться чувством причастности к этому миру приятно кружили мне голову. Стоял прохладный, ветреный летний день. Бродя среди мертвых и обреченных на смерть, я думал, что уже многие годы не ощущал такой любви к жизни. Я заходил во дворы мечетей, записывал на листок бумаги количество стоявших там гробов, а потом, прогуливаясь по окружающему мечеть кварталу, пытался установить связь между тем, что в нем вижу, и числом покойников, свести в единое целое и как-то истолковать внешний вид домов, настроение людей, их радость и печаль. Это было непросто. К тому же мои глаза с непонятной жадностью цеплялись только за мелкие подробности чужой жизни, отмечая, как люди переживают вместе с родными и близкими радость либо отчаяние или как их разделяет безразличие. Ближе к полудню, когда в голове уже мутилось от уличной толчеи и бесчисленных покойников, я переправился на противоположный берег, в Галату, и стал бродить в окрестностях верфи: заходил в кофейни для рабочих, курил, несмело затягиваясь, прошелся по рынкам, пообедал, исключительно из любопытства, в бесплатной харчевне для бедняков. Мне хотелось все хорошенько запомнить и разложить по полочкам, чтобы потом осмыслить и прийти к какому-то выводу. Когда стемнело, я вернулся домой, не чуя под собой ног от усталости, и стал слушать рассказ Ходжи о том, как он ходил во дворец.
Все получилось как нельзя лучше. Придуманный нами рассказ произвел на султана впечатление. Ходжа убедил его в том, что чума, подобно шайтану, принимает человеческий облик и так, обманывая людей, губит их; султан распорядился не пускать во дворец никаких чужаков и взять под строгую охрану все входы и выходы. Затем султан спросил, когда и как кончится чума, и Ходжа проявил такие чудеса красноречия, что повелитель правоверных пролепетал в страхе: он ясно представляет себе ангела смерти Азраила, который бродит, словно пьяный, по городским улицам и увлекает за собой тех, кто ему приглянется. Ходжа сразу же взволнованно поправил: нет, это не Азраил, это шайтан обрекает людей на смерть. И не пьян он, а очень хитер. Потом, как мы и задумали, Ходжа заговорил о необходимости противодействовать шайтану. Чтобы понять, когда чума оставит город в покое, нужно выяснить, в каких местах бродит шайтан. Кое-кто из свиты начал было говорить, что бороться с чумой – значит идти против воли Аллаха, но султан остался глух к их речам. Потом он спросил у Ходжи про животных: опасен ли шайтан чумы для его ястребов, соколов, львов и обезьян? Ходжа не раздумывая изрек, что если людям чума является в человеческом облике, то животным – в облике крысы. Султан приказал доставить из какого-нибудь далекого города, не затронутого чумой, пятьсот кошек, а в распоряжение Ходжи выделить столько людей, сколько тому будет нужно.
Двенадцать человек, отданных под наше начало, мы сразу же отправили во все концы Стамбула – обходить кварталы и сообщать нам об увиденном, а также докладывать о числе покойников. На нашем столе мы расстелили грубый план Стамбула, который я начертил по картам из книг, кое в чем исправив. По ночам мы увлеченно, хотя и со страхом, отмечали, где по городу ходит чума, и обсуждали, что еще нужно сказать султану.
Поначалу мы не питали особых надежд на успех. Чума ходила по городу не как хитрый шайтан, а как шатающийся без цели бродяга. В один день она уносила сорок душ в Аксарае, потом бросалась в Фатих, на следующий день гостила на другом берегу, в Топхане и Джихангире, а там глядь – она уже в Зейреке, погубила разом двадцать человек в нашем квартале у Золотого Рога. Сведения о количестве смертей нам тоже мало о чем говорили: в один день могло умереть пятьсот человек, в другой – сто. Пока мы поняли, что нужно обращать внимание не на то, где чума убила свою жертву, а на то, где впервые с ней встретилась, прошло немало времени. А тут Ходжу вновь вызвали во дворец. Поразмыслив, мы решили: он должен рассказать султану, что чума бродит по многолюдным рынкам и базарам, где продавцы надувают покупателей, и по кофейням, где все сидят в тесноте, обсуждая слухи и сплетни. Ходжа ушел и вернулся вечером.
Выслушав его рассказ, султан спросил, что же делать. Ходжа сказал, что нужно силой ограничить проход на рынки и базары и вообще передвижение людей по городу. Умники из свиты султана, разумеется, сразу стали возражать: как же тогда кормить город? Если остановить торговлю, то и жизнь остановится! Известие о том, что чума ходит по городу в человеческом облике, посеет в народе страх; многие поверят, что близок конец света, и выйдут из повиновения! К тому же никому не захочется оказаться запертым в квартале, по которому бродит шайтан чумы, начнутся бунты! «И они были правы», – заметил Ходжа. Но тут один умник спросил, где же найти человека, который смог бы применить столь суровые меры и удержать народ в узде, и султан, разгневавшись, закричал, что покарает любого, кто посмеет усомниться в его могуществе. Все перепугались, а султан, еще не остыв от гнева, повелел сделать так, как говорит Ходжа, – но не забыл посоветоваться со свитой. Главный астролог Сыткы-эфенди, имевший зуб против Ходжи, напомнил, что тот так и не сказал, когда же чума покинет Стамбул. Испугавшись, что султан прислушается к астрологу, Ходжа пообещал в следующий раз принести календарь.
Испещрив нашу карту значками и заполнив ее цифрами, мы так и не смогли понять, какая логика стоит за перемещениями чумы по городу. Тем временем ограничения, объявленные султаном, вступили в силу. У входов на рынки, у лодочных пристаней и на главных улицах были поставлены янычары, которые останавливали всякого проходящего и спрашивали, кто он такой, куда и откуда идет. Испуганных, растерянных путников и всех шатающихся без дела отправляли по домам, чтобы их не обманула чума в человеческом облике. Узнав, что жизнь в Капалычарши[25] и на рынке в Ункапаны замерла, мы записали все собранные за последний месяц сведения о количестве смертей на лист бумаги, повесили его на стену и задумались. По мнению Ходжи, надежда найти в перемещениях чумы скрытую логику была напрасна, и, чтобы спасти свои головы, нам следовало придумать что-нибудь такое, чем можно отвлечь внимание султана.
В те же дни мы узнали о введении пропусков. Оказывается, ага янычар, дабы не прекратилась торговля и город не остался без продовольствия, выдавал пропуска тем людям, которые представлялись ему достойными такой милости. Когда мы услышали, что он отменно нагревает на этом руки, а мелкие торговцы, не желающие платить эту дополнительную подать, задумываются о бунте, я как раз впервые начал улавливать некую логику в наших цифрах. И когда Ходжа закончил пересказывать мне слухи о заговоре, который готовит великий визирь Кёпрюлю вместе с торговцами, я сказал ему об этом и попытался убедить его в том, что чума потихоньку отступает с окраин и из кварталов бедняков.
Ходжа не очень-то мне поверил, но изготовление календаря возложил на меня. А сам он, сказал Ходжа, напишет, дабы отвлечь внимание султана, рассказ, в котором никто не сможет найти никакого смысла и из которого нельзя будет сделать никакого вывода. Через некоторое время он спросил меня, можно ли придумать такой рассказ, в котором не имелось бы смысла, но который было бы приятно читать или слушать. «Как музыку?» – спросил я, немало удивив Ходжу. Потом мы сошлись на том, что зачин хорошего рассказа должен быть по-детски наивным, будто сказка, середина – страшной, словно кошмарный сон, а конец – печальным, как расставание влюбленных. Всю ночь накануне того дня, когда Ходжа должен был пойти во дворец, мы провели, лихорадочно работая и весело болтая. В соседней комнате сидел наш приятель-левша, переписывавший набело первую часть еще не законченного рассказа. Под утро, основываясь на полученных нами неполных данных и уравнениях, которые я уже столько дней пытался из них вывести, я пришел к выводу, что чума, собрав свои последние жертвы на рынках, покинет город через двадцать дней. Ходжа не стал вникать в обоснование моего прогноза, сказал только, что до дня избавления еще слишком далеко и надо указать в календаре другой срок – две недели, да и его скрыть за разными прочими цифрами. Я был настроен не столь радужно, но сделал, как он сказал. Ходжа тут же снабдил некоторые из дат календаря стихотворными подписями и отнес их завершавшему свою работу писарю, а мне велел сделать рисунки к кое-каким подписям. В полдень, уходя во дворец с рукописью, наскоро переплетенной в синюю мраморную бумагу, Ходжа был невесел. На него навалились тоска и страх. Мне он сказал, что уповает не столько на календарь, сколько на пеликанов, крылатых быков, красных муравьев и говорящих обезьян, которыми изобиловали страницы прилагающегося к календарю рассказа.
Вернулся он охваченный волнением, которое не утихало потом еще три недели. Ему удалось убедить султана в истинности своего прорицания. Поначалу он был готов к любому исходу: пока наделенный красивым голосом юноша читал рассказ Ходжи, в свите султана даже раздавались смешки; несомненно, это смеялись враги Ходжи с целью унизить его в глазах повелителя. Султан сурово велел им замолчать, однако спросил, на чем основано предсказание о том, что чума прекратится через две недели. Ходжа ответил, что все объяснения содержатся в рассказе (который никто не понял). Затем, желая угодить султану, он стал гладить разноцветных кошек, которых теперь во дворце водилось великое множество, – их привезли на кораблях из Трабзона, и бродили они не только по внутренним дворам, но и по покоям.
На следующий день, вернувшись из дворца, Ходжа сказал, что окружение султана раскололось на два стана: одни, в том числе главный астролог Сыткы-эфенди, требовали отмены всех введенных в городе противочумных мер; другие, поддерживая Ходжу, говорили: «Прижмем город покрепче, чтобы и бродящему по нему шайтану пришлось несладко!» Я, наблюдая за тем, как уменьшается с каждым днем количество смертей, чувствовал, что надежда во мне крепнет, но Ходжу продолжала мучить тревога. Он утверждал, что его противники из числа царедворцев, войдя в сговор с Кёпрюлю, готовят мятеж; заботит же их борьба не с чумой, а со своими врагами.
В конце первой недели количество смертей заметно сократилось, однако стало понятно, что мои первоначальные расчеты верны и через неделю чума не закончится. Я пенял Ходже за то, что он изменил мой календарь, но Ходжа уже преисполнился надежды и взволнованно рассказывал мне, что слухи про великого визиря так и остались слухами, а распускали их те самые люди, которым хотелось, чтобы все думали, будто Кёпрюлю заодно с ними. Изрядно напуганный всеми этими интригами и кознями, султан искал покоя в общении со своими кошками.
К исходу второй недели город страдал уже не столько от чумы, сколько от принятых против нее мер; с каждым днем умирало все меньше людей, но об этом знали лишь немногие, вроде нас с Ходжой. Поползли слухи о приближающемся голоде; Стамбул стал страшен, словно обезлюдевший, оставленный своими жителями город. Сам я не покидал нашего квартала, но Ходжа рассказывал, что за каждым закрытым окном и запертой дверью чувствовалось отчаяние людей, измученных повальной болезнью; складывалось ощущение, будто они чего-то ждут – не чумы и смерти, а чего-то другого. Это напряженное ожидание угадывалось и во дворце: стоило кому-нибудь уронить чашку или громко закашляться, как толпу перешептывающихся умников, гадающих о том, какое решение примет сегодня султан, охватывал ужас вперемешку с радостью. Так бывает с попавшими в безвыходное положение людьми, которым хочется, чтобы наконец произошло хоть что-то, и будь что будет. Ходжа тоже был захвачен общим настроением. Он пытался говорить с султаном о том, что чума потихоньку отступает, и о том, что его, Ходжи, предсказания оказались верными, но эти речи не производили на султана должного впечатления, и в конце концов Ходже приходилось переводить разговор на животных.
Через два дня из подсчетов, проделанных в мечетях, стало ясно, что чума стремительно пошла на убыль, но Ходжа в ту пятницу радовался по иной причине. В городе произошли беспорядки: кучка доведенных до отчаяния мелких торговцев вступила в стычку с перекрывшими дороги янычарами; к торговцам примкнули другие янычары, тоже недовольные запретами, два глупых имама из небольших мечетей, несколько бродяг, прельщенных возможностью пограбить, и прочий сброд. Они кричали, что чума послана Аллахом и бороться с ней нельзя, но мятеж, не успев разгореться, был немедленно подавлен. Тут же – видимо, для того, чтобы представить событие более опасным, чем оно на самом деле было, – у шейх-уль-ислама[26] истребовали фетву и казнили двадцать человек. Ходжа был на седьмом небе от радости.
На следующий вечер он объявил о победе. Во дворце никто уже больше не заикался об отмене мер против чумы: вызванный туда ага янычар заявил, что сторонники бунтовщиков есть и в окружении султана; тот разгневался, и враги Ходжи, доставившие ему столько неприятностей, в страхе попрятались кто куда. Говорили, что Кёпрюлю, который, согласно ходившим ранее слухам, действовал заодно с ними, собирается сурово покарать мятежников. Ходжа с довольным видом рассказывал, что и он тоже подвигнул султана в этом направлении. Люди, подавившие мятеж, желая убедить повелителя в своей правоте, сообщили ему, что чума отступает, – и это была чистая правда. Султан воздал Ходже хвалу, какой никогда не воздавал раньше, и захотел показать ему привезенных из Африки обезьян. Когда они стояли у клетки, наблюдая за мартышками, чье бесстыдство и нечистоплотность вызывали у Ходжи отвращение, султан спросил, можно ли научить их разговаривать, как попугаев. Затем, обратившись к свите, сказал, что желает теперь чаще видеть Ходжу и что подготовленный им календарь оказался правильным.
Через месяц Ходжа стал главным астрологом; мало того, в ту же пятницу, когда султан отправился на торжественный намаз в честь окончания чумы в Айя-Софию, куда собрался весь город, Ходжа следовал за ним в его свите; меры против чумного поветрия были отменены, толпа шумно ликовала, славя Аллаха и султана, и я был там, среди ликующих. Когда султан проезжал мимо нас на своем коне, люди вокруг меня заорали изо всех сил, началась сутолока. Янычары стали теснить обезумевшую от восторга толпу; меня прижали к дереву, но я, работая локтями, протиснулся вперед и вдруг оказался в четырех-пяти шагах от Ходжи, который с довольным и счастливым видом шествовал вслед за султаном. Он отвел взгляд, словно не узнал меня. Посреди всего этого безумного шума меня вдруг охватил какой-то дурацкий восторг, и я закричал что было сил. Мне хотелось, чтобы он заметил, что я здесь, чтобы увидел меня и вытащил из толпы и я присоединился бы к этому счастливому шествию победителей и сильных мира сего. Но желал я этого не для того, чтобы присвоить себе частицу этой победы или получить награду за то, что я сделал, – нет, мной владели совсем другие чувства: я должен быть там, потому что я и есть Ходжа! Словно в страшном сне, одном из тех, что мне так часто снились, я как будто смотрел на себя со стороны; а если я мог увидеть себя со стороны, то, значит, был кем-то другим; и мне не хотелось даже знать, кто этот другой, в чье тело я вселился; в ужасе глядя на самого себя, проходящего мимо и не узнающего меня, я хотел как можно скорее присоединиться к нему. Но грубый янычар со всей силы толкнул меня назад, в гущу толпы.
8
После ухода чумы Ходжа не только получил должность главного астролога, но и стал намного ближе к султану, чем нам долгие годы мечталось. После той жалкой попытки мятежа великий визирь дал понять матери султана, что от фигляров из его окружения пора избавиться, поскольку и торгово-ремесленный люд, и янычары считают виновниками всех бед этих никчемных умников, которые своей пустой болтовней направляют султана на неверный путь. Так что клевретов бывшего главного астролога Сыткы-эфенди, который, как говорили, был замешан в заговоре, удалили из дворца – кого отправили в ссылку, кого отрядили на должности в других городах – и их обязанности тоже передали Ходже.
Теперь он каждое утро ходил в один из дворцов, где жил в это время султан, и повелитель всегда уделял ему время для беседы. Вернувшись домой, Ходжа с радостным волнением победителя рассказывал мне о том, как прошел день. Первым делом Ходжа истолковывал сон, привидевшийся султану ночью. Эта обязанность, похоже, нравилась ему больше всего. Однажды, когда султан с сожалением признался, что провел ночь без сновидений, Ходжа предложил истолковать сон кого-нибудь из подданных владыки. Султан с любопытством согласился. Стражники быстро отыскали и привели человека, которому пригрезилось нечто занятное, и с тех пор без толкования ночных грез не обходилось ни одно утро. В оставшееся время они прогуливались по дворцовым садам в тени огромных чинар и багрянников, а иногда отправлялись плавать по Босфору на лодках и, разумеется, говорили о животных, которых так любил султан, в том числе и о тех, что создало наше воображение. Но иногда, восторженно рассказывал мне Ходжа, речь заходила и о других предметах. Какова природа босфорских течений? Чему можно научиться, исследуя подчиненную строгому порядку жизнь муравьев? Чем, кроме воли Аллаха, объясняется сила магнитного притяжения? Почему важно знать, по каким орбитам ходят звезды? Можно ли найти в жизни гяуров нечто достойное изучения или достаточно знать, что они – гяуры? Возможно ли создать оружие, способное обратить их в бегство? Рассказав о том, с каким вниманием султан слушает его речи, Ходжа в радостном волнении садился за стол и принимался чертить на огромных листах дорогой бумаги это самое оружие: пушки с длинными стволами, механизмы, сами собой изрыгающие огонь, и еще какие-то штуковины, похожие на чудовищ из ада; потом звал меня, чтобы я убедился в необычайной силе его воображения, которая, по его словам, очень скоро должна была принести ощутимые плоды.
Но я ведь тоже хотел делить с Ходжой его труды! Может быть, по этой причине я все время возвращался мыслями к чуме, к дням нашего пропитанного страхом братства. В Айя-Софии при огромном стечении народа прошел благодарственный намаз по случаю избавления от чумы, но болезнь еще не совсем покинула Стамбул. По утрам, когда Ходжа спешил во дворец, я, движимый любопытством, уходил бродить по улицам, ведя по пути счет покойникам, которых продолжали оплакивать в маленьких бедных мечетях с невысокими минаретами и замшелой черепицей, и ощущал непонятное мне самому желание, чтобы чума не покидала город и нас.
Когда Ходжа принимался хвалиться своей победой и влиянием на султана, которое он теперь приобрел, я твердил ему, что чума все еще здесь и может вспыхнуть с новой силой из-за того, что меры против нее отменили. Ходжа раздраженно перебивал меня и говорил, что я просто завидую его торжеству. Я соглашался с ним: да, он стал главным астрологом, каждое утро толкует сны султана, толпа глупцов больше не мешает султану прислушиваться к нему; мы ждали этого пятнадцать лет, и, конечно, это победа, но почему он говорит о ней так, будто добился всего один? Ходжа словно забыл, что меры против чумы предложил я и что календарь (пусть он и оказался не совсем верным – этого все равно никто не заметил) подготовил тоже я. И еще меня задевало, что он не вспоминает, как вне себя от волнения помчался за мной на остров, а твердит лишь о моем бегстве.
Может быть, как он и полагал, я действительно ему завидовал, но то было чувство отвергнутого брата. Пытаясь втолковать ему это, я напоминал о том, как до чумы мы ночи напролет сидели друг против друга за столом, словно два холостяка, желающих забыть о своем одиночестве; как то его, то меня охватывал страх, который, однако, столь многому нас научил; и даже рассказывал, как с тоской вспоминал эти ночи, когда я один жил на острове. Ходжа слушал с презрительной миной, словно меня у него на глазах уличили в нечистой игре, к которой сам он не имел ни малейшего касательства, и не давал мне никакого повода надеяться на возвращение тех дней братства.
Обходя квартал за кварталом, я видел теперь, что чума, несмотря на отмену всех предосторожностей, потихоньку уходит из города, словно не желая омрачать торжество Ходжи. Иногда я задавался вопросом: почему сейчас, когда рассеивается черная тень страха, я чувствую себя таким одиноким? Порой мне хотелось, чтобы мы говорили не о снах султана и не о великих замыслах, которые Ходжа ему излагал, а о прежних материях: ведь я давно был готов, подавив в себе страх смерти, предстать вместе с Ходжой перед тем жутким зеркалом, которое он снял со стены! Но Ходжа уже долгое время относился ко мне с пренебрежением – или принимал такой вид; впрочем, иногда мне казалось, что ему лень даже прикидываться, и это было еще хуже.
Порой, желая вернуть нашу прежнюю счастливую жизнь, я говорил, что пора бы нам снова вместе сесть за стол. Чтобы подать Ходже пример, я несколько раз в одиночку принимался расписывать, не жалея мрачных красок, мой страх перед чумой, порожденное этим страхом желание грешить и оставшиеся в зачатке предосудительные деяния, но, когда я пытался прочитать ему написанное, он даже не слушал. Однажды он бесцеремонно, с самоуверенностью, объяснявшейся, возможно, даже не столько его победой, сколько моим отчаянием, заявил, что и в те дни уже понимал полную бессмыслицу всей этой писанины и играл в эти игры лишь от скуки, из желания узнать, куда они заведут, а заодно испытать меня; но в тот день, когда я сбежал, решив, что он заболел чумой, ему сделалось окончательно ясно, что я за человек. Я виновен! Люди делятся на две категории – правых, как он, и виноватых, вроде меня.
Я не стал отвечать на эти слова, которые постарался объяснить опьянением от победы. Конечно, мыслил я с прежней ясностью и, видя, как бесят меня эти мелкие повседневные обиды, понимал, что при случае могу разозлиться очень и очень сильно, но не знал, до чего способен довести Ходжу мой отклик на его речи, которые так и толкали на отповедь. Еще на Хейбели, сбежав от Ходжи, я почувствовал, что уже не вполне четко сознаю свои надежды и упования. Что будет, если я вернусь в Венецию? Я уже давно смирился с мыслью о том, что за минувшие пятнадцать лет моя мать умерла, а невеста успела выйти замуж, обзавестись детьми и погрузиться в семейную жизнь; мне не хотелось о них думать, и снились они мне всё реже, а когда все-таки снились, это не я был в Венеции с ними, как в первые годы плена, а они со мной в Стамбуле. Я знал, что, если вернусь в Венецию, не смогу продолжить свою прежнюю жизнь с того места, на котором она прервалась, – в лучшем случае мне удастся начать новую. Подробности этой жизни меня не занимали, если не считать нескольких книг о турках и годах рабства, которые я когда-то замыслил написать.
Порой мне казалось, что Ходжа так пренебрежительно относится ко мне потому, что почувствовал мою бесприютность и утрату цели, понял мою слабость, а иногда я сомневался, что он способен что-то такое уловить. Он был настолько опьянен своим торжеством, рассказами о беседах с султаном и замыслами своего невероятного оружия, которые обязательно должны ошеломить владыку, что, наверное, даже не задумывался о творящемся у меня в голове. Я ловил себя на том, что завидую счастью Ходжи, столь увлеченного самим собой. Мне нравился его неуемный восторг от «победы», которую он старался выставить более значительной, чем она была в действительности, нравились его бесконечные замыслы и то, как он смотрел на свои руки, когда говорил, что будет держать султана в руках. И хотя я не мог бы признаться в этом даже себе, иногда мне, наблюдавшему за его движениями, за поведением в обыденных обстоятельствах, чудилось, будто я смотрю на самого себя. Случается, что, узнав себя прежнего в ребенке или юноше, мы следим за ним с любопытством и нежностью; ту же природу имели мое любопытство и мой страх. Я часто вспоминал, как Ходжа, положив руку мне на шею, объявил, что стал мной, но, стоило мне напомнить ему о тех временах, он или просто обрывал меня, или переводил разговор на сказанное им в тот день султану, дабы убедить повелителя в возможности создания невероятного оружия, или принимался в подробностях рассказывать, как истолковал очередной сон владыки и как это должно повлиять на того.
Я тоже хотел уверовать в блистательные успехи Ходжи, которые он расписывал взахлеб, и порой мне это удавалось – когда, увлекшись безудержными мечтами, я радостно ставил себя на его место. В такие мгновения я еще сильнее любил его и себя, нас двоих; в упоении, с открытым ртом слушал я его рассказы, как деревенский дурачок слушает увлекательную сказку, и мне казалось, будто он толкует о прекрасном будущем как о нашей общей цели.
Потому-то я и присоединился к Ходже в толковании снов султана. Он решил побудить владыку, которому исполнился уже двадцать один год, покрепче взять власть в свои руки. С этой целью Ходжа внушал султану, что несущиеся во весь опор одинокие кони, которых повелитель часто видел во сне, несчастны, ибо не имеют хозяина; что волки, терзающие страшными клыками горло своим жертвам, счастливы, поскольку никто им не указ и они делают что хотят; что плачущие женщины и прекрасные слепые девы, равно как и деревья, с коих в темноте под дождем стремительно облетают листья, взывают к владыке о помощи; что священные пауки и горделивые соколы напоминают о добродетелях одиночества. Нам хотелось, чтобы султан, взяв власть в свои руки, обратился к нашим научным познаниям; дабы подтолкнуть к этому владыку, мы использовали даже его ночные кошмары. Когда, как это бывает с большинством любителей охоты, ночами во время долгих и утомительных охотничьих вылазок султану порой снилось, что охотятся на него, когда он видел во сне себя, но ребенком, сидящим на троне, который так боялся потерять, Ходжа объяснял, что повелитель всегда будет молод на престоле, но избежать козней недремлющих врагов ему позволит единственно оружие, превосходящее любое другое. Султан видел во сне, как его дед, султан Мурад, желая проверить свою силу, ударом меча разрубает осла надвое и две половины бросаются бежать прочь друг от друга; как оживает его бабка, ведьма Кёсем-султан, и голой является во дворец, чтобы задушить своего внука и его мать; как на площади Ат-Мейдан на месте чинар вырастают смоквы, но вместо плодов с их ветвей свисают окровавленные тела; как злодеи, лицом похожие на него, гонятся за ним, чтобы засунуть в мешок и утопить; как из Ускюдара в сторону дворца отплывает флотилия черепах и ветер все никак не задует укрепленные на их панцирях свечи. Узнавая об этом, мы говорили себе, как же не правы те, кто утверждает, будто султан забросил государственные дела и не интересуется ничем, кроме охоты и животных. Я усердно и с большим удовольствием записывал эти сны в особую тетрадь, разделяя по категориям, и мы размышляли, как истолковать их с пользой для науки и небывалого оружия.
По мнению Ходжи, наше влияние на султана неуклонно росло, но я уже не верил, что нас ждет успех. Бывало, Ходжа добивался от владыки обещания построить обсерваторию и дом науки или дать денег на создание нового оружия и мы всю ночь, не смыкая глаз от радостного волнения, вынашивали грандиозные замыслы, но проходили месяцы, прежде чем Ходже удавалось хотя бы еще разок обстоятельно поговорить с султаном на сей счет. Через год после чумы умер Кёпрюлю, и Ходжа нашел новый повод для надежд: при жизни великого визиря султан, опасаясь его силы и влияния, не решался приступить к воплощению своих замыслов, а теперь, когда Кёпрюлю умер и его место заступил не столь грозный сын, пришла пора ждать от султана смелых решений.
Этих смелых решений мы ожидали следующие три года. Я уже дивился не праздности султана, заблудившегося между сновидениями и охотой, а тому, что Ходжа до сих пор возлагает на него какие-то надежды. Все эти годы я ждал, когда же Ходжа утратит надежду и уподобится мне. Теперь он реже говорил о «победе» и, конечно, не испытывал того воодушевления, которым пылал в первые месяцы после чумы, однако все еще не простился с мечтой о дне, когда сможет подвигнуть султана на осуществление того, что называл «великим замыслом». Он все время подыскивал султану какое-нибудь оправдание: если тот будет щедрой рукой отсыпать деньги на грандиозные начинания сразу после того, как Стамбул пострадал от большого пожара, это даст козырь врагам, желающим вместо него посадить на трон его брата; султан не может пока ничего сделать, потому что войско отправилось в поход на Венгрию (через год мы ждали уже окончания войны с немцами); потом требовалось выделить немалые средства для завершения новой мечети на берегу Золотого Рога, которую строила валиде Турхан (султан с матерью часто посещали недостроенную мечеть, и Ходжа вместе с ними); ну и выезды на охоту, куда меня не брали, следовали бесконечной чередой. Ожидая с очередной охоты Ходжу, я сидел дома и по его указанию лениво перелистывал книжные страницы в надежде найти какие-нибудь блестящие идеи для того, что он называл «великим замыслом» или «наукой».
Даже мечты об этих преобразованиях уже не занимали меня, заранее безразличного к тому перевороту, который они могли произвести, когда б им суждено было свершиться. Ходжа не хуже моего понимал, что астрономия, география и прочие естественные науки в той их части, которой мы занимались в первые годы, не имеют никакого практического применения; часы, приборы и модели давно ржавели, сваленные в угол. Мы отложили всё до тех пор, когда наступит время взяться за малопонятное дело, которое Ходжа называл «наукой»; но большого замысла, способного уберечь нас от катастрофы, мы, по сути, не имели – имели только мечту о таком замысле. Пытаясь уверовать в эту никак не увлекавшую меня, блеклую мечту и не отдалиться от Ходжи, я иногда старался смотреть его глазами на страницы, которые перелистывал, на случайные идеи, приходившие мне в голову, и пробовал поставить себя на его место. Когда он возвращался с охоты, я делал вид, будто, устремив свою мысль в предложенном им направлении, обнаружил новую истину, опираясь на которую мы сможем все изменить. «Морские приливы и отливы порождаются изменением теплоты впадающих в море рек», – говорил я. Или: «Чума передается мельчайшими частичками, плавающими в воздухе, и прекращается, когда ветер их уносит». «Нет ничего невозможного в том, чтобы изготовить огромное орудие с длинным стволом и большими колесами, перед которым в страхе разбегутся все враги». «Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце – вокруг Луны». Слушая меня, Ходжа снимал пропыленную охотничью одежду и всегда произносил одни и те же слова, заставлявшие меня улыбаться: «А наши-то дураки даже не подозревают, что это так!»
Потом его охватывал приступ гнева, которому поддавался и я. Он рассказывал о глупых выходках султана; например, о том, как тот несколько часов кряду преследовал верхом обезумевшего вепря или же лил слезы над затравленным гончими зайцем. Скрепя сердце Ходжа признавал, что во время охоты его слова влетают в одно ухо султана и вылетают из другого, и в ярости вопрошал одно и то же: когда же эти дураки узреют истину? Случайно или закономерно это стечение глупцов? И почему они столь беспробудно глупы?
Постепенно Ходжа начал осознавать необходимость возвращения к «науке» – на сей раз для того, чтобы понять, что делается у них в головах. Мне тоже хотелось побыстрее приступить к ученым занятиям, потому что я все вспоминал те прекрасные дни, когда мы, ненавидя друг друга, сидели за одним столом и были так друг на друга похожи. Но уже с первой попытки стало ясно, что к былому возврата нет. Прежде всего, я уже не видел, чем и как на него можно воздействовать. Но, что еще важнее, теперь я воспринимал неудачи и горести Ходжи как свои собственные. Однажды, напомнив ему о глупости соотечественников и приведя преувеличенно яркие примеры этой глупости, я дал понять (хотя сам и не верил в правоту своих слов), что он тоже обречен на поражение, и умолк, наблюдая за тем, как отзовутся в нем мои слова. Конечно, он яростно мне возражал, говорил, что поражения можно избежать, что если мы опередим врагов, если полностью посвятим себя какому-нибудь делу (например, сможем создать чудо-оружие), то нам удастся повернуть вспять течение реки, которая отбрасывает нас назад. Но, даже радуясь тому, что он говорит не просто о замыслах, а о «наших замыслах», я понимал: это знак того, что он теряет надежду; видно было, как терзает его ужас перед надвигающимся неизбежным поражением. Он походил на бездомного ребенка; мне были близки его гнев и печаль, напоминавшие те, что я испытывал в первые годы рабства, и я хотел ему уподобиться. Когда он ходил из угла в угол, когда вечером смотрел в окно на мокнущую под дождем грязную улицу или, будто пытаясь разглядеть что-нибудь способное снова вселить в него надежду, устремлял взгляд в сторону Золотого Рога, где в одном-двух домах на берегу еще теплился тусклый свет, – мне порой казалось, что это не Ходжа изнывает от тоски, а я сам, каким был в молодости. Словно тот, кто был мной, давным-давно покинул меня и ушел, и я, клюющий носом в уголке, пытаюсь стать похожим на него, чтобы снова обрести потерянный интерес к жизни.
Но и от бесконечно повторяющихся всплесков этого интереса я тоже устал. После того как Ходжа стал главным астрологом, его земельный надел в Гебзе увеличился, возросли и доходы. Теперь ему не было нужды заниматься чем-то еще, кроме бесед с султаном. Время от времени мы отправлялись в Гебзе, объезжали покосившиеся мельницы и деревни, где первыми нас встречали громадные пастушеские собаки, и проверяли бумаги, пытаясь понять, много ли наворовал управляющий; иногда перешучиваясь, но чаще уныло вздыхая, писали трактаты для развлечения султана, а больше ничего не делали. Если бы я не настаивал, Ходжа, наверное, отказался бы и от ночных развлечений, после которых мы ложились в постель с теми, не жалевшими для себя благовоний, женщинами.
Помимо всего прочего, Ходжу очень раздражало то, что султан, осмелев после того, как войско выступило из Стамбула в поход на немцев, а флот отплыл на Крит, перестал слушаться свою мать и вновь собрал вокруг себя всех изгнанных было из дворца болтунов-умников, шутов и фигляров. Ходжа, ненавидевший и презиравший этих обманщиков, твердо вознамерился избегать их общества, дабы показать всем, что он к этой братии не принадлежит, и заставить их признать его превосходство, однако по настоянию султана ему пришлось несколько раз присутствовать на их диспутах. Обсуждали там преважные материи: есть ли душа у животных, и если есть, то у каких, и кто из них попадает в рай, а кто – в ад; какого пола мидия; рождается ли Солнце каждое утро заново, или одно и то же светило ходит вокруг Земли. После этих собраний Ходжа терял всякую надежду на будущее и говорил, что если мы что-нибудь не сделаем, то скоро упустим султана из рук.
Я с радостью соглашался, потому что он говорил о «наших замыслах» и «нашем будущем». Однажды, желая разобраться в том, что творится в голове султана, мы достали тетради, в которые я годами записывал все происходящее, и стали перетряхивать сны и воспоминания. Словно наводя порядок в шкафу, мы попытались разложить по полочкам мысли и настроения нашего повелителя. Итог получился совсем не обнадеживающий. И хотя Ходжа продолжал толковать о спасительном чудо-оружии и о сокрытых в наших умах тайнах, которые надо поскорее разгадать, он уже не мог притворяться, будто не видит приближения страшной катастрофы. Пустые разговоры на сей счет мы вели месяцами.
Что мы понимали под катастрофой? Не то ли, что от империи одна за другой начнут отпадать завоеванные земли? Расстелив на столе карту, мы сначала с грустью пытались угадать, какие страны будут потеряны первыми, а потом дело доходило до отдельных гор и рек. Или, быть может, катастрофой нам мнились незаметные вроде бы изменения в людях и их верованиях? Мы представляли себе, как однажды утром все стамбульцы просыпаются в своих теплых постелях совершенно другими людьми: не знают, как носить свою одежду, и не возьмут в толк, для чего нужны минареты. Или катастрофа – это внезапное осознание превосходства других и тщетные попытки во всем им подражать? Когда Ходжа склонялся к этой мысли, он просил меня рассказать какую-нибудь историю о моей жизни в Венеции, а потом мы воображали героями этой истории некоторых наших стамбульских знакомцев, облаченных в европейские штаны и шляпы. Предаваясь подобным фантазиям, мы не замечали, как пролетает время.
В конце концов, в качестве последней попытки спасения, мы решили познакомить с ними султана. Может быть, думали мы, все эти картины катастрофы, расцвеченные красками воображения, заставят его ощутить беспокойство? И мы написали книгу, населив ее персонажами, вышедшими из историй о поражениях и катастрофах, которые мы с грустью и безнадежным весельем месяц за месяцем сочиняли тихими мрачными ночами. Там были раскисшие от дождя дороги; недостроенные здания; странные темные улицы; понурые бедняки; люди, читающие непонятные им самим молитвы о том, чтобы все стало как прежде; печальные матери и удрученные отцы; несчастные, которым не хватало жизни, чтобы познакомить нас с тем, что сделано и написано в других странах; неработающие механизмы; горемыки, оплакивающие прекрасные былые дни; тощие, похожие на ходячие скелеты уличные собаки; безземельные крестьяне; праздношатающиеся бродяги; мусульмане в европейских штанах, не умеющие ни читать, ни писать, и войны, неизменно заканчивающиеся поражением.
В другую часть книги мы поместили несколько ярких отрывков из моих воспоминаний о счастливых и поучительных событиях, случившихся со мной, когда я жил с родителями и братьями в Венеции, и позже, в годы учебы: вот так, мол, живут те, кто готовится нас победить, и, если мы хотим их опередить, нам нужно поступать сходным образом! В последней части книги, переписанной набело нашим знакомцем, каллиграфом-левшой, имелось стихотворение, содержавшее столь любимое Ходжой сравнение человеческого разума со шкафом. Это стихотворение (я назвал бы его исполненным гордого спокойствия) можно было считать осторожным введением в запутанные и темные тайны нашего сознания. Его изящно-туманные строки и завершали лучшую из написанных нами с Ходжой книг. Через месяц после того, как Ходжа преподнес ее султану, тот отдал ему приказ начинать работу над чудо-оружием. Мы были крайне удивлены и никак не могли понять, в какой степени обязаны успехом своей книге.
9
Итак, султан сказал Ходже: «Ну что ж, сделай это свое чудо-оружие, перед которым рассеются наши враги!» Возможно, он хотел испытать Ходжу; или же ему приснился сон, который он утаил; может быть, он возжелал доказать докучавшей ему матери и пашам, что умники, которых он собрал вокруг себя, на что-то годятся; может быть, он думал, что Ходжа, победивший чуму, способен еще на какое-нибудь чудо; может, на него и в самом деле произвели впечатление созданные нашей фантазией картины катастрофы, которыми была наполнена книга; а может, больше катастрофы султана пугала мысль о том, что после нескольких военных неудач он будет свергнут и на трон возведут его брата. Обо всем этом мы размышляли, растерянно подсчитывая свалившиеся на нас безумные деньги – выделенные на оружие доходы от деревень, постоялых дворов и оливковых рощ.
В конце концов Ходжа сказал, что дивиться надо как раз нашему удивлению: разве не правдивы были все те истории, что он столько лет рассказывал султану, и трактаты, которые мы писали? А когда султан в них поверил, мы вдруг впали в сомнение. И еще: султана стало занимать происходящее в темных глубинах нашего разума. «Разве это не победа, которой мы ждали долгие годы?» – взволнованно вопрошал Ходжа.
Он был прав. К тому же на сей раз мы разделили победу и вместе взялись за работу; я не тревожился за ее итог так, как Ходжа, и потому был счастлив. Следующие шесть лет, в течение которых мы трудились над созданием оружия, выдались самыми опасными для нас – и не потому, что мы работали с порохом, а потому, что навлекли на себя зависть врагов, и еще потому, что все с нетерпением ждали нашей победы – или же нашего поражения. То же ожидание мучило и нас, вследствие чего мы жили в постоянной тревоге.
Сначала мы впустую потратили целую зиму, сидя за столом. Мы были полны воодушевления и желания работать, но не знали, за что зацепиться: сколько ни рисовали мы в своем воображении оружие, которое рассеет всех наших врагов, представления о его особенностях у нас имелись самые расплывчатые. Затем мы решили начать опыты с порохом на открытом воздухе. Словно в те далекие дни, когда вместе готовили фейерверк, мы устраивались в прохладной тени высоких деревьев и издалека наблюдали, как наши люди испытывают подготовленные нами пороховые смеси. Любопытные, привлеченные грохотом и разноцветным дымом, сбегались со всего Стамбула. Впоследствии вокруг луга, на котором мы отливали длинные пушечные стволы и где установили свои мишени и шатры, стали собираться такие толпы народа, что это походило на праздничные гулянья. В конце лета к нам однажды неожиданно пожаловал сам султан.
Мы устроили для него такое представление, что стонали земля и небо, а потом показали ему гильзы, в которые набивали пороховые смеси, новые пушки, ядра для них, чертежи форм для еще не отлитых стволов и проекты механизмов, которые должны были сами по себе вести огонь. Но все это не так завладело вниманием султана, как моя персона. Ходжа хотел держать меня подальше от повелителя, но, когда началось представление, султан увидел, что я отдаю приказы наравне с Ходжой и наши люди обращаются ко мне не реже, чем к нему. Это возбудило в нем любопытство.
Когда я предстал перед султаном во второй раз в жизни, через пятнадцать лет после первой встречи, он посмотрел на меня так, словно знал прежде, но сейчас никак не мог вспомнить, кто я такой; у него был вид человека, который с закрытыми глазами пытается определить по вкусу, какой плод он ест. Я поцеловал край его одежды. Узнав, что я прожил в Стамбуле двадцать лет, так и не приняв ислам, он не разгневался. Его занимала другая мысль. «Стало быть, двадцать лет? – спросил он. – Странно… – И, помолчав, задал мне еще один вопрос: – Это ты учишь его всему?»
Однако ответа он дожидаться не стал – сразу вышел из нашего потрепанного шатра, пропахшего порохом и селитрой, и направился к своему прекрасному белому скакуну, но вдруг остановился, обернулся на нас, замерших бок о бок на месте, и улыбнулся так, словно увидел одно из тех бесподобных чудес, что сотворены Аллахом, дабы сломить гордыню рода человеческого и дать людям почувствовать, сколь они ничтожны; словно увидел не то совершенного в своем уродстве карлика, не то близнецов, похожих друг на друга как две капли воды.
Ночью я думал о султане, но не так, как хотелось Ходже. Тот продолжал говорить о владыке с неприязнью, а я понимал, что не смогу испытывать к султану неприязнь или презирать его. Мне нравились его спокойствие и приветливость, нравилась его манера выкладывать все, что приходит в голову, свойственная балованным детям. И я хотел быть таким же или же стать его другом. Лежа в своей постели и пытаясь уснуть после вспышки гнева Ходжи, я думал, что султан не заслуживает того, чтобы его обманывали. Мне хотелось рассказать ему обо всем. Но что такое было это «все»?
Вскоре выяснилось, что интерес, который я испытывал к султану, был взаимным. Однажды Ходжа с крайней неохотой сказал мне, что на следующее утро султан желает, чтобы я пришел во дворец вместе с ним, Ходжой. Был один из тех прекрасных осенних дней, когда воздух пахнет морем и водорослями. Все утро мы провели в большой роще, на устланном палой красной листвой берегу пруда, который порос кувшинками, в окружении багрянников и чинар. Султан захотел поговорить о лягушках, которыми кишел пруд. Ходжа, совершенно к ним равнодушный, отделался несколькими общими замечаниями, сухими и совершенно бесцветными. Меня очень удивило, что султан даже не обратил внимания на эту детскую выходку. Куда больше его мыслями владела моя персона.
Так и получилось, что я пустился в долгий рассказ о лягушках: как они прыгают; какое у них кровообращение; каким удивительным свойством обладает лягушачье сердце, которое, будучи отделено от тела, способно еще долго биться; каких мух и прочих насекомых лягушки употребляют в пищу. Чтобы нагляднее объяснить, как икринка вызревает во взрослую лягушку, я попросил лист бумаги и перо. Письменный прибор принесли в серебряном футляре, украшенном рубинами. Султан не остался равнодушен к моим рисункам. Воодушевленный, я начал рассказывать сказки о лягушках, все, какие помнил, и он слушал с большим удовольствием. Когда очередь дошла до истории о принцессе, поцеловавшей лягушку, султан хмыкнул и скривился, но все равно нисколько не напоминал глупого недоросля, каким его описывал Ходжа; нет, скорее, это был умный взрослый человек, желающий начинать день с разговоров о науке и искусстве. Под конец нескольких прекрасных часов, на протяжении коих Ходжа хранил насупленный вид, султан, взяв в руки мои рисунки, заметил: «Я подозревал, что истории сочиняешь ты. Но, оказывается, и рисунки – твоя работа!» И он стал расспрашивать меня об усатых лягушках.
Так и началось мое общение с султаном. Отныне каждый раз, когда Ходжа отправлялся во дворец, я шел вместе с ним. Поначалу Ходжа был молчалив, разговаривали в основном мы с султаном. Беседуя с повелителем о его снах, радостях и тревогах, прошлом и будущем, я размышлял о том, как не похож сидящий напротив меня остроумный, сообразительный человек на того султана, о котором мне столько лет рассказывал Ходжа. По некоторым его проницательным вопросам и маленьким хитростям я понимал, что султан, вспоминая когда-то преподнесенные ему книги, хочет выяснить, сколько в Ходже от него самого, а сколько – от меня, и наоборот. Что до Ходжи, то он находил такое любопытство глупым, да и вообще был в то время слишком занят пушками и отливкой их длинных стволов.
Через полгода после того, как мы приступили к работе над пушками, стало известно, что начальник артиллерии крайне недоволен нашим вмешательством в его дела и требует, чтобы или его отставили от должности, или нас изгнали из Стамбула, как сумасшедших, которые своими новшествами вот-вот доведут артиллерию до беды. Ходжа встревожился, но не стал искать способа договориться с начальником артиллерии, который производил впечатление человека, готового уладить дело миром. Когда через месяц султан велел Ходже задуматься о каком-нибудь другом виде оружия, тот не очень расстроился. К тому времени мы уже поняли, что отлитые нами новые пушки ничуть не лучше тех, что использовались уже многие годы.
Таким образом, по мнению Ходжи, мы вступили в иную пору и теперь нам предстояло все продумать и осмыслить заново; но я уже привык к его мечтам и вспышкам гнева, так что для меня новым было только знакомство с султаном. Султану тоже нравилось узнавать нас получше. Словно внимательный отец, увещевающий сыновей, которые, играя в шарики, перепутали, где чьи, и перессорились («Вот это – твой шарик, а это – его»), султан, слушая наши речи и наблюдая за нашим поведением, выявлял различия между нами. Меня очень занимали эти наблюдения, которые я порой находил по-детски наивными, а иногда весьма проницательными; временами мне казалось, что моя личность, отделившись от меня, слилась с личностью Ходжи, и наоборот, и произошло это незаметно для меня и для него, а султан, разделяя это умозрительное создание и возвращая половинки на место, постигает нашу натуру куда лучше нас самих.
Порой, когда мы толковали его сны или вели речь о новом оружии, над которым тогда только начинали размышлять, султан вдруг прерывал беседу и, повернувшись к одному из нас, говорил: «Нет, это не твоя, это его мысль». Иногда он обращал внимание на наши движения или взгляды: «Ты сейчас смотришь как он! Смотри по-своему!» – и, когда я растерянно улыбался, прибавлял: «Ну вот, именно так, молодец. Вы когда-нибудь смотрелись вместе в зеркало?» Спрашивал он и о том, насколько уверенно, смотрясь в зеркало, мы можем сказать, кто есть кто. Однажды он даже велел принести все трактаты, книги о животных и календари, которые мы столько лет ему преподносили, и, просматривая их страница за страницей, говорил, какое место кто из нас написал и чтó придумал один из нас, поставив себя на место другого. Но сильнее всего султану удалось разозлить Ходжу, а меня – поразить и заворожить, когда он в нашем присутствии пригласил лицедея.
Этот человек не походил на нас ни лицом, ни фигурой; был он низеньким и толстым, одетым совсем по-другому, но стоило ему открыть рот, как я испугался: казалось, это не он заговорил, а Ходжа. В точности как Ходжа, он склонялся к уху султана, будто открывая ему некую тайну; так же как Ходжа, переходя к важным подробностям, принимал рассудительный, задумчивый вид и медленнее произносил фразы и, подобно Ходже, увлекшись рассказом, начинал размахивать руками, словно желая сделать свои слова более убедительными, и сбивался с дыхания; только говорил он не о звездах и невиданном оружии, а всего лишь о том, что разузнал в дворцовой кухне: о различных блюдах, о том, из чего их готовят и чем приправляют. Султан улыбался, и лицедей продолжил изображать Ходжу (физиономия которого тем временем выдавала полнейшее замешательство), перейдя к перечислению всех постоялых дворов по пути из Стамбула в Алеппо. Затем султан велел ему представить меня. И точно: человек, растерянно уставившийся на меня с разинутым от удивления ртом, был мной. Сильно же я поглупел за последние годы! Тут султан приказал лицедею разыграть человека, который был бы наполовину Ходжой, наполовину мной, и я застыл, словно околдованный. Мне, наблюдавшему за движениями лицедея, хотелось, точь-в-точь как султан, говорить: «Вот – я, а вот – Ходжа», но нужды в том не было, так как лицедей сам указывал пальцем то на одного из нас, то на другого. Похвалив и отпустив его, султан велел нам поразмыслить об увиденном.
Что он имел в виду? Вечером я сказал Ходже, что султан гораздо умнее того человека, о котором он столько лет мне рассказывал, и уже сам, по собственной воле движется в том направлении, в котором Ходжа хотел его подтолкнуть. Ходжу опять охватил приступ гнева. На этот раз я его понимал: вытерпеть представление передразнивающего тебя лицедея было непросто. Ходжа заявил, что отныне нога его не переступит порог дворца, если только на то не будет особой надобности. Теперь, когда ему наконец выпала благодатная возможность, которой он ждал столько лет, в его намерения не входит попусту тратить время и силы на общество глупцов. Раз уж я знаю, чтó занимает султана, и готов терпеть фиглярство, то мне и ходить во дворец.
Когда я сказал, что Ходжа заболел, султан не поверил. «Ну что ж, пусть работает над оружием», – сказал он. Так и получилось, что те четыре года, что Ходжа занимался оружием, я ходил во дворец, а он, как я когда-то, оставался дома наедине со своими мечтами.
За эти четыре года я узнал, что жизнь может быть не только ожиданием, но и наслаждением. Приближенные султана, увидев, что я ценим повелителем не меньше, чем Ходжа, стали звать меня на торжества и празднества, которые устраивались едва ли не каждый день. То выдают замуж дочь визиря, то у султана рождается еще один сын, то другим его сыновьям делают обрезание, то отобьют у венгров крепость, то отмечают начало обучения наследника престола, а там уж и Рамазан подоспел и начинаются ночные увеселения. На этих праздниках, которые зачастую продолжались по нескольку дней, я уминал жирное мясо и плов, объедался сделанными из сластей и фисташек львами, страусами и русалками и вскоре изрядно растолстел. Немало дней я провел, наблюдая ожесточенные состязания борцов, чьи тела лоснились от масла, и представления акробатов, что танцуют на протянутом между двумя минаретами канате с шестом на плечах, а также силачей, перекусывающих зубами подковы, метателей ножей и кинжалов, а еще фокусников, которые достают из-под мантии змей, голубей и мартышек и в мгновение ока заставляют исчезнуть чашки из наших рук и деньги из наших карманов; очень полюбились мне и перепалки Карагёза и Хадживата[27]. Если ночью не было фейерверка, я, как и все, шел в какой-нибудь дворец или особняк со своими новыми друзьями, с большинством коих знакомился в тот же день, и проводил часы за чашей вина или анисовой водки ракы, слушая музыку и пение, то самозабвенно печальное, то беззаботно веселое, глядя на прекрасных, томных, как газели, танцовщиц и на миловидных танцоров в женском платье и время от времени сдвигая с кем-нибудь из сотрапезников наполненную до краев пиршественную чашу.
Часто посещал я и дома иноземных посланников, где мною весьма интересовались. Посмотрев балет в исполнении милых девушек и юношей или послушав, как приехавшие из Венеции музыканты играют какую-нибудь последнюю модную новинку, я вступал в беседу с хозяевами и гостями, наслаждаясь своей постепенно растущей славой. Собирающиеся в посольских особняках европейцы расспрашивали меня о моих злоключениях и страданиях, хотели знать, как я смог все это вытерпеть и почему до сих пор сношу свое положение. Я не говорил им, что долгие годы провел в четырех стенах, сражаясь со сном и сочиняя глупые книги, а с привычной уже легкостью придумывал, как когда-то для султана, невероятные истории про диковинную страну, о которой им так хотелось узнать побольше. Не только юные девицы, приехавшие повидаться с отцом-посланником перед свадьбой, и кокетничающие со мной посольские жены, но и сами исполненные важности послы и все их подчиненные с восхищением внимали выдуманным мной кровавым историям о диких нравах, неистовом религиозном рвении и гаремных кознях. Если слушатели очень настаивали, я шепотом «выбалтывал» им несколько государственных тайн, тут же, на месте, измысленных, или осведомлял о некоторых странных привычках султана, разглашению не подлежащих. Коль скоро и этого моим собеседникам казалось мало, я с великим удовольствием напускал на себя таинственный вид – не могу, мол, всего рассказать – и погружался в молчание, только пуще разжигавшее любопытство простаков, которым хотел нас уподобить Ходжа. Мне было известно, о чем они шепчутся между собой: я участвую в работе над таинственным оружием, изготовление которого требует изрядных познаний и безумных денег.
По вечерам, возвращаясь домой из особняков и дворцов с затуманенной винными парами головой и вспоминая виденные мной прекрасные тела, я заставал Ходжу погруженным в работу за нашим столом, сколоченным двадцать лет назад. Работал он с невиданной прежде стремительностью; стол был завален листами бумаги, исписанными нервным почерком, а также покрытыми странными чертежами и рисунками, смысла которых я не мог постичь. Он просил меня рассказать, что я делал и видел в течение дня, но вскоре прерывал мой рассказ обо всех этих увеселениях, которые находил бесстыдными, глупыми и отвратительными, и начинал объяснять мне свой замысел, часто употребляя слова «мы» и «они».
Снова и снова он втолковывал мне, что делает упор на содержимом наших голов, что именно на нем строит весь свой замысел; горячо рассуждал о том, как упорядоченно и в то же время сложно устроен набитый всякими мелочами шкаф, который мы называем умом, но я не мог понять, как, отталкиваясь от этой идеи, он собирается сотворить оружие, с которым связаны все его – все наши надежды. Мне казалось, что уразуметь этого не сможет никто, не исключая (иногда и такая мысль приходила мне в голову) его самого. Он уверял меня, что однажды кто-нибудь вскроет содержимое наших голов и подтвердит справедливость его идей. Он говорил, что еще в дни чумы, смотрясь вместе со мной в зеркало, начал прозревать одну великую истину; теперь же для него все окончательно прояснилось, и именно на этой истине основан его замысел чудо-оружия! А потом он дрожащим от волнения пальцем указывал мне, пусть и мало что усвоившему из его возбужденной речи, но впечатленному ею, на странный, неопределенный предмет, изображенный на бумаге.
Этот предмет, чьи контуры с каждым разом прорисовывались все отчетливее, как будто что-то мне напоминал. Вглядываясь в темные линии, в которых мне чудилось нечто дьявольское, я порой чувствовал, что вот-вот смогу наконец сказать, что именно он мне напоминает, но затем меня охватывало какое-то оцепенение, или мне казалось, что воображение сыграло со мной шутку, и я продолжал молчать. И так было все четыре года, что я созерцал смутный образ, детали которого расползались по листам бумаги; от раза к разу он становился все подробнее и отчетливее, чтобы в конце концов воплотиться, поглотив деньги, которые мы копили столько лет, и огромное количество человеческого труда. Иногда я вроде бы угадывал в нем нечто виденное прежде, наяву или во сне; пару раз мне приходило в голову, будто о чем-то подобном мы говорили в те годы, когда делились воспоминаниями. Но мне так и не удавалось сделать последний шаг, способный придать окончательную четкость моим мыслям; я смирялся с их неясностью и тщетно ждал, когда чудо-оружие само раскроет мне свою тайну. И даже четыре года спустя, когда маленькое пятно на бумаге расползлось в огромное таинственное чудовище размером с мечеть, о котором говорил весь Стамбул, с чем только его ни сравнивая, и которое, по мнению Ходжи, было самым настоящим оружием, я все еще не мог выпутаться из подробностей давнишних рассказов Ходжи о победах, которые будут благодаря этому оружию одержаны.
Приходя во дворец, я старался пересказывать яркие и страшные подробности султану, словно человек, пытающийся утром вспомнить сон, который так и норовит побыстрее стереться из памяти, и говорил обо всех этих колесах, шестернях, башнях, порохе и рычагах, о которых мне столько раз твердил Ходжа. Слова были не мои, да и пламенной страсти Ходжи в них не ощущалось, однако я видел, что они производят впечатление на султана. А на меня производило впечатление то, что этот человек, которого я считал умным, преисполняется надежды, слушая мои невнятные речи, сочиненные Ходжой восторженно-поэтические описания победы и спасения, которые многое теряли в моем пересказе. Султан говорил, что оставшийся дома Ходжа – это я. Эти игры ума, приводившие меня в изрядное замешательство, уже успели мне надоесть. Когда султан утверждал, что я – это Ходжа, лучше было в это не вдумываться, потому что вскоре он заявлял, что это я всему научил Ходжу. Не теперешний, вялый я, конечно, а тот, что был раньше, тот, который изменил Ходжу! Эх, думал я, поговорили бы мы лучше о животных, о сегодняшних развлечениях и увеселениях или о готовящемся праздничном шествии ремесленников. И тут султан однажды сказал: ни для кого не тайна, что вся затея с чудо-оружием на самом деле замыслена мной.
Вот это меня и пугало больше всего. Ходжа уже несколько лет нигде не показывался, его почти забыли, а рядом с султаном во дворцах, в особняках, в городе видели меня – и мне уже начали завидовать! Дело тут было не только в том, что на малопонятную затею, о которой с каждым днем ходило все больше слухов, шли доходы с десятков деревень, оливковых рощ и постоялых дворов, или в том, что я стал так близок к султану, – занявшись оружием, мы с Ходжой вторглись в чужие владения, а я при этом еще и был гяуром. Когда у меня уже не оставалось сил выслушивать клевету, я делился своей тревогой с Ходжой и султаном.
Но они не слушали меня. Ходжа бы полностью захвачен своим замыслом. Я завидовал его увлеченности, как старик завидует страстям молодых. В последние месяцы работы, когда он, снабдив расплывчатый темный рисунок многочисленными деталями, сначала сделал формы для отливки страшащего меня чудовища, а потом и отлил, потратив на это немыслимые деньги, такую толстую стальную броню, какую не смогло бы пробить ни одно ядро, Ходжа и слышать не хотел о сплетнях, которые я ему пересказывал. Его занимали только посольские особняки, где я разживался слухами: что за люди эти послы, как работают их головы, что они думают о его оружии? И самое главное, почему султан не подумает о том, чтобы направить в другие страны постоянных послов, представляющих наше государство? Я подозревал, что Ходжа сам мечтает о должности посланника, чтобы пожить среди «них» и избавиться от общества здешних дураков, но открыто об этом он не говорил даже в самые безнадежные дни, когда ничего не получалось, когда трескалась отлитая броня или он начинал бояться, что ему не хватит денег. Лишь пару раз у него вырвалось признание, что он хотел бы установить связь с «их» учеными: может быть, те поняли бы открытую им истину об устройстве нашего ума. Он говорил, что хотел бы переписываться с учеными из Венеции, Фландрии и всяких других далеких стран, названия которых приходили ему в голову. Любопытно, какие из этих ученых самые лучшие, где они живут, как завязать с ними переписку? Не мог бы я узнать об этом у послов? Но я, предаваясь развлечениям, не очень-то следил за тем, как идет работа над оружием, и забыл о просьбе Ходжи, которая могла бы порадовать наших врагов, засвидетельствовав, что он не так уж в себе уверен.
Султан тоже ничего не желал знать о распускаемых нашими врагами слухах. И когда я стал жаловаться на них (а случилось это в те дни, когда Ходжа искал смельчаков, готовых забраться в нутро его страшной металлической махины, где стоял обжигающе-горячий запах железа и окалины, чтобы крутить там огромные зубчатые колеса), султан даже слушать меня не стал. Он, как всегда, попросил пересказать то, что говорил мне Ходжа. Султан не сомневался в нем, был всем доволен, нисколько не жалел, что доверился ему, и за все это благодарил меня. Разумеется, все по той же причине: потому что это я всему научил Ходжу. Он, как и Ходжа, говорил о содержимом наших голов; и у него, как у Ходжи, размышления на сей счет неизменно сопрягались с вопросом, который он тоже мне задавал: как живут люди там, на моей родине?
И я рассказывал ему множество удивительных историй. Я столько раз повторял их, что сам в большинство из них уверовал, хотя и не могу сказать точно, повествуют ли они о действительных событиях, случившихся со мной в молодости, или же это всего-навсего фантазии, слетавшие с кончика моего пера каждый раз, когда я садился за стол, чтобы писать книгу. Иногда я на месте сочинял несколько занимательных небылиц, но имелись у меня и такие рассказы, которые от раза к разу обрастали новыми подробностями, причем я сам не мог понять, откуда их брал – из воспоминаний или из снов. Одна подробность особенно нравилась султану, так что я никогда не забывал упомянуть о ней: в моей стране все носят одежды, имеющие множество пуговиц. Но было и несколько подлинных воспоминаний, не стершихся из моей памяти за двадцать пять лет; например, как мы с родителями и братьями завтракаем и беседуем, сидя за столом в саду под липами. Эти воспоминания увлекали султана меньше всего. Однажды он сказал мне, что на самом деле жизни всех людей похожи одна на другую. Эти слова почему-то испугали меня, тем более что я уловил на лице султана зловеще-лукавое выражение, которого никогда прежде не замечал, и мне захотелось спросить его, что он имеет в виду. А потом, со страхом глядя ему в лицо, я почувствовал, что мне хочется сказать: «Я – это я!» Как будто если я наберусь смелости произнести эту глупую фразу, то тем самым сорву коварные происки завистников, а с ними и Ходжи с султаном – словом, всех тех, кто желает сделать меня кем-то другим, и я смогу спокойно продолжить свою жизнь, оставаясь самим собой. Но я испуганно промолчал, как это бывает с людьми, которые боятся обронить хоть слово о любой неопределенности, угрожающей их покою.
Это произошло весной, в те дни, когда Ходжа уже сотворил свое оружие, но еще не испытал его, потому что не мог найти людей, которые согласились бы привести махину в действие. Вскоре султан с войском выступил в поход против Польши, немало нас удивив. Почему он оставил в Стамбуле наше оружие, призванное обратить врагов в бегство, почему не взял с собой меня? Может быть, он нам не доверяет? Как и другие жители столицы, мы были убеждены, что на самом деле война только предлог и султан отправился в поход, чтобы поохотиться. Ходжа радовался, что получил еще год отсрочки, а мне было нечем занять себя или развлечь, так что мы продолжили работать над оружием вместе.
Немалых трудов нам стоило найти людей, которые приводили бы нашу махину в действие. Никому не хотелось забираться внутрь страшного и непонятного механизма. Ходжа объявил, что заплатит за это большие деньги. Мы разослали по городу глашатаев, отправляли людей на верфь, на пушечный двор, набирали добровольцев в кофейнях, куда стекались безработные, бродяги и искатели приключений. Большинство из тех, кого нам удавалось найти, даже если и залезали, победив свой страх, внутрь громадного железного жука, не могли вытерпеть невыносимой жары, в которой приходилось крутить зубчатое колесо, и сбегáли. В конце лета, когда нам наконец удалось стронуть нашу махину с мертвой точки, от денег, которые мы копили столько лет, ничего не осталось. Под ликующие возгласы собравшихся зевак, с любопытством и страхом следивших за чудо-оружием, оно неуклюже сдвинулось с места, произвело, сотрясаясь, несколько залпов из пушек в сторону воображаемой крепости и замерло. Деньги от деревень и оливковых рощ по-прежнему текли в наши карманы, но Ходжа распустил команду, собранную нами с таким трудом, сказав, что содержать ее будет накладно.
Зима прошла в ожидании. Вернувшись из похода, султан задержался в Эдирне, где ему очень нравилось; за нами никто не посылал, мы остались в одиночестве. Столица опустела, ходить во дворец и в особняки стало не к кому, развлекать историями некого, и делать нам с Ходжой было нечего. Чтобы убить время, я позировал для портрета приехавшему из Венеции художнику и брал уроки игры на уде[28], а Ходжа то и дело отправлялся в Куледиби проведать оставленное под присмотром сторожа чудо-оружие. Одно время он пытался внести в него какие-то усовершенствования, подправляя что-нибудь то здесь, то там, но это быстро ему надоело. В ту зиму – последнюю зиму, проведенную нами вместе, – он уже не говорил со мной по ночам об оружии и о том, чего с его помощью можно добиться. Им овладела какая-то апатия, но не потому, что в нем угасли все желания, а потому, что беседы со мной вгоняли его в скуку.
Все ночи, вообще бóльшую часть времени мы проводили в ожидании чего-то: когда стихнет ветер или снег, когда по улице в последний раз пройдет продавец бозы[29], когда в печке начнет гаснуть огонь и пора будет подбросить дров, когда погаснет единственный дрожащий огонек на том берегу Золотого Рога; ждали, когда же придет наконец сон, а потом – утреннего призыва к молитве. В одну из тех ночей, когда мы очень мало разговаривали и предавались мечтам, Ходжа вдруг сказал мне, что я очень изменился и стал совершенно другим человеком. У меня заныло в животе, спина покрылась потом; мне хотелось возразить ему, сказать, что он не прав, что я такой же, как раньше, что мы похожи друг на друга, что стоит ему проявить ко мне прежний интерес, как у нас отыщется еще очень-очень много предметов для разговора… Но он был прав. Мой взгляд остановился на портрете, который я принес утром от художника и поставил у стены. Я и в самом деле изменился: растолстел от угощений на приемах, обзавелся вторым подбородком, мышцы мои стали дряблыми, движения – ленивыми. Что еще хуже, совсем другим стало мое лицо: от вина и поцелуев в уголках рта притаилось бесстыдство, от привычки то и дело впадать в дрему глаза приобрели сонное, умиротворенное выражение, какое бывает у дураков, довольных собой, своей жизнью и всем миром. Но мне нравился мой новый вид, и я это знал. Поэтому я ничего не сказал Ходже.
Впоследствии, до того самого дня, когда султан вызвал нас вместе с чудо-оружием в Эдирне, мне часто снился один и тот же сон: я нахожусь на бале-маскараде, напоминающем своей суматохой стамбульские празднества, только дело происходит в Венеции. В толпе гостей я замечаю свою мать и невесту – узнаю их в тот момент, когда они опускают свои маски публичных женщин. Во мне пробуждается надежда, я тоже опускаю маску, чтобы и они наконец меня узнали, но они никак не понимают, что я – это я, и указывают своими масками на кого-то за моей спиной. Я оборачиваюсь и вижу человека, который должен понять, кто я такой. Это Ходжа. Я подхожу к нему в надежде, что он меня узнает, однако он, не говоря ни слова, опускает маску, и я вижу себя самого в молодости. На этом месте я просыпался от ужаса и чувства вины.
10
В начале лета, узнав, что султан ожидает нас с чудо-оружием в Эдирне, Ходжа сразу начал действовать. Только тогда я понял, что у него все было наготове и что он всю зиму поддерживал связь с набранными нами людьми. Через три дня мы были готовы к отъезду. Последний вечер Ходжа провел, роясь в старых книгах с порванными переплетами, в недописанных трактатах, пожелтевших манускриптах и прочем хламе, словно мы собрались переезжать в новый дом. Проверил, работают ли заржавевшие часы для определения времени намаза, смахнул пыль с астрономических приборов, до самого утра листал книги, которые мы писали двадцать пять лет, да перебирал чертежи придуманных нами механизмов и старые черновики. На рассвете я заметил, что Ходжа переворачивает порванные и выцветшие страницы тетрадки, в которую я записывал итоги испытаний, когда мы работали над нашим первым фейерверком. Он спросил, смущаясь, не взять ли ее с собой – может, пригодится? Но, встретив мой равнодушный взгляд, разозлился и швырнул тетрадь в угол.
И все же во время путешествия в Эдирне, занявшего десять дней, мы ощущали близость друг к другу, пусть и не такую сильную, как в былые годы. Прежде всего, Ходжа вновь испытывал надежду: его творение, которое как только ни называли: чудищем, насекомым, шайтаном, черепахой со стрелами, ходячей крепостью, стальной свиньей, увальнем, котлом на колесах, джинном, циклопом, зверюгой, – со страшным скрипом и небывалым грохотом, повергая в ужас, как того и хотел Ходжа, всех, кто его видел, отправилось в путь, причем двигалось пусть и медленно, но быстрее, чем он рассчитывал. Наблюдая, как на склонах холмов вдоль дороги выстраиваются любопытные из близлежащих деревень, не дерзающие подойти ближе, и провожают восторженным взглядом его махину, Ходжа приходил в отличное настроение. По ночам, когда наши люди, утомленные тяжелой работой, спали глубоким сном в своих палатках, а вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь стрекотом цикад, он рассказывал мне, как будет расправляться с врагами его великан. Конечно, былого восторга в нем уже не было, и он, подобно мне, с тревогой думал о том, как отнесутся к чудо-оружию вельможи из окружения султана и военачальники, а также о том, какое место будет ему отведено в боевых порядках армии, и все же Ходжа по-прежнему мог спокойно и убежденно рассуждать о «нашей последней возможности», о повороте вспять течения реки и, самое главное, о «нас» и о «них» – об этом он всегда говорил с особенным оживлением.
Въезд чудо-оружия в Эдирне был обставлен с торжественностью, не пришедшейся по вкусу никому, кроме султана и нескольких безудержных подхалимов из его свиты. Султан встретил Ходжу как старого друга, упомянул в беседе с ним о возможности войны, но в городе не было заметно никаких приготовлений к походу. Они проводили дни вместе, присоединялся к ним и я; когда они совершали прогулки верхом по окрестным лесам, чтобы послушать пение птиц, или катались на лодках по Тундже и Марице, наблюдая за лягушками, или смотрели, как лечат аистов, пострадавших в схватке с орлами и нашедших убежище во дворе мечети Селимийе, или отправлялись взглянуть на чудо-оружие, чтобы еще раз убедиться в его достоинствах, я всегда был с ними. Однако я с горечью понимал, что не могу присоединиться к их беседе, не могу сказать, не кривя душой, ничего такого, что им было бы интересно услышать. Может быть, я завидовал их близости. Но понимал я уже и то, что мне просто скучно: Ходжа вечно заводил одну и ту же песню о победе, о том, что надо наконец встряхнуться, приступить к решительным действиям и покончить с преимуществом противников, о будущем и о том, как устроены наши головы. Меня удивляло, что султан до сих пор обольщается этими сказками.
В середине лета, когда усилились слухи о приближении войны, Ходжа однажды собрался куда-то пойти и взял меня с собой, сказав, что ему нужен сильный и надежный спутник. Быстрым шагом мы прошли по Эдирне, через цыганский и еврейский кварталы, потом по некоторым из тех серых улиц, где я раньше уже бродил от скуки, мимо похожих друг на друга бедных домов, в которых жили мусульмане. Потом я заметил, что дома, которые недавно видел по левую руку от себя, вижу снова, но уже по правую, и понял, что мы ходим по одним и тем же улицам. Я спросил, где мы, и Ходжа ответил: в квартале Фильдамы. Вскоре он неожиданно остановился перед дверью одного из домов и постучал. Открыл зеленоглазый мальчуган лет восьми.
– Львы! – сказал ему Ходжа. – Из дворца султана сбежали львы, и мы их ищем.
Оттолкнув мальчика, он вошел в дом, и я последовал за ним. Внутри пахло пылью, деревом и мылом. Быстро поднявшись в полутьме по скрипучей лестнице, мы оказались в коридоре. Ходжа начал одну за другой открывать двери. В первой комнате дремал, приоткрыв беззубый рот, дряхлый старик; к его бороде склонились, желая что-то спросить, два веселых мальчика. Увидев нас, они испугались. Ходжа закрыл дверь и открыл другую. Там лежала груда одеял и тканей. Перед третьей дверью уже стоял ребенок, который впустил нас в дом.
– Там львов нет, там только моя мама и жена брата!
Но Ходжа все равно открыл дверь. За дверью, спинами к нам, в полумраке совершали намаз две женщины. В четвертой комнате сидел мужчина, шивший одеяло. У него не было бороды, и потому он больше походил на меня. При виде Ходжи он встал.
– Зачем ты пришел, сумасшедший? – спросил он. – Что тебе от нас надо?
– Где Семра? – спросил Ходжа.
– Десять лет назад уехала в Стамбул. Говорят, умерла там от чумы. А ты почему не сдох?
Ничего не ответив, Ходжа спустился по лестнице и вышел из дома. Спускаясь следом, я услышал, как кричит ребенок:
– Мама, львы приходили!
И ответ матери:
– Нет, это твой дядя и его брат.
Через две недели – может быть, оттого, что эта история никак не выходила у меня из головы, а может, чтобы собрать сведения для своей новой жизни и книги, которую вы всё еще продолжаете терпеливо читать, – однажды утром я снова пошел туда. Улицу и дом я нашел не сразу – должно быть, меня сбил с толку яркий утренний свет, – а когда нашел, попытался отыскать самый короткий путь оттуда до лечебницы при мечети Беязыт, местонахождение которой я уже успел выяснить раньше. Может быть, я был не прав, полагая, что они выбирали самый короткий путь; по крайней мере, мне так и не удалось обнаружить дорогу, ведущую к мосту и проходящую в тени тополей; та дорога, вдоль которой росли тополя, шла далеко от реки, и не сыскалось возле нее такого места, где удалось бы присесть на берегу и поесть халвы. В лечебнице все было не так, как я себе представлял: от грязи там не осталось и следа, внутри царила чистота, но ни тебе журчания воды, ни разноцветных бутылочек. Увидев закованного в цепи больного, я не удержался и спросил о нем у врача. Оказалось, что этот человек помешался от несчастной любви и, как большинство сумасшедших, возомнил себя кем-то другим. Врач, наверное, рассказал бы еще что-нибудь, но я не стал слушать – отвернулся.
Решение о походе, который, как мы думали, уже не состоится, было принято в конце лета, совершенно неожиданно. От поляков, не желавших мириться с прошлогодним поражением и в особенности с наложенной на них тяжелой данью, пришло послание: «Придите и возьмите дань мечом». В последующие дни Ходжу распирало от злости: войско готовилось к походу, но никто не желал даже подумать о том, какое место в боевых порядках займет чудо-оружие; никому не хотелось сражаться рядом с этой грудой железа; никто не ожидал от этого громадного котла никакой пользы; более того, боялись, что он принесет несчастье! Когда за день до начала похода Ходжа начал высказывать свои соображения в присутствии султана, наши враги осмелились даже открыто заявить, что это оружие вполне может принести не победу, а ровно наоборот – позор и поражение. Когда Ходжа упомянул, что винят за это не столько его, сколько меня, я перепугался. Султан сказал Ходже, что доверяет ему и верит в его оружие, и, дабы пресечь дальнейшие споры, объявил, что во время похода оно будет подчиняться непосредственно ему, султану, и войдет в состав его личного отряда. Вскоре, в жаркий сентябрьский день, мы выступили из Эдирне.
Все думали, что в это время года начинать поход уже поздно, но вслух об этом не говорили: так я узнал, что в походе воины не меньше, чем противника (а иногда и больше), страшатся дурных предзнаменований и стараются побороть этот страх. В первый день войско шло на север через обихоженные, богатые деревни, переправлялось через реки по мостам, которые стонали под тяжестью нашего чудо-оружия. Ночью, к нашему удивлению, нас вызвали в султанский шатер. Султан, как и его солдаты, напоминал ребенка, начинающего новую игру, на его лице были написаны поистине детские восторг и любопытство. Как и солдат, его интересовало истолкование, которое Ходжа может дать увиденному за день. Что означают красное облако, заслонившее солнце на закате, низкий полет коршунов, треснувшая труба деревенского дома, летящие на юг аисты? Разумеется, Ходжа назвал все это добрыми предзнаменованиями.
Однако на этом дело не кончилось. Выяснилось, что во время походов султан обожает слушать по вечерам страшные и таинственные истории. Ходжа припомнил вдохновенное стихотворение из книги, любимой мною больше всех остальных, и, опираясь на него, нарисовал мрачную картину, изобилующую мертвыми телами, кровавыми поражениями, неудачами, дурными предзнаменованиями и нищетой; это была отвратительная картина, но в уголке ее все же мерцал огонек победы, который мог разглядеть испуганный взгляд султана. Чтобы раздуть огонек в великое пламя, нам следует встряхнуться и напрячь наш разум, нужно как можно скорее задуматься о «нас» и о «них», об устройстве наших голов и обо всех других идеях, про которые столько лет твердил Ходжа и о которых мне уже хотелось забыть. Возможно, Ходже казалось, что этот неприятный, быстро прискучивший мне рассказ, поднадоел и султану, и оттого каждый вечер повествование становилось все более мрачным, страшным и отталкивающим. И тем не менее я замечал, что, когда речь заходила об устройстве наших голов, султан оживлялся и слушал с удовольствием.
Выезды на охоту начались через неделю после того, как мы выступили в поход. Отдельный отряд, отправившийся вместе с войском только лишь для этой цели, выдвигался вперед, совершал разведку, находил подходящую местность и набирал загонщиков из числа местных крестьян, а потом султан вместе с нами и другими охотниками отделялся от главной колонны, и мы скакали в какую-нибудь рощу, знаменитую своими оленями, или на склон горы, где водились дикие кабаны, или в лес, изобилующий лисами и зайцами. После этих небольших веселых вылазок, длившихся не более нескольких часов, султан торжественно возвращался к продвигающейся вперед главной колонне, словно из победоносного похода; войско приветствовало султана, а мы следовали сразу за ним. Ходжу эти церемонии злили и раздражали, а мне они нравились; по вечерам я больше любил разговаривать с султаном об охоте, чем обсуждать продвижение войска, состояние деревень и городов, через которые оно проходило, или последние новости о действиях неприятеля. А потом Ходжа, копивший раздражение во время этих бесед, которые он считал ужасно глупыми, приступал к своим историям и пророчествам, с каждым разом становившимся чуть более суровыми. И султан верил в эти истории, изо всех сил старающиеся нагнать на нас страху, и в сказки об устройстве наших голов, что огорчало меня теперь не меньше, чем других людей из его окружения.
Но мне предстояло стать свидетелем куда худшего. Мы снова выехали на охоту; население чуть ли не десятка окрестных деревень рассыпалось по лесу, чтобы стучать по жестянкам, кричать и, производя весь этот ужасный шум, сгонять кабанов и оленей к тому месту, где ждали конные охотники. Однако до полудня мы так и не повстречали ни одного зверя. Чтобы развеять скуку, особенно невыносимую из-за полуденного зноя, султан велел Ходже рассказать одну из его страшных вечерних историй. Издалека доносился чуть слышный шум, поднятый крестьянами. Мы ехали медленно, а достигнув деревни, где жили христиане, и вовсе остановились. Султан и Ходжа указали на один из пустых домов, а потом я увидел, что из-за его приоткрытой двери кто-то выглядывает. То был немощный старик, который чуть погодя вышел из дома и, прихрамывая, двинулся к ним. Незадолго до этого разговор шел о «них» и о том, как устроены «их» головы; заметив на лице султана любопытство и увидев вслед за тем, что Ходжа через толмача о чем-то спрашивает старика, я почуял неладное и подъехал поближе.
Ходжа требовал, чтобы крестьянин немедленно, без долгих раздумий ответил, какой самый страшный грех, какое самое страшное зло совершил в жизни. Старик бормотал что-то на каком-то славянском языке, а толмач медленно переводил нам: помилуйте, я всего лишь безобидный, ни в чем не повинный, несчастный старик; однако Ходжа с непонятной яростью добивался признания. Только увидев, что султан хочет услышать его ответ не меньше Ходжи, старик покаялся: да, он виноват, потому что должен был вместе со всеми земляками пойти в лес и загонять зверя; но у него есть оправдание: он немощен и болен и не смог бы весь день ходить по лесу. Он указывал рукой на свое сердце и просил прощения, но тут Ходжа окончательно рассвирепел и заорал, что спрашивает не об этом, а о настоящих грехах. Однако крестьянин, похоже, не в состоянии был понять вопрос, который снова и снова задавал ему толмач; он только и мог, что с несчастным видом прижимать руку к сердцу. Старика увели. Нашли и привели другого, и, когда тот начал говорить то же самое, Ходжа побагровел от гнева. Чтобы облегчить задачу этому второму, он стал приводить ему примеры прегрешений, причем брал их из моих рассказов о том, как я лгал в детстве, чтобы меня любили больше братьев, о плотских грехах моих студенческих лет… Он говорил обо мне как о некоем безымянном грешнике, а я с отвращением и стыдом вспоминал дни чумы, которые теперь, когда я пишу эту книгу, вспоминаются с таким теплым чувством. Наконец хромой крестьянин, которого привели последним, шепотом признался, что тайком подсматривал за женщинами, моющимися в ручье, и Ходжа немного успокоился. Да, вот так «они» ведут себя, когда пытаешь вывести «их» на чистую воду, так скрывают свои грехи, но «мы», которым пора бы уже понять, как устроены «их» головы… И так далее и тому подобное. Мне хотелось верить, что ему не удалось увлечь этим султана.
Но я ошибся. Через два дня во время охоты на оленей султан не стал возражать против повторения этой сцены – может быть, уступив настояниям Ходжи или потому, что предыдущий допрос понравился ему больше, чем я думал. К тому времени мы уже переправились через Дунай, и в христианской деревне, в которую мы заехали на этот раз, говорили на языке латинского происхождения. Ходжа задавал почти те же самые вопросы, напоминавшие мне об отданных противоборству ночах, когда мне удалось заставить его писать о своих проступках. Сначала мне не хотелось даже слушать ответы крестьян, которые были напуганы странными вопросами и трепетали от страха перед задающим их неведомым судьей и безмолвно поддерживающим его султаном. Мной овладело непонятное отвращение, причем злился я не столько на Ходжу, сколько на султана, который сдался на его уговоры или не смог устоять перед притягательностью гнусной игры. Но вскоре и я поддался скверному любопытству; нет ничего плохого в том, чтобы просто послушать, подумал я и подошел поближе. Большинство прегрешений и проступков, о которых крестьяне говорили на более изящном и приятном моему слуху языке, мало чем отличались друг от друга: немудреная ложь, маленькие обманы, несколько измен, самое большее – несколько мелких краж.
Вечером Ходжа сказал, что крестьяне рассказали не все, что они скрывают правду; я в свое время был куда откровеннее, так что не может быть, чтобы их совесть не отягощали значительно более предосудительные, настоящие грехи, отличающих «их» от «нас». Он должен убедить в этом султана и, чтобы добраться до правды, чтобы показать, каковы «они», а после понять, каковы «мы», если понадобится, готов даже применить силу.
И в последующие дни он исполнил обещание, постепенно заходя в своем отвратительном и нелепом исступлении дальше и дальше. Поначалу все было довольно просто: мы напоминали детей, отпускающих в разгар игры грубые шутки, которые кажутся им забавными; допросы смахивали на небольшое представление театра теней, устроенное посреди долгой охоты, чтобы мы могли развлечься еще и таким образом; но потом они превратились в своего рода утомительный ритуал, истощавший всю нашу волю и душевные силы, но почему-то никак не оставляемый нами. Я видел растерянных крестьян, испуганных вопросами Ходжи и его гневом, причин которого они не понимали; если бы только они могли уразуметь, чего от них хотят, то, может быть, и рассказали бы. Я видел согнанных на деревенскую площадь беззубых изможденных стариков; перед тем как, заикаясь, признаться в действительных или мнимых прегрешениях, они обводили собравшихся безнадежным взглядом, словно моля о помощи. Я видел молодых парней, которых били за то, что Ходжа не находил их признания до конца честными. Мне вспоминалось, как он, прочитав написанное мною, тыкал меня кулаком в спину, приговаривая: «Ах ты, негодяй!», а потом что-то раздраженно бормотал себе под нос и мучился, не в силах понять, как я могу быть таким человеком. Но теперь Ходжа лучше, хотя и не до конца отчетливо, знал, чего ищет, чего добивается. Он применял разную методу. Например, то и дело прерывал кающегося, заявляя, что тот лжет; и тогда на «грешника» набрасывались наши люди и начинали избивать. Иногда Ходжа говорил, что крестьянина уже изобличил его приятель. Однажды он попробовал допрашивать крестьян по двое, но вскоре заметил, что в этом случае даже жестокими побоями дельных признаний не вырвешь: крестьяне стыдились признаваться в грехах друг перед другом. Это сильно его разозлило.
К тому времени, как полили бесконечные дожди, я уже более или менее свыкся с происходящим. Помню, как стояли в грязи на раскисшей деревенской площади промокшие до нитки крестьяне, неспособные, да и не собирающиеся ничего говорить, и как их час за часом без всякого толку избивали. Охотничьи вылазки становились всё более редкими и короткими. Время от времени нам, конечно, еще случалось убить огромного кабана или, к огорчению султана, прекрасноокую газель, но теперь всех занимало уже не это, а те самые допросы, к которым начинали готовиться загодя, как к охоте. По вечерам Ходжа изливал мне душу, словно чувствовал вину за то, что творил днем. Да, ему самому все это не нравится, ему не по сердцу мучить людей, но ведь он хочет добыть доказательства истины, очень важной для всех нас, и познакомить с этими доказательствами султана; и в конце концов, крестьяне сами виноваты: зачем они скрывают правду? Однажды он сказал, что наш опыт нужно повторить в какой-нибудь мусульманской деревне, однако попытка оказалась неудачной: хотя мусульман допрашивали менее строго, они признавались примерно в тех же проступках и рассказывали те же истории, что и их соседи-христиане. Был один из тех отвратительных дней, когда дождь лил с утра до вечера. Ходжа пробормотал себе под нос что-то в том духе, что это не настоящие мусульмане, но вечером, когда он толковал события дня, я понял, что он еще тогда заметил: неудобная правда не укрылась от глаз султана.
Впрочем, это привело лишь к тому, что Ходжа еще сильнее ожесточился и стал еще чаще и беспощаднее в качестве последнего средства прибегать к насилию, к которому его (а может быть, и меня) неостановимо влекло не что иное, как любопытство, хотя ему и не очень нравилось, что свидетелем насилия становится султан. Продвигаясь на север, мы вошли в лесной край, где крестьяне снова говорили на одном из славянских языков; там, в крохотной мирной деревушке, мы увидели, как Ходжа сам принялся избивать миловидного юношу, который не смог припомнить за собой никаких грехов, кроме детской лжи. Позже Ходжа сказал, что больше такое никогда не повторится, а вечером весь извелся от странного раскаяния, которое я счел преувеличенным сверх всякой меры. В другой раз мне показалось, что сквозь желтоватую стену дождя я вижу, как вдалеке стоят деревенские женщины и плачут, жалея своих мужей. Наших людей, поднаторевших в своем деле, тоже стало утомлять происходящее; иногда они, не дожидаясь приказа, сами хватали кого-нибудь из кающихся, и первые вопросы вместо уставшего от собственного гнева Ходжи задавал наш толмач. Нельзя сказать, что все наши жертвы были неразговорчивы: порой кто-нибудь из крестьян начинал долго и подробно рассказывать о своих прегрешениях, словно годами готовился к допросу; очевидно, так на них действовали смятение и страх перед нашей жестокостью, легенды о которой уже ходили по деревням, или же перед вторгшейся в их жизнь высшей справедливостью, тайну которой они не могли постичь. Однако истории о супружеских изменах или о зависти бедняков к богатым односельчанам Ходжу теперь не занимали. Он все твердил, что есть некая более сокровенная истина, но, как мне кажется, сам он, подобно нам, порой уже отчаивался до нее докопаться; по крайней мере, он злился, когда догадывался о наших сомнениях. При этом мы все – и султан в том числе – чувствовали, что Ходжа не собирается сдаваться, и, возможно, поэтому оставались сторонними наблюдателями, не предпринимая никаких попыток вмешаться. Однажды у нас мелькнула надежда, когда промокший насквозь Ходжа, укрывшись от дождя под навесом, несколько часов кряду допрашивал молодого человека, который признался, что ненавидит отчима, плохо обращающегося с его матерью, и своих сводных братьев; но вечером Ходжа заявил, что и это самый заурядный случай, который следует забыть, и больше к нему не возвращался.
Мы забирались все дальше на север; войско медленно, очень медленно продвигалось вперед по раскисшим от дождей дорогам, которые извивались сквозь густые темные леса у подножия высоких гор. Мне нравился прохладный мрачный воздух, стоявший среди сосен и буков, нравилось неотчетливое туманное безмолвие, порождающее в человеке неуверенность и сомнение. Я полагал, что мы вступили в предгорья Карпат, хотя название это никто не употреблял. С детских лет мне запомнилась карта Европы, которую показывал отец: ее автор, довольно посредственный художник, украсил Карпаты изображениями оленей и готических замков. Намерзнувшись под дождем, Ходжа заболел, но мы все равно каждый день сворачивали с дороги, которая словно нарочно старалась извиваться посильнее, чтобы путники как можно позже достигли своей цели и углублялись в лес. Об охоте мы уже и не вспоминали и если задерживались на берегу ручья или у обрыва, то не затем, чтобы подстрелить оленя, а словно бы для того, чтобы помучить ожиданием готовящихся к встрече с нами крестьян. Затем, решив, что время пришло, мы въезжали в какую-нибудь деревню, а после, сделав свое дело, снова следовали за Ходжой, который, в очередной раз не найдя того, что искал, все же спешил добраться до следующего селения, чтобы забыть о том, как мучил и бил людей, забыть, что надежды у него остается все меньше. Однажды он захотел устроить испытание: попросил султана, чье терпение и любопытство немало меня удивляли, привести двадцать янычар и задавал одни и те же вопросы то им, то собравшимся на краю деревни растерянным светловолосым крестьянам. В другой раз он привел крестьян к дороге, по которой шло войско, показал им наше чудо-оружие, которое, производя странный скрежет, с трудом поспевало по грязи за солдатами султана, и спросил, что они о нем думают, а их ответы велел записать. Но уж не знаю почему – может быть, потому, что мы, как говорил Ходжа, не видели истины, или потому, что сам он был напуган своей бессмысленной жестокостью, или же вследствие чувства вины, мучившего его по ночам, а может, из-за утомившего его ропота солдат и пашей, недовольных нашим оружием и тем, что происходило в лесу, – так или иначе, силы Ходжи иссякли. Он кашлял, голос его утратил былую зычность, и ему не удавалось уже с прежним жаром выпаливать вопросы, ответы на которые он успел выучить наизусть; когда по вечерам он говорил о победе, о будущем, о том, что нам нужно встряхнуться и освободиться, ему, казалось, не верил его собственный слабеющий голос. Помню, как он под дождем цвета блеклого серного дыма в последний раз без особого воодушевления допрашивал нескольких растерянных славян. Мы ждали поодаль, потому что нам уже не хотелось все это слышать, а крестьяне стояли в призрачном, размытом дождем свете и пустым взглядом смотрели в огромное мокрое зеркало, охваченное золоченой рамой, которое Ходжа по очереди давал им в руки.
Больше на «охоту» мы не выезжали; переправившись через реку, мы вступили на польские земли. Чудо-оружие, с трудом передвигавшееся по раскисшим от обильных дождей дорогам, задерживало войско, которому теперь как раз следовало бы поторопиться. Громче зазвучали разговоры о том, что наша махина, которую паши и без того недолюбливали, принесет несчастье; рассказы янычар, участвовавших в испытаниях Ходжи, подливали масла в огонь. И, как всегда, винили не Ходжу, а меня, неверного. Когда Ходжа начинал свою возвышенную болтовню, успевшую надоесть даже и султану, о том, что враги сильны, что без нашего оружия никак не обойтись, что нам нужно встряхнуться и действовать, собравшиеся в султанском шатре паши еще решительнее убеждались, что мы обманщики, а оружие наше ввергнет войско в большую беду. На Ходжу они смотрели как на заблудшую душу, как на больного, который еще может исцелиться, а главную опасность видели во мне: ведь кто, как не я, обольстил и Ходжу, и султана и кого, как не меня, винить в приближающихся неудачах? Когда мы в ночной темноте возвращались в свой шатер, Ходжа слабым от болезни голосом говорил о них с тем же отвращением и гневом, с какими когда-то обрушивался на глупцов, но бодрости и надежды, которые, как я верил в былые годы, позволят нам выстоять, в нем более не осталось.
И все же я видел, что он не собирается так легко сдаваться. Через два дня, когда наше оружие, продвигавшееся вперед в середине колонны, увязло в размокшей от дождя глине и намертво встало, я потерял всякую надежду, а Ходжа, хоть и больной, продолжал бороться. Никто не хотел выделить нам людей, даже лошадей не давали; тогда Ходжа пробился к султану, раздобыл почти четыре десятка лошадей, снял цепи, за которые тянули пушки, собрал людей; на все это ушел целый день, и уже ближе к вечеру нещадно стегаемые кнутами лошади сдвинули нашего жука-великана с места под взглядами тех, кто молился, чтобы он так и остался там, где увяз. Тем же вечером Ходжа отчаянно спорил с пашами, которые, желая от нас избавиться, говорили, что наше оружие не только приносит несчастье, но и осложняет продвижение войска; однако я чувствовал, что он уже не верит в победу.
Ночью, сидя в нашем шатре, я взял в руки уд, который захватил с собой в поход, и попытался что-нибудь на нем сыграть, но Ходжа вырвал инструмент из моих рук и швырнул его в сторону. Они требуют мою голову, сказал он, известно ли мне это? Да, я об этом знал. Он был бы счастлив, если бы им нужна была не моя, а его голова! Об этом я тоже догадывался, но промолчал. Я хотел было снова взять уд, но Ходжа остановил меня и попросил рассказать что-нибудь о моей родине. Когда я выдал несколько небылиц, вроде тех, которыми развлекал султана, он разозлился. Он хотел правдивых подробностей, стал расспрашивать о матери, невесте, братьях и сестре, но как только я принялся излагать эти подробности, перебил меня, пробормотав несколько коротких фраз на итальянском, которые я не разобрал, хотя итальянскому учил его сам.
Через несколько дней мы увидели захваченные, разрушенные и сожженные нашими передовыми отрядами вражеские укрепления, и я почувствовал, что в Ходже всколыхнулась напоследок надежда, порожденная странными и недобрыми мыслями. Наутро, когда мы медленно продвигались через преданную огню деревню, он соскочил с коня, увидев у стены бьющихся в предсмертных корчах раненых, и поспешил к ним. Сначала, глядя на него издалека, я подумал, что он хочет им помочь и, если найдет толмача, постарается их утешить, расспросить о несчастье, но потом понял, что он охвачен радостным возбуждением. Похоже, я догадался о причинах этого возбуждения. Нет, он стал бы расспрашивать их совсем о другом… На следующий день, когда мы вместе с султаном сворачивали с дороги то вправо, то влево, чтобы посмотреть на отбитые у неприятеля укрепления и небольшие крепости, Ходжой овладело все то же возбуждение. Завидев среди разрушенных зданий и пробитых пушечными ядрами деревянных стен еще живого раненого, Ходжа спешил к нему, а я, хотя и понимал, что все подумают, будто он надоумлен мною, шел за Ходжой – проследить, как бы он не совершил чего-нибудь ужасного, или, может быть, исключительно из самого обыкновенного любопытства. Ходжа, похоже, надеялся, что раненые, чьи тела изрешечены пулями и изувечены ядрами, что-то поведают ему, прежде чем на их лицах застынет маска смерти; он готовился задавать им вопросы и ожидал узнать от них великую истину, которая в одно мгновение все изменит; однако я видел, что в глаза ему сразу же бросается запечатленное у них на лицах смертное отчаяние, которое, как он понимает, сродни его собственной безнадежности. Приблизившись к ним, он молча застывал на месте.
В тот день, прослышав уже под вечер о том, что султан разгневан задержкой с взятием крепости Доппио, Ходжа вновь разволновался и отправился в шатер повелителя. По возвращении он выглядел встревоженным, но, похоже, и сам не знал, что именно его тревожит. Султану он сказал, что хочет ввести в бой свое оружие, которое готовил столько лет именно ради этого дня. В противоположность моим ожиданиям, султан ответил, что время для этого действительно пришло, но сначала нужно дождаться подхода Сары Хусейн-паши, которому он поручил взять крепость. Почему султан так сказал? Это был один из тех вопросов Ходжи, что ставили меня в тупик. За столько лет я так и не научился понимать, кому он их задает: мне или самому себе. Пока я раздумывал над тем, что почему-то не ощущаю былой близости к нему и устал от беспокойства, он сам дал ответ: они боятся, что победу придется делить с ним, Ходжой.
До полудня следующего дня, когда мы узнали, что Сары Хусейн-паша так пока и не взял крепость, Ходжа изо всех сил старался убедить себя в правильности этого ответа. Я уже больше не ходил в султанский шатер, поскольку слухи о том, что я шпион и приношу несчастье, распространились слишком широко. Вечером, отправившись к султану толковать события дня, Ходжа стал рассказывать истории о победах и удачах, и, похоже, ему удалось убедить повелителя в своей правоте. Вернувшись в наш шатер, Ходжа постарался изобразить уверенность в том, что в конце концов добьется своего. Но воодушевление Ходжи не могло меня обмануть: слушая его, я видел, каких усилий ему стоит сохранять свой уверенный вид.
Он снова вернулся к излюбленным материям, стал рассуждать про «нас» и про «них», про грядущую победу, но в его голосе слышалась какая-то совершенно непривычная мне печаль: он словно обращался к нашим общим, хорошо обоим знакомым детским воспоминаниям. Когда я взял в руки уд, он не стал возражать, ничего не сказал и про мои неумелые попытки что-нибудь сыграть; он все говорил и говорил о прекрасных днях, которые наступят, когда мы обратим вспять течение реки, но мы оба понимали, что на самом деле он говорит о прошлом. Перед нашим внутренним взором стояли безмятежные деревья в тихом саду за домом, ярко освещенные теплые комнаты, обеденный стол, за которым собралось множество родственников. Впервые за многие годы Ходжа вселял в меня душевный покой; я согласился с ним, когда он сказал, что любит здешних людей и ему будет тяжело с ними расстаться. Немного подумав, он вспомнил о глупцах и разозлился; я и тут признал, что он прав. Его уверенный вид теперь не казался мне таким уж напускным, не знаю даже почему; может быть, мы оба уже догадывались о новой жизни, которая ждала нас в самом близком будущем, или я думал, что на его месте вел бы себя точно так же.
На следующее утро, получив распоряжение испытать чудо-оружие на одном из небольших укреплений противника вблизи дороги, по которой шло войско, мы оба уже знали – какое-то странное предчувствие подсказало, – что наша махина никаких особенных успехов не принесет. Без малого сто человек, которых султан отрядил нам в помощь, разбежались, как только оружие пришло в действие. Из тех, кто не успел этого сделать, некоторых задавило насмерть оно само, других перестреляли враги, когда наше чудище, произведя несколько неудачных залпов, самым глупым образом застряло в грязи. Разбежавшихся перепуганных солдат, уверенных в том, что чудо-оружие принесет несчастье, для нового наступления мы собрать уже не смогли. Похоже, оба мы думали об одном и том же.
Потом, когда отряд Шишмана Хасан-паши взял укрепление за один час и без особых потерь, Ходжа вновь захотел найти подтверждение одному ему известной глубокой истины, и на сей раз, как я думал, мне тоже очень хорошо была понятна его надежда, но всех, кто находился за стенами укрепления, зарубили саблями, и среди обгорелых развалин не оставалось даже смертельно раненных. Я сразу понял, о чем подумал Ходжа, увидев сваленные в кучу головы, которые собирались показать султану; более того, мне казалось оправданным его любопытство; но я уже не хотел всего этого видеть и отвернулся. Вскоре я не удержался и все-таки снова посмотрел в ту сторону, но головы уже уносили, и я так и не смог узнать, насколько далеко он зашел.
В полдень, когда мы вернулись к главной колонне, нам сказали, что Доппио до сих пор не взята. Султан был в ярости, грозил наказать Сары Хусейн-пашу и двинуть к крепости все войско. Ходже повелитель посулил, что, если цитадель не будет взята к вечеру, в утреннем приступе примет участие и наше оружие. Затем он приказал отрубить голову командиру отряда, который целый день безуспешно пытался овладеть одним небольшим укреплением. Про нашу собственную неудачу и про слухи о том, что чудо-оружие приносит несчастье, султан даже не упомянул. Ходжа больше не говорил о том, кто и как будет делить победу; он помалкивал, но я знал его мысли: он думал о том, чем кончили его предшественники на посту главного астролога; и еще я знал, что, когда мне вспоминается мое детство, животные, жившие в нашем поместье, те же воспоминания посещают и его; я знал, что нашу последнюю надежду он видит в известии о взятии крепости, но в глубине души не чает этого известия дождаться, не желает его; что объятая пламенем церковь с колокольней в деревне, разрушенной и сожженной солдатами, осатаневшими от долгой неудачной осады, и молитва, которую шепчет бесстрашный настоятель горящего храма, возвещают Ходже о приближении новой жизни; что солнце, садящееся за лесистыми вершинами по левую руку от нас, рождает в нем, как и во мне, ощущение того, что вот-вот тихо и осторожно завершится нечто прекрасное.
Доппио мы увидели на закате, когда уже знали не только о том, что Сары Хусейн-паша так и не добился успеха, но и о том также, что на помощь полякам подоспели австрийцы, венгры и казаки. Крепость стояла на высоком холме, и заходящее солнце придавало чуть заметный красноватый оттенок ее башням, над которыми реяли флаги, но она все равно была белая – белая и прекрасная. Почему-то я подумал, что такую совершенную и недостижимую красоту можно увидеть только во сне. В таком сне ты, охваченный тревогой, спешишь по извилистой тропе сквозь темный лес к ярко освещенному белому дому на вершине, словно там идет празднество, в котором ты тоже хочешь принять участие, словно там ждет тебя счастье, которого ты не желаешь лишиться; но путь, который, как тебе кажется, вот-вот завершится, все никак не кончается. Узнав, что пехота сумела перейти заболоченную из-за частых разливов реки равнину между лесом и склоном холма, но, несмотря на поддержку артиллерии, никак не может подняться по склону, я подумал о пути, который привел нас сюда. И мнилось мне, что все в мире безупречно и совершенно, как этот вид на белую крепость, над которой кружат птицы, на постепенно скрывающийся в темноте каменистый склон и недвижный мрачный лес. Теперь я понимал, что многие события моей жизни, которые я считал случайными, были предопределены и что наши солдаты никогда не достигнут белых башен крепости; и я знал, о чем думает Ходжа. Да, я очень хорошо знал, что Ходже не меньше моего ясно: утром, когда начнется приступ, наше оружие сразу увязнет в болоте, обрекая на смерть людей, находящихся внутри него и рядом с ним, а потом паши потребуют мою голову, чтобы положить конец разговорам о дурных предзнаменованиях, умерить недовольство солдат и заглушить в них страх. Я вспомнил, как много лет назад, пытаясь вызвать Ходжу на откровенность, поведал ему о друге детства, с которым научился думать одновременно об одном и том же. Сейчас я нисколько не сомневался, что Ходжа думает о том же, что и я.
Была уже глубокая ночь, а он все не возвращался из султанского шатра. Поскольку я догадывался, о чем он говорит с пашами и султаном, желающим выслушать толкование событий минувшего дня и предсказания на будущее, какое-то время я гадал, не убили ли его прямо там, на месте, и не придут ли палачи вскоре и за мной. Затем я представил себе, что он, выйдя из шатра, сразу же, ничего мне не говоря, отправился к крепости, белые стены которой сияли в темноте, благополучно миновал стражников, болото и лес и уже давно до нее добрался. Я ждал утра, без особого волнения размышляя о своей новой жизни, когда он наконец пришел. Много позже, годы спустя я осторожно выведал в долгих беседах с теми, кто был тогда в султанском шатре: он сказал там именно то, что я и предполагал. Мне он ничего рассказывать не стал; он торопился, как это бывает с людьми, которые волнуются перед долгим путешествием. Он сказал, что снаружи стоит густой туман, и я понял, что он имеет в виду.
Стараясь успеть до рассвета, я поведал ему о том, что оставил в родной стране, о том, как найти мой дом, о наших знакомых в Эмполи и Флоренции, описал наружность и характер матери, отца, братьев и сестры. Рассказывая, я вспоминал, что обо всем этом – вплоть до крупной родинки на спине самого младшего из братьев – уже когда-то говорил ему. Однако если в дни бесед с султаном мне порой казалось (как кажется сейчас, когда я пишу эту книгу), что все эти истории лишь плод моего воображения, то в ту ночь я верил: они правдивы; это правда, что моя сестра слегка заикается; правда, что на нашей одежде много пуговиц; правдив и мой рассказ о том, что видно из окна, выходящего в сад за нашим домом. К утру я обрел веру и в то, что эти истории, пусть и с большим запозданием, но получат свое развитие; может быть, Ходжа продолжит их с того самого места, на котором они прервались. Я знал, что он думает то же самое и радостно верит в свою новую жизнь.
Мы без всякого волнения, не промолвив ни слова, обменялись одеждой. Я отдал Ходже свое кольцо и медальон, который все эти годы таил от него. Медальон заключал в себе портрет моей прабабки и выцветший локон невесты; думаю, он понравился Ходже, который надел его на шею. Потом он вышел из шатра. Я смотрел, как его силуэт медленно исчезает в тумане. Занимался рассвет, мне очень хотелось спать, я лег в постель Ходжи и уснул спокойным сном.
11
Вот я и подошел к концу своей книги. Возможно, некоторые проницательные читатели, решив, что рассказ мой на самом деле давно закончен, уже отложили ее в сторону. Когда-то я и сам так думал и, много лет назад написав эти страницы, засунул книгу в дальний угол, не предполагая более к ней возвращаться. В то время я хотел посвятить себя другим историям, которые придумывал не для султана, а для своего собственного удовольствия, историям о любви, действие которых происходило в никогда не виданных мной странах, в безлюдных пустынях и ледяных лесах, а героем был заезжий купец, умеющий ловко смешаться с жителями тех стран; эту же книгу, эту историю мне хотелось забыть. Может быть, я и преуспел бы, хотя и знал, что это будет непросто после всего, что я пережил, и после всех дошедших до меня слухов и сплетен; но две недели назад ко мне пришел один гость, разговор с которым заставил меня вновь вернуться к этой книге. Теперь я понимаю, что это моя самая любимая книга, и собираюсь закончить ее так, как нужно, так, как мне хочется, и так, как я задумал.
Чтобы закончить книгу, я сел за наш старый стол. Из окна, у которого он стоит, мне было видно маленький парусник, спешащий из Дженнетхисара в Стамбул, мельницу в далекой оливковой роще, детей, играющих в саду под смоковницами, и пыльную дорогу из Стамбула в Гебзе. Зимой по этой дороге почти никто не ездит, но в другие времена года я вижу караваны, тянущиеся на восток, в Анатолию, а потом в Багдад или в Дамаск. Чаще всего мимо медленно проезжают старые, разбитые двухколесные телеги, но бывает, покажется какой-нибудь всадник, чью одежду я не могу разглядеть издалека; меня охватывает волнение, но по мере его приближения я понимаю, что едет он не ко мне. В последнее время ко мне никто не приезжает, и я знаю, что никто не приедет и впредь.
Но я не жалуюсь и от одиночества не страдаю. За годы, что я занимал должность главного астролога, я скопил много денег, женился; у меня четверо детей; наверное, приобретенные благодаря моей работе способности позволили мне вовремя почуять приближение катастрофы и уйти на покой. Я укрылся здесь, в Гебзе, задолго до того, как армия султана отправилась в злосчастный поход на Вену, как полетели после поражения головы придворных фигляров и нового главного астролога, а сам любитель животных был свергнут с престола. Построив себе особняк, я поселился в нем с любимыми книгами, детьми и несколькими слугами. Женщина, на которой я женился еще в бытность свою главным астрологом, намного младше меня; она хорошо управляется по хозяйству, избавляет меня в мои почти семьдесят лет от необходимости следить за выполнением всяких мелких дел и не нарушает моего одиночества, когда я сижу весь день в этой комнате, пишу книги, мечтаю – и вдосталь размышляю о Нем, чтобы найти правильное завершение для своего рассказа и своей жизни.
А между тем в первые годы я изо всех сил старался этого избегать. Султан несколько раз пытался заговорить со мной о Нем, но увидел, что этот предмет не доставляет мне никакого удовольствия. Мне кажется, он был этим доволен, просто его разбирало любопытство, но что именно это любопытство разжигало и насколько сильно, я так и не смог понять. Султан сразу посоветовал мне не стыдиться того, что я подпал под Его влияние и многому у Него научился. Повелитель с самого начала знал, что все книги, календари и прорицания, которые я преподносил ему столько лет, написаны Им; султан говорил Ему об этом, когда я работал, запершись дома, над созданием оружия, которому суждено было увязнуть в болоте, а поскольку Он все рассказывал мне, как и я – Ему, владыка не сомневался, что Он передал мне и эти его слова. Возможно, в то время мы оба еще не совсем запутались; во всяком случае, я догадывался, что повелитель чувствует себя увереннее, чем я. Мне казалось тогда, что султан умнее меня, знает все, что нужно, и играет в эту игру, чтобы покрепче прибрать меня к рукам. Может быть, дело было еще и в благодарности, которую я испытывал к султану: как-никак он спас меня от гнева военных, буквально взбесившихся после того поражения в болоте, вину за которое молва возложила на приносящего несчастье гяура. Узнав, что тот сбежал, некоторые требовали выдать им мою голову. Если бы султан в первые годы после тех событий задал мне прямой вопрос, я, наверное, рассказал бы ему все начистоту. В то время еще не пошли слухи о том, что я – это не я, мне хотелось поговорить с кем-нибудь о произошедшем, и я скучал по Нему.
Жить одному в доме, где мы провели вместе столько лет, было тоскливо. Денег у меня водилось много, и я стал ходить на невольничий рынок, пока через несколько месяцев не нашел там того, кого искал: пленника, не похожего ни на меня, ни на Него. Я купил бедолагу и привел его домой. Ночью, когда я потребовал, чтобы он научил меня всему, что знает, и рассказал бы не только о своей стране и своем прошлом, но еще и о своих грехах и проступках, а потом подвел его к зеркалу, он перепугался. Это была ужасная ночь, мне стало жалко несчастного, и я решил отпустить его утром на волю, но поддался жадности, отвел обратно на невольничий рынок и продал. Затем я решил жениться и объявил об этом в своем квартале. Соседи, обрадовавшись, что я наконец стану таким же, как они, и в квартале воцарится покой, поспешили ко мне с предложениями. Я тоже был доволен, что стану похож на них, и благодушно полагал, что слухи заглохнут, а я буду долгие годы жить в тишине и спокойствии, сочиняя истории для султана. Жену я выбирал тщательно; девицы на выданье даже играли мне по вечерам на уде.
Когда же слухи поползли снова, я сначала думал, будто это султан затеял какую-то игру: мне казалось, будто ему нравится наблюдать мое беспокойство и задавать вопросы, повергающие меня в растерянность. Поначалу, когда он то и дело говорил мне что-нибудь вроде «Знаем ли мы сами себя? Человеку надлежит хорошо знать, кто он такой», я не очень беспокоился, поскольку полагал, что этим фразам он научился у одного умника, поклонника греческой философии, из тех фигляров, которых он снова стал собирать вокруг себя. Когда он пожелал, чтобы я что-нибудь написал на сей счет, я преподнес ему свою последнюю книгу о газелях и воробьях, счастливых оттого, что они не ломают голову над собственной сутью и ничего о ней не ведают. Узнав, что султан принял книгу всерьез и прочел ее с удовольствием, я немного успокоился, но слухи продолжали доходить до моих ушей: я, мол, выставляю султана дураком, потому что даже не похож на того, чье место занял: Он был худой, а я растолстел; я, несомненно, лгал, когда говорил, что не могу знать всего, что знал Он; когда-нибудь во время войны я тоже сначала навлеку на войско несчастье, а потом сбегу, как Он, открою врагам военные тайны и помогу им победить… И так далее и тому подобное. Чтобы уберечься от этих слухов, которые, как я считал, пошли от султана, я отказался от участия в увеселениях, вообще почти нигде не показывался, похудел и с помощью осторожных расспросов выяснил, о чем говорили в султанском шатре в ту последнюю ночь. Моя жена одного за другим рожала детей, денег у меня было достаточно, и мне хотелось забыть о слухах, о Нем и вообще о прошлом и спокойно заниматься своими делами.
Я выдержал около семи лет. Возможно, когда бы не терзавшая меня тревога и не предчувствие, что окружение султана рано или поздно снова будет прорежено, я пошел бы до конца, потому что если я и хотел позабыть свою прежнюю личность, то, войдя в двери, открытые передо мной султаном, я снова облекся в нее. На вопросы, поначалу меня пугавшие, я стал отвечать дерзко. «Личность человека не имеет значения, – говорил я. – Важно лишь то, что мы делаем и собираемся сделать». Думаю, султан проник в шкаф моего разума именно через эту дверцу. Однажды владыка попросил меня рассказать о стране, куда сбежал Он, об Италии, и, когда я сказал, что не очень много знаю о ней, рассердился: ведь Он говорил султану, что все мне рассказывает, так что бояться нечего; достаточно припомнить то, о чем Он мне в свое время поведал. И я вновь рассказал султану о Его детстве, изложил одно за другим милые Ему воспоминания, часть из которых включил в эту книгу. Поначалу я не очень переживал: султан слушал меня так, как и полагается слушать человека, который пересказывает услышанное от других; но в последующие годы он повел себя так, словно слушает Его самого: спрашивал о подробностях, которые мог знать только Он, и прибавлял, чтобы я не боялся и сразу говорил то, что приходит мне в голову. После какого происшествия Его сестра начала заикаться? Почему Его не приняли в Падуанский университет? Какого цвета была одежда на Его брате, когда они впервые смотрели фейерверк в Венеции? И я выкладывал эти подробности так, словно говорил о собственном прошлом, рассказывал, когда мы с султаном совершали лодочную прогулку, или сидели у пруда, где росли кувшинки и квакали лягушки, или наблюдали за бесстыдными обезьянами, стоя перед их серебряной клеткой, или прогуливались по садам, с которыми у нас было связано столько общих воспоминаний. В такие мгновения султан, наслаждающийся моими рассказами и игрой цветов, что распускались в саду нашей памяти, становился мне еще более близок и говорил о Нем как о старом друге, предавшем нас. «Хорошо, что он сбежал, – сказал султан однажды, – иначе не сносить бы ему головы. Конечно, он развлекал меня, но мне не раз хотелось казнить его за дерзость». Потом повелитель сделал еще несколько признаний, напугавших меня, потому что было не очень понятно, кого из нас он имеет в виду, но в голосе его звучала не злоба, а любовь: оказывается, бывали дни, когда султан боялся, что не совладает с гневом, вызванным Его безрассудством, и прикажет Его убить, а в последнюю ночь он уже чуть было не послал за палачами! Потом он сказал, что я не наглец, что не считаю себя самым умным и даровитым человеком на свете, что я не пытался истолковать ужас чумы для своей выгоды и не лишал никого сна рассказами о мальчике-короле, которого посадили на кол; у меня дома не было никого, кому я стал бы с насмешками пересказывать сны султана, никого, вместе с кем я стал бы сочинять глупые, но занимательные истории, чтобы его, султана, обмануть! Когда я слушал все это, мне казалось, будто я вижу нас двоих со стороны, как во сне, и в страхе чувствовал, что мы зашли слишком далеко; но в последние месяцы, словно желая вывести меня из себя, султан продолжал: я не такой, как Он; я, в отличие от Него, не дал своему разуму погрязнуть в глупых измышлениях о том, что разделяет «их» и «нас». Когда-то, много лет назад, когда восьмилетний султан, еще нас не знавший, смотрел с противоположного берега на совместно подготовленный нами фейерверк, мой шайтан спустился с темных небес и одержал победу, а теперь этот шайтан с Ним, в той стране, где Он надеялся обрести покой. Потом, посредине этих всегда одинаковых прогулок по саду, повелитель осторожно спрашивал: разве нужно быть султаном, чтобы понять, что люди, живущие в разных концах света, все похожи друг на друга? Я в страхе молчал, а он, словно желая окончательно сломить мое сопротивление, задавал еще один вопрос: не является ли лучшим доказательством того, что люди во всем мире одинаковы, их способность меняться местами? Сомнений у меня больше не оставалось.
Может быть, я и дальше терпеливо сносил бы все это, надеясь, что султан когда-нибудь, как и я, позабудет о Нем, и рассчитывая скопить еще больше денег, тем более что к страху неизвестности я уже привык; но однажды на охоте, когда мы, преследуя зайца, потеряли дорогу в лесу, султан начал бесцеремонно и безжалостно открывать и захлопывать двери моей души; мало того, теперь он делал это на виду у всех. Я подумал, что владыка в очередной раз замыслил проредить свое окружение, в котором опять оказалось много фигляров, и забрать в казну все наше имущество. Почувствовав приближение катастрофы, я перепугался. И вот настал день, когда мне было велено рассказать о венецианских мостах, о кружевной скатерти на столе, за которым завтракал в детстве Он, о том виде из окна, выходившего в сад за Его домом, который Он вспоминал, когда палач занес над Ним меч, чтобы заставить принять ислам. А затем султан сказал, что мне нужно написать книгу, в которой все это было бы изложено так, будто произошло со мной. В этот самый день я и решил как можно скорее бежать из Стамбула.
Мы поселились в Гебзе, но в другом доме, чтобы не вспоминать о Нем. Первое время я боялся, что за мной пришлют людей из дворца, но никто мной не интересовался, и доходов меня не лишили. То ли забыли обо мне, то ли по приказу султана установили за мной тайный надзор. Задумываться об этом мне не хотелось; я занялся своими делами, построил дом, разбил за домом сад, именно такой, какой мне хотелось, и стал проводить время, читая книги и сочиняя для собственного удовольствия увлекательные истории. Еще я – не столько ради денег, сколько для развлечения – выслушивал людей, которые, узнав, что по соседству поселился бывший главный астролог, приходили ко мне за советом. Наверное, только тогда я как следует узнал свою страну, в которой жил с детства, ибо, прежде чем предсказать будущее пришедшим ко мне калекам, людям, потрясенным потерей близких, неизлечимо больным, отцам засидевшихся в невестах девушек, коротышкам, мечтающим подрасти, ревнивым мужьям, слепым, морякам и обезумевшим от безответной страсти влюбленным, я подолгу расспрашивал об их жизни, а по вечерам записывал услышанное в тетрадь, чтобы потом использовать для своих историй – в том числе и для этой книги.
В те годы я познакомился с одним стариком, вместе с которым в мою комнату вошла глубокая печаль. Он был старше меня лет на десять-пятнадцать, а звали его Эвлия. Увидев его грустное лицо, я первым делом подумал, что его тяготит одиночество, но он заговорил о другом: оказывается, он посвятил всю свою жизнь путешествиям и сочинению десятитомной книги о них, которую в скором времени готовится закончить, а сейчас едет в Мекку и Медину, чтобы успеть до своей смерти побывать в самых близких Аллаху городах и написать о них. Однако в книге есть один пробел, который очень его печалит: ему хотелось бы рассказать читателям об Италии, про прекрасные фонтаны и мосты которой он так много слышал; не мог бы я поведать ему о ней? Про меня ему немало рассказывали в Стамбуле, вот он и решил приехать и поговорить со мной. Когда я сказал, что ни разу не бывал в Италии, он ответил, что ему, как и всем, это известно, но говорят, когда-то у меня был раб родом из тех мест, который мне обо всем рассказал; и если я поделюсь с ним, Эвлией, тем, что знаю, он в благодарность тоже расскажет мне что-нибудь занятное, ибо разве это не самое приятное в жизни – сочинять и слушать увлекательные истории? И он, смущаясь, вытащил из своей сумы карту, самую скверную карту Италии, какую мне только случалось видеть. Я решил поддаться на его уговоры.
Своей по-детски пухлой рукой он указывал на карте город и читал по слогам его название, после чего тщательно записывал фантазии, которые я ему излагал. О каждом городе он хотел услышать, помимо всего прочего, какую-нибудь причудливую историю. Так мы и прошли всю страну (которую я видел впервые в жизни) с севера на юг, остановившись по дороге в тринадцати городах, а потом из Сицилии морским путем вернулись в Стамбул. На это у нас ушло целое утро. Эвлия остался очень доволен тем, что услышал, и, желая меня порадовать, рассказал в ответ о канатоходцах, потерявшихся в небе Акки; о женщине из Коньи, родившей слона; о быках с голубыми крыльями и розовых кошках, что водятся на берегах Нила; о башне с часами, которую он видел в Вене, и о том, как ему вставили в этом городе новые передние зубы (улыбнувшись, он показал мне их); о говорящей пещере на берегу Азовского моря и об американских красных муравьях. Эти истории отчего-то навеяли на меня странную печаль, к глазам подступили слезы. За окном уже клонилось к закату огромное красное солнце, когда Эвлия спросил, нет ли и у меня каких-нибудь удивительных историй в таком духе. Мне захотелось удивить его по-настоящему. Я сказал, что он и его люди могут заночевать в моем доме и что у меня есть для него история о двух людях, поменявшихся местами, которая наверняка ему понравится.
Ночью, когда все разошлись по отведенным им углам и в доме воцарилась долгожданная тишина, мы возвратились в мою комнату. Тогда-то в моей голове и возникла эта история, которую вы сейчас дочитываете. Когда я говорил, у меня возникло ощущение, будто я ничего не придумываю, а кто-то другой нашептывает мне в ухо слова, из которых строятся одна за другой фразы. «Мы шли из Венеции в Неаполь, когда турецкие корабли преградили нам путь…»
После того как глубоко за полночь я закончил свой рассказ, воцарилось долгое молчание. Я чувствовал, что мой гость, как и я, думает о Нем, но человек, которого представлял себе Эвлия, совершенно не походил на Него. Нисколько не сомневаюсь, что Эвлия думал о собственной жизни. Я же думал о том, что мне нравится и моя жизнь, и Он, и сочиненная мной история; я гордился всем, что пережил и придумал. Комната, в которой мы сидели, наполнилась печальными воспоминаниями о том, кем мы хотели стать и кем стали. Я вдруг явственно осознал, что больше никогда не смогу Его забыть и оттого буду несчастен до конца моей жизни. Отныне я знал, что никогда уже не смогу жить один: вместе с моей историей в полуночную комнату словно бы проникла манящая призрачная тень, рождающая в нас и любопытство, и тревогу. Под утро гость сначала обрадовал меня, сказав, что ему очень понравилась моя история, но потом прибавил, что против некоторых ее моментов у него найдутся возражения. Я стал слушать его с интересом – может быть, потому, что хотел избавиться от гнетущего нас обоих воспоминания и как можно скорее вернуться в свою новую жизнь.
Эвлия сказал, что согласен: мы должны искать в жизни странное и удивительное, потому как, наверное, только это мы и можем противопоставить наводящей тоску скуке этого мира. Поскольку он знал это еще с детских и школьных лет, когда все бывает особенно однообразно, ему даже в голову не приходило запереться в четырех стенах, и потому всю жизнь он провел, странствуя по бесконечным дорогам в поисках историй. Однако странное и удивительное мы должны искать именно в мире, а не в самих себе! Если так дотошно копаться в своей душе и так долго о себе думать, станешь несчастным. Это и случилось с героями моей истории, потому-то каждый из них никак не может смириться с тем, что он – это он, и все хочет стать кем-то другим. Предположим, сказал Эвлия затем, что все в моей истории – правда. Верю ли я, что эти люди, поменявшись местами, смогут стать счастливыми в своей новой жизни? Я ничего не ответил. Тогда Эвлия зачем-то напомнил мне об одном эпизоде моего рассказа, о пленнике-испанце, которому оторвало руку. Мы не должны, сказал он, позволить увлечь себя надеждам, похожим на те, которыми тешил себя этот раб. Иначе если мы будем сочинять подобные истории и искать странное в самих себе, то и мы сами, упаси Аллах, станем другими людьми, и то же случится с нашими читателями. Такой страшный мир, в котором люди говорили бы только о себе и о своих странностях и о том же сочиняли бы истории и писали книги, он, Эвлия, даже воображать не хочет.
А я хотел! И потому, когда этот маленький старичок, которого я успел так полюбить за один день, на рассвете собрал своих людей и отправился в Мекку, только его и видели, я сразу же сел писать эту книгу. Себя и Его, которого я не мог отделить от себя, я постарался изобразить со всем доступным мне мастерством – может быть, для того, чтобы получше представить себе людей того страшного будущего мира. Но сегодня, читая эту написанную шестнадцать лет и отложенную подальше книгу, я подумал, что мастерство мое было не так уж велико. Поэтому я решил, заранее извинившись перед читателями, которым не нравится, когда человек говорит о самом себе, тем более если при этом его так переполняют чувства, прибавить к своей книге следующую страницу.
Я любил Его, любил, словно собственный несчастный, жалкий образ, явившийся мне во сне; любил, задыхаясь от смущения, гнева, раскаяния и печали, которые ощущаешь, глядя на умирающего в тоске дикого зверя или столкнувшись с бесстыдством собственного сына; любил так, словно с глупым отвращением и глупой радостью узнавал в нем самого себя. Или, может быть, я любил Его, потому что привык к Нему, как привык к своим порой вдруг дергающимся, будто лапки насекомого, рукам; потому что знал Его, как знаю собственные мысли, постепенно затухающие в стенах моего разума, как знаю не похожий ни на какой другой запах своего жалкого тела, свои редкие волосы и некрасивый рот, свое перо. Поэтому им не удалось меня обмануть. После того как я написал эту книгу и спрятал ее, желая забыть о Нем, я ни разу не поверил всем этим слухам и не поддался на уловки тех, кто, прослышав о нашей славе, хотел обратить ее к своей пользе. Говорили, что Он в Каире, готовит новое оружие под покровительством одного паши. Утверждали, что во время осады Вены Он был в городе и учил врагов, как побыстрее нас разбить. Видели, как в Эдирне, переодетый нищим, Он подстрекал ремесленников к драке, а потом, когда она разгорелась, пырнул ножом одеяльщика и был таков. Он стал имамом маленькой мечети в далеком анатолийском городке, построил муваккитхане – человек, рассказывавший об этом, клялся, что говорит правду, – и даже начал собирать деньги на строительство башни с часами. После чумы Он перебрался в Испанию, стал писать книги и разбогател. Говорили даже, что это Он дергал за ниточки заговора, лишившего трона нашего несчастного султана! В славянских деревнях, где Ему в конце концов удалось собрать правдивые признания, Его носят на руках, словно больного падучей попа из легенды, а признания эти Он использует для сочинения возмутительных книг. Он бродит по Анатолии, утверждая, что свергнет с престолов глупых правителей, и увлекает за собой всякий сброд, околдованный Его пророчествами и стихами; звал Он к себе и меня. За шестнадцать лет, что я сочинял истории, желая забыть Его, увлеченно погрузиться в страшный мир людей будущего и вдоволь насладиться своими фантазиями, до меня доходили еще и не такие слухи – и ни одному из них я не поверил. Не знаю, бывает ли так у других: порой, сидя в доме над Золотым Рогом, который мы сделали зинданом друг для друга, ожидая из какого-нибудь особняка или из дворца приглашения, которое все никак не приходило, или предаваясь увлекательной ненависти друг к другу, или с шутками сочиняя очередной трактат для султана, – словом, в какой-нибудь самый обычный день мы вдруг одновременно западали на какую-то мелочь: мокрую собаку, которую видели утром; геометрию цвета и формы, скрытую в белье на веревке между двумя деревьями, или странную оговорку, неожиданно обнажающую логику жизни. Вот чего мне больше всего сейчас не хватает. Потому-то я и вернулся к этой книге о своей тени, хотя и думаю, что если через много лет, а то и столетий после нашей смерти кто-нибудь любопытный и прочтет ее, то задумается не столько о нас, сколько о своей собственной жизни. Даже если совсем никто не прочет ее, мне все равно. (На всякий случай я замаскировал Его имя, пусть и не слишком.) Я вернулся к этой книге для того, чтобы вновь пережить ночи во время чумы, мое детство в Эдирне и прекрасные часы, проведенные в саду султана; чтобы вновь испытать тот холодок, что пробежал по моей спине, когда я впервые увидел Его, безбородого, в дверях особняка паши. Всякий знает: для того чтобы вернуть потерянную жизнь и мечты, их нужно снова себе представить; и я поверил в свою историю!
А закончу я книгу рассказом о том дне, когда решил дописать ее до конца. Две недели назад, сидя, по обыкновению, за столом и пытаясь придумать совсем другую историю, я заметил на дороге всадника, приближающегося со стороны Стамбула. В последнее время никто не приезжал ко мне с вестями о Нем – может быть, потому, что я не пускался в разговоры с такими вестниками, и я не ожидал новых посетителей; однако, едва завидев путника в странной накидке, с зонтиком в руке, я сразу понял, что он едет ко мне. Еще до того, как он вошел в мою комнату, я услышал его голос: гость изъяснялся по-турецки с теми же ошибками, хотя и более многочисленными, что и Он, но со мной сразу заговорил по-итальянски. Увидев, что я насупился и не отвечаю, он сказал на ломаном турецком, что слышал, будто я немного владею итальянским. Затем он пояснил, что знает обо мне от Него. Вернувшись на родину, Он написал множество книг о своих невероятных приключениях среди турок, о последнем турецком султане, так любившем животных, и о его снах, об отношении турок к чуме, о распорядке дворцовой жизни и о наших правилах ведения войны. В то время среди знатных людей и в особенности среди благородных дам как раз начинал распространяться интерес к таинственному Востоку, так что Его сочинения были хорошо приняты, их много читали, Он стал выступать с лекциями в академиях, разбогател. Мало того, бывшая невеста, прочитав Его книги, так расчувствовалась, что, несмотря на свой возраст, развелась с мужем; они поженились, купили давным-давно проданное поместье Его семьи и привели и дом, и сад в прежний вид. Обо всем этом мой гость знал, поскольку в свое время, придя в восхищение от Его книг, нанес Ему визит. Он был очень любезен, уделил гостю целый день, ответил на его вопросы, еще раз пересказал описанные в книгах приключения. Кроме того, Он долго говорил обо мне и сказал, что готовится представить на суд любознательных итальянских читателей книгу под заглавием «Турок, с которым я был близко знаком», где описал всю мою жизнь от детства в Эдирне до дня нашего расставания, присовокупив к повествованию свои собственные проницательные рассуждения о привычках и обычаях турок. «Как много вы Ему о себе поведали!» – восхитился мой гость. Затем, желая меня удивить, он припомнил некоторые подробности из книги, несколько страниц которой прочитал. Однажды в детстве я жестоко избил одного из своих друзей, живших по соседству, и потом горько плакал от раскаяния; я был умен, всю астрономию, которой Он меня учил, постиг за полгода; очень любил свою сестру, был предан религии и всегда совершал намаз, обожал вишневое варенье, проявлял большой интерес к шитью одеял, поскольку мой отчим был одеяльщиком, и так далее и тому подобное. После того как этот простак оказал мне такое внимание, я уже не мог повести себя с ним холодно и, зная, что таким, как он, подобное бывает интересно, показал ему весь свой дом, комнату за комнатой. Затем он заинтересовался играми, в которые играли в саду мои младшие сыновья и их приятели, и записал в тетрадь с их слов правила игры в чижика, жмурки и даже в чехарду, которая ему не очень понравилась. После этого он назвал себя другом турок. То же самое он повторил и позже, после обеда, когда я, поскольку заняться нам больше все равно было нечем, сначала показал ему наш сад, а потом провел его по Гебзе к тому дому, где мы с Ним жили много лет назад. Большой интерес проявил мой гость и к нашей кладовой. Осторожно пробираясь среди банок с вареньем и соленьями и бутылей с оливковым маслом и уксусом, он заметил мой портрет, когда-то написанный художником из Венеции. Тут он осмелился зайти немного дальше, чем прежде, и с таким видом, будто открывает мне великую тайну, сообщил, что на самом деле Он не друг турок и написал о нас много гадостей: что наша империя начала клониться к закату и былого величия ей уже не вернуть; что наши головы похожи на пыльные шкафы, забитые всяким старьем; что, если мы хотим спастись, у нас нет иного выхода, кроме как побыстрее пойти на поклон к ним, европейцам, и после этого мы многие столетия не будем способны ни на что, кроме подражания тем, перед кем склонили головы. Не желая все это выслушивать, я сказал: «И все же Он хотел нас спасти» – и он тут же ответил: да, и для этого даже изготовил оружие, но мы Его не поняли, и оружие это туманным утром увязло в отвратительном болоте, где и осталось навеки, словно остов страшного пиратского корабля, севшего в бурю на скалы. Потом гость прибавил: да, Он очень сильно хотел нас спасти, очень. Но это не значит, что Ему не свойственно нечто дьявольское, нечто порочное. Все гении таковы! Взяв портрет в руки, мой гость внимательно разглядывал его, продолжая бормотать что-то о Его гениальности: мол, если бы Он не попал к нам в плен и провел всю жизнь на родине, то мог бы стать Леонардо семнадцатого века. Потом он снова вернулся к своему любимому предмету, порочности, и передал несколько гнусных слухов, связанных с Его любовью к деньгам. «Самое удивительное, – сказал мой посетитель, – это то, что Он нисколько на вас не повлиял!» Он, гость, рад, что познакомился со мной, я ему нравлюсь, и он не в силах скрыть изумления: как такое может быть, чтобы два человека столько лет прожили бок о бок и остались до того непохожи друг на друга? Непонятно! Я боялся, что чужак захочет приобрести портрет, но он поставил полотно на место, а потом осведомился, нельзя ли посмотреть на одеяла. «Какие одеяла?» – растерянно пробормотал я. Он удивился: разве я не шью одеяла в свободное время? И тогда я решил показать ему книгу, к которой не прикасался шестнадцать лет.
Он разволновался, сказал, что умеет читать по-турецки и что ему, разумеется, было бы очень любопытно почитать книгу, в которой говорится о Нем. Мы поднялись в мою комнату, окна которой выходят в сад. Он сел за наш стол. Я нашел книгу на том самом месте, куда засунул ее шестнадцать лет назад, как будто это было вчера, открыл ее и положил перед ним. Он действительно мог читать по-турецки, хотя и медленно, и целиком погрузился в книгу со свойственным, насколько я мог заметить, всем путешественникам и раздражавшим меня желанием испытать сильные ощущения, не покидая своего здорового и безопасного мира. Я оставил его одного, спустился в сад и сел на плетеную скамейку так, чтобы видеть гостя в открытое окно. Сначала он был весел, даже крикнул мне: «Сразу видно, что вы ни разу не бывали в Италии!» Однако потом забыл о моем присутствии. Время от времени поглядывая на него краем глаза, я три часа ждал в саду, когда он закончит читать. Закончив, он все понял. На лице его отразилось сильнейшее замешательство; он несколько раз прокричал название белой крепости, рядом с которой увязло в болоте наше чудо-оружие, попытался даже заговорить со мной по-итальянски. Потом, силясь переварить прочитанное, унять смятение и прийти в себя, он отвернулся от меня и стал невидящим взором глядеть вдаль. Я с удовольствием наблюдал, как он, подобно всякому в подобном положении, словно приклеился взглядом к неведомой точке в пустоте; но потом, отвечая моим ожиданиям, он прозрел. Теперь он вполне осознанно разглядывал вид, открывающийся из окна. Нет, проницательные читатели, конечно, уже поняли: он был не так глуп, как я решил поначалу. Оправдывая мои предположения, он начал лихорадочно листать страницы книги, а я, довольный, ждал, когда он найдет то, что ищет. В конце концов он нашел и перечитал то место. Потом снова обозрел вид, открывающийся из моего окна. Разумеется, я отлично знал, чтó он видит.
А видел он стол, на котором стоял инкрустированный перламутром поднос с персиками и черешней; за ним – широкое плетеное кресло, обложенное изнутри пуховыми подушками того же зеленого цвета, что и оконная рама; а еще дальше – колодезь, на краешек которого присел воробей, оливы, черешни и ореховое дерево. К одной из его могучих ветвей на длинных веревках были подвешены качели, слегка покачивающиеся на едва заметном ветерке.
1984–1985
Примечания
1
Гебзе – небольшой город в азиатской части Турции, неподалеку от Стамбула. (Здесь и далее – примеч. перев.)
(обратно)2
Каймакам – глава районной администрации.
(обратно)3
[Мехмед-паша] Кёпрюлю (1575?–1661) – великий визирь Османской империи в 1656–1661 годах.
(обратно)4
[Мустафа] Наима (1652–1716) – первый официальный летописец Османской империи, занимавший ряд важных должностей при султанском дворе.
(обратно)5
Эвлия Челеби (1611–1682?) – знаменитый османский путешественник, автор «Книги путешествий».
(обратно)6
Касым-Паша и упоминающаяся ниже Галата – районы Стамбула на берегу залива Золотой Рог, напротив исторической части города.
(обратно)7
Зиндан – тюрьма, место содержания пленников.
(обратно)8
Ходжа – здесь: учитель, наставник. Вежливое обращение к образованному человеку.
(обратно)9
Батламиус – так в исламских странах называли Птолемея.
(обратно)10
«Альмагест» – арабизированное название основного труда Птолемея «Великое математическое построение по астрономии» (греч. «Мэгисте»), появившегося около 140 года и включавшего полный свод астрономических знаний Греции и Ближнего Востока того времени.
(обратно)11
Муваккитхане – помещение, где хранились приборы, с помощью которых определяли время намаза.
(обратно)12
Акче – мелкая серебряная монета в Османской империи.
(обратно)13
Ифтар – вечерняя трапеза во время священного месяца Рамазан, в течение которого мусульмане соблюдают пост в дневное время.
(обратно)14
Такиюддин [ибн Маруф аш-Шами аль-Асади] (1526–1585) – османский ученый.
(обратно)15
Аксарай – район в исторической части Стамбула.
(обратно)16
Истинье – район в европейской части Стамбула. В описываемое время представлял собой деревню, расположенную довольно далеко от города.
(обратно)17
Фетва – правовое решение или суждение по тому или иному вопросу, основанное на принципах шариата и вынесенное исламским богословом-законоведом. (Примеч. ред.)
(обратно)18
Шехзаде – наследник престола в Османской империи.
(обратно)19
Валиде-султан – мать правящего султана.
(обратно)20
Ахмед-паша Тархунджу – великий визирь Османской империи в 1652–1653 годах.
(обратно)21
Куруш – мелкая монета в Османской империи (и в современной Турецкой Республике).
(обратно)22
Эдирне (Адрианополь) – город в европейской части Турции. В 1365–1453 годах – столица Османской империи.
(обратно)23
Мухаллеби – молочный кисель.
(обратно)24
Праведный халиф Омар (Омар ибн аль-Хаттаб, ок. 585–644) – ближайший сподвижник и друг пророка Мухаммеда, второй праведный халиф. (Примеч. ред.)
(обратно)25
Капалычарши – большой крытый рынок в Стамбуле.
(обратно)26
Шейх-уль-ислам – глава мусульманского духовенства (верховный муфтий), назначавшийся султаном. (Примеч. ред.)
(обратно)27
Карагёз и Хадживат – персонажи турецкого театра теней.
(обратно)28
Уд – щипковый музыкальный инструмент.
(обратно)29
Боза – освежающий слабоалкогольный напиток, приготовляемый методом брожения из пшеницы или проса. (Примеч. ред.)
(обратно)



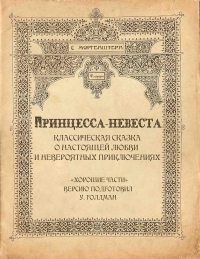

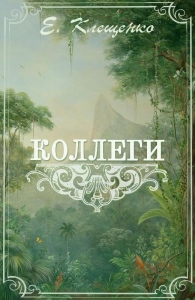

Комментарии к книге «Белая крепость», Орхан Памук
Всего 0 комментариев